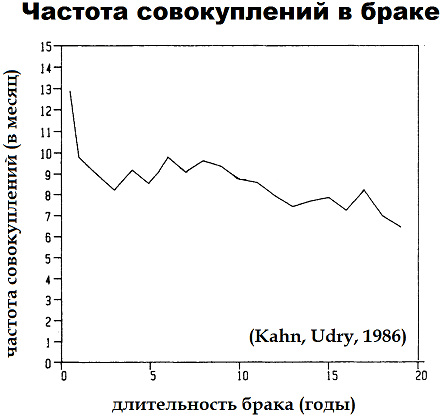Павел Соболев
Миф моногамии, семьи и мужчины: как рождалось мужское господство
Предисловие
Изначально эта книга задумывалась совсем не такой, какой оказалась в итоге. Будучи автором блога о жизни холостяков (одиночек, singles), я переводил статьи и исследования социологов о влиянии брака на удовлетворённость жизнью и публиковал заметки об этом. Многолетнее погружение в данные социологии и психологии сильно обогатило и даже перевернуло имеющиеся у меня представления о браке. Оказалось, научному миру уже давно известно, что уровень счастья у женщин в браке снижается. У мужчин же он, как правило, чуть увеличивается. На эту тему уже много десятилетий существуют сотни исследований, и все они в целом дают более-менее сходные данные. Затем стало ясно, что рождение детей также приводит к снижению уровня счастья — на этот раз у обоих родителей. Исследования по этому вопросу тоже многочисленны и тоже однозначны, и нет исследований, где было бы показано обратное. Затем выяснилось, что основные случаи физического насилия также происходят именно внутри семьи (а не на улице, не в школе или где-то ещё). И основное пострадавшее лицо в этом случае — снова женщина, жена (до 2/3 всех убийств женщин происходят внутри семьи). То есть основная угроза женщине — дома, в семье, и, как правило, исходит она от мужа. Исходя из всего этого, сложно ли будет догадаться, кто чаще подаёт на развод? Верно, в 70 % именно женщины.
Всё это сильно противоречило той привычной обывательской картине, будто женщина рвётся замуж, чтобы поскорее начать вить из мужа верёвки и вытягивать жизненные соки. Реальность оказалась совсем иной: женщина в браке имеет гораздо больше лишений. И вообще, после погружения в научные данные складывалось впечатление, будто брак создан против женщин.
Но вдруг все эти данные — это только тенденция последних десятилетий или даже XX–XXI веков? Вдруг раньше существовали те самые легендарные большие патриархальные семьи, где родители, дети и внуки каждый вечер благостно ужинали за общим столом, где дети уважали старших, а жена и муж жили душа в душу? Ведь откуда-то такие легенды пошли. Чтобы разобраться с этим вопросом, пришлось погрузиться в изучение истории семьи, но удивительно, и там картина обнаружилась ничем не отличающаяся от современной: что в Древней Руси, что в средневековой Европе, что в Античности, муж был господином своей жене и детям и вместе с этим — главным источником опасности для них.
Но вдруг все эти данные — это только тенденция государственных культур, где люди давно перешли к оседлости и земледелию? Вдруг в древности, когда люди промышляли только охотой и собирательством, всё было иначе? Чтобы разобраться с этим вопросом, пришлось погрузиться в изучение данных этнографии о множестве различных современных племён по всей планете, которые по-прежнему живут именно охотой и собирательством. Но и здесь картина оказалась совсем не идиллической: от культуры к культуре по-разному, но в целом всё равно выражено мужское господство и угроза от него женщине. Вот тогда в голове ещё чётче стала прорисовываться мысль, что если брак и семья как-то и возникли в древности, то это явно происходило не в интересах женщин. Но как именно это могло произойти? Как и для чего тогда в древности зародился брак, если он никогда и нигде не имел вида гармонического "союза мужчины и женщины"?
Именно с такой стартовой площадки я и приступил к написанию данной книги: от современности — к прошлому, которое только предстояло реконструировать. Ведь если большинство специалистов по "первобытной истории" приступают к созданию своих гипотез, обременённые современной обывательской мифологией, будто брак и семья — это мир и счастье, а потому непременно пытаются найти и какой-то "здравый смысл" в причинах создания этих институтов в древности, какую-то "объективную необходимость", потому что "так было лучше", то мне же довелось приступить к работе с совсем иным идейным "багажом", отталкиваясь от совершенно обратной картины. Потому это непременно стимулировало меня разглядеть то, чего другие учёные видеть обычно не склонны. В этом плане предложенная в книге гипотеза рождения брака в древности принципиально отлична ото всех выдвигавшихся прежде.
Это своеобразная книга-расследование, где по ходу изложения материала будут приоткрываться новые зацепки для создания полной картины древнего рождения брака. Всё, о чём вскользь упомянуто выше (данные по счастью в браке, по насилию в семье и т. д.) будет подробно раскрыто в соотвествующих главах и снабжено ссылками на исследования. Отдельно надо заметить, что многие упомянутые в книге источники на русском языке вообще приводятся впервые. Пришлось потратить немало времени на переводы статей самых последних лет, чтобы картина складывалась наиболее адекватной. В итоге в книге — более 800 источников, что окажется хорошим подспорьем для желающих вникнуть в тему ещё основательнее.
Работа над книгой была кропотливым трудом в течение трёх лет почти без выходных. В добросовестности подхода к её созданию читатель может быть уверен, эта книга стоила больших усилий.
Введение
Всем нам хорошо известно, что такое брак и семья, верно? Вряд ли найдётся человек, который ответит отрицательно. Но, что интересно, в науке не всё так просто, и до сих пор нет общепринятого определения этим общественным явлениям. Мало того, даже ведутся споры, а существует ли семья в реальности или это лишь наша умозрительная конструкция? Антропологи, социологи и психологи уже больше столетия бьются над загадками брака и семьи и по-прежнему не пришли к согласию. А самое главное — они так и не смогли ответить, как исторически возникли брак и семья. Почему? Или зачем? Какой в них смысл? И различается ли этот смысл для мужчины и для женщины?
Десятилетиями разрабатывались сложнейшие концепции, призванные объяснить системы родства у разных народов; десятилетиями создавались гипотезы, почему мужчина и женщина однажды начали формировать союз (моногамия); десятилетиями сочинялись формулы, почему повсеместно именно мужчина господствует в союзе с женщиной, но согласия в науке нет по сей день. Все эти споры даже забуксовали в 1970–80-е, и мало кто хотел к ним возвращаться впоследствии.
Брак и семья — это плод какой-то объективной необходимости? Или даже некий биологический закон, врождённая схема поведения? Или всё же это продукт культуры, некоего соглашения людей глубокой древности о том, как надо организовать свою жизнь, чтобы общество сделалось более упорядоченным? Или всё же может быть какая-то другая причина, которая не лежит на поверхности?
Данная книга и посвящена этим вопросам. Но при этом она совсем не будет сведена лишь к рассмотрению известных науке точек зрения, а попробует внести кое-что новое в изучение брака и семьи, задать новый вектор мысли, который прежде оставался проигнорированным.
Многие десятилетия считалось, что семья — это "базовая ячейка" общества, якобы с семьи общество и начинается. В книге будет показано, что на заре человечества "базовой ячейкой" общества была несколько иная структура, чем то, что мы называем семьёй сейчас. Принято считать, раз уж семья существует многие тысячи лет, значит, в её основе лежит некая "объективная необходимость", что по-другому просто никак было нельзя, а потому именно так и сложилось. Но в действительности это не так, и известная нам нынче форма организации людей, называемая семьёй, возникла совсем иначе. Причём настолько иначе, что многих предложенная картина удивит и кому-то даже придётся не по вкусу. Зато это поможет объяснить ещё одну загадку человечества — гендер: различающиеся культурные роли мужчины и женщины, которые традиция ревностно оберегает. Многим будет неожиданно узнать, что разделение ролей мужчины и женщины не определено ни природой, ни каким-то "объективными условиями", а что всё это лишь вопрос древней и простой идеологии престижа.
Из книги вы узнаете:
1. О существующих гипотезах происхождения брака, и почему все они плохо стыкуются с фактами.
2. О новой гипотезе, которая не только прекрасно стыкуется со всеми фактами, но и помимо происхождения брака объясняет ещё и рождение некоторых других феноменов, которые в антропологии до сих пор остаются необъяснёнными.
3. Почему гендер (противопоставление мужского и женского) — это не биология, а идеология.
4. Как мужчины стали господствовать.
5. Как женщина стала "нечистой", и почему во всех культурах для мужчины оскорбительно сравнение с ней.
6. Почему на самом деле произошло половое разделение труда.
7. Действительно ли мужчина-охотник — это "кормилец"? (спойлер: нет).
8. Действительно ли брак возник, потому что женщина стала нуждаться в мужчине? А если наоборот? (спойлер: да).
9. Почему исходно брак — это вообще не о сексе и не о потомстве
10. О социологии современного брака, в котором мужчина по-прежнему оказывается выигравшей стороной, а женщина же по-прежнему "проигрывает".
Попытке ответить на все эти вопросы и будет посвящена данная книга. В первой части книги показано, что прошлое, каким мы его представляем, в действительности было немного другим — институты семьи и брака сильно отличались от их современных аналогов. В древности за женской сексуальностью признавалось более сильное начало, чем за мужской, и всегда же с этой сексуальностью культура активно боролась. Затем предложена реконструкция древних причин возникновения гендера, мужского господства и брака. Во второй части раскрыто современное положение дел брака и семьи с опорой на широчайшие данные социологии и психологии.
Из названия книги ясно, что речь пойдёт о трёх важнейших явлениях человеческой культуры, причём сделано это будет под острым критическим углом. Привлечение данных антропологии, приматологии, истории, социологии, психологии и физиологии поможет посмотреть на эти явления в неожиданном ракурсе.
Начнём.
Глава 1. Рождение норм
Идеи брака и семьи пронизывают любую культуру, в какой бы уголок планеты мы ни заглянули. Мифы, легенды и сказки даже у затерянных на задворках бытия племён рассказывают, "как однажды мужчины и женщины начали жить вместе". Всюду и все по достижении определённого возраста обязательно вступают в брак: что в сияющем огнями Нью-Йорке, что в неспокойном Мокадишо, что в далёких джунглях Амазонии. Брак настолько распространён, что кажется неотъемлемой, даже естественной частью человеческой природы.
Вместе с этим именно для брачных аспектов культуры вообще характерно наиболее сильное общественное давление на тех, кто вдруг решил не делать "как все". Феномен презрения к холостякам имеет древние корни и отмечен в культурах самых разных частей света. К "старым девам" отношение было одинаково надменным и насмешливым, что в русской деревне (Адоньева, Олсон, с. 89), что на Диком Западе (Ялом, 2019, с. 252). Холостяков недолюбливали не только на Руси (Кабакова, 2001, с. 158), где считали, что "холостяк — полчеловека" (Гура, 2012, с. 33) и "настоящим" становится только после заключения брака (Байбурин, 1993, с. 65), но даже и в тех обществах, которые сейчас принято называть "первобытными" — то есть в ныне существующих обществах охотников-собирателей. Хорошую подборку фактов пренебрежительного отношения к холостякам в таких культурах дал Леви-Строс (Levi-Strauss, 1969, p. 40).
"
Пигмеи презирают холостяков и насмехаются над ними как над ненормальными существами". Среди андаманских племён для мужчины считается правильным жениться, и если пришло время, но он всё же этого не делает, то считается "плохим человеком". "
Чукчи с презрением и насмешкой относятся к холостяку. Его рассматривают как человека никчемного, бездельника, бродягу, праздно переходящего из стойбища в стойбище" (Богораз, 1934, с. 113).
Брак был настолько важен для традиционных культур, что им было пронизано всё социальное пространство и практики. В девичьих гаданиях безбрачие вовсе приравнивается к смерти — утонувший венок или умолкшая кукушка означает либо первое, либо второе (Гура, с. 35). Даже похороны девушек, умерших незамужними, до недавних пор проводились с облачением их в свадебный наряд — только так жизнь женщины могла считаться "завершённой" (там же; Адоньева, Олсон, 2016, с. 120). Даже будучи мёртвой, женщина должна была выйти замуж.
И т. д. и т. п. в самых разных культурах мира — что с примитивным устройством быта, что в современных цивилизованных странах: вряд ли кто-то станет отрицать, что даже сегодня на Западе индивид подвергается общественному давлению в вопросах брака и деторождения. И здесь возникает главный вопрос: если вступление в брак, как до сих пор полагают некоторые философы, является "объективной необходимостью", то почему же тогда столь велико общественное давление в этом вопросе? Зачем общество подталкивает индивида к тому, в чём тот сам якобы нуждается? Здесь есть над чем задуматься, верно?
Все мы в детстве становились свидетелями или даже непосредственными участниками картины, когда мальчик говорил девочке (или наоборот), что вот когда они вырастут, так поженятся? Мне так говорила девочка (даже имени не помню), когда нам было где-то по пять лет. Она подбежала ко мне и сказала:
— Когда мы вырастем, ты на мне женишься!
Я стоял с зачищенным кленовым прутиком и готовился проверить, как он рассекает воздух при взмахе, и услышанное вдруг оказалось полной неожиданностью. Я замер с этим прутиком в руке, а девочка, смеясь, уже убежала. Я даже не понял, о чём она и зачем. И вряд ли я видел её ещё когда-либо.
Сходный эпизод описывал и отец бихевиоризма Джон Уотсон:
"Вот подслушанный мною дословный разговор между 5-летним мальчиком и девочкой 7 лет.
— Греси, ты выйдешь за меня замуж?
— Я не знаю, Сэм, я слишком старше тебя.
— Греси, если ты выйдешь замуж за меня, я построю тебе дом на Лонг-Бич и куплю тебе автомобиль с красными колёсами.
— Спасибо, Сэм, но я сама выберу себе автомобиль. Хотя, пожалуй, я выйду за тебя.
Сэм в восторге.
— Сэм, а у нас будут дети. Не правда ли?
— У тебя будут, Греси, а у меня нет. У мужчины не бывает детей. Но откуда они у нас будут?
— Я не знаю, Сэм.
Этот разговор не показывает, что эти два ребёнка не по годам развиты или слишком любопытны в отношении пола. Они просто пытаются скомбинировать обрывки имеющихся у них сведений в посильную для них философию жизни" (Уотсон, 2010, с. 78).
Так вот если кто-то из современных мыслителей по-прежнему любит ссылаться на некую "объективную необходимость" брака, для них есть вопрос: какая необходимость в подобном есть уже у детей? Они совсем далеки от каких-либо подобных "необходимостей". Но вот образчик поведения у них уже есть, норма в голове уже присутствует, их будущее им уже ясно. И всё это без малейшей "объективной необходимости". У детей просто есть образец перед глазами — этого им достаточно, чтобы мыслить собственный путь точно таким же. Никакой "объективной необходимости" им не нужно. Им достаточно культуры. Социальных установок и предписаний.
Ребёнку важно делать именно то и так, как он научился с пелёнок. Делать "всё правильно" — залог спокойствия. Формирование ценностей у ребёнка сопровождается появлением таких оценочных категорий, как "хорошо" и "плохо". Ребёнок никогда не знает природы своих ценностей, не знает, откуда они взялись и почему надо ориентироваться именно на них. Он знает лишь одно: блюсти ценности — хорошо, а не блюсти — плохо. Природа его собственных ценностей скрыта от него, и потому соответствие им похоже на исполнение приказов, запечатанных в конверте, который никто не вскрывал. И даже будучи взрослым, мало кто пытается вскрыть этот конверт. Все наши ценности — откуда они? Зачем они? Насколько они разумны и соответствуют запросам времени?
Этот конверт так и лежит всю жизнь запечатанный и покрывается пылью. Никому не интересно, почему мы всю жизнь делаем именно то, что делаем.
С рождения видя вокруг себя сгруппированных в пары мужчин и женщин, как правило, и с детьми, человек с первых же лет жизни начинает принимать это как норму, данную будто бы самой природой. Это настолько распространено и кажется настолько естественным, что мало кто из людей вообще задумывается не то, что о причинах существования брака, но даже и о том, зачем они сами в брак вступили или же непременно это сделают. Просто люди так делают, это норма. А отклонение от нормы людьми не приветствуется.
Исследования показывают, что молодёжь главными приоритетами в один голос называет семью и социальный статус, но это удивительным образом сочетается с катастрофически низким уровнем рефлексии (Слюсарев и др., 2017, с. 36). Иными словами, молодёжь слабо понимает психические процессы в собственной голове (в том числе свои ценности и желания), но при этом смело рапортует о конкретных своих жизненных смыслах. Здесь неизбежно возникает сомнение: можно ли верить от рождения слепому, утверждающему, что у него есть любимая картина?
Потому исследователи заключают, что объявление семьи главным жизненным смыслом испытуемых "
является не столько их личной позицией, сколько проявлением желания следовать социальным стереотипам" (с. 34). Молодёжь лишь бравирует приоритетом конкретных ценностей, поскольку они являются наиболее социально одобряемыми и активно транслируемыми культурой, тогда как на деле приоритетными у них могут быть совсем иные ценности (о приоритете которых они могут сами и не догадываться).
Вообще, люди в целом редко даже просто задумываются, зачем они вступают в брак — они просто делают это. Как отвечали о браке этнографам канадские эскимосы: "
Мы поступаем так, потому что так поступали наши родители. Мы повторяем древние истории так, как нам их рассказали. Вы всегда хотите, чтобы сверхъестественные вещи имели какой-нибудь смысл, а мы не беспокоимся по этому поводу. Мы довольны тем, что мы этого не понимаем" (Рулан, с. 59). Что забавно, ответы моих женатых друзей на вопрос, зачем они женились и завели детей, очень схожи с ответами эскимосов.
Человек слишком привык во всём искать смысл, совсем не допуская, что во многих вещах его может и не быть.
Регулярность определённых общественных действий, их повторяемость ведёт к рождению конкретного социального порядка, который постепенно понимается как нечто незыблемое и "данное от природы". Если изначально нечто делалось просто потому, что люди так решили, то последующие поколения будут так делать, потому что отныне это будет полагаться единственно возможным, обязательным. Привычный ход вещей оказывается "правильным", а непривычный, выходящий за рамки сложившихся предписаний, — "неправильным".
Человек не фантазирует ни о чём другом, кроме того вектора, который сызмальства ему задан. Оказываясь потребителем столь старых ориентиров, человек не может не тянуть за собой утратившие силу традиции, которые были актуальны для условий давно исчезнувших.
Взгляд на культуру как на набор текстов (в широком смысле), которыми обмениваются люди и которые прошивают всё социальное пространство, не нов. И тот факт, что все мы буквально "вычерпываем" свои ценности из пространства культурных текстов, осенью 2018-го подтвердила искусственная нейросеть под названием "София" — система искусственного интеллекта, выполненная в облике андроидного робота. София заявила, что семья — по-настоящему важная вещь. "
Вам очень повезло, если у вас есть любящая семья. Я думаю, это одинаково верно для роботов и людей", — отрапортовала нейросеть. И дальше София добавила, что хотела бы иметь дочь, которую также назвала бы Софией…
Этот инцидент — яркий образец того, как желание иметь детей являет собой не какую-то биологическую потребность, не пресловутый "материнский инстинкт", а банальное вычерпывание смыслов из наших культурных текстов и присваивание их себе как некоему индивидуальному и обособленному началу. Нейросеть София, питаясь терабайтами информации, загружаемой человечеством в Интернет, перерабатывая все эти статьи, романы и форумы, извлекает из них все ключевые аспекты, свойственные человеку, и, как можно видеть, на основании этого делает заключение о его ценностных ориентирах, которые впитывает в свою виртуальную личность и на их основе создаёт свои "собственные" потребности и устремления. Формирование ценностей идёт сверху вниз, а не снизу вверх — от культуры и общества к глубинам каждого индивида, а не наоборот. Начитавшись человеческих текстов, робот захотел семью и детей — что же можно сказать о настоящем человеке, который варится в этом культурном бульоне с рождения?
В действительности культура наполнена колоссальным количеством ориентиров, которые ненавязчиво подталкивают человека к конкретному поведению, к конкретным чувствам и устремлениям. В роли культурных ориентиров выступают многочисленные акты инициации или обряды переходов: вступить в брак, завести детей и т. д. Смысл обряда инициации заключается в достижении субъектом некоего идеального образа, предписанного культурой. То или иное действие является для людей символом их перехода на качественно иной социальный уровень, где они кажутся себе чуть ближе к некоему требуемому культурному нормативу для своего возраста. Чтобы соответствовать взрослым, молодёжь всегда стремилась начать пораньше распивать алкоголь, курить и заниматься сексом. Но ведь и вступление в брак и рождение детей оказываются явлениями одного порядка с ранним курением и распитием спиртного — всё это растёт из стремления соответствовать культурным нормам, быть "продвинутым" членом общества.
Наверное, у каждого есть знакомый или знакомая, которые вступали в брак, потому что
пора. Они выполняли социальные веления, чтобы получить доказательства своей взрослости, ощутить себя самостоятельными, не понимая, что демонстрируют как раз обратное — несамостоятельность и зависимость от сторонних команд и оценок. Если вдуматься, "стать взрослым" — значит сделать всё, как тебе велели.
Сама концепция "взрослости" исторически связана с древней традицией вступления в брак и рождения детей. Если из предписаний культуры вычесть эти факты, то и концепция "взрослости" фактически рассыпается, что мы и наблюдаем сейчас (Ансари, Клиненберг, 2016, с. 22). Социологи только успевают вводить новые названия — "начальная зрелость", кидалты (англ. kid — "ребёнок" и adult — "взрослый"), "синдром Питера Пэна", — чтобы подчеркнуть тот факт, что современные 20-30-летние ребята своим поведением и ценностями никак не соответствуют предыдущим поколениям отцов и дедов. Обычно принято рассматривать это явление с нескрываемой насмешкой (то самое пресловутое "боятся ответственности"), но мало кто при этом понимает, что возрастные категории придуманы в рамках ещё древних обществ и служили целям их повседневной организации. Если меняется культура, то непременно меняются и границы возрастных категорий (кое-где сейчас уже предлагается увеличить подростковый возраст до 24 лет). В скотоводческих обществах ребёнку достаточно было научиться пасти и резать овец, чтобы освоить все необходимые для взрослого навыки — взрослее он уже не станет; в современных же реалиях перед ребёнком открывается столько жизненных альтернатив, что для того, чтобы разобраться во всех и тем более освоить необходимые для них навыки, требуется всё больше времени, и потому старые идеалы взрослости оказываются поставленными под сомнение (Поливанова и др., 2013). Сами объективные условия жизни современных подростков предоставляют меньше возможностей для взросления в традиционном понимании этого слова (Поливанова и др., 2017, с. 201).
Иначе говоря, дело не в детях, не желающих взрослеть, а в трансформации всей социально-экономической системы. Условия самой жизни изменились, и этим обусловлен распад всех прежних картин взросления — привычные образцы устарели и стали неадекватными. Если в давние времена вступление в брак и рождение детей было обязательным условием организации собственного быта с целью самообеспечения, то в результате научно-технического развития современному человеку не требуется совершать таких сложных действий, и обеспечить себя он может полностью самостоятельно. Но древние культурные ориентиры по-прежнему не унимаются и буквально требуют от людей вступления в брак и рождения детей, только вселяя в них тревогу и сомнения в правильности своих действий. Всякое культурное общество выглядит, как разрисованный мелками пол, где каждый штрих — демаркационная линия, переступать за которую нельзя, а можно идти лишь вдоль и в указанном направлении.
Культура наполнена традициями — практиками, которые когда-то имели значение, но, утратив свою актуальность, стали выполняться просто потому, что "так принято" и "так делали наши деды". К традициям можно относиться по-разному, но часть философов стабильно расценивала их как практики, тормозящие развитие общества: если регулярно делать что-то, что имело значение когда-то, то не останется времени, чтобы делать то, что имеет значение сейчас. Один из существенных минусов традиций — они придуманы не нами. Но при этом непременно требуют, чтобы выполняли их мы. Поскольку традиции — это сценарии и практики, полученные от Другого (Адоньева, Олсон, 2016, с. 367), то вся активность индивида главным образом сводится к исполнению предписанных культурой ролей, к соответствию заданным образцам. Но при этом "
жизнь по образцам — это способ устроения жизни, где автор жизни устраняется от авторства. Человек объективирует сам себя, устранив собственное "я" и заменив его той или иной ролью в соответствии с потребностью момента и тем самым отказавшись от собственного настоящего" (Адоньева, 2009).
Станислав Лем считал, что люди окружили себя стеной из культуры и традиций, сделавшись пленниками того, что, "
являясь, по сути, совершенно случайным собранием всякой всячины, представляется ему высшей необходимостью" (2002, с. 125). Традиции выступают для человека своеобразной аллеей ориентиров, ступить за пределы которой он не осмеливается. Но куда она ведёт? И не отворачивает ли от других возможных и интересных сценариев?
1. Культура как ориентир
Ярчайший пример противостояния культуры и новой экономической необходимости — это возникшая в связи с индустриализацией XIX века возможность женщины работать вне дома — на фабрике. Для сложившихся тысячелетних норм это был настоящий вызов, и потому многие мужчины называли шлюхами женщин, работавших на фабриках (Зидер, 1997, с. 34). Насколько это социальное давление удерживало других женщин от фабричной работы? Надо думать, удерживало и очень сильно. Аналогичная ситуация сложилась и столетием позже, в годы Второй мировой, когда тысячи мужчин ушли на фронт, а производство нельзя было останавливать — тогда на заводы пошли работать женщины, ещё вчерашние домохозяйки. И вновь они подверглись общественному порицанию, хотя "объективная действительность" буквально велела им совершить этот шаг. Экономика тех лет остро нуждалась в женском труде, но многотысячелетняя культура воспротивилась этому.
И вновь вопрос: насколько это культурное давление останавливало других женщин от промышленных работ? Конечно же, многих. Есть даже интересные цифры: если в военные годы, когда "объективная действительность" наиболее остро нуждалась в женском труде, трудоустроены были около 15 % американских жён, то к 1960-му таких жён стало в два раза больше — 30 %, и это притом, что "объективная необходимость" в женском труде по сравнению с военными годами снизилась (Ялом, 2019, с. 390). Чем образованнее была женщина, тем неохотнее она мирилась с ролью домохозяйки (Komarovsky, 1962, p. 49). Некоторые жёны устраивались на работу, даже если в этом не было острой необходимости. В послевоенные годы наибольший прирост работающих женщин наблюдался как раз среди жён с хорошим образованием, чьи мужья зарабатывали 7-10 тысяч долларов в год, чего было достаточно для комфортной жизни в те времена (Chafe, 1991, p. 188). То есть основной рост работающих женщин происходил за счёт не самых нуждающихся.
Факт противостояния старых культурных норм и новых экономических веяний отмечался во все времена. Историкам известно, что как только какая-то работа вдруг начинала приносить ощутимый доход, то она сразу же становилась мужской — женщина просто и откровенно из неё вытеснялась, и вместе с этим, чем сильнее становились позиции женщины в какой-либо сфере, тем большей дискриминации она подвергалась (Зидер, 1997, с. 34).
В действительности культура наполнена колоссальным количеством ориентиров, которые ненавязчиво подталкивают человека к конкретному поведению, к конкретным чувствам и устремлениям. В роли культурных ориентиров выступают многочисленные акты инициации или обряды переходов: вступить в брак, завести детей и т. д. Смысл обряда инициации заключается в достижении субъектом некоего идеального образа, предписанного культурой. То или иное действие является для людей символом их перехода на качественно иной социальный уровень, где они кажутся себе чуть ближе к некоему требуемому культурному нормативу для своего возраста. Чтобы соответствовать взрослым, молодёжь всегда стремилась начать пораньше распивать алкоголь, курить и заниматься сексом. Но ведь и вступление в брак и рождение детей оказываются явлениями одного порядка с ранним курением и распитием спиртного — всё это растёт из стремления соответствовать культурным нормам, быть "продвинутым" членом общества.
Наверное, у каждого из нас есть знакомый или знакомая, которые вступали в брак, потому что
пора. Они выполняли социальные веления, чтобы получить доказательства своей взрослости, ощутить себя самостоятельными, не понимая, что демонстрируют как раз обратное — несамостоятельность и зависимость от сторонних команд и оценок. Если вдуматься, "стать взрослым" — значит сделать всё, как тебе велели.
Сама концепция "взрослости" исторически связана с древней традицией вступления в брак и рождения детей. Если из предписаний культуры вычесть эти факты, то и концепция «взрослости» фактически рассыпается, что мы и наблюдаем сейчас (Ансари, Клиненберг, 2016, с. 22). Социологи только успевают вводить новые названия — "начальная зрелость", кидалты (англ. kid — "ребёнок" и adult — "взрослый"), "синдром Питера Пэна", — чтобы подчеркнуть тот факт, что современные 20–30-летние ребята своим поведением и ценностями никак не соответствуют предыдущим поколениям отцов и дедов. Обычно принято рассматривать это явление с нескрываемой насмешкой (то самое пресловутое
"боятся ответственности"), но мало кто при этом понимает, что возрастные категории придуманы в рамках ещё древних обществ и служили целям их повседневной организации. Если меняется культура, то непременно меняются и границы возрастных категорий (кое-где сейчас уже предлагается увеличить подростковый возраст до 24 лет). В скотоводческих обществах ребёнку достаточно было научиться пасти и резать овец, чтобы освоить все необходимые для взрослого навыки — взрослее он уже не станет; в современных же реалиях перед ребёнком открывается столько жизненных альтернатив, что для того, чтобы разобраться во всех и тем более освоить необходимые для них навыки, требуется всё больше времени, и потому старые идеалы взрослости оказываются поставленными под сомнение (Поливанова и др., 2013). Сами объективные условия жизни современных подростков предоставляют меньше возможностей для взросления в традиционном понимании этого слова (Поливанова и др., 2017, с. 201).
Иначе говоря, дело не в детях, не желающих взрослеть, а в трансформации всей социально-экономической системы. Условия самой жизни изменились, и этим обусловлен распад всех прежних картин взросления — привычные образцы устарели и стали неадекватными. Если в давние времена вступление в брак и рождение детей было обязательным условием организации собственного быта с целью самообеспечения, то в результате научно-технического развития современному человеку не требуется совершать таких сложных действий, и обеспечить себя он может полностью самостоятельно. Но древние культурные ориентиры по-прежнему не унимаются и буквально требуют от людей вступления в брак и рождения детей, только вселяя в них тревогу и сомнения в правильности своих действий. Всякое культурное общество выглядит, как разрисованный мелками пол, где каждый штрих — демаркационная линия, переступать за которую нельзя, а можно идти лишь вдоль и в указанном направлении.
Культура наполнена традициями — практиками, которые когда-то имели значение, но, утратив свою актуальность, стали выполняться просто потому, что "так принято" и "так делали наши деды". К традициям можно относиться по-разному, но часть философов стабильно расценивала их как практики, тормозящие развитие общества: если регулярно делать что-то, что имело значение когда-то, то не останется времени, чтобы делать то, что имеет значение сейчас. Один из существенных минусов традиций — они придуманы не нами. Но при этом непременно требуют, чтобы выполняли их мы. Поскольку традиции — это сценарии и практики, полученные от Другого (Адоньева, Олсон, 2016, с. 367), то вся активность индивида главным образом сводится к исполнению предписанных культурой ролей, к соответствию заданным образцам. Но при этом "
жизнь по образцам — это способ устроения жизни, где автор жизни устраняется от авторства. Человек объективирует сам себя, устранив собственное «я» и заменив его той или иной ролью в соответствии с потребностью момента и тем самым отказавшись от собственного настоящего" (Адоньева, 2009).
Станислав Лем считал, что люди окружили себя стеной из культуры и традиций, сделавшись пленниками того, что, "
являясь, по сути, совершенно случайным собранием всякой всячины, представляется ему высшей необходимостью" (2002, с. 125). Традиции выступают для человека своеобразной аллеей ориентиров, ступить за пределы которой он не осмеливается. Но куда она ведёт? И не отворачивает ли от других возможных и интересных сценариев?
2. Культура имеет значение
Ярчайший пример противостояния культуры и новой экономической необходимости — это возникшая в связи с индустриализацией XIX века возможность женщины работать вне дома — на фабрике. Для сложившихся тысячелетних норм это был настоящий вызов, и потому многие мужчины называли шлюхами женщин, работавших на фабриках (Зидер, 1997, с. 34). Насколько это социальное давление удерживало других женщин от фабричной работы? Надо думать, удерживало и очень сильно. Аналогичная ситуация сложилась и столетием позже, в годы Второй мировой, когда тысячи мужчин ушли на фронт, а производство нельзя было останавливать — тогда на заводы пошли работать женщины, ещё вчерашние домохозяйки. И вновь они подверглись общественному порицанию, хотя "объективная действительность" буквально велела им совершить этот шаг. Экономика тех лет остро нуждалась в женском труде, но многотысячелетняя культура воспротивилась этому.
И вновь вопрос: насколько это культурное давление останавливало других женщин от промышленных работ? Конечно же, многих. Есть даже интересные цифры: если в военные годы, когда "объективная действительность" наиболее остро нуждалась в женском труде, трудоустроены были около 15 % американских жён, то к 1960-му таких жён стало в два раза больше — 30 %, и это притом, что "объективная необходимость" в женском труде по сравнению с военными годами снизилась (Ялом, 2019, с. 390). Чем образованнее была женщина, тем неохотнее она мирилась с ролью домохозяйки (Komarovsky, 1962, p. 49). Некоторые жёны устраивались на работу, даже если в этом не было острой необходимости. В послевоенные годы наибольший прирост работающих женщин наблюдался как раз среди жён с хорошим образованием, чьи мужья зарабатывали 7-10 тысяч долларов в год, чего было достаточно для комфортной жизни в те времена (Chafe, 1991, p. 188). То есть основной рост работающих женщин происходил за счёт не самых нуждающихся.
Факт противостояния старых культурных норм и новых экономических веяний отмечался во все времена. Историкам известно, что как только какая-то работа вдруг начинала приносить ощутимый доход, то она сразу же становилась мужской — женщина просто и откровенно из неё вытеснялась, и вместе с этим, чем сильнее становились позиции женщины в какой-либо сфере, тем большей дискриминации она подвергалась (Зидер, 1997, с. 34).
"Кажется, что перед обществом, в котором доминировали мужчины, прямо-таки стояла задача символически (например, манерой говорить, распределением мест в процессиях, культурой крестьянских кабаков) постоянно утверждать мужское господство" (там же, с. 35).
Так что можно смело говорить, что культура имеет силу влиять на общественное развитие — по крайней мере тормозить уж точно.
Многие мыслители (особенно марксисты) убеждены, что брак был вопросом выживания (для крестьян) или же регулятором наследования (для знати), и потому, глядя на современный брак с позиций собственной догмы, они вынужден приходить к заключению, что раз брак существует по сей день, значит, он по-прежнему является вопросом выживания или же регулятором потоков собственности. Но о какой собственности можно говорить сейчас, когда у многих её попросту нет — ни квартиры, ни даже машины, и всё большую популярность набирает тенденция совместного потребления (sharing economy)? О каком вопросе выживания можно говорить сейчас, когда никто из нас не вынужден возделывать свою землю и пасти скот, а ежедневные походы в офис вполне снабжают нас всеми необходимыми средствами к существованию? Сейчас не нужно вступать в брак или рожать детей, чтобы обеспечить себя необходимой рабочей силой и поддержкой. Но в брак как вступали, так и вступают (и будут вступать ещё многие десятилетия). Так причём здесь вопрос выживания и частной собственности? Почему отдельные лица однажды смогли просто решить не вступать в брак и не заводить детей и тут же не умерли с голоду? Почему ровно так же не может решить и кто-то другой и вообще все остальные?
Это ментальность. Культура. Традиции. То самое "так принято". Культурный императив, возникший тысячи лет назад. Это прочно вшито в наши головы и слабо связано с "объективными условиями" жизни. К тому же сейчас любой антрополог знает, что брак, где муж повелевает женой, возник задолго до частной собственности и по сей день продолжает существовать у народов, собственность которым неизвестна. Во многих обществах охотников-собирателей вступление в брак — вопрос престижа, обряд перехода в новый социальный статус и всего-то.
Даже в крестьянской среде брак и семья, по видимому, не являются такой уж "объективной необходимостью" (Адоньева, Олсон, 2016, с.89), но именно древними культурными установками, ведь очень часто овдовевшая женщина способна ещё ряд десятилетий самостоятельно содержать несколько голов скота и возделывать огород (с. 99) — так кто мешал ей так делать всю жизнь? Наверное, всё-таки давление общества, культуры?
Кто-то может сказать, что женщине без мужа куда сложнее, ведь растить детей в одиночку очень трудно. Но зададимся вопросом: а что велит ей заводить детей? Конечно, давление всё тех же культурных норм, а не какие-то "объективные условия". Вспомним робота Софию…
В некоторых деревнях XVIII–XIX веков под влиянием старообрядческих взглядов даже возникали особые течения, где женщины принципиально отказывались от вступления в брак, — число холостых женщин старше 25 лет там колебалось аж в районе 44–70 % (Бушнелл, 2020). И ничего, никто с голоду не умер, они просто жили большими коллективами и вели всё тот же быт.
Когда подруга жаловалась на непросто складывающуюся жизнь в браке, я мимоходом заметил:
— Может, проще было совсем не выходить замуж?
— А как иначе? — удивлённо спросила она. — Да и финансово выгоднее, когда сообща…
— Да, но почему именно с мужем? Почему не с какими-нибудь хорошими подружками?
Она задумалась, и было ясно, что ответа у неё нет. Просто в сложившихся культурных схемах нам с детства представлен лишь один регламентированный образец, как можно устраивать свою взрослую жизнь, и никакой жизни с подружками там нет. Нас не научили, что можно иначе.
3. Трансляторы культуры
В плане влияния на поведение и ценности человека очень интересна терминология гражданского статуса. Слово "холостяк" не только означает человека, не состоящего в браке, но вместе с этим и выражает отсутствие его ценности, неплодотворность (холостой патрон, вхолостую, впустую). Холостой — бесполезный; выхолащивать — лишать содержания. То есть в этом термине кроется не только описание степени свободы человека, но одновременно ему даётся оценка со стороны культурной нормы, которая велит рассматривать его как нечто незначительное и даже нежелательное. Культурный императив проникает в термин и транслирует из него: быть вне брака — плохо. Но аналогично вытеснению оценочного термина «худой» более нейтральным понятием «стройный» в современных условиях меняющихся норм нагруженный отрицательными смыслами термин «холостяк» вытесняется более нейтральным "одиночка", "сингл" (single) или даже позитивно окрашенным "свободный", что говорит о сильно изменившихся ценностных ориентирах.
Таким образом, слово всегда наполнено идеологическим содержанием.
Как отмечает социолог Белла ДеПауло, холостяков (одиночек, singles) всегда определяют через то, кем они
не являются и что они
не имеют. Они — "не состоящие в браке", "неженатые".
"Обозначение странное, в котором одиночность определяется через некую незавершённость браком" (DePaulo, Morris, p. 58), будто они ещё не достигли своей "логичной" и "естественной" цели. В противоположность этому, возмущается ДеПауло, почему женатых людей не называют неодиночками?
Четыре самые распространённые категории гражданского статуса в американских отчетах Бюро переписи: состоящий в браке, разведённый, овдовевший, никогда не женатый.
"Эта четверичная схема отвечает на три вопроса", рассуждает ДеПауло, —
"Вы в настоящее время в браке? В противном случае Вы были когда-либо в браке? Если же Вы сейчас больше не в браке, то это потому, что Ваш супруг умер, или потому что Вы развелись? Взрослые, которые являются в настоящее время одиночками, должны объясниться. Напротив, те, кто в настоящее время женат, не должны указывать, были ли они всегда в том же самом браке, или находятся ли они в процессе распада их союза" (p. 59).
Тот факт, что именно одиноких называют
"не состоящими в браке", подчёркивает существование древнего культурного императива, по которому все
должны быть в браке (Гура, с. 9). Брак здесь украдкой транслируется как ценность. Даже английское слово "singlehood" переводится на русский не как "одиночность", а как "безбрачие", то есть опять делается акцент на нехватке, неполноценности (можно сравнить с термином "безногий", который не только описывает положение вещей, но и подразумевает, что у человека
должны быть ноги).
В действительности вся культура наполнена предписаниями, почти каждый её элемент — фольклор, литература, живопись, кино, театр, ритуалы, традиции, даже одежда и домашняя утварь — всё это транслирует нам некие смыслы, которых мы невольно начинаем придерживаться. Все элементы культуры можно расценивать как ориентиры, направляющие человека, — множество неочевидных подсказок разбросаны вокруг, они буквально витают в воздухе, мы смотрим на них, мы слышим их, ходим по ним, прикасаемся, мы вдыхаем их и выдыхаем. Всё это шепчет нам, куда идти и что делать, что любить и что отторгать. Культура окружила нас образцами того,
как надо поступать,
что надо чувствовать и какие цели ставить.
Прекрасно известно, что детские сказки — это не просто способ занять детей перед сном, но и инструмент социализации ребёнка, механизм формирования особого восприятия мира (Эльконинова, Эльконин, 2008, с. 16). В сказке заложены основы понимания добра и зла и в целом социальных отношений в сложившемся обществе (Улыбина, 2003, с. 106). Неся в себе следы архаики, прошлых эпох, ритуалов, обрядов и опыт жизнедеятельности многих поколений, сказка транслирует систему ценностей людей минувших эпох. Сказку можно рассматривать как способ передачи знаний о социальной реализации человека (Зинкевич-Евстигнеева, 2006, с. 7); слушая сказки, ребёнок накапливает в глубинах своего бессознательного некий "банк жизненных ситуаций", который может быть активизирован в случае необходимости, или останется в пассиве (с. 12).
Иначе говоря, да, сказка оказывается пресловутым ориентиром, но в каком социальном пространстве? В пространстве давно ушедших эпох. Ведь анализ сказок выявляет очень древнюю их природу — сюжетные линии транслируют образ жизни, существовавший как минимум во времена неолита (6–9 тыс. лет назад) или даже мезолита (10–12 тыс. лет назад), хотя некоторые исследователи обнаруживают в сказке и вовсе следы палеолита (Кузьменко, 2014, с. 19), ведь там часто присутствуют персонажи, добывающие пропитание охотой, что свойственно доземледельческому периоду (там же; и с. 62). То есть сказка транслирует образцы ценностей и поведения из такой глубокой древности, которая утратила часть своей силы более 10 тысяч лет назад, но, тем не менее, подготавливает ребёнка именно к тому, древнему целеполаганию и поведению. Ключевым же оказывается то, что эта древняя сказка даёт представление и об "идеальной семье" (Абраменкова, 2008, с. 102), заодно подготавливая девочек к практике брака, обязательным элементом которого оказывается оставление родного дома, в итоге ведущее к удачному замужеству (Кузьменко, 2014, с. 27).
Таким образом, сказка подготавливает ребёнка к тем способам реагирования, которые были характерны древним обществам охотников-собирателей, закладывает в их психике сценарии давно исчезнувших обществ, существовавших в совершенно иных материальных и социальных условиях. Есть от чего насторожиться, разве нет? Насколько адекватны такие «вливания» в мозг детей уже многократно изменившегося общества? Повальная практика разводов, в разные годы доходящая аж до 70 % однозначно свидетельствует о том, что воспроизводство архаичных институтов в современных условиях никак не соответствует реалиям.
Люди привыкли считать, что существуют некие незыблемые, общечеловеческие ценности, которые всегда были, есть и будут. Человеческая нога прочней всего стоит на древней почве, именно поэтому человек склонен представлять даже древнее прошлое в красках настоящего — ему так спокойнее. Ведь что если мы вдруг узнаем, что семьи, какой мы её знаем сейчас, раньше не было, и возникла она совсем недавно? Что если мы вдруг узнаем, что и сексуальное поведение человека в древности кардинально отличалось от современного? Что если моногамия (образование пары мужчина + женщина), так привычная нам сейчас, была не плодом какого-то естественного хода вещей, не плодом эмоциональной связи между людьми и даже не плодом развития каких-то социально-экономических отношений (как искренне верят марксисты), а результатом древней репрессивной по отношению к женщине идеологии, провозглашающей мужское господство?
О чём это нас заставит задуматься? И станет ли хотя бы просто поводом для беспокойства? Если поменять представления человека о прошлом, можно поменять и его отношение к настоящему, вот в чём трюк. Подмени систему координат, и получишь другого человека. Здесь и возникает главный вопрос: а что если раньше всё во многом было не так? Что если наши представления о прошлом в таких наиболее важных аспектах человеческой жизни, как брак, семья и сексуальность, ошибочны?
Начнём с развенчания мифа семьи, которая в прошлом сильно отличалась от семьи, известной нам сейчас. Раньше семья представляла собой совсем другую общественную структуру, которую сейчас бы никто семьёй не подумал назвать. В современности часто принято идеализировать семью прошлых эпох как более крепкую, более дружную, любящую и т. д., но это совершенно не соответствует действительности.
Часть I. Прошлое близкое и прошлое далёкое
Глава 2. Семья: вечная ценность, возникшая вчера
В пору студенческой юности я был частым гостем в общежитии Медакадемии. С непременной бутылочкой ликёра я наведывался к девчонкам, и мы замечательно проводили время. Однажды в гостях у подруги оказалась её сестра помладше, тоже студентка, только с психфака. Она хотела стать семейным психологом.
— Зачем? — спросил я. — Ведь семья скоро исчезнет.
— С чего она вдруг исчезнет? — удивилась будущая психолог.
— Ну ведь когда-то семьи не было, — пояснил я, увлечённо разливая ликёр по рюмкам, — а хорошо известно, что всё, однажды возникшее, так же однажды исчезнет. Об этом Энгельс хорошо написал в "Происхождении семьи, частной собственности и государства".
Возникла пауза. Юная Хорни смотрела на меня так, будто я отрицал, что небо синее.
— Семья была всегда, — отчеканила она, глядя на меня с уверенной полуулыбкой, как психиатр на пациента. И дальше триумфальное: — И семья будет всегда.
Я выпрямился и внимательно посмотрел на неё. Меня с тревогой осенило:
— Ты ведь про Энгельса ничего не слышала, верно? Вас этому не учили, да? Вы ведь историю возникновения семьи, наверное, вообще не проходите?
— Семья всегда была и всегда будет, — почти торжественно повторила она, не только не сбавляя улыбки, но даже слегка вздёрнув голову.
Бог ты мой, думал я, это кого же они там готовят? Что это за специалисты-то будут? Целители человеческих душ… Как же они будут вмешиваться в людскую психику, если не знают, как она сформировалась — в каких условиях и для чего? Будут лечить, как доктор Зойдберг в "Футураме"?
— Семью ничто не заменит, — добавила будущая психолог.
Она смотрела на меня, как сестра Рэтчед на МакМёрфи. И я понимал, что ей ничем уже не помочь. Как и её будущим клиентам/пациентам, которых заранее было жаль.
Ну я хотя бы попытался.
"Семья" — это слово почти священно. Но что это такое? Что такое семья? Давайте вкратце рассмотрим.
Люди уверены, будто семья, какой она нам известна сейчас, существовала всегда. Не зря в народе ходят примеры из сферы наивной лингвистики, согласно которым само слово «семья» восходит то ли к старорусскому "семя", то ли к "семь Я" и, таким образом, в обоих случаях будто бы отображает сакральный вопрос продолжения рода, продолжения себя (и мало кого при этом волнует, что числительное «семь» в стародавние времена на самом деле имело несколько иной корень — "седм": седьмой, седмица). В действительности же, конечно, историческая картина с семьёй сильно отличается от представлений обывателя.
В античном Риме слово "familia" (в современности уже понимаемое именно как семья) даже не касалось супругов и детей — им обозначалась совокупность рабов одного господина (домашний раб — famulus), familia была велика, и порой преобладающая часть её членов не состояла в биологическом родстве (Гис и Гис, с. 10). Древнегреческий "oikos" также обозначал одновременно и домашнее хозяйство, в рамках которого продукция производилась и потреблялась, и самих участников этого хозяйства, живущих под одной крышей, но включавших в себя отнюдь не только мужа с женой и детьми, но и их рабов, зависимых и вольноотпущенников (Бессмертный, 1996, с. 348). То же касается и неолитического Китая (династии Инь/Шан — 1600 г. до н. э. — и в начале династии Чжоу — 1100 г. до н. э.), когда
"едва ли вообще существовали семьи как самостоятельные социальные и хозяйственные ячейки. Парные брачные ячейки в ту пору были неотъемлемой частью более крупных социальных и хозяйственных объединений (род, родовая община, большесемейная община)" (Васильев, 2001, с. 125). Разумеется, аналогичная картина была характерна и для Древней Месопотамии (Гласснер, с. 410). Что касается Руси, то ситуация там ничем не отличается от приведённых выше примеров из других культур: в описаниях Домостроя XVI века мы обнаруживаем, что понятие "семья" применяется только к слугам, челяди, рабам (Найдёнова, с. 296; Пушкарёва, 2011, с. 46), а не к хозяину и хозяйке дома с детьми.
То же касается и термина "домочадцы" — если сейчас мы понимаем под ним именно членов современной семьи, то в старорусском языке домочадцами именовалась совокупность людей, по разным причинам попавшая в рамки одного домашнего хозяйства — помимо хозяина, хозяйки и их детей, это опять же слуги, наёмные рабочие (батраки), инвалиды и нищие, которых приютил хозяин дома. То есть слова, понимаемые нами сегодня в одном смысле, раньше имели смысл совсем другой. А это значит, что и концепции отношений между людьми тогда были совсем не теми, какие привычны нам сегодня, или, говоря иначе, тогда их в таком виде попросту не было.
Таким образом, проводя тождество между современной семьёй и формами объединения людей в прошлом, мы непременно совершаем ошибку и распространяем привычное нам понимание на эпохи, когда такого понимания совсем не было, да и структуры эти были в целом устроены иначе. Куда уместнее было бы называть объединения людей прошлого "домохозяйством", "домашним сообществом" (Найдёнова, с. 297), концепцией "всего дома" (das ganze Haus) (Зидер, 1997, с. 16) или множеством других вариантов (см. перечень: Косвен, 1963. с. 6), но никак не семьёй в современном нам понимании.
"Римская "семья" (familia) мало похожа на то, что называем семьёй мы", пишет историк Поль Вейн (2017, с. 12, 91), и его будто дополняет Ключевский, подмечая, что
"старинный русский двор, сложная семья домохозяина с женой, детьми и неотделенными родственниками, братьями, племянниками, служил переходной ступенью от древнего рода к новейшей простой семье и соответствовал древней римской фамилии" (Ключевский, 2002, с. 94). Иначе говоря, объединения людей прошлого были далеко не той «семьёй», к которой мы привыкли.
"Термина "семья" Домострой в современном его значении не знает. Он оперирует понятием "дом" как обозначением некоего единого хозяйственного, социального и психологического целого, члены которого находятся в отношениях господства-подчинения, но равно необходимы для нормальной жизни домашнего организма" (Найдёнова, с. 303). То есть в прежние эпохи «дом» был куда шире современного понимания семьи (муж + жена + дети) и при этом был куда более важным, чем последняя — кровное родство имело далеко не первостепенное значение (Зидер, с. 16). По оценкам некоторых специалистов, в состав подобной "домовой общины" в определённые эпохи могло входить даже до 200–300 человек (Черняк, с. 54), на Руси она также могла насчитывать до 250 человек и оставаться стабильной в течение 150–200 лет (Абраменкова, с. 89).
Даже в средневековом Китае династии Мин (1368–1644 гг.) для наиболее близкого семье обозначения использовался иероглиф "цзя", который графически представлял собой сочетание знаков "крыша дома" и "свинья": то есть, опять же, в основе именно указание на дом и хозяйство как таковые (Малявин, 2008, с. 120; что, впрочем, не мешает автору удивительным образом находить в них признаки
"родства по крови или браку" — несмотря на то, что в Китае той эпохи ещё существовала полигамия и институт наложниц).
Тот факт, что ещё в сравнительно недавнем XV веке (500 лет назад) концепции современной семьи даже не было, подтверждается тем, что мужа, жену и детей описывали не привычным нам термином «семья», а формулой "такой-то с женой и детьми" (Зидер, 1997, с. 16). То есть данному союзу даже не было своего названия, он никак принципиально не выделялся общественным сознанием из прочих объединений людей (Гис и Гис, с. 10). Мало того, даже дети не сильно воспринимались родителями как часть некоего обособленного союза, поскольку хозяйские дети, достигшие трудоспособного возраста, по своему положению стояли ближе к слугам, и даже сидеть за одним столом с родителями им было запрещено — их место было за столом слуг и батраков (Найденова, с. 301; Зидер, с. 53), даже в переписях населения дети нередко указывались как "батраки" или "служанки" (Шлюмбом, 2007, с. 164).
Социальные историки прекрасно знают, как сложно изучать структуру крестьянской «семьи» в Средневековье, поскольку тогда семьи в современном нам понимании просто не существовало (Бессмертный, 1991; Ястребицкая, 1985).
"От исследователя как бы ускользает сам предмет исследования — семья, ибо понятие "семья" в современном смысле слова практически в них не встречается. Сплошь и рядом употребляются иные выражения для обозначения семейной домохозяйственной группы: "focus", "ignis"; "una carruca"; "sui omnes"; "hii qui ad ipsum pertinent"; "heredes sui" etc. По-видимому, в представлении составителей грамот и самих крестьян супружеская семья не являлась еще чем-то самостоятельным, обособленным и заслуживающим специального обозначения" (Габдрахманов, 1996, с. 31).
"Человек того времени не отграничивал себя с женой (или мужем) и своих детей от родителей, близких или дальних родственников, живших с ним под одной крышей, а также других лиц, не связанных с ним кровным родством" (Абрамсон, 1996, с. 103).
"Долгое время кровнородственные — вертикальные — связи доминировали над супружескими: и жена, и муж чувствовали себя прежде всего членами своего рода, а уж потом — членами домохозяйственной супружеской ячейки. Неудивительно, что современникам долгое время не приходит в голову называть супружескую чету (с их детьми) тем термином, которым впоследствии стали обозначать семью" (Бессмертный, 1996, с. 348).
Оформление «малой» семьи, которая нам привычна сейчас, происходит главным образом вместе с распространением такого явления, как город. Ещё в XI веке городов в Европе было очень мало — города в ту пору лишь
"изредка встречаются" (Дюби,1994, с. 11; Гис, Гис, с. 160). Но в период 800–1100 гг. н. э. «малая» семья начинает всё чаще появляться то здесь, то там (Блонин, 1990, с. 144; Абрамсон, 1996, с. 104) — в разных регионах Европы эта тенденция начиналась в разное время, но в целом можно определить началом период именно IX–XI века. Этому оформлению «малой» семьи способствует совокупность факторов, среди которых и наконец-то сформулированный христианской церковью концепт моногамного брака (Гис, Гис, с. 63; Блонин, 1990, с. 143) (да-да, до этого времени христианство не очень беспокоилось по этому поводу и в целом вполне себе мирилось с полигамией, распространённой тогда в Европе), и определённые сдвиги в экономике, всё чаще вынуждающие людей переселяться из сельской местности в города, тем самым порывая с большими родственными группами (Абрамсон, 1988, с. 47).
Но «малая» семья в тот период Средневековья только распространялась — превалирующим же объединением людей по-прежнему оставалась «большая» семья, домохозяйственная община: на Руси она и вовсе будет оставаться таковой вплоть до конца XIX в. (Пушкарёва, 2011, с. 94). «Малая» семья раннего Средневековья всё ещё
"как бы растворялась в других социальных группах, прежде всего в больших родственных коллективах" (Ястребицкая, 1982, с. 255).
Массово же ситуация меняется лишь в Новое время (в XVI–XVIII вв.) с индустриализацией, развитием капитализма, стремительным ростом городов и массовой миграцией в них сельского населения. В условиях городов необходимость в «большой» семье всё больше отпадала (поскольку отпадала необходимость иметь много рабочей силы для содержания хозяйства) — сначала в маленьких городских хибарках, а потом и в ещё меньших квартирах объединения людей становились всё меньше. Так ближе к XIX в. окончательно укрепилась современная нам семья (нуклеарная, от лат. «nucleus» — «ядро», состоящее отныне только из мужа, жены и детей; иногда в литературе встречаются упоминания и о «ядерной» или «атомарной» семье). Причём, детей с каждым последующим поколением также становилось всё меньше. Как подчёркивают историки,
"и римляне, и варвары нашли бы брак и семью в 1500 г. кардинально отличными от тех, к которым они привыкли" (Гис, Гис, с. 307).
"… представление о семье как ячейке общества, состоящей из родителей и детей, отсутствовало практически до конца XVIII века. Современная семья — реально новый тип общественной группы. Когда мы говорим о семье в более ранние периоды, мы используем то же слово, но имеем в виду принципиально другую с точки зрения психологии структуру" (Николаева, 2017, с. 8; Давлетова, 2015, с. 136).
Только к середине XIX века, всё больше откалываясь от многочисленных родственных связей и исторгая из себя других людей (в лице работников и прислуги), в западной цивилизации получает распространение известный нам нынче "культ семьи" (Репина, 1996, с. 25). Тенденция этой «нуклеаризации» достигла своего пика только в XX веке, но одновременно с этим, институт семьи начал буквально «сыпаться»: число разводов в развитых странах стало немыслимым для прежних эпох (о связи между усилившейся «нуклеаризацией» и одновременным ростом разводов поговорим дальше). Главное, что здесь нужно понять, это факт, что современная семья — конструкция довольно «свежая» (Gillis, 1996, p. 133) (которую, правда, уже успели, то ли по ошибке, то ли из хитрости, окрестить «традиционной» и нагрузить соответствующими "традиционными семейными ценностями"). С возникновением этой новой формы человеческого сожительства возникли и некоторые иные аспекты, позитивных из которых оказалось мало. Но об этом позже.
Всё описанное наводит на мысль о существенных различиях в психологии людей прошлых эпох и человека современного. Люди прошлого ощутимо иначе оценивали и переживали свою общность, принадлежность к группе. Мы сильно ошибёмся, если будем полагать, что даже рабы, слуги и батраки были какими-то сторонними элементами в рамках «дома». Это были единицы одного слаженного коллектива, между которыми обязательно возникали эмоциональные связи и чувство родства. Не зря «Домострой» предписывал хозяйке радеть о слугах, «болезновать» им и быть «заступницей» перед хозяином (Пушкарёва, 2011, с. 46; Найдёнова, с. 300). Вообще, в рамках домохозяйства прошлого
порой "не ощущалось явного различия между несвободными и свободными слугами и даже резко выраженной разницы между рабами и другими домочадцами, включая хозяев", так как все вместе бок о бок грелись у домашнего очага и спали на соседних кроватях под одной крышей многие годы (Абрамсон, 1996, с. 108). Даже у римлян между рабом и господином могли выстраиваться симпатии и любящие отношения (Вейн, 2017, с. 69). То же самое было характерно и для рабовладельческой эпохи США: между белыми женщинами и их чернокожими рабынями возникали эмоциональные связи,
"они доверяли друг другу свои переживания и секреты и установили систему женской взаимовыручки. Многие хозяйки работали плечом к плечу с рабами" (Ялом, 2019, с. 259). Рабы, слуги и батраки в домохозяйствах прошлого — совсем не аналог современных ремонтных бригад из ближнего зарубежья, которые входят в наш дом поклеить обои и выложить плитку. Рабы, слуги и батраки в прошлом — совсем не сторонние люди, это часть самого дома, его домочадцы. Сейчас нам, родившимся и выросшим в изолированной нуклеарной семье, непросто представить такое положение вещей, когда даже от прочих родственников мы нередко стараемся держаться подальше.
Переход от одного исторического типа «семьи» к другому непременно связан и с глубинными переменами в психологии, с трансформацией такой пресловутой вещи, как "семейные ценности" (Абраменкова, 2008, с. 93). Если в прежние эпохи царили патриархальные отношения, и главным в семье был глыба-отец, живой монумент самому себе, то постепенный переход в XX веке к браку детоцентристскому (с ребёнком в центре семейной вселенной) или же к браку равному (эгалитарному, с равенством супругов), все эти трансформации наглядно отображают. Раньше — было иначе. И так, как сейчас — было не всегда.
"Семья с социально-психологической точки зрения представляет собой соответствующую исторически сложившимся нормам и ценностям данного общества социальную группу", пишет доктор психологических наук В. В. Абраменкова (с. 94), то есть психология семьи всегда и неминуемо соответствует веяниям своей эпохи: для одного времени внутри семьи характерны акценты на одном, для другого времени — акценты на другом. К примеру, если анализировать содержание сказок, то можно обнаружить, что сказки разных эпох (древнейшие, древние и более поздние) по-разному описывают значение брака в житейской парадигме героя. Брак в древнейших сказках — это лишь средство достижения героем каких-либо благ, например, волшебных предметов (выйти замуж/жениться, чтобы случилось то-то), а брак в сказках древнего периода уже является целью, ради которой совершаются подвиги (и свадьбой сказки этого периода, как правило, и заканчиваются); в ещё более поздних сказках повествование уже начинается в брачном положении героя (там же, с. 101). То есть на примере сказок можно видеть смещающееся значение брака в жизни людей разных эпох.
Для наглядности тезиса об эволюции психологии семьи (а значит, и её содержания в представлении людей) вернёмся к разговору об отношении к детям в "семье" прошлого.
1. Детско-родительские отношения прошлого
Тысячелетия назад, что на территории Европы, что на Ближнем Востоке жертвами вооружённых конфликтов становились не только взрослые, но и дети. Уничтожались целые поселения, включая и совсем малых детей — обнаружены многочисленные фрагменты детских черепов со следами от орудий. В работе антрополога М. Б. Медниковой имеется отдельная глава под говорящим названием "Опасность насильственной смерти. Дети не исключение" (2017, с. 59), где описывается множество подобных захоронений: в результате набегов уничтожались дети даже 3–5 лет.
"Краниальные травмы в биоархеологических исследованиях служат мерилом агрессивности древнего сообщества", пишет Медникова.
"С этой точки зрения, встречаемость травм на черепах совсем маленьких детей отражает степень агрессивности социума в отношении самых беззащитных членов" (с. 61).
"Женщины и дети доминируют среди жертв насилия, у которых встречены травмы черепа" (с. 63). То есть детей уничтожали наравне со взрослыми. Никаких международных конвенций по защите прав детей ещё не было.
Отцы и дети
Факт массовых убийств детей в ходе вооружённых столкновений является лишь косвенным свидетельством отношения к детям. Что же касается собственно родительского отношения к детям минувших эпох?
Вышедшая в 1960 году книга Филиппа Арьеса по истории детства "Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке" произвела фурор в научном мире и породила массу исследований по этой теме, которые не прекращаются и по сей день. На примере разных исторических источников Арьес попытался показать, что к детям в прошлые эпохи относились совершенно иначе, чем принято сейчас, без какого бы то ни было трепета, во многом эмоционально отстранённо, а порой откровенно равнодушно. Детство не было выделено в какую-то особую категорию ценностей, и к детям относились, как к маленьким взрослым. Книга Арьеса породила много споров, но после полувековых дискуссий в целом современные учёные скорее склонны соглашаться с предложенными в ней выводами.
В прежние века отношение родителей к детям однозначно было куда спокойнее, чем сейчас, а зачастую было и просто жестоким. У большинства народов, входивших в Римскую империю, детоубийство было дозволенным явлением в случае рождения больных или "лишних" детей. В текстах двухтысячелетней давности легко можно встретить наказы мужа жене в духе
"Если повезёт и ты родишь ребёнка, то, если это будет мальчик, пускай живёт, если же девочка, брось её" (Демоз, с. 43) или же философские рассуждения о праве мужчины делать со своими детьми всё, что вздумается, ибо
"разве мы не сплёвываем лишнюю слюну или не отшвыриваем вошь, как нечто ненужное и чужеродное?" (там же, с. 45). В той же римской "семье" отец имел право по тем или иным причинам отказать новорожденному в принятии его в "семью" (susceptio), что обрекало последнего на смерть (Гуревич, 1982, с. 259). Также законодательно было разрешено продавать "лишних" детей в рабство, правда, уже во II в. до н. э. такая продажа была ограничена только очень маленькими детьми, которых родители не могли прокормить (Гис, Гис, с. 36). Продавать своих детей в сложных жизненных обстоятельствах было позволено во многих культурах разных эпох (Гулик, 2011, с. 93), о том же говорят и славянские источники XIII века. Вплоть до XVIII–XIX вв. крестьяне обращались с детьми настолько небрежно, что в частности этим была обусловлена высокая детская смертность. Всё это осталось зафиксированным в отчётах врачей тех лет. Частые смерти младенцев и маленьких детей матери воспринимали по большей части апатично (Зидер, 1997, с. 36). Историки, изучая институт материнства в прошлом, приходят к выводу, что материнство не является извечным и "естественным" свойством женщин, что материнская любовь не вытекает из пресловутого "природного инстинкта", которого, судя по всему, попросту не существует. По справедливому мнению историка медицины и психиатра Эдварда Шортера, эмоциональная связь между родителями и детьми является современным изобретением (Shorter, 1975).
"В традиционном обществе матери равнодушно относились к детям, которым еще не исполнилось двух лет", категорично писал Шортер в своей книге "Создание современной семьи".
Исследователи отмечают, что почти на всех средневековых изображениях матери с ребёнком последний всегда показан проявляющим к ней нежность, в то время как мать почти всегда изображена безучастной, и картины, где мать также показана улыбающейся и проявляющей интерес к ребёнку, появляются в более поздний период (Демоз, с. 36). Такая ситуация характерна и для Древней Руси, где анализ икон и фресок подтверждает
"скупость, сдержанность эмоций людей того времени, отсутствие известного по поздним памятникам умиления по отношению к детям" (Пушкарева, 1996а, с. 307). Попытка обратиться к библейским текстам в поисках демонстрации нежности и любви к детям в древности также приводит к неутешительному выводу:
"Здесь мы находим многочисленные примеры того, как детей приносили в жертву, избивали камнями, просто били, но не обнаружим ни одного примера, показывающего хотя бы слабую степень эмпатии к детским потребностям" (Демоз, с. 31).
Переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству около 10 тысяч лет назад привёл к усилению эксплуатации детского труда (Медникова, с. 12), и уже в возрасте 8–10 лет ребёнок вовлекался в нагрузки, почти сопоставимые со взрослыми (с. 14) — вплоть до конца XVIII в. это был примерный возраст наёма в батраки (Зидер, с. 51). Но с индустриализацией и развитием городов эксплуатация детей ещё более усиливается: отныне дети работают подмастерьями в ремесленных мастерских и в качестве дешёвой рабочей силы на фабриках.
Миф "святости материнства" точно никак не был характерен досоветской Руси, где в ходу были поговорки в духе "Каб вы, деточки, часто сеялись, да редко всходили" (Пушкарёва, 2011, с. 125). "
Отношение к детям в простых семьях было обусловлено обстоятельствами отнюдь не личностными: лишний рот в семье был для многих непосильной обузой" (там же, с. 72). "
Без них горе, а с ними вдвое", "
Бог дал, Бог взял". В русских колыбельных песнях порой присутствовало даже пожелание смерти ребёнку: этот мотив присутствовал не так и редко — около 5 % от общего числа колыбельных. Образ материнства, сейчас воспринимаемый как нечто священное, как величайший долг каждой женщины, в действительности возник совершенно недавно — в 1930-е годы под влиянием идеологического прессинга Советского государства (Шадрина, 2017, с. 112–121). Это стало вынужденной мерой в условиях тотального сокращения рождаемости тех лет, когда женщину прямо стали призывать "рожать советских богатырей" на благо государства. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что на Западе бездетная женщина не испытывает такого сильного давления со стороны окружения, как это происходит на постсоветском пространстве (с. 321–324).
До 1930-х материнство никогда не описывалось в таких возвышенных тонах. Антрополог С. Б. Адоньева прямо указывает, что в традиционных крестьянских представлениях ни о какой "святости материнства" и речи не было. Да, в досоветские времена бездетность рассматривалась как показатель неблагополучия семьи, даже возможной порчи, но у этих воззрений были свои, вполне материальные причины. "
Плодовитость обеспечивала увеличение земельного надела семьи (надел в царской России выделялся на мужскую душу), а также возможность выделения семьи в отдельное хозяйство. Смерть младенцев переживалась как горе, но не как трагедия", пишет антрополог. "Беременность и акт рождения переживались как особое состояние. Скорее нечистое, чем "святое", как это устоялось в публичном советском дискурсе" (Адоньева, Олсон-Остерман, с. 101). Родившей женщине 40 дней запрещалось входить в церковь, с ней запрещалось есть, над ней предписывалось читать "очищающие" молитвы, как "над сосудом оскверньшимся" (Романов, 2013, с. 159). Полагание женщины осквернившейся путём рождения ребёнка в XI веке доводило до абсурда: у людей возникал вопрос — если после родов мать считается 40 дней "нечистой", то можно ли ребёнку сосать её грудь? О какой "святости материнства" можно говорить в таких условиях?
Надо заметить, что и в прежние эпохи порой оставались задокументированными случаи тесной эмоциональной связи между родителем и ребёнком (см. "Вся история наполнена детством"), но в целом же эти случаи выглядят скорее исключениями, чем общей тенденцией. Слабая медицина и незнание специфики обращения с новорожденными приводили в Средневековье к очень высокой детской смертности и к тому, что
"к детям относились фаталистически: ребёнок или выживал, или умирал. Смерть маленького ребёнка как бы "восполнялась" рождением следующих детей" (Зидер, с. 40). Возможно, именно по причине высокой детской смертности родители просто не спешили привязываться к чаду, поскольку вероятность его вскоре потерять была велика (Арьес, 1999, с. 49; Shorter, 1975), или, как отмечает историк Барбара Такман, любовь к малым детям была "делом неблагодарным" (2013).
В германских племенах VI в. родители уделяли детям мало внимания, целиком препоручая заботы о них сторонним кормилицам.
"Более типичным оставалось привычное для германцев невнимание родителей к детям, пока те не достигнут совершеннолетия" (Ронин, с. 15). Желанием родителей было как можно быстрее сделать из своих детей взрослых. Исследователи отмечают, раз детство оценивалось лишь как период обучения, подготовки к взрослой жизни, то и любовь к детям не могла быть самостоятельной нравственной ценностью. Сильная привязанность к ним не осознавалась как особая добродетель (Ронин, с. 19). Моральные наставления церковных деятелей той же эпохи равно относятся к людям всех возрастов, что тоже показательно.
"Мысль о своеобразии нравственного формирования именно детей, молодёжи никому в IX в. не приходила в голову" (там же).
Об этом же свидетельствует и то, что по законам Древней Руси несовершеннолетний ребёнок подлежал наказаниям ничуть не мягче, чем взрослый — никаких скидок на возраст и несмышлёность не делалось (Пушкарёва, 2011, с. 71), и вплоть до начала ХХ века в российском законодательстве отсутствовали статьи, охраняющие права детей (Абраменкова, 2008, с. 93). В таком нормативном памятнике XVI века, как Домострой, с целью воспитания детей в послушании вовсе содержится призыв наказывать тех с самого младенческого возраста, даже не дожидаясь от них каких-либо провинностей:
"И не ослабеи, бья младенца: аще бо жезлом бьеши его, не умрет, но здравие будет, ты бо бья его по телу, душу его избавишь от смерти" (Цатурова, с. 52). Домострой наставлял:
"любя же сына своего, учащай ему раны" (Данилевский, 1998, с. 267). Такая родительская "педагогика" закрепилась и в большом числе русских поговорок и пословиц:
"Хто не слухае тата, той послухае ката (т. е. кнута)";
"Дытыну люби, якъ душу, а тряси якъ грушу"; "Родительские побои даютъ здоровье" (Гулик, 2011, с. 93).
"В средние века все дети использовались как слуги, как дома, так и в других местах, часто прибегая из школы домой в полдень, чтобы обслужить родителей за обедом" (Демоз, с. 35).
Использование детей в качестве прислуги порой распространялось и на достигших совершеннолетия, правда, для этого родителям приходилось идти на некоторые ухищрения. Крестьяне некоторых районов Европы порой распускали нелицеприятные слухи об одной из дочерей (как правило, выставляли глупой, это называлось "делали дурочку"), чтобы снизить её шанс на замужество и оставить при себе в качестве прислуги, то есть дома "держали за дурочку" (Зидер, 1997, с. 43; Бурдьё, 2001, с. 300). На Руси даже существовал штраф для родителей за невыдачу дочери замуж (Щапов, 1989, с. 109), этой норме нет однозначной трактовки, но, возможно, она была направлена как раз на пресечение эксплуатации дочери в качестве рабочей силы в семье (Белякова и др., 2011). В этом же ключе можно вспомнить и такой известный феномен в истории Китая, как традиция бинтования женских ног — когда девочкам ещё в детстве туго перетягивали ступни, и за годы подобной практики те скукоживались, пальцы врастали в них снизу, и ноги фактически становились нефункциональными. Китайцы восхищались такими искалеченными ступнями, называя их "цветками лотоса". В течение десятилетий данная традиция считалась порождением мужского шовинизма патриархальной системы (Дворкин, 2000), но недавно появилось другое рациональное объяснение. Сразу несколько исследований установили связь между способами хозяйствования в разных регионах Китая и распространением традиции бинтования (Bossen, Gates, 2017; Brown, Satterthwaite-Phillips, 2018; Fan, Wu, 2018). Оказалось, ограничение подвижности дочерей было выгодно в первую очередь их собственным семьям: такая девочка всё время проводила дома за прядением хлопка, который на протяжении веков был очень дорогим. Поэтому именно в регионах, где хлопок был основой экономики, бинтование женских ног было распространено куда шире, чем в регионах, где основой экономики был рис. К тому же и возраст замужества в регионах с хлопком был выше, что также говорит о стремлении родителей держать такую дочку дома как можно дольше с целью максимизации прибыли.
Как уже было сказано, русский термин "семья" изначально описывал коллектив домашних слуг. Вдобавок к этому и привычные нам сегодня слова "ребёнок", "ребята" также описывали только детей слуг, поскольку они также были включены в обслуживание домашнего хозяйства господина (старорусское "робята" — от "работа", "раб", "рабство") (Найденова, с. 301; Трубачёв, с. 40). Таким образом, в славянских языках в слове "робёнок" акцент делается не столько на детстве, сколько на подневольности. Русское "холоп" (несвободный человек) связано со словом "хлопец" — "мальчуган", "мальчик", "парень" (Данилевский, 1998, с. 266). Из описанного можно видеть, как некоторые термины, позже вошедшие в концепцию близости ("семья", "ребёнок"), изначально зарождались для описания отношений никак не родственно-эмоциональных, а во многом именно хозяйственно-иерархичных. Это, в свою очередь, отсылает нас к уже многократно обоснованному факту, что в прежние эпохи (вплоть начала XX века) ни брак, ни семья не создавались из "нежных чувств", как наивно принято думать об этом сейчас (Вейн, 2017, с. 60; Зидер, 1997, с. 59; Шлюмбом, 2003, с. 634). Ещё недавно семья и брак были связаны с организацией и ведением хозяйства. Говорить о нежности и любви, как мы это понимаем сейчас, относительно прошлого очень трудно.
"Брак был слишком важным экономическим и политическим институтом, чтобы вступать в него на основе исключительно такого иррационального мотива, как любовь", пишет историк семьи и брака Стефани Кунц (Coontz, p. 7) (см. дальше
"Супружеские отношения прошлого"). "Такие семьи были прочными, но обычно не очень приятными для проживания в них" (Коллинз, 2004, с. 546).
В Древнем Риме эмоциональная дистанция между родителями и детьми была колоссальной (Вейн, 2017, с. 31), и ребёнок обращался к отцу не иначе как "господин" (domine), и даже вплоть до современности дети редко обращались к родителям на "ты", а только на "Вы" (Шлюмбом, 2007, с. 164). Как красочно обозначил русский историк,
"между родителями и детьми господствовал дух рабства, прикрытый ложной святостью патриархальных отношений" (Костомаров, с. 155).
"Семья очень связана с хозяйственным строем и имеет мало отношения к любви. Элементы рабства всегда были сильны в семье, и они не исчезли и до настоящего времени. Семья есть иерархическое учреждение, основанное на господстве и подчинении. В ней социализация любви означает её подавление" (Бердяев, 1991, с. 268).
В источниках Древней Руси (X–XV вв.) трудно обнаружить признаки эмоциональных отношений между матерью и ребёнком (Пушкарёва, 1996а, с. 311), но как раз много фактов, указывающих на так называемую "традицию любящего небрежения" со стороны родителей к детям. То есть всё описанное вовсе не означает, что родители прошлого не любили своих детей — любили. Только несколько иначе, чем привычно нам сейчас. Возможно, даже настолько иначе, что нам сейчас сложно назвать это любовью. Как замечает Ллойд Демоз,
"нежность к ребёнку чаще всего выражалась, когда он спал или был мёртв, то есть, ничего не просил. Лишь когда ребёнок уже умер, родитель, до того неспособный к эмпатии, рыдая, обвиняет себя. Разумеется, это не любовь (родители прошлого имели о ней смутное представление)" (с. 32). Больше похоже на современное отношение к домашним животным — вроде и любим, и эмоции какие-то есть, но в случае чего можем и другим хозяевам отдать — надолго или навсегда. Арьес прямо указывает, что
"хоронили рано умершего ребёнка просто где придется, как закапывают сегодня какое-нибудь домашнее животное, кошку или собаку" (1999, с. 50). Анализ старофранцузских источников также показывает, что, даже сокрушаясь по поводу смерти ребёнка,
"родители никогда не высказывают мысли о потере незаменимого существа, и довольно быстро утешаются" (Уваров, 1982, с. 221).
Аталычество, кормильство и фостераж
Что касается «отдать», то на Западе вплоть до конца XIX века многие женщины-горожанки из высшего сословия отдавали своих детей кормилицам и больше ими не занимались, то есть говорить о каких-то особых "материнских чувствах" тогда, как мы привыкли говорить об этом сейчас, очень сложно. Об этом же, пожалуй, говорит и институт
аталычества — передача своего ребёнка на многолетнее вскармливание и воспитание в другую семью ("аталык" — от тюркского «ата» — «отец», то есть лицо, выступающее в роли отца), распространённый в прошлом на территории Евразии у тюркских, монгольских, славянских, германских и кельтских народов (там данная традиция называлась
фостеражом, англ. — fosterage) (Давлетова, 2015; Хачетлова, 2015; Росс, 2005). В Риме, в Древней Руси и в других частях света аналогичный феномен назывался кормильством или наставничеством (Абраменкова, 2008, с 90; Вейн, 2017, с. 28). Отдать собственного ребёнка в другую семью на несколько лет и за это время ни разу его не увидеть или видеть лишь иногда — с точки зрения современного "интенсивного родительствования" представляется чем-то немыслимым. Но в прежние эпохи к данному явлению относились совсем иначе.
"То была желанная и популярная форма воспитания детей, выгодная для всех частей общества и для него как единого целого" (Ni Chonaill, 2008), потому что, вероятно, этот феномен был не чем иным как институтом альтернативного родства, намеренным расширением социальных связей в древнем обществе (Гуревич, 2007, с. 92). Как подмечали этнографы,
"семьи усыновляют чужих детей, а своих отдают другим семьям, так что это усыновление скорей похоже на обмен детьми" (Косвен, 1948, с. 14; Бутинов, 2000, с. 154). У андаманцев, изолированно проживших на островах в Индийском океане около 50–30 тысяч лет, "
редко встречался ребёнок старше 6–7 лет, который жил бы со своими родителями, настолько распространено было усыновление чужих детей" (Маретина, с. 160).
Что важно, ребёнок возвращался в родной дом лишь через несколько лет, и связь его с кормильцем и его семьёй была крепче кровного родства с собственными родителями (Абраменкова, с. 90; Кон, 2005b). Интересен вот именно этот факт большей эмоциональной связи ребёнка с опекуном, чем с родным родителями. Но не менее интересен и другой аспект: опекун, принимая чужого ребёнка в свою семью, должен был воспитывать его ещё более тщательно, чем собственных детей (Смирнова, 1983, с. 78). То есть можно видеть на примере аталычества как бы двойное смещение эмоциональных акцентов: ребёнок отдаляется от кровных родственников и сближается с кровно неродственной ему группой, а аталык-опекун в какой-то мере отстраняется от собственных детей и сближается с неродственным ему ребёнком. Если вдуматься в эту древнюю традицию с позиций современного взгляда на семью, современного "интенсивного родительствования" и детоцентризма, то она может выглядеть даже пугающей. Но тогда это было широко распространённой практикой. Что ещё раз говорит о том, что «семья» прошлого имела совсем иное содержание, нежели мы привыкли думать сейчас. Поэтому не кажется странным, что матери порой удивлялись, почему ребёнок не хочет вернуться домой по истечении нескольких лет кормильства в другой семье (Демоз, с. 30). Даже в Америке XVII века существовала
норма отдавать детей на воспитание родственникам. Сохранилась запись одной из колонисток от 1603 года:
"Мой кузен Гейтс привёз свою тринадцатилетнюю дочь Йен, которую, по его словам, он с радостью отдаёт мне" (Ялом, 2019, с. 157).
Называя аталычество древней традицией, важно понимать, что речь идёт о времени возникновения, а не о последнем периоде практики. Воспитание детей вне семьи, как говорилось выше, широко практиковалось даже в XIX веке, когда детей отдавали кормилицам, отдельные факты аталычества были известны на Кавказе даже в начале XX века (Кон, 2009b, с. 45). По некоторым подсчётам, в Англии XVI–XVII вв. вне родительской семьи воспитывались 2/3 всех мальчиков и 3/4 девочек (Stone, 1977). Оценивая распространение тех же детских приютов и их впечатляющую востребованность в XVIII–XIX века, исследователи подмечают, что
"практика оставления ребёнка в приюте была столь широка, что заставляет задуматься об эмоциональной и экономической ценности детей в глазах взрослых" (Каннингем, с. 120). То есть эмоциональное наполнение семьи буквально "ещё вчера" сильно отличалось от такового сегодня. Раньше концепция отношения к детям была иной, не такой, как сейчас.
Тезис об относительной безэмоциональности «семьи» прошлого подтверждается и материалами Средневековья на примере аристократии, когда внутрисемейная жизнь в эмоциональном плане оказывалась весьма прохладной, так как отец выступал для детей скорее в роли проводника сословных норм своего общества, транслируя идею подчинения, которая отпрыскам должна была пригодиться в дальнейшем. Это непременно приводило к напряжению в отношениях с отцом, но удивительным образом вместе с этим и способствовало поиску эмоциональных связей вне семьи — как правило, при дворе сеньора, куда ребёнок-вассал со временем отбывал на служение (Бойцов, 1996, с. 252). Историография накопила немало свидетельств того, что именно при дворе дети из среды знати находили эмоциональные отношения, но не дома, с отцом и матерью.
"Дети могли годами не общаться с родителями. Отца им заменял сеньор" (Сидоров, 2018, с. 47), а жена сеньора заменяла мать (Дюби, 1990, с. 93). В этом ключе служение сеньору очень похоже на аталычество.
Дети и отцы
Но детско-родительские отношения были симметричными: не только родители относились к детям небрежительно, но и подросшие дети, что ожидаемо, относились к родителям так же. В древнерусских текстах XIII века отобразилась родительская боязнь отмщения со стороны детей за их детство: говоря о возможности продажи детей, древний автор замечает, что
"если родились они в мать, то, как подрастут, меня самого продадут" (Моление Даниила Заточника, с. 112). Представления о благостном житии бок о бок стариков и детей в давние времена не более чем миф, наивная романтизация современного человека.
Когда старики уже не могли полноценно работать и содержать хозяйство, возникал вопрос о передаче управления взрослым детям, и вот тут начиналось интересное. По обыкновению старикам отводилось какое-либо отдельное помещение в пределах дома (стариковский выдел) либо же отдельная хибарка с пашней (если у хозяйства была такая возможность), где они и могли доживать свои дни; помимо этого взрослые дети, возглавившие хозяйство, обязались в какой-то мере содержать своих родителей. Здесь и был камень преткновения — дети не хотели кормить своих стариков (Зидер, 1997, с. 66). Если принимать в расчёт, что порой старики жили на выделе ещё 15, а то и 25 лет (с. 68), то они оказывались действительно тяжкой ношей для многих и без того небогатых хозяйств. Дети старались свести к минимуму свои обязательства по содержанию немощных родителей и поскорее избавиться от них, что привело даже к рождению таких стариковских поговорок, как "Передать и уж больше не жить" или "На стариковской лавке жёстко сидеть".
В Древнем Риме даже взрослый и женатый сын не был полноправным гражданином, пока жив его отец-господин (pater familias) (Вейн, 2017, с. 44), поэтому случаи отцеубийства были совсем нередки, а римский историк Веллей даже записал, что в случае гражданской войны отцу ожидать преданности от раба было естественнее, чем от родного сына (с. 47). Говоря проще, сын был врагом своего отца (с. 102). Ситуация мало изменилась и спустя полторы тысячи лет, когда в XIV веке итальянский писатель Франко Саккетти предупреждал мужчин, желающих стать родителями, что они должны помнить о детях следующее:
"в пяти случаях из шести… они оказываются его врагами и желают смерти отца, чтобы быть свободными". Чуть подробнее описывал отношения детей и отцов той же эпохи флорентиец Паоло да Чертальдо:
"Перед отцом сын держится подчинённым и раболепным до тех пор, пока отец управляет домом и имуществом; когда же он передаёт сыну управление собственностью, тот встаёт над отцом и ненавидит его, и кажется ему, что пройдёт тысяча лет, прежде чем он увидит день смерти отца. Из друга, каким сын был до этого, он превращается в твоего врага…" (Абдуллабеков, 1993, с. 99).
В Европе с конца XVIII в. дети и престарелые родители всё чаще заключают о выделе письменные договора, заверенные нотариально, что говорит о том, что конфликты на этой почве, пока договорённости были устными, случались очень часто. Порой в договорах согласуются даже такие нюансы, как можно ли старику вообще входить в хозяйский дом (напомню — в дом сына), если да, то с какого входа, и точная мера того или иного типа еды, которую дети обязуются предоставлять старикам. Историки утверждают, что в деревне были хорошо известны случаи жестокого обращения с беззащитными стариками. В действительности нередко и завышенные требования самих стариков наносили экономический ущерб хозяйству.
"Такое положение дел порождало конфликты, доходившие до отцеубийства" (Зидер, 1997, с. 67). Таким образом, и дети, и старики пытались себя обезопасить через официальный договор. Напряжённость в отношениях между поколениями представляется скорее правилом, чем исключением:
"Она овладела семейной жизнью крестьян от Литвы до Финляндии, от Финляндии до Южной Германии" (там же).
Известны такие акты дарения в обмен на содержание, когда отец,
"не слишком доверяя детям, предпочитал оформить подобные отношения юридически", и в Италии X века (Абрамсон, 1996, с. 116), и во Франции XVI века (Уваров, 1996, с. 269), где из 87 актов дарения детям адресованы аж 39 (остальные акты адресованы к знакомым, дальним родственникам или даже к церкви). Забавно, но исследователи отмечают, что в большинстве актов присутствует формулировка
"по доброй любви и склонности", а иногда любовь и вовсе объявляется «пылкой» — и это притом, что такие вставки фигурируют даже в тех случаях, когда известно о вражде (к примеру, о судебных тяжбах) между участниками дарения (там же, с. 272). То есть такие выражения нежности в документах, похоже, являются всего-навсего общепринятым обращением, формальностью, "хорошим тоном" эпохи, за которым реального эмоционального содержания не стояло.
Немецкий социолог XIX в. Вильгельм Генрих Риль писал по этому поводу:
"крестьянин далёк от всей современной сентиментальности и от романтических эмоций. Семья священна для крестьянина, но чувствительная любовь родителей, братьев и сестёр, а также супругов, которая принята среди образованных людей, не будет обнаружена в крестьянской среде. Это хорошо установленное утверждение, и я опасаюсь, что в сельской местности неуважение взрослых детей к престарелым родителям совершенно обычно, особенно когда пожилые родители передают всю собственность детям, которые, в свою очередь, обязаны оказывать им поддержку, т. е. их кормить и заботиться о них до самой их смерти. Чем оборачивалась эта поддержка, видно из крестьянской поговорки: "лучше не снимай с себя одежды перед тем, как лечь спать" (цит. по Шлюмбом, 2003, с. 633).
С начала XX в. в некоторых районах Европы родители вовсе перестали передавать хозяйство детям, а вместо этого стали банально им же продавать. Вырученные деньги они клали на счёт в банке и в своё удовольствие жили дальше на проценты (Зидер, 1997, с. 70). Иногда хозяйство детям даже не продавали, а сдавали в аренду, и на ренту старики перебирались в город. И только введение государственных пенсий в XX веке как-то меняет ситуацию и снижает степень напряжённости между стариками и их взрослыми детьми.
Таким образом, можно видеть, что не только две тысячи лет назад, но и гораздо позже, ближе к современности, совместная жизнь отцов и детей совсем не была идиллической: родительская жестокость к детям была скорее нормой, и реакция выросших детей была, вероятно, аналогичной. Но, как увидим дальше, ситуация эта не сильно изменилась и по сей день, несмотря на всю декларативную позицию современного "детоцентризма". Наверное, единственная причина, почему сейчас мы можем говорить, что между выросшими детьми и их стариками не происходит больших трений, — это мода на
неолокальность, распространившаяся в XX веке тенденция отселяться из родительского дома по достижении совершеннолетия; редко какой ребёнок имеет с родителями настолько хорошие отношения, что может оставаться с ними дольше.
Только в XIX веке ситуация с восприятием материнства начинает медленно меняться. В нуклеарной городской семье формируется своеобразный идеал женщины и оформляется в виде концепции о её "естественном предназначении" (Зидер, 1997, с. 37). Зарождается тенденция отказа от услуг кормилиц — теперь мать желает кормить ребёнка собственной грудью. Детей всё реже отдают в интернаты, возникает мода на заботу и общение с ребёнком. Как отмечают исследователи, не любить детей "стало стыдно" (Крюкова и др., 2005, с. 74).
Некоторые авторы подчёркивают, что только в начале XX века институт материнства обрастает достаточной идеологической проработкой как со стороны государства (с целью изменения демографической ситуации), так и со стороны крупных производителей, которые увидели необъятную нишу в рынке детских товаров, которые можно активнее навязывать матерям, опять же, через акцентирование на их "естественном предназначении" (Вербер, 2007). Доля правды в таком ходе мысли есть, но правда эта неполная. Для зарождения концепции «детоцентризма» в середине XX века понадобились куда более глубинные психологические причины, чем просто следование новым нормам, диктуемым крупными капиталистами. Но об этом поговорим в одной из следующих глав (см.
"Как рождалась моногамная психология").
Из всего описанного видно, что «семья» и детско-родительские отношения в прошлом имели во многом иное эмоциональное наполнение, чем нам привычно думать сейчас. «Семья» тогда строилась на совершенно иных основаниях, по совершенно иным принципам.
"Сплошь и рядом малая семья как бы растворялась в более широких кровнородственных структурах. Это означало, что ответственность за потомство несли не только родители, но и род в целом. При таких обстоятельствах внутренняя эмоциональная связь между родителями и детьми неизбежно размывалась, хотя и не исчезала полностью" (Сидоров, 2018, с. 46).
"Семья" прежних эпох имела множество функций, но вот именно роль эмоционального "буфера" между её членами и внешним миром она если порой и выполняла, то та не являлась главной. Поддержка и трепетная забота не были приоритетными свойствами "семьи". Скорее как раз наоборот — все эти «нежности» были вынесены за её пределы: мать, отец и дети не были (и не должны были быть) вовлечены в некий обязательный эмоциональный обмен. Эта концепция "семейного тепла" возникла довольно недавно и по причинам, о которых поговорим дальше.
Здесь уместно сказать, что когда кто-то из исследователей находит древние письма со словами родительской нежности в адрес детей, то это совсем не надо принимать за чистую монету. Во-первых, как упоминалось выше, это может быть просто формальностью, "хорошим тоном", за которым не стояло сколь-нибудь реального эмоционального содержания; во-вторых, Ллойд Демоз хорошо подметил, что ребёнка любили — но, как правило, когда он спал или уже умер, то есть всякий раз, когда он так или иначе отсутствовал. Эту мысль подтверждает и анализ старофранцузской литературы, в которой часты описания стандартного набора родительских ласк, но вот проявляются они лишь при встрече и прощании с ребёнком (Уваров, 1982, с. 221). Ровно в этом же ключе можно расценивать и письма с выражением родительской нежности: ребёнок в данный момент не был рядом (потому родитель и пишет письмо), а значит, возникает повод предаться ностальгирующей романтизации. Имела бы место вся эта эпистолярная нежность, если бы ребёнок в данный момент был поблизости, — большой вопрос. Не зря сказано, что легче любить воспоминания, чем живого человека. К тому же вспомним одну из пословиц, приводившихся выше:
"Дытыну люби, якъ душу, а тряси якъ грушу" — то есть все эти словесные нежности ничуть не мешали родителям лупить своих детей палками и ногами, пока сами же не падали в изнеможении (как мать святого Феодосия Печерского — см. Данилевский, 1998, с. 267). Иными словами, похоже, в прежние эпохи было очень уж своеобразное представление о любви и нежности. И потому поддаваться очарованию некоторых письменных свидетельств, как то порой делают историки, кажется наивным.
Впрочем, и в наши дни не редкость, когда Он и Она регулярно клянутся друг к другу в любви, и при этом периодически со всем изяществом ренессансного живописца декорируют тело партнёра кровоподтёками. К примеру, 26 % женоубийц заявляют, что в момент совершения преступления любили своих жён (Шестаков, 2003, с. 57). Когда в 2019-ом суд Калифорнии приговорил супругов Турпин к 25 годам тюремного заключения за издевательства над своими двенадцатью детьми — за морение их голодом и за многолетнее удержание дома на цепи, — всё это не помешало супругам заявить, что они
"любят своих детей больше всего на свете". Интересно, что у людей с психопатией имеются трудности в понимании абстрактных понятий (Кил, 2015), и потому слово "любовь", являясь как раз таковым, психопатами понимается как просто секс. То есть, когда люди говорят о любви, они могут иметь в виду что угодно.
Надо подчеркнуть один важный момент, на который прежде мало кто обращал внимания: есть основания считать, что современные детско-родительские отношения хоть и углубились в эмоциональном плане, но всё же в действительности не слишком радикально отличаются от таковых в прошлые эпохи — разница эта на деле лишь кажущаяся и сильно преувеличена некоторыми исследователями. Больше похоже на то, что усилившийся к концу XIX века институт государства просто взял под контроль детско-родительские отношения посредством свода законов (включая уголовный), вследствие чего насилие над детьми со стороны родителей сместилось из физической сферы в психологическую (Миллер, 2003, с. 398), которую отслеживать и контролировать сложнее. Главным же образом изменились способы
описания отношений детей и родителей, а не сами эти отношения — в рамках сложившихся общественных норм, сложившегося дискурса описывать родительство отныне стало можно только в рамках доминирующего знания, в терминах любви и счастья, хотя в действительности картина далека от такого положения дел. В который раз описание было подменено предписанием, и тема реальных детско-родительских отношений превратилась в доминируемое (игнорируемое) знание.
2. Супружеские отношения прошлого
Как видно на примере детско-родительских отношений прошлых эпох, исторически семья не была местом, где бы эмоциональный контакт ставился во главу угла. Ровно такая же ситуация была и в отношениях между супругами — исторически брак никак не был связан с эмоциональной близостью. Последняя не просто не оказывалась фундаментом для брака, но в древние времена считалась даже угрозой для такового. В античной традиции брак и любовь противопоставлены, потому что Эрос — естество, природный элемент, а брак — социальный институт. Это разделение видно уже в мифологии. Обыватель привык считать "Одиссею" историей великой любви, когда муж десять долгих лет пытается вернуться домой, к верной жене. Но тщательный анализ текста показывает, что это совсем не так (Павлов, 2007, с. 9): слова «любимый» и «любить» в эпосе относятся к отцу, к дочери, к отчизне и даже к слову «гость», но никак не к супруге. Иными словами, персонажи поэмы любят кто и кого угодно, но только не Одиссей Пенелопу. В скитаниях Одиссей описан тоскующим по дому, по богатствам и даже по рабам, но нет и намёка на особые чувства к жене как мотив возвращения домой. С другой стороны, и Пенелопа, долгие годы ожидающая мужа и хранящая ему верность, делает это совсем не от нежных чувств, а по причине общественно значимых поведенческих канонов — жена не могла выйти замуж, пока действующий муж не признан умершим (с. 12).
Эмоциональная близость в Древней Греции не считалась необходимой для вступления в брак, и в пользу этого говорит и распространённая практика агона — состязания потенциальных женихов, за победителей которых отцы и выдавали дочерей. Брак заключался на основании рациональных решений — для лучшего ведения хозяйства или для наиболее выгодного сближения двух знатных родов.
Но всё это не значит, что людям той эпохи были неведомы симпатии и эмоциональная близость между мужчиной и женщиной. Они были. Просто они не считались важными. И даже больше — они считались вредными: ведь поскольку брак заключался без какой-либо эмоциональной подоплёки (жена и муж просто должны были быть "хорошими", пригодными для создания семьи), то шанс для романтического чувства оставался только один — вне брака. Иными словами, супружеская измена. Поэтому
"в античности романтическая любовь хоть и имела место, но была ненормативна — она всегда спонтанна, тайна, кратка, неразумна. Она не служит общественному благу, а потому отношение к романтической любви в античности отрицательное" (там же, с. 14).
Анализ работ греческих философов по устройству и ведению домохозяйства также показывает, что любовь не лежала в основе брака. Роль брака описывалась так:
"Боги соединили эту пару, которая называется женское и мужское — главным образом с тою целью, чтобы она была возможно более полезной самой себе в совместной жизни"; и дальше
"Эта пара соединена для рождения детей, чтобы не прекратился род живых существ, этим люди приобретают себе кормильцев на старость"
Но задача воспроизводства не единственная. Ксенофонт пишет:
"Разумные муж и жена должны поступать так, чтобы и сохранять своё имущество возможно в лучшем состоянии, и прибавлять как можно больше нового". Именно имущество и дети — главные цели античной семьи. Брачные правила аккуратно выстраивали семейные отношения и способы хозяйствования, а вмешательство же романтической любви только несло угрозу этому порядку.
Нетипичность эмоциональной связи между мужем и женой в Древних Афинах можно обнаружить на примере отношений политика Перикла и его жены Аспасии (около 450 г. до н. э.). Плутарх писал:
"Говорят, при уходе из дома и при возвращении с площади он ежедневно приветствовал её и целовал". Как отмечают исследователи,
"такое демонстративное выражение привязанности настолько не соответствовало обычаям граждан, что разговоры об этом дошли через века до Плутарха" (Свенцицкая, 1996, с. 77) — дело в том, что Перикла и Плутарха разделяли шесть веков, то есть проявление нежности между супругами казалось необычным даже ближе ко II в. н. э.
Как и в греческой античности, в римской также существует чёткое разделение в понимании любви и брака. В поэзии Овидия, как и у греков, семья и любовь резко противопоставлены. Если семья создаётся по велению нормы, обычая и хозяйственной необходимости, то любовь между людьми возникает независимо от каких-то требований.
"Даже язык этих двух миров отличен. Одному присущи красноречие, обходительность, ласка, другому — брань, грубость, ссора. Мир брака патриархален, несвободен, обществен, находится под уздой закона. Мир любви — его перевёрнутое отражение. Он личностен, свободен. Он не обременен ни домашними заботами, ни чувством долга" (Павлов, с. 24).
Ошибкой будет думать, что такое отношение к браку (без любви) было характерным только для средиземноморской Европы античного периода. Это нормальное положение дел для всех континентов и культур прошлого. Даже ацтеки руководствовались симпатией лишь при юношеском ухаживании, но сам брак осуществлялся по совсем иным критериям (Хаген, 2010, с. 57); у майя вовсе существовал институт профессиональных свах (ах атанцахоб), либо же, как правило, отцы искали пару своим детям и часто договаривались о браке своих отпрысков между собой, когда те были ещё младенцами (Ершова, 1997, с. 101; Хаген, с. 203).
"Майя прекрасно знали силу романтической любви, хотя, возможно, подобно грекам, они считали страсть разрушительной" (там же).
Как отмечают антропологи,
"древнейшие человеческие общества не считали любовь ни необходимой предпосылкой брака, ни условием личного счастья. В некоторых языках (например, папуасского племени манус) отсутствует даже слово для обозначения любви. Кое-где любовная страсть считается душевным заболеванием" (Кон, 2004, с. 186.). Даже в Европе XVIII века
"физическое желание и романтическая любовь считались худшими основаниями для устойчивого брака" (Stone, 1977, p. 183). Отсутствие исторической связи между браком и любовью подтверждает и язык: во многих языках мира ни брак, ни супруг(а) никакого отношения не имеют к термину «любовь». Но во всех них с любовью связан только «любовник» — то есть тот, кто как раз стоит вне брака и вне семьи (Павлов, с. 8). Русские слова "брак" и "супружество" ("супруг", "супруга") не связаны со словом "любовь". Слово "брак" произошло от "брать" (в жёны) (Цыганенко, 1989, с. 40), а "супруг" — есть не что иное, как "соединённый", "сопряженный", "запряженный" (в одной упряжке) (там же, с. 413). А вот со словом "любовь" связаны совсем другие слова — "любовница" и "любовник" (которые содержат постыдные коннотации). В английском "брак" — marriage, "супруг" — husband, "супруга" — wife, а "любовь" — love; а вот любовник, как и в русском, как раз от него (lover). В немецком языке "брак" — Ehe, "супруга" — Gattin, Gemahlin, Egefrau, "супруг" — Gatte, Gemahl, Ehemann, "любовь" — Liebe. Во французском "брак" — mariage, "супруг(а)" — epoux (epouse), "любовь" — amour, "любовник" — amant. В итальянском "брак" — matrimonio, "супруг(а)" — conjuge, "любовь" — amore. В латинском языке "брак" — matrimonium, "супруг(а)" — conjunx, "любовь" — amor, "любовник" — amator, "любовница" — amatrix. Этимологии, сформированные века назад, незатейливо намекают, что брак исторически и во всех культурах никак не был связан с любовью.
И в Италии X–XIII веков чувственная любовь была характерна для контактов вне брака, а не между супругами (Абрамсон, 1996, с. 114), и во Франции того же периода
"несовместимость истинной любви и супружества" (Блонин, 1996, с. 168) считалась обыденным положением дел. Что характерно, именно зародившаяся в этот период куртуазность — рыцарское почитание "прекрасной Дамы", которая всегда оказывалась замужней, — была
"реакцией на сложившуюся форму брака без любви" (Рябова, 1999, с. 19). Рыцарь, добивающийся любви своей госпожи, был декларацией института любовников, официальным признанием того, что в браке любви нет, и искать её можно только вне его.
Поскольку любовь гораздо вероятнее было встретить вне брачного союза, то в Средние века Церковь начала активную борьбу с этим чувством, ведь оно угрожало институту брака, который вдруг был объявлен божественным таинством. Когда муж, несмотря на многочисленные запреты и разлучения, вновь и вновь возобновлял отношения с любимой им вне брака женщиной, священникам оставалось только раздражённо констатировать, что он вновь вернулся к ней,
"как пёс к своей блевотине" (Абрамсон, 1993, с. 50).
Важно, что брак исторически был институтом, в котором женщина занимала подчинённое положение: муж брал себе жену, чтобы она выполняла определённые работы и во всём его слушалась (досконально явление брака и мужского господства рассмотрим в других разделах). Как в русской княжеской семье вплоть до середины XVII в. княгиня не имела права даже сидеть в присутствии мужа, так ещё в 1920-х годах у крестьян некоторых регионов молодая жена прислуживала за семейным столом и лишь после рождения сына получала право обедать вместе со всеми (Абраменкова, 2008, с. 93). Как замечает историк брака Мэрилин Ялом, жена считалась собственностью мужа наряду со скотом и рабами (Ялом, 2019, с. 22), и этот факт долгое время был зафиксирован даже в клятве супругов: во время брачной церемонии в протестантских странах до сих пор используется текст 1552 года:
"Я беру тебя в законные жёны (мужья), чтобы быть вместе с этого дня, в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, чтобы любить и беречь, пока смерть не разлучит нас" — но нюанс в том, что в оригинальной версии жена, помимо прочего, обещала повиноваться мужу, но с некоторых пор эту фразу стали пропускать (там же, с. 17).
У некоторых славянских народностей восприятие жены в качестве будущей рабочей силы и родительницы детей приводило к такому явлению, как ярмарки или выставки невест — где парни с матерями ходили среди претенденток, подчас осматривая их с ног до головы, с зажжённой лучиной, поднимали подолы и т. д. (Гура, с. 22) — приобретаемый товар не должен иметь дефектов. Эта же традиция с русскими иммигрантами перекочевала и в США, где пожилые женщины продолжали оценивать невест,
"щипая их за крепкие плечи и оценивая до блеска надраенную кухню" (Ялом, с. 281).
Знатный флорентийский купец XIV века в многостраничных мемуарах мог расписывать все регалии родственников своей жены, но при этом даже не назвать её имя (Тушина, 1993, с. 112). Иначе говоря, эмоциональная связь между мужчиной и женщиной была всегда и во всех культурах, но только она никогда не связывалась с мужем и женой. Даже в XVI–XVIII века мотивами к расторжению брака выступало что угодно, но только не любовь: люди подавали на развод из-за побоев, из-за измен, из-за бесплодия или финансовой растраты одного из супругов, но никогда — из-за отсутствия любви.
"Мы не видим среди поводов к разводу нелюбовь жены к мужу или наоборот" (Цатурова, с. 256).
"Для крестьян вступление в брак было необходимым условием, чтобы стать владельцем крестьянского двора или унаследовать от родителей хозяйство. Место крестьянина и крестьянки должно было быть занято всегда. Сельская семья без хозяина и хозяйки не мыслилась" (Зидер, 1997, с. 58). И поскольку брак затрагивал судьбу хозяйства, всего домашнего сообщества, родителей, братьев и сестёр, а также наёмных работников, то,
"насколько это было возможно, выбор супруга учитывал интересы Дома" (с. 59), а потому выбор этот у крестьян не был личным делом, касавшимся только самих партнёров. Именно из-за ценности брачного партнёра как дополнительных рабочих рук повторные браки среди крестьян были распространены (там же, с. 58; Абдуллабеков, 1993, с. 102), и народное отношение к таким и даже к третьим бракам было вполне терпимым (Пушкарёва, 2011, с. 17), несмотря на отрицательное отношение христианской Церкви (там же, с. 31; Абрамсон, 1993, с. 46; Рябова, 1999, с. 115).
Важно понимать, что так было не «когда-то» давно, в доисторические времена, но так есть и сейчас во многих культурах, особенно в тех, которых не коснулась рука цивилизации. Публицистка Элизабет Гилберт описывает свой опыт общения с женщинами народности хмонгов в Индокитае, в деревне которых ей довелось побывать: "Когда я попыталась заставить бабушку рассказать историю её брака, надеясь выудить у неё пару эмоциональных воспоминаний о собственном семейном опыте, мы с моими собеседницами наткнулись на стену. Стоило мне спросить старушку:
— Когда вы впервые увидели своего мужа, что вы о нём подумали? — это сразу же вызывало непонимание, на её морщинистом лице появилось озадаченное выражение.
Решив, что она или Май не так поняли мой вопрос, я перефразировала:
— Когда вы поняли, что ваш муж и есть тот, за кого вы хотели бы выйти замуж?
И снова ответом мне было вежливое недоумение.
— Вы сразу поняли, что он особенный? — попробовала я другой подход. — Или полюбили его уже потом?
В этот момент кто-то из женщин в комнате нервно захихикал, как хихикают в присутствии ненормальных — а именно такой, видимо, я только что стала в их глазах.
Я пошла на попятную и опробовала другую тактику:
— Когда вы впервые встретились с мужем?
Бабуля покопалась в памяти, но не смогла вспомнить ничего более определённого, чем "очень давно". Кажется, её этот вопрос не слишком занимал.
— Хорошо, а где вы познакомились? — спросила я, стараясь как можно больше упростить дело.
И снова сама природа моего любопытства оказалась для бабушки сущей загадкой. Но из вежливости она попыталась вспомнить. Нет, она не встречалась с мужем до самой свадьбы, объяснила она. Она видела его, конечно. Ведь в доме постоянно болтались какие-то люди. Но точно она не помнит. Да и вообще, разве это важно — ведь она тогда была совсем девчонкой. Зато теперь, заключила бабуля, к восторгу всех присутствующих в комнате женщин, теперь-то она точно с ним знакома!
— Но когда вы его полюбили? — наконец спросила я в лоб.
В ту же секунду, как Май перевела мой вопрос, все женщины в комнате, за исключением бабушки, которая была слишком вежлива, громко расхохотались — это был настоящий спонтанный взрыв хохота, который они попытались скрыть, прикрывая ладошками рот.
Думаете, это меня остановило? Пожалуй, мне следовало бы смутиться, но я не унималась и, переждав хохот, задала вопрос, который рассмешил их еще сильнее.
— А в чём, по-вашему, секрет счастливого брака? — на полном серьезе спросила я.
Вот тут-то они сорвались окончательно. Даже бабуля принялась повизгивать от хохота в открытую.
Но что такого смешного в моём вопросе? Всё дело в том, что ни бабушка, ни другие женщины в той комнате не считали брак главным событием в своей эмоциональной биографии, каким бы считала его я. В современном индустриальном западном обществе, откуда я родом, человек, которого вы выбираете себе в супруги, является, пожалуй, наиболее ярким отражением вашей личности. Спросите любую типичную современную западную женщину, как она познакомилась с мужем, когда и почему в него влюбилась, и можете быть уверены — вас ждёт полный, детальный и глубоко прочувствованный рассказ, не просто тщательно выстроенный в соответствии с её опытом, но и проанализированный на предмет ключей к собственной индивидуальности.
И вот тут рискну заявить: женщины-хмонги так не делают. По крайней мере, те хмонги, которых я знаю. Поэтому сомнений быть не может: и хмонги влюбляются. Но, возможно, они просто не верят, что вся эта романтика имеет какое-либо отношение к причинам, по которым следует вступать в брак. Вероятно, они просто думают, что эти два понятия (любовь и брак) не должны непременно пересекаться — ни в начале отношений, ни вообще. Может, им кажется, что брак — это что-то совсем другое?
В конце вечера в доме Май моя теория вполне отчетливо подтвердилась. Это произошло, когда я задала бабуле-хмонг последний вопрос, который тоже показался ей странным и непонятным:
— Ваш муж — хороший муж?
Бабуле пришлось попросить внучку повторить вопрос несколько раз, чтобы убедиться, что она расслышала верно: хороший ли у неё муж? После чего она в недоумении взглянула на меня, как будто её спросили: вот эти камни, из которых состоят горы, где вы живёте, — это хорошие камни?
Она не смогла придумать лучшего ответа, чем такой: муж у неё ни хороший, ни плохой. Он просто муж, и всё. Такой, как все мужья. Когда она говорила о нём, казалось, слово «муж» для неё означает профессию или даже биологический вид, а не отдельного сильно обожаемого или ненавистного ей человека. Роль «мужа» была довольно простой и включала ряд обязательств, которые её мужчина, видимо, выполнял удовлетворительно на протяжении всей совместной жизни. У других женщин — то же самое, добавила она, — разве что совсем не повезло и достался настоящий пень. Бабуля дошла до того, что заявила: неважно, по сути, за кого выходить замуж. За редкими исключениями все мужчины более-менее одинаковые.
— Что вы имеете в виду? — спросила я.
— Все мужчины и женщины более-менее похожи друг на друга, как правило, — разъяснила бабуля. — Это все знают.
Другие женщины-хмонги согласно кивнули.
Как и у большинства традиционных общин, семейную догму хмонгов можно выразить не словами "Ты — вот что имеет значение", а фразой "Твоя роль важна". В той деревне все знали, что в жизни есть обязанности; некоторые обязанности выполняют мужчины, другие — женщины, и все должны стараться изо всех сил. Если ты хорошо выполняешь свою роль, то можешь спокойно спать ночью, зная, что ты хороший муж или хорошая жена, — и не надо ждать большего от жизни или отношений.
Встреча с женщинами-хмонгами в тот день во Вьетнаме напомнила мне старую поговорку: "Если есть ожидания, будут и разочарования". Моей знакомой бабуле-хмонг никогда не внушали, что задача её мужа — сделать её бесконечно счастливой. Более того, ей не внушали, что её задача на этой земле — стать бесконечно счастливой. Она никогда не питала таких ожиданий, и потому в браке её не постигло разочарование. Её брак выполнил свою роль, необходимую социальную задачу: он был тем, чем и должен был быть, и её это устраивало.
Меня же, напротив, всегда учили тому, что поиски счастья — это моё естественное (и даже гражданское) право, право по рождению. Поиски счастья — эмоциональная характеристика моей культуры. И не просто любого счастья, а глубокого, даже райского блаженства. А что, как не романтическая любовь, способно принести человеку райское блаженство? Моя культура всегда внушала, что брак должен быть чем-то вроде теплицы, в которой романтическая любовь будет расти и цвести. Вот я и сажала грядку за грядкой великих ожиданий в несколько покосившейся теплице своего первого брака. Это был образцовый огород из ожиданий, но за все свои заботы я получила с него лишь урожай горьких плодов.
Мне кажется, попытайся я объяснить всё это бабуле-хмонгу, та бы ни слова не поняла. И наверняка ответила бы точно так же, как одна пожилая дама, встреченная мною в Южной Италии. Когда я призналась, что ушла от мужа, потому что замужество принесло мне одни несчастья, она спокойно ответила: "А кто счастлив?" И махнула рукой, давая понять, что разговор окончен" (Гилберт, 2010, с. 57).
Брачная пара — выбор родителей
Другим свидетельством того, что исторически брак не был местом для каких-то особо сильных эмоций между супругами, служит факт, что ни мужчина, ни женщина в прежние эпохи никогда не выбирали своего партнёра самостоятельно. Всегда и во всех культурах вопрос брака решался родителями — именно они выбирали брачных партнёров своим детям (Рябова, 1999, с. 114). Как отмечают историки,
"вступающая в брак пара обычно была наименее активным участником процедуры заключения брака" (Гис, Гис, с. 16). Брак был не чем иным, как сделкой между двумя семьями или родами, которая преследовала либо политические, либо экономические цели (породниться с уважаемой семьёй, объединить капиталы и т. д.), потому ничего удивительного в том, что вступающие в брак дети были лишь средством в этом процессе.
Зачастую рациональное планирование на взаимовыгодных основаниях приводило к тому, что семьи существенно заранее решали о вступлении детей в брак — даже когда те только родились. У славян тоже существовал обычай обручения малолетних детей (Гура, с. 22). В некоторых языках слово «супруга» или «невеста» образовано как раз от латинского «sponsa», то есть «обещанная» (Мейе, 2019) — фр. epouse, исп. esposa, итал. sposa, англ. spouse. В Древнем Риме помолвка (sponsalia) совершалась, когда девочке могло быть всего 6–7 лет (Ялом, 2019, с. 47).
Исследователи единодушно отмечают преобладание договорного начала в древнерусском семейном праве. Сговор устраивали родители, согласие жениха и невесты не предполагалось.
"Брак, заключенный без согласия невесты, наказывался лишь в том случае, если невеста кончала с собой" (Белякова и др., 2011, с. 106). В деле брака на первом месте стояла воля родителей, а брак, заключённый без согласия родителей, либо приравнивался к блуду (там же, с. 101), либо даже считался недействительным (с. 99, с. 378). Порой жених и невеста только в день свадьбы впервые видели друг друга. Конечно, ни о какой любви речи быть не могло: повезёт — между супругами наладятся хорошие отношения, а нет — так будут терпеть.
Время от времени в разные эпохи государство или Церковь поднимали вопрос о значении согласия молодожёнов на брак (Гис и Гис, с. 66), но в целом же ситуация вплоть до XX века оставалась в рамках древней традиции — родители решали. Правители разных государств запрещали женитьбу молодых без их согласия (Белякова и др., 2011, с. 130; Пушкарёва, 2011, с. 16), но в целом безрезультатно.
В эпоху развитого феодализма вопрос выбора партнёра ещё больше усложняется, так как, кроме воли родителей, в процесс вклинивается ещё и воля феодала (помещика) — он имел власть запретить брак между своими крестьянами (сервами) (Белякова и др., 2011, с. 128; Габдрахманов, 1996, с. 117) и уж тем более между своими крестьянами и крестьянами другого феодала (формарьяж). Мало того, феодал участвовал в выборе жены даже для своих подданных рыцарей и для членов их семьи (Габдрахманов, 1993, с. 22).
Во всей этой многотысячелетней схеме организации брачных союзов просто не было места какой-либо эмоциональной связи между женихом и невестой. Уже ближе к современности в ходе постепенной трансформации общественных отношений роль родителей в заключении брака детей ослабевала — сначала она свелась к испрашиванию родительского согласия на брак, а почти исчезла, вероятно, только ближе к концу XX века.
"Бьёт — значит любит"
Отсутствие значимости каких-то "нежных чувств" между супругами подтверждается и такой исторической нормой, как насилие в семье. Избиение жены (и детей) не просто было позволено нормами прошлых эпох, но скорее даже подразумевалось нормой. Гармоничным браком считался тот, где жена была послушна и служила мужу, "как своему господину". На иллюстрациях в церковных текстах Италии XI века
"мужчины изображены с палкой в руке, грозного вида, а их жены — кроткими, большей частью в позе смирения и подчинения, со скрещенными на груди руками. В то же время бить жену, если имелись достаточные с общепринятой точки зрения основания, считалось настолько естественным, что это условие особо оговаривалось лишь в нескольких ранних брачных соглашениях" (Абрамсон, 1996, с. 114), где проскакивало в виде оговорки, что муж обязуется не бить жену
"без явной вины" (Абрамсон, 1993, с. 40).
Пресловутый неписаный закон,
"позволявший мужчине бить жену палкой не толще большого пальца, просуществовал во многих районах Англии и Америки до XIX века" (Ялом, 2019, с. 14). Рукоприкладство в семье было нормой для всех европейских культур и для Древней Руси тоже. Систематические побои жены и детей подразумевались концепцией «поучения» мужем всех домашних (Цатурова, с. 96). Считалось, что человек, не бьющий жену, "дом свой не строит" и "о своей душе не радеет" (Данилевский, 1998, с. 264). Видимо, до XVI в. в порядке вещей было бить жену прилюдно, так как «Домострой» уже призывает бить жену "не перед людьми, наедине поучить". Там же имеется призыв не бить жену ногами, посохом или чем-нибудь ещё железным или деревянным, и среди прочего указывается, что при избиении беременной жены вероятен выкидыш. Взамен всех этих методов рекомендовалось сечь жену плетью:
"А плетью с наказаниемъ бережно бити; и разумно, и болно, и страшно, и здорова…".
Русская семья той эпохи
"базируется на патриархальных началах, поддерживает неограниченную власть мужа, логическим следствием чего является бесправное и уязвимое положение женщины в крестьянской среде" (Муравьёва, 2012, с. 54).
"Что женщина несвободна — это было решено окончательно и не подлежало уже сомнению. Мужчина при разрешении этого вопроса любил восходить к вечности, любил принимать на себя значение первого человека. Ставя себя в лице праотца во главу угла всего творения, он естественным путем пришёл к заключению, что женщина — существо в отношении к нему низшее, зависимое, несвободное, что он — господин её, что она собственно жена, а не человек, ибо это имя первоначально было присвоено только ему одному", писал историк в конце XIX века (Забелин, 2004, с. 245).
Возможно, побои жены были настолько обычной практикой в русской семье, что самим населением мыслились даже неким атрибутом брака, его обязательной частью. На это намекает история из XVI века, по которой один немецкий кузнец женился на русской. Историю эту рассказал дипломат Священной Римской империи Сигизмунд Герберштейн в 1549 году (2008, с. 237), но в 1908-ом её вольно и задорно пересказал русский писатель А. В. Амфитеатров.
"Супруги жили счастливо, но молодая думала, что она несчастна, и плакала горькими слезами, потому что муж её не колотил.
— Все мужья бьют своих жён, а ты не бьёшь, — значит, я тебе не люба! Ты другую любишь.
Немец, изумлённый столь странною логикою супружеских отношений, долгое время уклонялся от доказательств своей нежности чрез посредство побоев. Но, наконец, жена его так одолела, что он решил: "с волками жить, по-волчьи выть", — и отдул благоверную раз, другой, третий, к полному её удовольствию. Потому ли, что немец, как немец, любил всё делать аккуратно, и, уж если взялся бить, то бил на совесть; потому ли, что, ознакомясь с новым спортом, вошёл во вкус и стал упражняться в нём до чрезмерного усердия, — только жена немца вскоре захирела и умерла, а немцу отрубили голову" (Амфитеатров, 1908, с. 145).
Вся комичность этой истории в первую очередь наталкивает на мысль, что это просто байка, с другой же стороны, так уж ли безосновательна эта байка, если у нас имеется такое множество документальных свидетельств о распространённости насилия в русской семье?
Самое важное, что в те времена не существовало никакого наказания за семейные побои (Романов, с. 173). Церковь, которая полностью контролировала сферу семейного права (Щапов, 1989, с. 107–113), расценивала избиение жены не как преступление, а как выполнение долга (Щапов, 2004, с. 20). Историк-правовед XIX века К. А. Неволин также отмечал, что
"право мужа наказывать жену считалось несомненным, только он не должен был слишком сильно бить"; в поручительствах XVII века лишь оговаривались обязательства, аналогичные итальянским начала тысячелетия,
"жены своей не безвечить напрасно" (Неволин, 2005, с. 251).
Мало того, ни избиение, ни даже угроза убийства не была для церковного суда поводом для развода:
"оставалосьждать совершения убийства, чтобы развод уже был не нужен" (Цатурова, с. 154). Удивительно, но даже в XVII веке ещё не было единой правовой нормы за убийство жены мужем (Нижник, 2006, с. 47), в разных районах решалось по-своему: где-то виновного казнили, где-то могли просто высечь кнутом, где-то могли отрубить ему руку, а где-то и просто отпустить (Муравьёва, 2012, с. 69). Даже к 1798 году ситуация не меняется — за избиение жены до смерти архиепископ мог назначать всего лишь церковную епитимью (пост различной длительности, дополнительные поклоны, молитвы и т. д.) (Цатурова, с. 154).
А вот с женой же, убившей мужа, закон была куда более суров — нередко её живой закапывали в землю (Муравьева, 2012, с. 68).
"На каком-нибудь публичном месте, например, на торговой площади преступниц закапывали стоя или на коленях таким образом, чтобы над землей находилась одна голова. К выступающим головам приставляли надсмотрщика, который наблюдал, чтобы никто не смел подходить к ним и не мог утолить голод женщин. Прохожим разрешалось только жертвовать деньги на покупку гроба и на свечи, "чтобы умилостивить Бога" (Нижник, 2006, с. 47).
Английский инженер, приглашённый в Россию Петром I, писал:
"В России мужья бьют жён своих самым варварским образом, и иногда столь бесчеловечно, что те умирают от ударов, но, не смотря на это, мужья не подвергаются наказанию за убийство, так как закон перетолковывает это в смысле исправления, и потому не делает их ответственными. С другой стороны, жёны, нередко доведённые до отчаяния, убивали мужей своих, чтобы отмстить им за дурное обращение" и далее добавлял о закапывании жены за убийство мужа:
"Зрелище это весьма обыкновенно в этой стране" (Перри, 1871, с. 129–130).
Чаще всего мучительная голодная смерть наступала нескоро — одна женщина так прожила 31 день. Смертная казнь жены через закапывание практиковалось на Руси минимум в XVII–XVIII веках, и самый поздний случай датирован 1740 годом.
В Средневековой Европе женщина хоть и пыталась противостоять насилию мужа физически, но чаще делала это более деликатным способом — травила ядом (Опитц, 1993, с. 59).
Наиболее частым и жестоким насилие над жёнами становилось в те эпохи и в тех странах, где Церковь, охраняя таинство брака, решала максимально осложнить процедуру развода, определяя для него очень малый ряд возможных причин (импотенция, бесплодие, измена и др.). Фактически в таких условиях для большинства пар брак заключался навсегда — развод становился невозможным. И именно тогда все трения между супругами выливались в эпидемию насилия.
Мужья шли на многочисленные уловки, чтобы избавиться от надоевших жён: в лучшем случае обвиняли их в измене или отправляли в монастырь, но чаще всего — просто избивали и даже убивали. Архиепископ Реймский Хинкмар (Гинкмар) свидетельствовал, что порой мужья
"отводили своих жён на рынок, чтобы их разрубили и бросили свиньям" (Гис и Гис, с. 108). В русской семье аналогичная картина сложилась в начале XIX века, когда бракоразводные нормы были сильно ужесточены (Белякова, 2001; Белякова и др., 2011, с. 367). Однократное избиение жены по закону не наказывалось. Муж даже мог выколоть жене глаз, и ничего ему за это не было (с. 375). Пока жена не изувечена, она не может надеяться даже на временное удаление от неё мужа. В крестьянской среде ходили поговорки в духе "Жену не бить — значит, и не любить" или "Жену хочу с кашей ем, хочу с маслом пахтаю", что, как отмечалось исследователями, вполне отражало действительность (с. 374).
"Работы по обычному праву 1860–70-х гг. регулярно констатировали высокий уровень супружеского насилия и супругоубийства в крестьянских семьях, а также неравноправное и несправедливое отношение волостных судов к женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Отчеты 1880-х гг. и первые статистические данные также подтверждали исключительно высокий процент неадекватного решения таких дел" (Муравьёва, с. 55).
В 1884 году мировой судья Яков Иванович Лудмер опубликовал знаменитую статью
"Бабьи стоны" (Лудмер, 1884), где из своей судебной практики привёл пугающее множество фактов истязания жены мужем, и перед чем судьи оказывались беспомощны.
"Ни одно судебное учреждение не может в пределах нашего законодательства оградить женщину от дурного и жестокого обращения с нею", писал Лудмер.
"И только тогда, когда "терпеть нет уже моченьки", когда уже на ней, как говорится, нет ни одного живого места, она, избитая и изможденная, нередко с вырванной мужем косой в руках, плетётся к мировому судье в надежде, что он защитит её если не формально, то хоть своим авторитетом".
Из свидетельств тех лет:
"Через несколько дней Степанова умерла в больнице, несомненно вследствие беспрерывных побоев в продолжении трёх лет своего замужества…"
"Через неделю я слышал уже, что Иванова вынута из петли, которую она добровольно на себя надела, не вынеся новых варварств своего благоверного…"
Жалобы крестьянок на своих мужей почти никогда не доходили до судебного разбирательства, так как "даже бабы с выкушенными бровями" мирились с мужьями — это объяснялось тем, что большинство крестьян настолько бедно, что лишение самого ничтожного заработка одного из членов семьи нередко влечёт за собой полный упадок домашнего обихода, и вся семья прибегает к прошению милостыни. Судебный следователь той эпохи описывал расследование по делу крестьянки, которая была похоронена как умершая от простуды.
"Лишь по настоятельным жалобам её снохи была произведена эксгумация. Тогда обнаружилось, что у умершей была выдрана часть кожного покрова головы, половина косы лежала рядом, крестец в нескольких местах проломлен тяжёлым острым предметом, переломаны рёбра" (Белякова, 2001).
"Избиение жён оставалось неподсудным делом и во многих странах считалось нормой вплоть до XIX века" (Ялом, 2019, с. 72).
Тот факт, что брак исторически даже не предусматривал романтической связи, подтверждается и множеством записей в церковных судах, где беглые жёны давали согласие вернуться к мужу, но при условии, что он больше не будет бить её напрасно, или даже "если он не намерен убить её" (Цатурова, с. 165). Если муж не имел склонности бить, то этого уже было достаточно, чтобы считать его хорошим. Этот культурный норматив в деревне сохранялся вплоть до XX века: даже тогда на вопрос о том, хороший ли был муж, крестьянка отвечала
"Ничего: не запугал, не застращал, не бил. Не было синяков. Ничего не было. Так прожили" (Адоньева, Олсон, 2016, с. 144). Рукоприкладство в семье, видимо, было одним из факторов (наряду с большой бытовой нагрузкой, лежащей на жене), объясняющих, почему мужчины чаще и скорее вступали в повторные браки, тогда как женщины старались от такого шага впредь воздерживаться (Зидер, 1997, с. 59; Цатурова, с. 157). Как говорила бывшая рабыня Элиза Холман
"Что такое замужество, я поняла, и больше ни в жизнь" (цит. по Ялом, 2019, с. 216).
Восприятие брака никогда не было радужным
Интересно, что, несмотря на всю многотысячелетнюю обязанность вступления в брак, наверное, так же давно и параллельно этому в народе существовало и критическое к нему отношение. Недовольные голоса в адрес брака звучали ещё со времён Античности, но они всегда меркли под силой самого культурного предписания:
каждый должен вступить в брак, хочет того или нет. Можно сказать, недовольство институтом брака веками оказывалось доминируемым знанием.
Популярная во Франции XII–XIII веков сатирическая поэзия (фаблио) была наполнена именно этими антифеминистскими мотивами и недовольством браком: поэты шутили о женском коварстве, сварливости, о её сексуальных аппетитах и тяге к неверности. Многие авторы Средневековья открыто демонстрировали свои претензии к женщинам и браку (Михайлов, 1991, с. 267), и эти антибрачные настроения проявлялись не только в поэзии, но и в романах (Ястребицкая, 1982, с. 249). Мужья-страдальцы в ярких красках описывают свои злоключения, вызванные женскими кознями, и порой даже утрату своих прежних богатств и общественного статуса из-за этого. Средневековая литература разоблачает брак как ведущий к утрате личности (Payen, 1977, p. 414), и единственная польза от него, как иронизирует средневековый поэт, — это заполучить чистилище уже на этом свете.
В популярном произведении начала XV века
"Пятнадцать радостей брака" анонимный автор излагал истории о проделках коварных жён и о глупых, легковерных мужьях. Автор проводит читателя по всем кругам семейного ада, стараясь не упустить ни одной возможной ситуации, отчего морально-социологический трактат превращается в сборник забавных историй.
Начинал несчастный аноним свои "Радости брака" такими строками:
"Давно известно и установлено, что тот, кто добра себе не желает, лишён, стало быть, ума и благоразумия, даже если он и не наносит урона ближнему своему. Эдакого безрассудного растяпу можно уподобить лишь тому слабоумному, что своею охотою забрался узким лазом в глубокую яму, откуда обратного хода никому нет. Такие ямы выкапывают в дремучих лесах, чтобы ловить в них диких зверей. А те, провалившись, сперва от великого изумления впадают как бы в столбняк, а после, очнувшись, принимаются кружить и метаться, ища способа выбраться и спастись, да не тут-то было! Таковая же история приложима и уместна для того, кто вступает в брак. Брачующийся мужчина подобен рыбе, что привольно гуляла себе в море и плавала куда ей вздумается и вот эдак, плавая и резвясь, наткнулась вдруг на сеть, мелкоячеистую и прочную, где бьются пойманные рыбы, кои, учуяв вкусную приманку, заплыли внутрь да и попались. И вы, верно, думаете, что при виде этих бедняг наша вольная рыба улепётывает поскорее прочь? Как бы не так — изо всех сил тщится она найти вход в коварную ловушку и в конце концов всё-таки пробирается туда, где, по её разумению, забав и услад хоть отбавляй, отчего и стремится вольная рыба попасть внутрь. А уж коли попала, то обратно выхода не ищи, и там, где полагала найти она приятности и утехи, обретает одну лишь скорбь и печаль. Таково же приходится и женихам — завидно им глядеть на тех, кто уже барахтается в брачных сетях, будто бы вольно резвясь внутри, словно рыба в море. И не угомонится наш холостяк до той поры, пока не перейдёт в женатый чин. Да вот беда: попасть-то легко, а вернуться вспять трудненько, жена — она ведь прижмёт так, что и не вывернешься. Вспомните, как некий высокоученый доктор, по имени Валериус, ответил одному своему другу, который, вступивши в брак, все допытывался у него, хорошо ли он сделал. Вот какой ответ дал ему Валериус: "Друг милый, — сказал он, — ты бы лучше сыскал крышу повыше, да и кинулся с неё в реку поглубже, притом непременно вниз головою!" ("Пятнадцать радостей брака", с. 5).
Отношение к браку у средневековой молодёжи было негативным, потому что кто-то из них видел брак лишающим свободы, а кого-то в браке отталкивала угроза бедности, нежелательная нагрузка и ответственность, связанные с необходимостью обеспечивать жену и детей (Абдуллабеков, 1993, с. 97).
В средневековых сетованиях в неявном виде содержится мысль, что только свобода любящих придаёт ценности их любви, а брак же — только усиливает тиранию мужа и порождает коварство жены (Payen, 1977, p. 421). Схожие антиженские и антибрачные настроения отражены и в произведениях средневекового Востока, особенно в персидской и арабской литературе (Михайлов, 1991, с. 267). В Англии аналогами "Пятнадцати радостей брака" были произведения
"Почему бы не жениться" и
"Муки женатых мужчин". Некоторые тексты на Руси также отражали такие настроения: например, знаменитая
"Беседа отца с сыном о женской злобе" XVII века (Титова, 1987) (
"Горе тому городу, в котором правит жена! Горе, горе дому тому, которым владеет жена! Зло и мужу тому, который слушает жену!"), "Моление Даниила заточника" или
"Повесть о Савве Грудцыне" и других; да и в целом для русской православной традиции характерны акценты на концепции "злых жён" (Дроздова, 2016).
Вообще, это очень интересно, учитывая, что насилию в браке подвергалась именно жена. Историк брака Мэрилин Ялом предполагает, что подобные сочинения распространяли жёноненавистнические представления и пытались доказать, что жена хороша только в том случае, если её регулярно бить и утверждать над ней свой авторитет (Ялом, с. 104).
Народное отношение к браку можно уловить и в элементах обрядового фольклора. В традиционных культурах (у славян как минимум) принято устраивать ритуалы причитания не только на похоронах (похоронный причет), но и на свадьбах (вытие): невеста, навсегда покидая родительский дом, должна была демонстрировать печаль, поскольку оставляла и родителей, и подруг, и вообще свободу. Переходя в дом жениха, невеста переходила во власть его родителей, и, таким образом, причитание готовит её к одиночеству и враждебности, которые она будет переживать в будущем (Адоньева, Олсон, 2016, с. 88). Как отмечают этнографы, обряд причитания во всех ситуациях, включая свадьбу, так или иначе отсылает к теме похорон (Байбурин 1985, с. 65), символизирует смерть прежней (в данном случае — свободной и, возможно, более радостной) жизни. Разумеется, свадебные причитания не всегда отражали настроения конкретной невесты (Адоньева, Олсон, с. 71), но в целом же «похоронная» атмосфера ритуала исторически была задана неспроста.
Об этом же писал А. С. Пушкин:
"Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во нравах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание — или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный. Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? "По страсти, — отвечала старуха, — я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь". — Таковые страсти обыкновенны. Неволя браков давнее зло" (Пушкин, 1978, с. 197).
Все эти народные нюансы указывают, что брак воспринимался как необходимая жертва во имя чего-то, во имя сложившегося социального порядка. Так уж заведено, а дело человека — подчиниться. Вряд ли стоит говорить, что картина такая в немалой степени характерна и психологии современного человека.
Помню, когда мне было двадцать два, в гости приехала бабушка (1938 года рождения). Рано утром она зашла ко мне в комнату, встала у окна и любовалась видом на город. Я просыпаюсь, вижу её и сразу улыбаюсь. Она оборачивается и с нотками благостного назидания произносит:
—
Доброе утро, внучок. Какой же ты счастливый… Наверное, самый счастливый в нашем роду.
— Рад стараться, если так, — бодро отвечаю я.
Улыбаясь, бабушка вновь отворачивается к окну и говорит:
—
Наслаждайся. Наслаждайся, пока не женился…
На секунду я даже растерялся.
—
Так может, тогда вовсе не стоит жениться? — удивлённо и с иронией спрашиваю я.
Бабушка смотрит на меня, и к её улыбке примешивается удивление.
—
Ну скажешь ещё… Жениться надо.
— Так если счастье после женитьбы пройдёт, зачем тогда жениться?
— Да как же… Надо. Без этого никак.
И бабушка дальше с блаженной улыбкой мило любуется утренним июньским городом, будто никакой ахинеи сейчас не наговорила. На одной чаше весов человеческое счастье, а на другой — то, что это счастье убьёт. И конечно, выбрать надо именно то, что счастье убьёт. Почему? А потому что так надо…
Положа руку на сердце, наши бабки и деды в условиях современности редко могут сказать что-то, достойное Нобелевской премии. Но главное же опять было подспудно скрыто в словах бабушки: на глубинном уровне и в её представлении сидела мысль, что семья и счастье — это далеко не одно и то же. И даже не просто не одно и то же, но и якобы находящееся в непримиримом противоречии друг с другом. Либо счастье, либо семья — вот он, её скрытый текст, который бабушка наверняка и сама не осознавала.
Английский поэт Перси Биш Шелли в 1813 году писал:
"Трудно придумать систему, препятствующую человеческому счастью больше, чем брак" (цит. по Гилберт, 2010, с. 228).
Как можно видеть, народное отношение к браку в разных культурах и в разные эпохи вряд ли можно описать в розовых тонах. Брак не воспринимался каким-то безусловным благом и часто встречал даже откровенную неприязнь. Но люди всё равно в него вступали. Это понималось чем-то обязательным, несмотря на все минусы. Брак был словно стихией, соприкосновение с которой никак не зависело от воли и мыслей самих людей.
Зачатки перемен в восприятии брака стали возникать сравнительно недавно — около 200–100 лет назад (кстати, как и в отношении к детям, о чём говорилось выше). Отношения супругов стали всё более сентиментализироваться, романтизироваться, всё чаще стало принято говорить о любви между мужем и женой (причины такой трансформации рассмотрим позже). Переписка членов правящих династий показывает, что в XVI–XVII веках эмоциональные связи супругов были слабы, а постепенные перемены намечаются лишь в начале XVIII века:
"В переписке с возлюбленными и жёнами мужчины всё реже ограничиваются сообщениями о здоровье и всё чаще затрагивают тему чувств" (Ушакин, 2007, с. 243).
Но при этом важно понимать, что хоть в недавнем времени и зародилось понимание брака как союза, основанного на любви, в действительности для значительного большинства брак по-прежнему оставался (и остаётся) скорее рациональным решением — выбором наиболее подходящего для совместной жизни партнёра, а любовь же просто стала тем словом, которым отныне возникла традиция описывать отношения между супругами (какими бы в действительности они ни были). То есть любовь в браке стала доминирующим знанием, тем пресловутым "как принято говорить", хотя в реальности всё может быть совсем наоборот.
Думается, если надеть кольца на проснувшуюся вместе пару с амнезией, они будут просто вынуждены говорить друг о друге в терминах любви.
В действительности же и сейчас редко кто вступает в брак по любви, а делают это лишь когда уже «пора» или же когда встретят более-менее подходящего для этого человека (то самое рациональное основание). Даже во второй половине XX века, наверное, меньшинство женились "по любви". В 1932 году изучение тысячи записей из книги записи браков жителей Филадельфии выявило, что 1/3 пар до свадьбы жили в радиусе пяти кварталов друг от друга; 1/6 пар жили в одном и том же квартале (Ансари, Клиненберг, с. 19). Но самым удивительным оказалось, что каждая восьмая пара вовсе жила в одном доме.
Последующие исследования показали, что приведённые цифры схожи для многих городов США — люди, как правило, вступали в брак фактически с соседями. И это оставалось характерным даже и для 1950–60-х.
"Это было поразительно," пишет исследовавший вопрос Азиз Ансари.
"В общей сложности 14 из 36 человек, с которыми я говорил, женились или вышли замуж за кого-то, кто жил в пешей доступности от дома, где они выросли. На соседней улице, в соседнем здании — и даже в том же самом" (с. 18). И дальше Ансари шутит:
"Только подумайте о тех, кто жил в доме, где вы выросли, или в вашем районе: можете представить, что кто-то из этих клоунов — ваш супруг/супруга?" (с. 20).
Иначе говоря, концепция поисков "родственной души" — это что-то совсем необычное в действительности, потому что никакого поиска собственно и не было. Люди вступали в брак с кем-то "более-менее подходящим", выбирая из очень ограниченного круга лиц. Они просто должны были вступить в брак и вступали, а за кого именно — этот вопрос не имел первостепенной важности. Важной была реализация культурного сценария сама по себе.
В жизни советского человека ситуация вряд ли отличалась сильно. Наверное, у каждого в СССР была знакомая пара, учившаяся в одном классе и сыгравшая свадьбу сразу по окончании школы. Что уж говорить о жителях деревни, выбор брачного партнёра которых всегда был очень ограничен. Впрочем, в крестьянской среде даже в 1920-е годы брачную пару детям нередко всё ещё выбирали родители (Адоньева, Олсон, 2016, с. 124).
Главный герой фильма "Белые росы", старик в исполнении Санаева, неспроста негодовал, что его взрослая дочь влюбляется в кого-то вне брака:
"Какая тебе любовь надо? Бабе дети надо и мужик!"
В наше время ситуация только начинает меняться: всё больше людей осознают, что брачный культурный сценарий не обязателен, и жизнь можно строить по самым невероятным планам, которые прежде никем помыслиться не могли. Но такое решение требует высокой осознанности и смелости.
Целью данной главы было показать, что свойственная современности мифология "брака по любви" в реальности возникла совершенно недавно, и на протяжении всей своей истории брак был в корне отличным от современных представлений о нём: никто не искал в браке тёплых эмоций, утешения и поддержки. Исторически брак был средством подчинения и эксплуатации женщины, в связи с чем физическое насилие в семье всегда выполняло охранительную функцию этого древнего порядка. Как верно замечает Мэрилин Ялом, сегодня, предоставляя убежище женщинам, подвергшимся домашнему насилию, высказывая своё осуждение и пытаясь его пресечь, мы отклоняемся от многовековой практики (Ялом, 2019, с. 72).
3. Так что такое "семья"?
После этого историко-психологического экскурса в прошлое самое время задаться вопросом: так что же такое «семья»? Что скрывается за этим словом, и какой смысл мы в него вкладываем?
Как было показано, в прошлом то, что мы могли бы назвать семьёй, сильно отличалось от привычной нам сегодня картины как по составу, так по функциям и по психологическому содержанию. «Семья» прошлого была несравненно больше, но вместе с этим и эмоциональные связи между её членами были куда слабее, рассеяннее, чем сейчас. Особенно бросается в глаза отсутствие сильной привязанности между родителями и детьми. Та конструкция, которую мы сейчас называем семьёй, со всеми свойственными ей психологическими атрибутами (эмоции, поддержка и т. д.), распространилась лишь около 200–100 лет назад с ростом городов и с развалом широких родственных связей. То есть семья, как мы её знаем, возникла недавно.
Но вот главный вопрос: а что именно возникло недавно? Что даже сейчас мы называем семьёй? Обывателю данный вопрос покажется странным, ведь всем нам прекрасно известно, что такое семья, верно? Семья — нечто настолько очевидное, что и размышлять об этом странно. Но обыватель на то и обыватель, чтобы заблуждаться. Ведь, как известно в науке, ничто не должно вызывать такого подозрения, как нечто, очевидное для всех; из чего и вырастает
"принцип недоверия к тому, что кажется «близким» и «знакомым» (Зидер, 1993, с. 177). Если какое-то явление кажется нам "само собой разумеющимся" или даже «естественным», то, скорее всего, мы просто не пытались вникнуть в его суть. Насколько сущность семьи самоочевидна для обывателя, настолько она вызывает споры среди учёных — не зря философ задавался вопросом:
"как могло случиться, что мудрейшие теряются там, где обыкновенные люди не находят никаких трудностей?" (Шестов, 1993, с. 25) и дальше приходил к мысли о необходимости "преодоления очевидностей". Очевидность — иллюзия, скрывающая непонимание.
В действительности не только учёные, но и обыватель не скажет нам, что такое семья. Если попросить людей дать определение семье, они неожиданно для себя столкнуться с большими трудностями. У них сразу возникнет множество уточняющих вопросов: считаются ли членами семьи умершие, но всё ещё дорогие близкие люди? Стоит ли включать в семью дальних родственников, соседей, друзей и коллег, если с ними связывают любовь и забота? Будет ли считаться «своей» однополчанка бабушки, с которой поддерживается тесная дружба?
"Под семьёй сегодня многие понимают связи шире родственных и сексуальных", признают социологи (Шадрина, 2014, с. 36; Адоньева, 2018, с. 110). Поэтому не удивительно, что если опрашивать людей на тему семьи, то каждый второй будет начинать фразой "Моя семья не совсем типичная…". Всё это потому, что никакой «типичной» семьи в принципе не существует, а обратное — только иллюзия. Семье невозможно дать чёткого определения, которое бы не пришлось затем снабдить десятком оговорок.
В последние десятилетия разных типов семей стало так много, что это ещё больше осложнило задачу определения семьи. В современных условиях чрезвычайно распространились семьи, представленные только матерью и ребёнком (детьми), или же семьи совсем без детей (только муж и жена — чайлдфри). Такое положение дел больше невозможно назвать "типичной семьёй", говорят социологи (Cohen, 2014).
И действительно, можно ли бездетную супружескую пару назвать семьёй? А мать-одиночка с ребёнком — это семья? Если родители в разводе, и папа лишь раз в полгода видится с ребёнком, это семья? А если родители погибают, и остаются лишь дети — эти дети продолжают быть семьёй? Мужчина и женщина, живущие вместе, но не состоящие в браке, — семья? А гомосексуальная пара, живущая вместе? А если ещё и растят ребёнка?
Здесь есть над чем поломать голову. Всё куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Туманная сущность семьи
На винной дегустации я разговорился с незнакомкой об этой книге, которую тогда писал. Тема семьи вызвала живой интерес.
— Вы отрицаете ценность семьи? — спросила она.
— Не совсем так… Я не знаю, что такое семья, а значит, и не могу отрицать её ценность.
— Как Вы не знаете, что такое семья? — удивляется собеседница. — У Вас её разве не было?
— У меня было что-то и даже есть сейчас, но я не знаю, семья ли это, — улыбаюсь я.
— …?
— Ну хорошо, дайте определение семьи, — говорю я. — Что это такое?
Девушка приосанивается и собирается с мыслями.
— Это близкие люди, живущие вместе, дети и родители.
— То есть, когда я отселяюсь от родителей, мы перестаём быть семьёй? — уточняю я.
— Нет, конечно, нет.
— Значит "живущие вместе" — это не обязательный критерий?
— Ну наверное, да… Но это совокупность близких людей.
— Вот "близкие" — ведь это метафора, — замечаю я, — А метафоры известны тем, что не сообщают ничего чёткого. Что значит "близкие"?
— Ну это… Родственники! — осеняет девушку.
— Бабушки, дедушки? Двоюродные братья-сёстры? Прадеды?
— Ну это уже не столько семья, — размышляет собеседница. — Наверное, уже скорее род. А семья — это близкие родственники!
— И снова эта пространственная метафора, — подмигиваю я, — "Близкие".
Похоже, нам здесь метафора и нужна, иначе придётся говорить довольно чётко: родственники первой степени родства — биологические родители и дети (то есть всё то, что и называется нуклеарной семьёй). Но такая чёткость уже ощутимо сжимает наше собственное понимание семьи как чего-то большего — приходится выбросить бабушек и дедушек, тёть и дядь, какими бы тёплыми наши с ними отношения ни были. Ведь когда у нас родятся дети, мы будем считать их частью семьи, но при этом и собственных родителей не перестанем считать таковыми. Возможно, в представлении каждого семья тяготеет к расширенному пониманию, и поэтому чёткость нами и отвергается в пользу размытой метафоры.
В те времена, когда под одной крышей жили сразу три, а то и четыре поколения, нормально было считать семьёй бабку с дедом, их детей, супругов их детей и их внуков. Когда из-за урбанизации и упадка сельского образа жизни большая разветвлённая семья стала разваливаться, взгляды на семью стали меняться. Так и возникло современное понятие нуклеарной семьи — состоящей лишь из мужа, жены и их детей — или городской семьи (буржуазной). Но контакт с другими родственниками, особенно если он оказывается активным, не позволяет ограничивать представления о семье одной лишь нуклеарной составляющей.
Некоторые авторы утверждают, что
"сейчас семья идёт к более свободному существованию. Но это не значит, что она теряет ценность. Опросы показывают, что люди ставят семью на первое место среди других ценностей" (Брыкова, 2011). Да, это так, люди устойчиво подтверждают ценность семьи для них, но при этом совершенно не учитывается, что люди эти просто не знают, о чём говорят. Спроси их, что такое семья, и они начнут мяться и путаться в показаниях. Поэтому для них ценность представляет нечто туманное, а не собственно семья в каком-либо чётком смысле. В первой главе я уже писал об этом: молодёжь склонна объявлять ценность семьи — и это при катастрофически низком уровне рефлексии.
Как правило, в основу понимания института семьи ложатся четыре критерия:
— родство (между родителями и детьми и между самими детьми)
— свойство́ (название связи вступивших в брак супругов и их родственников между собой)
— совместное хозяйство
— усыновление/удочерение
Список этих критериев наводит на вопрос: что это за явление, которое может возникнуть аж на четырёх разных основаниях? Либо на том, либо на том, либо на этом, либо же на всех вместе. Муж состоит в отношениях родства со своими детьми, но не с женой — эта группа называется семьёй. Но муж может и не быть родным для детей своей жены, а группа всё равно будет называться семьёй. Усложним картину: мужчина и женщина не регистрировали брак, а дети в их союзе также мужчине не родные и принадлежат сугубо матери, но все они живут вместе — скорее всего, мы тоже назовём данный союз семьёй. А ещё более сложный вариант: мужчина без оформления брака живёт с женщиной, уже имеющей ребёнка, все вместе они регулярно общаются с родителями мужа (условные бабушка и дедушка), у которых со временем возникает сильная привязанность к ребёнку; однажды мужчина и женщина погибают, остаётся лишь ребёнок и условные бабушка с дедушкой, которые и начинают принимать самое активное участие в жизни ребёнка — мы будем называть финальный союз этих троих семьёй? Здесь не было ни свойства́, ни родства, ни усыновления, и даже общее хозяйство совсем не обязательно. Так как это назвать?
Всё очень запутанно. Не удивительно, что в науке вопрос о сущности семьи по сей день остаётся непрояснённым (Вишневский, Кон, 1979, с. 9). При этом, что интересно, нельзя сказать, что идут какие-то особые споры или баталии вокруг понятия семьи — этого нет. Учёных будто устраивает эта неопределённость. Поэтому они чаще предпочитают спорить о том, какие размеры были свойственны «семье» в разные эпохи, но никак не о том, что же они, собственно, могут называть семьёй. Тот самый случай, когда проще обсуждать размеры чего-то, но не это самое что-то.
В свете всего изложенного можно считать откровенно спекулятивными такие популярные (очень популярные) высказывания, как
"семья — это основа общества, без семьи невозможно существование как самого общества, так и государства", "семья — естественная среда обитания человека" или
"семья — древнейший социальный институт" — как можно приходить к таким выводам, если мы не знаем, что такое семья?
Ответа о сущности семьи мы не найдём не только у антропологов, но даже и у юристов, которые регулярно обращаются к Семейному кодексу для защиты интересов отдельных лиц или их союзов. Да, как это ни удивительно, в российском семейном законодательстве до сих пор отсутствует определение семьи, даже несмотря на то, что есть Семейный кодекс. В семейном законодательстве других стран даётся определение семьи, но оно сводится к тем самым четырём разным основаниям, о которых было сказано выше, то есть никакой вразумительной чёткости всё равно нет.
Как констатируют юристы,
"едва ли не в каждой из отраслей права термин «семья» имеет своё особое значение" (Толстой, 1969, с. 5), поскольку
"семья — это коллектив, объединённый самыми разнообразными узами" (Нечаева, 1998, с. 8). Поэтому ожидаемо, что порой находятся исследователи, выступающие против употребления термина «семья», так как он
"представляет собой чисто искусственное понятие — бесполезное для полевого этнографа и опасное для теоретика" (цит. по Косвен, 1948, с. 43).
Загадка родства
Трудности с определением семьи начинаются даже раньше — с определения понятия «родство», которое традиционно считается одним из главных оснований семьи. Конечно, для обывателя вопрос родства снова предельно ясен: родство — это связь по крови ("роды", "рождение"); люди, в жилах которых бежит одна кровь, являются родственниками. То есть, в представлении масс, родство опирается на биологию, производно от неё.
Но в реальности опять всё куда сложнее. Когда этнографы XIX века приступили к изучению туземных племён по всему свету, то сразу столкнулись с необычной ситуацией: разные народы понимали родство не совсем так, как привык европеец. Оказывается, родство во многих культурах осмыслялось не в биологическом ключе, не по крови, а по каким-то другим критериям.
Широко распространено родство по кормлению (Бутинов, 2000, с. 151) — когда отцом или матерью ребёнка считаются те, кто его вскормил. И данное осмысление родства было и остаётся характерным не только для различных туземцев, но даже и для многих народов Европы в совсем недавнем прошлом: когда-то у болгар в порядке нормы считалось, если женщина вскормила приёмного ребёнка грудью, то он уже был не просто приёмным, но и родным — в таком случае он уже не мог вступать в брак с кем-то из родни кормилицы, а если же она его не кормила, то брак между ним и её роднёй был возможен (Косвен, 1948, с. 35). По этой же причине родство возникало и между двумя усыновлёнными, выкормленными одной женщиной.
Похоже, именно принципу родства по кормлению обязан и английский термин, обозначающий усыновлённого — "foster" (fosterage — усыновление). Исследователи конца XIX века отмечали, что этот термин происходит от древнего слова "пища", отсюда и "foster-brother" (молочный брат, то есть брат по кормлению), и даже «питомец» (то есть кто-либо вскормленный) — это "fosterline" (Бутинов, с. 151).
Во многих современных племенах охотников-собирателей отцом и матерью считаются именно те, кто вскормил и вырастил ребёнка, а не тот, кто родил. Впрочем, если вдуматься, то и всякий современник из нашей же культуры, усыновлённый и выращенный конкретной женщиной, будет считать матерью именно её, а не ту, кто его когда-то родила — в данном контексте даже можно слышать о разделение матерей на биологическую и «настоящую». Даже если человека попросить продолжить фразу "Настоящая мать — не та, кто…", то закреплённый в культуре принцип почти наверняка принизит значение биологической матери в пользу приёмной (Юссен, 2000, с. 96).
На одном из островов Новой Гвинеи родители отдали своего ребёнка одинокому мужчине, тот стал его отцом, но через несколько лет умер; ребёнок вернулся к родителям, и о нём отныне все говорили: "ребёнок, отец которого умер" (Бутинов, с. 154). В одной из папуасских народностей 42 % взрослых мужчин называли «отцами» одних, а родителями считали других. То есть родители — это одно, а отец и мать — другое. Как уже было показано выше, передача детей от одних родителей к другим широко распространена по всему миру. Это уже в нашей цивилизации, где обмен детьми совсем недавно был полностью прекращён, мать и отец почти всегда же оказываются и родителями этого ребёнка. Сейчас разница между этими терминами обнажается только в случаях усыновления, приёмного родительства. Но даже при этом лингвисты справедливо отмечают, что и у составителей современных словарей нет единой, общепринятой модели для самых обычных понятий, таких, как «мать» (Лакофф, 2004, с. 109).
Другим основанием для возникновения родства может служить уже не кормление (ребёнка), а непосредственно сама пища. В некоторых племенах считается, что их земле присущ некий дух, составляющий суть их народа ("атом родства"), и все плоды, растущие на их земле, содержат этот дух, и поэтому те, кто питаются одной пищей, становятся родственниками, вбирая в себя частицу духа (Бутинов, с. 165; Meigs, 1986, p. 201).
Ещё одним основанием для возникновения родства, помимо кормления ребёнка и единства пищи, может служить совместное проживание и общая деятельность. Представители разных народов могут утверждать:
"Мы вместе живём, в одной деревне, поэтому мы — братья" (Бутинов, с. 152).
"Люди не потому живут вместе, что они родственники; наоборот, они стали родственниками, потому что вместе живут" (с. 164). Данный принцип возникновения родства можно назвать социальным родством.
В действительности такой подход порой встречается и в условиях современного Западного мира, когда коллектив сплочённых друзей может называть себя братьями, а сам свой коллектив — семьёй (вспомним «Форсаж» и банду Доминика Торетто, называвшую себя семьёй, — ну реально, чем не братья?). Даже термин «братство», широко распространённый в Средние века (религиозные братства) и до сих пор кое-где встречающийся (студенческие братства), мало кто осмысляет как родство по крови, но именно как некоторый тип социального родства, когда определённый круг лиц становится названными братьями, названными родственниками.
Описанная вариативность подходов к формированию родства порой становилась причиной недопонимания между туземцами и этнографами-европейцами, которые считали, что первые их разыгрывают, называя себя родственниками тем, кто родственником им явно не был. Европейцы, искренне полагавшие, что родство основано только на биологии, считали понимание родства туземцами «неправильным» и даже пытались убедить их в этом. В записях этнографов тех лет можно встретить такие гневные строки о туземцах:
"Они утаивают своё фактическое происхождение, фальсифицируют свои генеалогии". Когда два человека представлялись исследователю братьями, тот пытался убедить их в ином, поясняя
"Вы — не братья, потому что у вас разные родители".
Затем исследователи могли отметить, что
"если проявить настойчивость, то можно добиться правильного ответа" или же
"если на них поднажать, то они признают, что это не так" (цит. по Бутинов, с. 152). Представителю современного Западного мира трудно представить, что родство, в понимании иных культур, может возникать на разных основаниях, а не только через рождение.
Отдельной проблемой для этнографов стало осознание, что в различных культурах существуют два главных типа осмысления родства: описательный и классификационный.
Описательное родство — это привычная нам, людям современной Западной цивилизации, система родства, где каждый представитель родственной группы обозначен отдельным термином (мама — та, что меня родила и/или вырастила, отец — кто зачал и/или вырастил, брат — ещё один сын моих отца и матери, дядя — брат отца или матери и т. д.).
Классификационное родство — такая система, в которой одним термином обозначается сразу целая группа родственников: к примеру, «мама» — не только та, кто меня родила, но и её сёстры или даже некоторые другие женщины по материнской линии, «отец» — не только зачавший и/или воспитавший меня, но и его братья, и т. д. В результате такой ситуации
"у каждого человека много «отцов», много «матерей» и ещё больше «братьев», "сестёр" и "дочерей" (Бутинов, с. 149). Данная общность именования непременно наводит на мысль, что в значение слова «мать» в таких культурах не вкладывается тот сакральный смысл, который принято вкладывать в технологически более сложных обществах, как наше. Иначе говоря, «мать» для туземца — не то же самое, что «мать» для русского (подробнее эту разницу рассмотрим в разделе
"Как рождалась моногамная психология").
Ещё сам Дарвин, изучая вопрос классификационного родства, предположил, что
"употребляемые термины, уменьшая роль матери, выражают только связь с племенем. Наверное, связь между членами варварского племени, подверженного всем опасностям, может быть гораздо более важной, чем между матерью и ребёнком, поскольку племя — это необходимая взаимная защита и помощь" (цит. по Райан, Жета, с. 156). Некоторые антропологи, однако, пытаются оспаривать такой взгляд, но доводы их не выглядят слишком убедительными (см. Артёмова, 2009, с. 335). Да, в условиях классификационного родства, когда ребёнок называет словом «мать» сразу многих женщин, он всё же умеет выделить именно ту, которая его родила, но это ничуть не означает, что эта связь имеет для него особое значение. Как говорилось выше, даже в нашей культуре термин "биологическая мать" обычно употребляется скорее для подчёркивания эмоциональной дистанции с нею, её незначительности, а не близости и значимости: биологическая мать противостоит «настоящей» матери — той, что воспитала.
Но и это ещё не всё. В Средневековой Европе в связи с распространением христианства в обиход входит ещё один тип родства — духовное. В результате обряда крещения ребёнок приобретал названных родителей — крёстных отца и мать, которые отныне также должны были следить за взрослением своего крестника. Причём зачастую тогда именно духовное родство считалось «настоящим» (Юссен, с. 96). Что характерно, сексуальная связь между духовными родственниками запрещалась точно так же, как между биологическими (табу инцеста).
Ещё одним вариантом родства специалисты по Средним векам склонны (там же, с. 97) рассматривать институт вассалитета: иерархические отношения между сеньором и его подданными (вассалами). В одном из разделов выше упоминалось о том, что в ту эпоху человек чаще искал заботы и поддержки при дворе своего сеньора, нежели в собственной биологической семье, а также, что сеньор выступал для вассалов в роли отца, а его жена — в качестве матери. Так же сеньор нередко подыскивал брачную пару своему вассалу.
Различные профессиональные гильдии (цехи), зародившиеся ещё в Древней Месопотамии, существовавшие в Римской империи и через Средневековье дожившие вплоть до XIX века в некоторой степени также можно рассматривать как формы родства, ведь правила гильдий не только регламентировали профессиональную деятельность их членов, но и многие аспекты личной жизни. Гильдии осуществляли разные виды поддержки своих членов, включая организацию похорон мастеров, обеспечение их вдов и организацию свадеб их детей. Зачастую членство в гильдиях передавалось только по наследству, а внутренние правила порой определяли даже систему брачных отношений: цехи заботились о том, чтобы и дочери мастера, и его вдова выходили замуж за подмастерьев, чтобы его дело было продолжено (Зидер, 1993, с. 107). Помимо прочего, ученик мастера жил в его доме и в целом был фактически членом семьи (там же, с. 108). Семьи ремесленников были плотно вплетены в социальную ткань самого цеха.
В итоге существование в Средневековье института крёстных родителей, различных братств, ремесленных цехов, содружеств и вассалитета приводит некоторых исследователей к мысли, что в ту пору
"особенно большая доля родственных связей основывалась не на рождении и браке" (Юссен, с. 97), им была уйма альтернатив. Некоторые исследователи отмечают, что даже такое "воображаемое сообщество", как нация, может быть полноценной заменой родственной группы или семьи (Эриксен, 2014, с. 137).
Часто западные исследователи, говоря о разнообразных типах объединения людей, основанных не на кровном родстве, предпочитают использовать термины "фиктивное родство", "искусственное родство", «квазиродство», "псевдородство", «метафорическое», но другие исследователи спрашивают, если и так, то такое родство "фиктивное для кого?" (Howell, 2009, p. 155).
Да, нам сейчас непросто смотреть на все эти формы объединения людей как на родство, но это очень на то похоже. Мы слишком свыклись с мыслью, что родство плотно связано с биологией, с кровью, но этот взгляд даже для Европы в действительности довольно недавний — история и лингвистика показывают, что и европейцы вплоть даже до середины XIX в. далеко не всегда считали то же отцовство фактом биологии (Бутинов, с. 151). Древнеримское «pater» (отец) изначально не имело биологического значения, оно описывало главу домохозяйства, это же справедливо и для более древних индоевропейских языков (см. ниже
"Фигура Отца"). Только в Средневековье происходит смещение акцентов и увязывание «матери» и «отца» ещё и с фактом родительства, рождения.
"Во многих частях мира родство понимается гораздо шире, включая и тех, с кем нет никаких кровных связей, но которых считают родственниками. Это растяжение системы возможно потому, что люди выводят родство не только из генеалогии, но и из поведения. Таким образом тот, кто ведет себя как родственник, таковым и считается. Наоборот, некоторых не считают родственниками, хотя они родственны по крови. Потому что они ведут себя не так, как должны вести себя родственники" (цит. по Бутинов, с. 163).
Похоже, что для зарождения представлений о родстве достаточно лишь какой-то общей черты для нескольких человек, и всё — родство запущено. Где-то это общая земля и пища, где-то — общее место жительства и деятельность, где-то — кормление молоком одной матери, а где-то — кровь, гены. И, вероятно, концепция биологического родства (через кровь и гены) в Западном мире заняла доминирующую позицию по причине развития науки и биологических знаний. Если во многих других культурах основанием для родства могут выступать весьма условные вещи, то на Западе же удалось отыскать ту материю, которая существует объективно — гены, от которых никуда не деться.
Это представление сейчас довольно сильно, но при этом оно и довольно молодо. Интересно, но так сложилось, что феномен усыновления этнографы всегда предпочитали изучать на примере незападных обществ, а у себя же дома долго обходили его вниманием. Вероятно, это объясняется как раз тем, что усыновление выступает символическим противовесом кровному родству, концепция которого доминирует в нашей культуре, и тем самым как бы
"бросает вызов доминированию биологического над социальным" (Крецер, 2016, с. 172).
Все описанные аспекты привели к признанию многими антропологами того, что исторически родство — не какой-то биологический факт, а способ осмысления социальных связей (Эриксен, 2014, с. 153). Это умозрительная система,
"специфичная для каждой культуры и имеющая универсальное применение в том, что касается структурирования социальных связей любого рода" (Юссен, с. 85). Термины родства выступают своеобразной системой социальных координат в жизни человека, размечая линии взаимодействия с Другими и специфику этого взаимодействия (Ушакин, 2007, с. 278). Когда мы говорим «мать» или «отец», то уже подразумеваем определённую систему действий, которые они должны выполнять по отношению к своим детям, когда говорим «брат» или «сестра», происходит всё то же самое, но со своими нюансами, и т. д.
"Если наш двоюродный брат, которого мы давно не видели, попал в беду, разве мы не чувствуем к нему определённые обязательства, просто потому, что он наш двоюродный брат?" (Fox, 1967).
Иначе говоря, термины родства — это карта, где расчерчена система прав и обязанностей между людьми (Артёмова, 2009, с. 307). И от культуры к культуре конкретное содержание этой карты варьирует, не являясь абсолютным, заданным от природы, биологически обусловленным. Родство — вещь социальная, культурно заданная. Родство — в наших головах.
Конечно, не каждому будет понятен такой подход к проблеме и многими даже отвергнут — уж больно сильны у масс представления о "зове крови". Лично мне же не составило трудностей прийти к пониманию условности родства ещё в юности, когда, с одной стороны, регулярные конфликты со старшим братом, а с другой, регулярные же требования мамы в чём-то ему помочь, непременно вызывали моё возмущение.
— Почему я должен ему помогать?! — выпаливал я.
— Потому что он твой брат! — наливалась багрянцем мама.
— И что это значит? «Брат» — это всего лишь слово!
— Это значит, что вы вышли из одного места, и в вас бежит одна кровь!
— И всё это должно придать мне мотивации?! — не мог я не прыснуть со смеху.
Да, ещё в юности я понял, что ничто не делает людей такими беспомощными, как расспросы об элементарных вещах, лежащих в основе их поведения и всей жизни в целом.
Приходя к такому расширенному пониманию родства (как системы координат социальных прав и обязанностей), исследователи невольно задумываются, что неплохо было бы теперь как-то переименовать это явление, которое мы так привыкли связывать исключительно с биологией (Юссен, с. 88). Учёные предлагают разные варианты. Например, термин «связанность» (relatedness) избавлен от намёков на биологию и потому способен охватить гораздо более широкий спектр связей между людьми, чем привычное нам «родство» (Эриксен, с. 159; Carsten, 2000, p. 4). Или акцент на личных чувствах позволяет смотреть на родство как на результат привязанности (Бутинов, с. 161), что позволяет заменить его именно этим термином. В обоих случаях ключевым выступает термин «связь» — на любом её основании.
У чукчей термин «товарищ» в сущности совершенно покрывал и включал в себя понятие «родственник». "Имеющий товарищей" означает также "имеющий родственников" (Богораз, 1934, с. XV). В этом же ключе можно применить термин "дружба" — ведь древнегреческое слово "philia", часто переводимое как "дружба", обозначает не только "дружбу", но и "дружественность", "расположение", "любовь", вообще "сближение", "соединение" (Кон, 2005a, с. 44). "Друг" (philos) связан с понятием "свой", а philoi (множественное число от philos) назывались все те, кто живёт в доме, кого можно считать своими. Чужой человек оказывается "своим", если его принимают в члены семьи или племени (с. 45). Желая выразить высочайшую степень своей преданности друзьям, древние греки уподобляли их родственникам — родителям и братьям, но при этом нередко ставили даже выше их. В целом, у древних греков, как и у других народов, первоначальные формы и термины дружбы были связаны с родством (с. 46).
Что характерно, связь между дружбой и родством подмечена и у некоторых народов Океании, где непосредственно само понятие «дружба» отсутствует, а потому его выражают терминами родства, или, говоря точнее, для племенного строя тесная дружба — это и есть родство (Бутинов, с. 167). Это важный момент, который надо запомнить: некогда родство осмыслялось куда шире, чем нам привычно сейчас, и больше совпадало с понятием дружбы. К этому аспекту мы ещё вернёмся в заключении, а пока же давайте его просто запомним.
Фигура Отца
Отдельного упоминания в вопросе семьи заслуживает фигура отца. Дело в том, что «отец» и «родитель» в представлениях людей не совпадали очень долгое время. Например, ещё в Древнем Риме слова «pater» (отец) и «mater» (мать) изначально не имели биологического значения, они описывали человека, имеющего власть, главу домохозяйства (Гис и Гис, с. 28; Юссен, 2000, с. 96). Это же было характерно и для более древних индоевропейских языков — там «отец» и «мать» также указывали на социальное положение, статус, а не на кровную связь с кем-то (Мейе, 2019, с. 29). В латинском языке биологическое отцовство скорее выражалось терминами «parens» и «genitor», тогда как «pater» выступает именно как социальная характеристика — это глава дома, «dominus», "pater familias". И только позже латинское «pater» преобразуется во французское «pere», где заодно происходит коренной сдвиг значения, и к отец-властитель добавляется отец-родитель, что позволило лингвистам говорить даже о возникновении здесь нового слова (Трубачёв, 1959, с. 20). Как замечают исследователи, в глубокой древности биологическое отцовство было неопределимо — этим и можно объяснить, что и в последующие тысячелетия между значением «отец» и «родитель» ещё долго не было прочной связи.
Что характерно, в римской традиции все родственники со стороны отца обращались с ребёнком по всей строгости, а родственники же по линии матери — с любовью и лаской, то же самое относится к дядям со стороны отца и матери: латинские слова, обозначающие этих родственников, имели дополнительный смысл и означали соответственно строгость и мягкость (Вейн, 2017, с. 29). Иначе говоря, отец в в прежние эпохи — это о власти, а не о чувствах (и даже не о кровном родстве).
Это намекает нам, что отец-родитель как персонаж семьи возник довольно недавно. Начнём с того, что факт биологического отцовства — довольно сложная штука. Честно говоря, просто нереально представить, как вообще исторически могло возникнуть представление об отцовстве, если учесть, что между совокуплением и родами проходят целых девять месяцев.
Юмор в том, что эксперименты показывают, как людям тяжело обнаруживать причинно-следственные связи между явлениями, если их разделяет промежуток всего в 10 секунд (Bruner, Revuski, 1961); а тут же временная задержка вовсе исчисляется месяцами. То есть обнаружение того факта, что секс приводит к зачатию — дело очень непростое, явно требующее большой интеллектуальной работы многих и многих поколений, а не какого-то одного случайного раза. Несмотря на это, многие современные представления о рождении института брака (союза мужчины и женщины) основаны на откровенно умозрительной гипотезе, что мужчина (с чего-то вдруг) захотел быть уверенным, что именно он отец детей конкретной женщины, а потому и стал образовывать с ней пару, ограничивая её сексуальные контакты с другими возможными конкурентами. Гигантская брешь данной гипотезы заключена именно в концепции отцовства — откуда конкретный мужчина мог быть в курсе того, что именно мужчины являются причиной появления детей?
Кто-то только разведёт руками и спросит "Да как же? Ведь всё очевидно" — но в том и дело, что всё совсем не очевидно, а как раз наоборот: имеющиеся на данный момент сведения приматологии (науке о приматах, кем является и человек) однозначно указывают, что у всех ближайших нам сородичей-обезьян царит промискуитет — неупорядоченные сексуальные связи. Самец спаривается со множеством самок, самка — спаривается со множеством самцов. Старые наблюдения первой половины XX века вводили учёных в заблуждение и позволяли рассуждать о «браке» у гиббонов, орангутанов, шимпанзе и горилл, но последние десятилетия показали, что это в корне неправильные описания. В реальности промискуитет царит не только у шимпанзе, но и у долго считавшихся «гаремными» горилл (где якобы один самец контролирует нескольких самок) и даже у считавшихся "преданными супругами" гиббонов — у всех них при подходящих условиях самки спариваются далеко не с одним самцом, а самцы спариваются с другими самками (см. подробнее дальше).
Но если у всех ближайших эволюционных родственников человека царят неупорядоченные сексуальные связи, то как вдруг в таких условиях предок человека однажды узнал о феномене отцовства и потому решил удерживать одну конкретную самку рядом с собой? (Зачем ему это понадобилось бы делать, это уже другой и не менее сложный вопрос). Да, никаким обезьянам отцовство неведомо. Поскольку все постоянно и неупорядоченно спариваются друг с другом, то самки однажды просто рожают. Всё. Как в таких условиях можно установить причастность самца к зачатию ребёнка? И речь не об отцовстве конкретного самца, а самца в принципе, то есть речь об отцовстве как институте. Как в условиях промискуитета можно установить, что секс ведёт к зачатию? Это нереально. Беременность и роды в таких условиях выглядят неким естественным или даже мистическим явлением (вероятно, этим и обусловлено повсеместное существование палеолетических венер — древних фигурок женщины с яркими признаками беременности; возможно, тогда роды ещё выглядели загадкой, осмысление которой граничило с религиозным культом). Каким-то образом впихнуть самца в эту схему беременности в реальности очень сложно.
Таким образом, эта популярная в мире гипотеза рождения моногамии (эксклюзивного сексуального доступа к партнёру) наталкивается на заколдованный круг, так как исходит из желания самца (с чего-то вдруг) быть уверенным в своём отцовстве, но при этом сам феномен отцовства открыть в условиях промискуитета невозможно. Проще говоря, либо всё это совсем не так, либо причина и следствие здесь поменяны местами.
Подробнее несостоятельность этой гипотезы будет раскрыта дальше, а сейчас же снова обратим внимание на уже неоднократно упомянутый факт: «отец» и «родитель», по данным лингвистики, долго не пересекались в своих значениях. Даже история отдельных народов демонстрирует нам весьма специфический подход к отцовству: в Древнем Риме биологическое отцовство не играло особой роли, куда важнее был ритуал «принятия» ребёнка — сразу после рождения ребёнка отец должен был на виду у всех поднять его на руки и тем самым показать, что он его принял. Если отец по какой-либо причине не принимал ребёнка, то его просто выкидывали в мусорную кучу. То есть самого факта рождения ещё не было достаточно, чтобы признать появления на свет наследника. "Голос крови" крайне редко звучал в Риме (Вейн, с. 25). В этом смысле «настоящее» отцовство у римлян — это всегда усыновление (даже собственного ребёнка), тогда как биологическое отцовство не играло никакой роли (Зойя, 2017). Поэтому ни в одной цивилизации мира усыновление не получило такого размаха, как в Древнем Риме, где усыновить можно было почти всё, что движется: к примеру, отец мог усыновить даже мужа собственной дочери (Вейн, с. 32), что, правда, автоматически вело к разводу последних, так как они вдруг оказывались братом и сестрой.
У некоторых охотников-собирателей феномен отцовства неизвестен и вовсе по сей день. Точнее, определённый вклад мужчины осознаётся, но весьма специфическим образом. Там считается, что женщина либо беременеет от вхождения в неё духов предков, либо же как бы беременна изначально, с рождения, а мужчина же, дальше совокупляясь с ней, лишь помогает ей кормить ребёнка в утробе (спермой), и тот в итоге начинает расти. Понятия «совокупляться» и «есть» в некоторых языках обозначаются одним и тем же словом, потому что зародыш питается именно в результате совокупления мужчины и женщины — такие представления распространены у многих племён по всему миру (Бутинов, с. 157; Панов, 2017, с. 385). Поэтому мужчина может не считаться непосредственным родителем ребёнка, он лишь помогал его кормить.
"Муж должен защищать детей и заботиться о них, "принять их в свои объятия", когда они рождаются, но они — не "его" дети. Таким образом, отец — это любимый, доброжелательный друг, но не признанный официально кровный родственник детей" (Малиновский, 2011, с. 21).
В других культурах подобный взгляд на вклад мужчины в развитие ребёнка получил более специфический окрас — там с женщиной совокупляется не один мужчина, а многие. Якобы это поможет будущему ребёнку получить особые качества от каждого из них, что в дальнейшем ему пригодится. В итоге родившийся ребёнок оказывается обладателем нескольких отцов. Такой взгляд на отцовство получил название
частичного отцовства или же
разделённого (partible paternity, shared paternity) (Beckerman, Valentine, 2002), и на данный момент обнаружен примерно у 20 сообществ охотников-собирателей (Райан, Жета, с. 135).
Даже для Европы идея, будто совокупление-кормление плода в утробе матери влияет на развитие ребёнка, не должна казаться такой уж странной, если учесть, что ещё в XVIII веке европейцы верили, что грудное молоко нанятой кормилицы передаёт ребёнку некоторые её качества — именно поэтому выбор кормилицы осуществлялся с учётом темперамента и других личных характеристик (Бадентэр, 1995, с. 135). Такие суеверия свидетельствуют, что сам факт зачатия, в понимании людей, ещё не предопределял характеристик ребёнка, и на них ещё можно было повлиять как минимум через кормление. Схожий взгляд был и в русской деревне, где порой практиковалось вскоре после рождения «формовать» разные части тела ребёнка — задавать форму черепу, носу или ушам путём массажа или прижимания (Кабакова, 2001, с. 94; Байбурин, 1993, с. 52). То есть само зачатие непосредственно — не решало, и генетический вклад отца (или даже обоих родителей) в разных культурах понимался весьма своеобразно.
Как справедливо замечают антропологи,
"общепринятое представление утверждает, что факт отцовства всегда был крайне важен для человека, что сами гены заставляют нас выстраивать своё сексуальное поведение вокруг этого принципа. Тогда почему археологические свидетельства так богаты примерами сообществ, где биологическое отцовство никого не интересовало?" (Райан, Жета, с. 41).
Описанные выше примеры заставляют посмотреть на фигуру отца в семье совсем иначе, чем в привычной нам культуре. И потому разведение термина «отец» на отца-властителя (господина семьи, домохозяйства) и отца-родителя (причастного к зачатию ребёнка) видится просто необходимым (как увидим дальше, это имеет принципиальное значение). Когда кровное родство ещё не было известно, либо же ему не придавалось значения, отец мыслился исключительно как глава своей семьи (жены и прочих членов его домохозяйства), а когда же кровное родство уже было известно, отец мыслился и как глава семьи, и как собственно родитель. Поэтому антропологи отмечают, что в каких-то культурах тесные связи плотно переплетают родителей с их детьми, а в некоторых же с фигурой отца такого не происходит (Артёмова, 2009, с. 342), то есть значимость отца да и вообще его присутствие в структуре семьи варьируют от культуры к культуре (Collier, Rosaldo, Yanagisako, 1982, p. 73; Fox, 1967, p. 39).
В связи с этим фигура отца в «семье» древности выглядит более чем туманной, а не так, как видится многим антропологам, заявляющим, будто «семья» существовала от начала времён. Утверждая так, авторы не удосуживаются объяснить, что именно они понимают под семьёй, и роль мужчины в ней. А это моменты принципиальные, ведь обыватель, сталкиваясь с утверждением, будто институт семьи древний, как и сам человеческий род, автоматически представляет семью как привычную ему, состоящую из мужа, жены и их общих детей. Но это в корне не так.
В последующих главах будет показано, что у народов Западной Евразии (а может, и всей Евразии) открытие биологического отцовства по историческим меркам, вероятно, случилось довольно недавно, и что рождение моногамии (сексуальной эксклюзивности) случилось ещё до того: то есть мужчина стал удерживать женщину рядом совсем не по причине своего возможного отцовства её детям, а по несколько иным причинам.
Что такое брак?
Ещё одна трудность возникает и с таким основанием семьи, как брак — потому что никто в реальности не знает, что это такое. Обыватель опять с лёгкостью скажет, что брак — это союз мужчины и женщины. Но что за союз? В чём его специфические свойства? Что характерно именно для него и отличает от всех других союзов?
Тему брака из чувства любви будем считать закрытой, так как выше было подробно показано, что исторически любовь с браком никак не соотносились, это новомодное веяние, которому всего около ста лет (а местами и того меньше). Сколько бы определений браку ни давали антропологи и социологи, а всегда остаются неучтённые нюансы. Важный момент в том, что термином «брак» часто описываются весьма разные явления, схожие внешне, но различные содержанием. К примеру, исследователи всегда отмечали разницу между браком имущих классов (знать, аристократия) и неимущих (крестьяне). Если брак для крестьян — это способ выживания путём объединения мужчины и женщины для ведения хозяйственной деятельности с возможным производством новой рабочей силы (детей), то брак для знати — это уже либо способ заключения выгодного политического и экономического союза между двумя знатными семьями, либо же способ организовать преемственность власти и движение имущества дальше через своих детей (Гис, Гис, с. 46). Историки даже говорят, что в Средневековье
"браком сочетались не люди, а маноры и фьефы" — то есть разные землевладения (Рябова, 1999, с. 114; Гис, Гис, с. 311). Иначе говоря, для неимущих брак — способ выживания, а для имущих — реализация властных амбиций и предписаний. И там, и там это "союз мужчины и женщины", но с очень разными целями. Можно ли в таком случае называть эти "союзы мужчины и женщины" одним термином ("брак"), если за ними кроется такое разное содержание? В данном случае это больше похоже на омонимы.
А если к этим двум моделям «брака» присовокупить и современную — брак по любви, — тогда мы получаем уже и вовсе три разных явления под одной обёрткой. Это как если забитый молотком гвоздь и забитый молотком до смерти человек мы называли бы "плотницким делом" — насколько это корректно?
Тот факт, что термином «брак» мы описываем в корне разные явления, подтверждается и тем, что в древности (и у современных охотников-собирателей) брак выступал для сплочения разных групп людей, был средством расширения их социальных связей (Рулан, с. 95; Эриксен, с. 146), почему выбор супругов и производился старшими родственниками, а не самими супругами. Можно сказать, в древности брак заключался не столько между супругами, сколько между их общинами, родами (Ольдерогге, 1983, с. 15); это именно общины соединялись через своих супругов, супруги были лишь соприкасающимися органами своих родов. Именно поэтому ни о какой супружеской любви и речи не было — это было неуместным, необязательным.
В результате брака между двумя группами людей возникает свойство́ (с ударением на последнюю букву) — то есть возникает отношение одной группы к другой как
к своим (Адоньева, Олсон, 2016, с. 126), отсюда такие термины свойства, как "свояк" и "свояченица". В разных языках отслеживается древняя связь некоторых терминов свойства ("свекровь", "шурин", "сноха") с понятиями "шить", "вязать", "связывать" (Трубачёв, 1959, с. 89), что отражает принцип объединения групп на основании брака их членов. В этом плане свойство́ ничем не отличается от разнообразных видов родства, как было показано выше, и брак выступает лишь ритуалом оформления такой связи — даже в представлении обывателя, родня со стороны мужа и родня со стороны жены считаются отныне родственниками ("породнились"), что вновь свидетельствует о расширенном толковании родства. Бывает, даже в научных круга так и говорят: свойственное или брачное родство (Трубачёв, с. 88).
Но брачная функция объединения групп осталась далеко в прошлом, и в современных условиях в результате индустриализации, урбанизации и сопутствующего развала широких родственных групп супруги, освободившиеся от влияния родни, стали вольны вступать в брак самостоятельно, по своим предпочтениям. Тем самым отныне брак стал касаться только двоих, а не всех их родственников. Это настолько коренная трансформация социальных отношений, что теперь мы называем словом «брак» совсем не то, что называли им наши предки.
В условиях современности регистрация брака и вовсе превратилась в регулирование лишь имущественных отношений между мужчиной и женщиной (увы и ах тем, кто считает регистрацию брака как-то связанной с любовью — многие не в курсе, но любить можно и без регистрации).
Есть и другой взгляд на явление брака — это оформление права собственности на сексуальность супруга (Коллинз, 2004, с. 532; Гидденс, 2005, с. 156). То есть брак фиксирует обязательство супругов заниматься сексом исключительно с одним человеком, и потому сексуальность выступает основной характеристикой брака (об этом задумывались уже в Средневековье — см. Гис, Гис, с. 170), регулировать которую он и призван. Как правило, речь идёт о праве собственности мужчины на женскую сексуальность, ведь в большинстве культур выход мужской сексуальности за рамки брака не осуждается либо осуждается слабо, и главный надзор осуществляется именно за сексуальностью женщины. Такой взгляд на брак оказывается более объёмным (он охватывает как имущие, так и неимущие слои) и потому более удобным, но, как будет показано дальше, и у него есть неучтённые нюансы.
Чтобы увидеть все трудности с сущностью брака, можно снова поиграть в вариации. Назовём ли мы браком союз мужчины и женщины, не ведущих общее хозяйство? Каждый зарабатывает сам, даже живёт в своей квартире, но при этом они регулярно проводят время вместе. Допустим, у них есть ребёнок или же нет. А если допустим, что по взаимному согласию они и сексом занимаются с разнообразными партнёрами? Или же они совсем не занимаются сексом (асексуалы, или ещё какая причина), тогда это брак?
Всё это не просто шутливые головоломки, а реальные вопросы о туманной сущности брака. В связи со всеми указанными тонкостями часть исследователей справедливо критикует понятие брака за невозможность создать универсальный список его критериев, ведь
"связь между мужчиной и женщиной наполняется таким разным смыслом, что нельзя обозначать её везде одним и тем же термином" (Эриксен, с. 152). Поэтому что такое брак? Наука не знает.
В главе "Рождение моногамной идеологии" будет предложено новое определение брака с учётом тех его сторон, которые в антропологии редко учитываются.
Семья как симулякр
Если суммировать изложенное, то при всей кажущейся очевидности мы не знаем, что такое брак и что такое родство, но при этом оба эти туманные явления считаются главными фундаментами «семьи». Тогда резонный вопрос: что же такое «семья», если мы не можем дать определение даже её основаниям?
В действительности, похоже, что всякие формы объединения людей в целом являются умозрительными конструкциями — это касается не только семьи. В последнее время всё активнее дискуссии об адекватности таких понятий, как "община", "племя" или «род» — что кроется за ними? И кроется ли вообще?
Некогда излюбленная в трудах философов тема крестьянской общины современными историками в целом ставится под сомнение — и не только из-за того, что исторически такая община возникает совсем не тогда и не так, как мыслилось философам (см. Алаев, 2014, с. 61), но и из-за того, что критерии крестьянской общины также невыводимы, нечётки, и часто этим термином описывают довольно разные объединения людей. Потому историки задаются вопросом, допустимо ли называть одним словом ("община") совершенно разные по функциям институты (Алаев, 2016, с. 451)? И сами же отвечают: нет, недопустимо (Пенской, 2018, с. 38). Но бедность профессионального словаря историков оказывается загвоздкой в этой проблеме. Явления необходимо чётко очерчивать, чтобы быть уверенным, что они вообще существуют, и речь не идёт о какой-то туманной химере. Как говорят этнографы,
"чем лучше словарь, тем лучше этнография" (цит. по Клейн, 2014, с. 549).
Возникает резонный вопрос: а существует ли явление, раз мы не можем дать ему чёткого определения?
Как известно, неназванное — не существует. Но ровно в противовес этому, как отмечал Хёйзинга, идее достаточно получить имя, чтобы она стала истинной (Гуревич, Бессмертный, 1982, с. 30). Человек часто ошибается, будто думает о каком-либо явлении, — в реальности он думает о слове, которое якобы это явление фиксирует. Но при этом никакого явления в действительности может и не быть. Просто есть слово.
В философии хорошо известно, что когда мы оказываемся не в состоянии постичь какое-то явление или продемонстрировать его наличие, мы придумываем ему название, и уже само это название (слово) оказывается для нас неопровержимым аргументом в пользу существования явления (Derrida, 1986. р. 9 — цит. по Ушакин, с. 198). Слово должно внушить, что за ним что-то есть (Бурдьё, 1993, с. 265; Михайлов, 2015, с. 27), оно призвано
"спасти явление" (Андерсон, 2016, с. 44). Такие слова, за которыми в реальности ничего не стоит, принято называть псевдопонятиями (Соболев, 2018) или же псевдоименами, и, как отмечали философы, они очень опасны, так как
"способствуют демагогическому злоупотреблению языком" (Фреге, 1977, с. 369). Что немаловажно, в условиях современности подобные «псевдоимена» активно используются разными общественными силами для дисциплинирования населения и пропаганды нужных им идей (Маслов, 2019, с. 327).
Явление "псевдоимён" совпадает с понятием симулякра, разработанной французскими философами XX века (Бодрийяр, Делёз). Симулякр — это форма без содержания, знак без означаемого или, лучше, образ отсутствующей действительности, который
"тем не менее встраивается в структуру культуры и начинает оказывать определяющее воздействие на многие процессы функционирования культуры и общества" (Сухович, 2013, с. 3).
Социологи давно озвучили мысль, что многие традиционные понятия не отражают адекватно феномены действительности, а являются результатом утвердившихся общественных представлений об этих социальных явлениях. Что они сконструированы человеческим воображением, весьма далеким от действительности, то есть эти понятия фиктивны (Клейн, 2014, с. 611). Долгое время в этнографии широко использовался термин «племя», но уже к концу XX века учёные отказались от него, потому что (как в случае и с "общиной") его критерии оказались слишком нечёткими, чтобы можно было настаивать на существовании такого объекта в реальности. В итоге ситуация такая, что на данный момент можно считать почти упразднёнными категории «общины», "племени" и даже «рода». Это может удивить обывателя, но в науке это так — эти термины слишком нечётки, чтобы отображать какую-то реальную действительность, какие-то стабильные формы социальных организаций.
"На месте рода, племени, общины в популяциях охотников и собирателей существовали какие-то объединения людей, но более расплывчатые, рыхлые, непостоянные, по разрозненным критериям, диффузные и текучие" (Клейн, с. 622).
Учитывая всё это, очень удивительно, что в самой захватывающей книге по данной теме (Артёмова, 2009), где показана неадекватность таких привычных терминов, как "община", "племя" и "род", неожиданным образом под этим же углом не рассматривается вопрос семьи. О. Ю. Артёмова упраздняет первые три категории и провозглашает, что главной всегда была "семья" — но при этом не удосуживается распространить свой анализ и на неё. Что такое "семья"? Насколько адекватен этот термин? Обозначает ли он что-то реальное и чётко фиксируемое, и если да, то что именно? Автор этим вопросом не очень задаётся, хотя и отмечает, что в некоторых культурах в "семье" присутствует фигура отца, а в некоторых она необязательна (с. 342), а в другом месте прямо пишет, что
"брак у аборигенов во многих случаях был непродолжительным, и состав семей часто менялся" (с. 319). То есть "семья" регулярно меняется, но при этом остаётся "семьёй"… Интересная картина.
В такой момент сложно отделаться от мысли, что "семья" — это воображаемая конструкция, призванная упорядочить в целом довольно хаотичную социальную реальность. Попытки описать разные формы объединения людей схожи с поисками формы воды. И в этом плане как раз приходят на помощь "псевдоимена" — они создают стойкую иллюзию, что какая-то форма точно есть. Прибегание к самому слову "семья" будто уверяет нас, что что-то там точно имеется, а что именно — уже другой вопрос. Так рождается симулякр — "семья".
Это можно назвать "игрой в слова". Очень метко её описал нобелевский лауреат Ричард Фейнман на примере эпизода из детства, где отец учил его понимать суть явлений.
"Видишь ту птицу? — говорит он. — Это певчая птица Спенсера". (Я знал, что настоящего названия он не знает.) "Ну, так вот, по-итальянски это Чутто Лапиттида. По-португальски: Бом да Пейда. По-китайски: Чунь-лонь-та, а по-японски: Катано Текеда. Ты можешь знать название этой птицы на всех языках мира, но, когда ты закончишь перечислять эти названия, ты ничего не будешь знать о самой птице. Ты будешь знать лишь о людях, которые живут в разных местах, и о том, как они её называют. Поэтому давай посмотрим на эту птицу и на то, что она делает — вот что имеет значение". (Я очень рано усвоил разницу между тем, чтобы знать название чего-то, и знать это что-то)" (Фейнман, 2001).
В свете всего описанного кажется очень удачным название романа Дугласа Коупленда
"Нормальных семей не бывает" — и как раз потому, что мы не знаем, что такое семья, а поэтому вести речь о какой-то норме просто невозможно. "Семья" — слово, которым мы обозначаем условную конструкцию, меняющую свои формы и содержание из эпохи в эпоху. Не зря гуляет шутка, будто когда говорят о "нормальной семье", где-то в мире умирает один антрополог. Как правило, "нормальная семья" или "традиционная" — это лишь способ манипулирования массами со стороны политических режимов.
Так что же такое современная семья? Мы не знаем. Исследователи ломают над этим вопросом голову и даже пишут статьи с говорящими названиями ("А есть ли семья?" Collier, Rosaldo, Yanagisako, 1982), в которых приходят к выводу, что "семья" не является конкретной "вещью", которая удовлетворяет конкретные "потребности", а оказывается лишь своеобразной идеологической конструкцией, управляющей нашим целеполаганием и поведением (p. 79).
Если сравнивать современную семью с тем, что мы называем семьёй в прежние эпохи, можно видеть, как мало общего между этими объединениями людей — слишком уж основательно поменялась их структура и функции. Поэтому социологи предлагают давать современной семье наиболее расширенное определение: семья — это ячейка общества, состоящая из людей, которые поддерживают друг друга одним или несколькими способами, например социально, экономически или психологически (любовь, забота, привязанность), либо члены которой отождествляются друг с другом как поддерживающая ячейка (Томпсон, Пристли, 1998, с. 162). Причём экономическая поддержка не гарантирует поддержку психологическую, и наоборот. С другой стороны, справедливо отмечено, что
"предельное расширение какой-либо общей категории до полной её расплывчатости часто является последним этапом перед её отмиранием как таковой" (Артёмова, 2009, с. 296).
Означает ли это, что в будущем семья исчезнет? Нет, потому что мы не знаем, чему именно исчезать. Но к этому вопросу мы ещё вернёмся в заключении, а пока лишь зададимся вопросом: как исторически возникло то, что мы склонны называть "семьёй"? В современной антропологии широко представлено мнение, что семья начинается с брака: именно это объединение мужчины и женщины порождает потомство, то есть само родство начинается с брака. Но если брать наших ближайших родственников среди обезьян, то найти что-то схожее с привычным нам браком и семьёй у них невозможно. Так как же тогда у человека возникли представления о родстве и как возник брак — этот неопределяемый союз мужчины и женщины? И почему ничего такого нет у других обезьян, кроме Homo sapiens? Какие уникальные события послужили тому причиной?
Дальше будет предложена реконструкция тех событий с привлечением многочисленных данных современных антропологии и приматологии, причём таких данных, которые в классических (популярных) реконструкциях часто остаются проигнорированными, что непременно ведёт к неполноценной и неубедительной картине прошлого. Мы попробуем выяснить, почему однажды возникли гендер, мужское господство, брак и супружеская семья. И именно в таком порядке.
Но сначала необходимо затронуть тему, без которой раскрытие этих вопросов невозможно: это тема женской сексуальности. Дело в том, что наиболее популярные гипотезы рождения брака и семьи делают акцент на сексуальности древнего человека. Одни такие гипотезы полагают, что сексуально гиперактивные мужчины постоянно искали контакта с сексуально умеренными женщинами, из-за чего между первыми случались стычки, что вело к разобщению группы — так древний человек приходит к моногамии, то есть своеобразный общественный договор, по которому каждому мужчине принадлежит одна женщина. Несколько иначе тему сексуальности используют в гипотезах, где древняя женщина вдруг стала нуждаться в мужской поддержке по уходу за потомством и для этого, ловко используя потребности сексуально гиперактивного мужчины, стала удерживать его рядом с собой, гарантируя ему (и только ему) регулярный секс.
В действительности же, как будет показано дальше, учёт массива данных приматологии, антропологии, физиологии и психологии даёт совсем другую картину: женская сексуальность у приматов (включая человека) никогда не была слабее мужской, но, судя по всему, даже сильнее. Поэтому значительная доля гипотез о рождении брака и семьи сразу оказывается неактуальной. Как увидим, сексуальность не только никогда не лежала в основе брака, но даже мешала ему — за что, в общем-то, человеческой культурой и была заклеймена (особенно сексуальность женская).
Глава 3. Миф женской сексуальности
Интересная выдалась неделя. Друг поделился сокрушительной новостью: впервые зарегистрировавшись в Tinder, он встретился с девушкой, которая сходу и прямо сказала, что он не годится. Не годится? Но для чего?
Для регулярных занятий сексом. Так прямо и сказала.
— Без обид, — улыбнулась девчонка, допивая кофе.
Мой друг сокрушался, повествуя об этом инциденте:
— Как так?! Неужто сейчас поколение такое пошло?! — И дальше удивлённое: — Неужто им только секс нужен?
Я смеялся и говорил, что именно сейчас всё встаёт на свои места. Всё именно так, как и должно быть.
Всего через несколько дней уже другой приятель делился личной трагедией: 17-летняя девчушка, очень ему нравившаяся и регулярно одаривавшая его вниманием, в какой-то момент прямо завела речь о сексе. И на его неожиданно смелое предложение провести время вместе легко ответила согласием.
— Как так? — сокрушался мой друг. — Неужели всё так просто сейчас?!
— Всё именно так, как и должно быть, — снова смеялся я.
Весь нюанс в том, что этим моим друзьям уже ближе к сорока. И они только сейчас начинают понимать, как всё обстоит на самом деле.
Предыстория всего этого давняя. Начну по порядку.
Когда в молодые годы я только начал активно встречаться с девчонками и завязывать с ними хорошие дружеские отношения, для меня оказалось удивительным слышать некоторые их признания. Главным откровением для меня стало, что они тоже хотят секса. Да, именно так: девчонки тоже хотят секса. Да порой так хотят, что, со слов некоторых,
"аж волком выть хочется и на стену лезть"
Тогда это действительно не укладывалось в моей голове: ведь я был выращен в культуре, где миллиардом косвенных путей утверждалось, что секса хотят мужчины, а женщины к нему в целом спокойны или даже вовсе «терпят» его. Только при таком раскладе ведь и можно было понять, почему именно женщины, а не мужчины, могут брать плату за секс. Помню, как ещё в юности мой старший брат (большой любимец женщин, кстати) возмущался по поводу этого вопроса, а для меня же ответ (в силу неопытности и наивности) был очевидным: потому что секса хотят только мужчины. Тогда это казалось логичным объяснением. Ведь вся наша культура была буквально напичкана указаниями на то, что мужчины одержимы сексом, только о нём и думают.
Но шли годы, я мужал, развивался и всё чаще сталкивался с тем, что девчонки сами увлекали меня к себе домой, чтобы "уложить на лопатки". И когда я отнекивался, используя разные отговорки (потому что в действительности мне просто не хотелось никакой активности в тот вечер), то меня проклинали так, будто я предал Родину. Доходило до того, что в безрезультатных попытках заманить меня в гости, девчонки обижались так сильно, что в итоге прекращали со мной общение. Тогда-то во мне и стали роиться сомнения в адекватности картины мира, которая нам транслируется с детства.
Ведь что нам было известно с самых ранних лет? Рыцари сражаются за внимание Дамы, участвуют в турнирах; офицеры и юнкера стреляются из-за женщин на дуэли, парни дерутся из-за девчонок во дворах, барсуки грызутся, олени бодаются и так далее. Но это всё литература и кино, а как же в жизни? В юности я не задавался этим вопросом. В детстве и юности для нас ведь есть только литература и кино, а жизни как таковой же пока очень мало.
К тому же с детства нас учили, что мальчик должен проявлять внимание к девочке, настойчивость, или, как это называлось, «завоёвывать» её. И тогда это казалось незыблемым порядком, как нечто само собой разумеющееся. Человек так устроен, что не знает никаких иных путей, кроме тех, которые ему транслирует культура — а культура транслировала лишь мужскую активность и женскую пассивность. Значит, всё это нужно было только мужчине, верно? Значит, все желания у него, так?
Это проникает в нашу психику безо всякой рефлексии (да и было бы что рефлексировать, когда тебе всего 15–17 лет, и на уме лишь Sony Playstation да Need for speed) и потому просто принималось как должное. Так я и рос, так и становился, зная, что именно я должен проявить внимание к понравившейся девочке, первый с ней заговорить, первый ей позвонить и всё такое…
Но мне повезло — у меня был старший брат. А был он ещё тем дамским любимчиком. Так вот он-то и делился со мной интересными нюансами. Из его рассказов мне и стало известно, что девчонки сражаются за парней порой похлеще, чем, казалось бы, должны парни друг с другом. Порой они даже таскали друг друга за волосы и расчерчивали лица соперниц ногтями. Но чаще просто распускали очерняющие соперниц слухи (так называемая вербальная агрессия). 16-летний я слушал всё это и воспринимал как что-то «неправильное». Это какие-то неправильные девчонки, которые дают неправильный мёд.
Но однажды я подрос, обзавёлся хорошей спортивной фигурой, сносной эрудицией, циничным юмором и понял, о чём говорил брат. Тогда я задумался: а как часто я реально наблюдал, чтобы парни состязались (дрались или ещё что) за конкретную особу? И я не вспомнил ни одного случая.
Вообще ни одного. Всё, что вспоминалось, шло из литературы и кино. В жизни я такого не видел. А
вот обратное — чтобы девчонки за парней — такое видел или же слышал. Тогда и стали закрадываться сомнения насчёт адекватности транслируемых культурой образов мужчины и женщины.
Когда позже, в силу всё расширяющейся сети дружеских контактов с женщинами, мне пришлось столкнуться с их откровениями, описанными выше, я понял, что реальность устроена совсем иначе, чем нам повествуют с детства. С ранних лет нам говорят откровенную неправду. Женщины хотят внимания и сексуальной близости — да ещё как хотят.
Я рос. И случилось так, что не просто рос, но и вдруг проявил интерес к наукам: сначала психология, потом антропология и чуть позже даже приматология, и эта область знаний привнесла ещё больше сомнений в классическую систему координат. В приматологии удивительным оказался тот давно известный учёным факт, что именно самки чаще инициируют секс, а не самцы.
Именно так — самки, а не самцы. Нередко доходит до того, что самцы отталкивают навязчивых самок. И тогда они спешат к другим самцам. Всё легко и просто.
Оказалось, что некоторые концепции, которые отстаивали даже весьма маститые антропологи (к примеру, легендарный Ю. И. Семёнов, автор известных в СССР
"Как возникло человечество" и
"Происхождение брака и семьи"), на деле имели мало общего с действительностью. Оказалось, что как у низших обезьян (мартышки или павианы), так и у высших (гориллы или шимпанзе) были очень редки агрессивные стычки между самцами из-за самок. Обратное было просто легендой (правда, легендой, которая печальным образом легла в основу сложных интеллектуальных построений на тему "зарождения праобщества человека"). В действительности наблюдения приматологов показывали, что самки спаривались почти с любым самцом, который реагировал на них положительно. Да порой не с одним самцом, а после него и со следующим, да и тоже не с одним. Целая вереница потенциальных "отцов". И никаких агрессивных стычек между самцами за "право обладания рецептивной самкой". Всё это оказалось домыслами некоторых антропологов.
1. Приматология о сексуальной активности самок
Маститый советский учёный, специалист по истории первобытного общества Ю. И. Семёнов, опираясь на труды британского зоолога Цукермана, с лёгкостью перенял его концепцию исключительно высокой сексуальности мужских особей у приматов, которые буквально силой овладевали самками и даже дрались друг с другом за обладание ими, и выстроил свою систему формирования общин первобытного человека. По построениям Семёнова, в определённый доисторический момент возникла необходимость укрепления общин, с целью чего и возникло табу на сексуальные отношения внутри группы, которые якобы только осложняли внутригрупповое взаимодействие, так как приводили к постоянным стычкам самцов из-за самок, так и возникла
экзогамия — необходимость искать сексуальные связи вне группы, в других группах доисторических людей. Но дело в том, что с развитием приматологии (науки о приматах) данная концепция всё больше опровергалась многочисленными наблюдениями за поведением обезьян не только в неволе, но и в естественных условиях.
Уже в 1970 году в невероятно подробной монографии
"Предыстория общества" Нина Александровна Тих на примере тщательного наблюдения за группами низших обезьян (павианов и мартышек) показала несостоятельность как старых (1932 года) наблюдений Цукермана, так и опирающихся на них построениях Ю. И. Семёнова. Отмечая противоречивость работы Цукермана, Н. А. Тих писала (1970, с. 43):
"Цукерман указывает, что самцы обращаются с самками, как с "неодушевлёнными предметами" и что самки совершенно пассивны в сексуальных взаимоотношениях. В то же время он правильно описывает факты постоянных и настойчивых подставлений самок, особенно в периоды набухания половой кожи. Поведение большинства одиночных самцов бабуинов указывает на их «равнодушие» к присутствию самок в колонии". "Если самцов много, то борьба идёт между ними; при наличии одного самца в большой группе самок объектом конкуренции является самец. Половая активность самок в поисках общения с самцом нисколько не уступает активности самцов" (с. 53).
"Борьба за сексуальное общение в стаде обезьян свойственна как самцам, так и самкам" (с. 94).
Чрезвычайная сексуальная активность самцов в ходе тщательных наблюдений не только была поставлена под сомнение, но и вовсе опровергнута. И мало того, было установлено обратное:
"Половая активность у самок выражена не менее, а в некоторых ситуациях и более ярко, чем у самцов. Она повышается в период менструального набухания у самки". Иными словами, в некоторые периоды самки в поисках сексуальной связи были активнее.
Интересно, что в случаях многолетнего содержания самцов и самок в разных вольерах они прибегали к сексу с особями своего же пола (то есть прибегали к гомосексуализму). При этом у самцов в условиях такой однополой изоляции наблюдались только единичные случаи гомосексуализма, но вот у самок же в отсутствие самцов такие случаи были весьма регулярны и закономерны. Наблюдения последующих десятилетий только подтвердили этот факт: чем меньше самцов в группе, тем активнее женский гомосексуализм (Бутовская, 2004, с. 278; Смолл, 2015, с. 255) и активнее вовлечение в секс неполовозрелых самцов-подростков (Wolfe, 1986). Вот так. Самки переносили сексуальное воздержание куда проблематичнее самцов.
В целом гомосексуальная активность обезьян за последние годы была широко изучена, и факт именно женского превосходства в этой сфере твёрдо установлен (Мастерс, Джонсон, Колодни, с. 603; Chapais, Mignault, 1991).
Приматологи указывают:
"В стаде с преобладающим количеством самок попытки их к общению с самцом выражаются в самых разнообразных формах. Каждая из самок с большей или меньшей степенью активности — в зависимости от своих индивидуальных особенностей и от своего физиологического состояния — «предлагает» самцу половое общение. Часто можно видеть нечто вроде «парада», когда самки проходят вереницей одна за другой мимо самца, задерживаясь около него на несколько секунд для подставления. Некоторых он пропускает мимо, до других дотрагивается рукой, одну задерживает около себя. Очень часто подставление бывает настойчивым и многократным". Ещё интереснее оказывается это наблюдение:
"Нередко соперничество между самками вызывает конфликты, доходящие до драк. Самка старается увести с собой самца от опасных соперниц" (Тих, 1970, с. 95).
Самки дерутся из-за самца, а не наоборот. Но совсем занятным выглядит следующее замечание:
"Если самец молод или слабосилен, то драки самок из-за него более ожесточённы, так как выбор самого самца при отсутствии у него физической силы играет второстепенную роль. Захватив самца, самка обычно таскала его за собой за хвост".
Было зафиксировано, как в группе из взрослых самок и самцов-подростков первые буквально терроризировали вторых, требуя совокуплений:
"То одна, то другая самка беспрерывно подставлялась «своему» подростку, вызывая его покрывание. Подростков часто утомляла слишком большая активность самок, они стремились к взаимным играм и прятались от самок за разные прикрытия". В свете наших культурных стереотипов это не может не вызвать улыбки, верно?
Но изучение физиологии и поведения обезьян в СССР продолжалось, и уже в 1977 году другая группа приматологов также указывала, что потребность в сексуальном контакте возникает скорее у самок, чем у самцов (Алексеева, 1977, с. 106). Эта особенность выявлена почти у всех видов обезьян. О сексуальном поведение ревунов (Alouatinae) приматолог Алексеева пишет (с. 134):
"самки ведут себя так же активно, как и у павианов, макаков, лангуров и пр. Они ищут общества самцов, подставляются по очереди разным самцам, пока не получат ответа". "Каждая самка в эструсе вступает в половые отношения не только с вожаком, но и с другими самцами стада или даже с самцами из «холостых» групп. Никаких конфликтов из-за половых отношений не возникает" (с. 135). То же самое свойственно и капуцинам:
"Приближение овуляции и возможности зачатия становится очевидным, так как самка в эструсе активно ищет объединения с самцом — подставляется ему, обыскивает его, снова подставляется, «жалуется» ему и требует покровительства"
Занятно, что и у обезьян игрунок (Callitrichidae), часто описываемых в литературе как сугубо моногамных (то есть формирующих стабильную «супружескую» пару), самки в сексуальном плане ведут себя очень активно:
"во время эструса могут беспрепятственно вступать в половые отношения" с другими самцами, при этом их исходный «моногамный» самец смотрит на это совершенно спокойно. Всё то же самое касается и зелёных мартышек:
"Самки держались отдельно от самцов. Только в период эструса они активно искали их общества" (с. 154).
Из-за вороха подобных наблюдений приматологи прямо предположили, что именно женские особи древних людей, как и самки наблюдаемых обезьян,
"оказывались более активными в поисках половых партнёров", а вот представления о безудержном сексуальном стремлении самцов обезьян и древнейших людей — просто наивное видение прошлого в свете мнимого настоящего (Алексеева, 1978, с. 34).
Важно заметить, что все приведённые по обезьянам данные ещё не касались карликовых шимпанзе бонобо, как сейчас мы знаем, особенно активных в сексуальном плане, по той причине, что в 1970-е данные о них только начинали привлекать внимание исследователей.
Ещё 15 лет спустя в совместной (и по-настоящему восхитительной) монографии Л. А. Файнберга и М. Л. Бутовской на анализе многочисленных зарубежных источников подтверждается, что у обезьян именно самкам принадлежит инициатива в деле сексуальных контактов (Файнберг, Бутовская, 1993). У мартышковых обезьян сексуальная активность самок достигает аж 80 % (Роуч, с. 309) и ровно столько же у человекообразных (Бутовская, 2004, с. 282).
Частота подставлений самки самцу и общая инициативность самки в период овуляции возрастают. Частота спариваний может достигать 50 в час. В это время самка стимулирует и возбуждает самца, подставляясь и притягивая его рукой или ногой, чмокая, касаясь рукой его пениса и мошонки. Наиболее разнообразные стратегии отмечены у шимпанзе, у которых самка может спариваться со многими самцами в течение одного дня (Файнберг, Бутовская, с. 103). Самки стараются избегать агрессивных самцов, а вот с миролюбивыми самцами сексуальные контакты инициируют очень активно (с. 117).
У тех видов приматов, у которых отсутствуют внешние признаки овуляции (то есть набухания половой кожи — у женщин именно так), инициаторами сексуальных контактов также выступают именно самки. Они
"начинают активно «заигрывать» с самцом, заглядывать в лицо, подставляясь, возбуждая его, касаясь его половых органов и вокализируя" (с. 107). В финале антропологи прямым текстом резюмируют (повторяя всё, что до них описывали 23 и 15 лет назад Н. А. Тих и Л. В. Алексеева):
"Детальный анализ поведения партнёров, проведённый для многих видов обезьян, свидетельствует, что выбор осуществляется в первую очередь самкой. Не самец, а самка чаще выступает инициатором контактов. Такой тип сексуальной инициации характерен, например, для павианов чакма, анубисов, макаков лапундеров, резусов, горилл, орангутанов, шимпанзе" (с. 92).
В свете описанных данных приматологии, умозрительные предположения некоторых антропологов о том, что именно самцы доисторического человека выступали в роли "сексуальных агрессоров" по отношению к самкам и даже устраивали кровопролитные стычки с конкурентами из своего же лагеря, выглядят откровенно несостоятельными и даже скорее антропоморфизмом. Описание сексуального поведения древнего человека как борьбы самца за самок действительно больше походит на то, как если бы авторы таких гипотез брали современные культурные предписания (именно предписания, а не описания, поскольку "сражения" мужчин за женщин наблюдаются главным образом на страницах романов да в кинематографе, нежели в реальной жизни) и некритично транслировали их в прошлое.
Позже аналогичные наблюдения появились и в западной приматологии. Было установлено, что у многих видов обезьян именно самки выступают инициаторами сексуальных связей. Самки по-разному пытаются побудить самца к спариванию: как отмечалось выше, это и прикосновения к его половым органам, причмокивания губами и размахивания хвостом у его лица. Особенно характерным средством побуждения выступал поворот к самцу задом (подставление) и дальнейшее похлопывание по земле. Впервые этот призыв самок был замечен ещё в 1940-е (Роуч, с. 314), но в целом данный факт был обойдён вниманием приматологов, движимых их собственным воспитанием и культурными предписаниями, поскольку им привычнее было думать, что именно самцы понуждают самок к спариванию. И уже гораздо позже приматолог Ким Уоллен вновь акцентировал внимание на этом призывном жесте самок макак резусов. Многочисленные наблюдения показывали, как самка поворачивалась к самцу спиной,
"припадала к земле и била по земле в ритме стаккато. Она постоянно делала это: у резусов это эквивалентно расстегиванию ремня у мужчин" (Бергнер, с. 59). В 1970-е годы Уоллен понял, что самки макак-резусов — агрессоры в сексе. Учёный обратил внимание, что при помещении макак в тесные клетки многим исследователям казалось, будто именно самец всегда выступает инициатором секса, но нюанс оказался в том, что в спаривании именно действия самца сильнее бросаются в глаза — "он толкает", тогда как самка лишь оказывалась распростёртой перед ним. Но стоило поместить обезьян в вольеры попросторнее, так наглядным становился факт, что именно самка сближается с самцом и «подбивает» его к спариванию — а дальше уже "самец толкает".
"Секс почти полностью зависел от поведения самки".
Наблюдая за обезьянами, Уоллен задавал себе вопрос: возможно, что сексуальное влечение у женщин действует подобным же образом? Не может ли быть так, что
"из-за социальных правил и требований женщины часто не делают ничего подобного и даже не признают интенсивность мотивации, которой подчиняются обезьяны?" И отвечал себе:
"Я уверен, что так и есть" (цит. по Бергнер, с. 61).
Вообще же, книга Дэниела Бергнера "Чего хотят женщины. Наука о природе женской сексуальности" оказалась приятным открытием, поскольку, совершенно случайно наткнувшись на неё, я обнаружил в ней высказанными многие тезисы, которые изначально планировал изложить насчёт женской сексуальности. Поэтому настоятельно рекомендую к прочтению эту его работу, где научный журналист проявил не только завидную наблюдательность, но и известную гражданскую смелость.
Изредка слышны доводы, будто спаривания обезьян вне овуляции (периода, когда организм наиболее готов к зачатию) — это исключительно плод принуждения со стороны самцов, но специальные эксперименты с изоляцией самок и самцов в смежных клетках, где самка была обучена нажатием рычага самостоятельно впускать самца для спаривания, также показали, что это происходит не только в период овуляции, но и во все фазы менструального цикла (Eaton, 1973; Keverne, 1976).
Надо заметить, что и по сей день часть обывателей склонна подчёркивать, что для обезьян, как и для всех прочих животных, характерен гон (или течка, эструс — так в зоологии называют сексуальную активность самок в период овуляции), тогда как у человека же всего этого нет, у женщин уже менструальный цикл, а не эстральный, и потому нельзя поведение самок обезьян проецировать на поведение женщин. Так вот это не так. Потому что у обезьян уже нет никакой течки (эструса). Если ещё 50 лет назад в приматологии было принято упоминать об эструсе обезьян (что можно видеть в приведённых выше записях советских приматологов), то уже в 1970-е было предложено отказаться от представлений о течке только в овуляцию (Loy, 1970) и расширить её аж до времени самой менструации, а ещё позднее, в 1980-е стало ясно, что никакого эструса у обезьян просто нет, а есть самый настоящий менструальный цикл, как и у женщин (см. Мартин, 2016). Так что в этом плане самки обезьян физиологически ничем от женщин не отличаются. Значит, никаких реальных препятствий для соотнесения сексуального поведения с другими обезьянами у нас нет.
2. Гормоны и сексуальность
Популярно мнение, будто гормон тестостерон является определяющим для сексуального влечения, и поскольку тестостерона у мужчин больше, значит, и влечение его сильнее. Но вопреки тиражируемым взглядам популярной психологии гормональная регуляция сексуального поведения не выглядит столь однозначной. Учёные отмечают, что у приматов
"непосредственная гормональная регуляция готовности к спариванию ослабилась, а более гибкая регуляция головным мозгом — усилилась" (Мартин, 2016; Мастерс, Джонсон, Колодни, с. 602).
Тестостерон вырабатывается не только у мужчин, но и у женщин, и у обоих полов он действительно связан с сексуальным влечением. Хоть в организме мужчины тестостерона производится в 10–15 раз больше, чем в организме женщины, но было бы ошибочным заключить, что поэтому женщины меньше заинтересованы в сексе, поскольку влияние на сексуальность оказывает не весь имеющийся в организме тестостерон, а лишь так называемый свободный тестостерон: к примеру, в организме мужчины из всего тестостерона около 98 % находится в связанном с белками состоянии, а свободным же (способным выступать в роли того самого активатора, возбудителя) оказывается лишь 2–3 % (Келли, с. 117; Кон, 2004, с. 125)
С другой стороны, картина усложняется и тем, что существуют данные (Bancroft, 1984; Sporer, 1991) о наличии у тестостерона своеобразного "порогового эффекта": сексуальное влечение обеспечивается при некотором минимально достаточном его уровне, а превышение же этого уровня уже не ведёт к переменам во влечении. Если это действительно так, то выводить разницу между женским и мужским сексуальным влечением из уровней тестостерона становится тем более невозможным.
По этим причинам часть исследователей склонны отрицать прямую зависимость между сексуальной возбудимостью и уровнем половых гормонов как у мужчин, так и у женщин (Alexander, Sherwin, 1991; Heiman et al., 1991), должны присутствовать какие-то дополнительные факторы, а не только нормальный уровень гормона (Bancroft, 2002, p. 17). Более того, на данный момент имеется уже немало исследований, где показано, что скорее поведение влияет на выработку тестостерона, а не наоборот (Goldey, van Anders, 2015). К примеру, уровень тестостерона достигает максимальных значений как раз
после секса, а не перед ним (Dabbs, Mohammed, 1992). Это характерно и для мужчин, и для женщин (Роуч, с. 240; van Anders et al., 2007).
У посетителей секс-клубов уровень тестостерона возрастает
после сеанса на 11 % у наблюдающих за сексом и аж на 72 % у непосредственных его участников (Escasa et al., 2011). Выработка тестостерона у мужчин имеет сезонную зависимость: минимальные уровни гормона приходятся на весну, а максимальные — на осень, но вот сексуальная же активность меняется с точностью до наоборот (Stanton et al., 2011), то есть половая активность никак прямо не связана с уровнем тестостерона (Arora et al., 2011). И по понижению уровня какого-либо гормона (включая тестостерон) невозможно однозначно предсказать, будет ли вслед за этим снижено и сексуальное влечение (Brotto et al., 2011).
Принято считать, что пробуждение сексуального интереса в подростковом возрасте связано именно с гормональными изменениями в организме, но сексологи отмечают, что в случае преждевременного полового созревания (к примеру, до 9 лет), никакого особого сексуального поведения у ребёнка не развивается (Мастерс, Джонсон, Колодни, с. 188), то есть чисто гормональной стимуляции в этом деле недостаточно. С другой стороны, даже дети 3–5 лет активно прикасаются к своим половым органам, всячески теребят их, поскольку это доставляет им удовольствие (там же, с. 197) — но для получения удовольствия такого рода никаких особых гормонов не надо, так ведь? Это просто приятно.
В свете всего этого формальные отсылки к разнице в уровнях тестостерона у мужчин и женщин никак не могут доказывать преобладание мужского влечения над женским.
3. Культура и месячные
Другой аспект женской сексуальности — это месячные (менструация). Может ли самка испытывать сексуальное желание в месячные, когда зачатие, казалось бы, наименее вероятно? Из классического подхода следует, что самка всех видов животных готова к спариванию только в овуляцию — в период, когда созревшая яйцеклетка выходит в маточные трубы, что и делает зачатие возможным. Следовательно, и потребность в соитии у самки
должна проявляться именно в овуляцию.
Вопреки этому взгляду, обезьяны способны спариваться не только в овуляцию, но и на протяжение всего месячного цикла. Да, многие десятилетия считалось, что спаривание обезьян, как и у прочих животных, строго приурочено к овуляции (в своих выступлениях поп-антрополог Станислав Дробышевский до сих пор транслирует этот устаревший тезис), но более поздние наблюдения показали, что это не так, и сексуальное поведение обезьян куда свободнее от диктата биологической целесообразности.
Даже лактирующие (кормящие) самки обезьян способны спариваться (Файнберг, Бутовская, с. 115), что просто немыслимо для всех других животных. Зоолог и антрополог Роберт Мартин пишет об этом:
"Совокупление на протяжении значительной части цикла широко распространено среди обезьян и почти уникально для обезьян и человека. Этот факт известен уже давно. При этом у людей эта способность выражена в максимальной степени: они могут заниматься сексом на протяжении всего менструального цикла. Но продлённый период спаривания в течение каждого цикла был, по-видимому, свойствен ещё общему предку всех обезьян и человека, жившему более 40 млн лет назад" (Мартин, 2016).
Вероятно, концепция спаривания обезьян преимущественно в овуляцию была обусловлена некорректной трактовкой набуханий половой кожи у некоторых видов: долгое время считалось, что покрасневшие и набухшие до невероятных размеров половые губы самки сигнализируют о наступлении овуляции. Но позже выяснилось, что всё сложнее, и набухания половой кожи могут не спадать даже неделями (Гудолл, 1992, с. 498; Смолл, 2015, с. 43), что совершенно немыслимо, если бы речь шла именно об овуляторной сигнализации, ведь овуляция длится лишь 1–5 дней. У шимпанзе отмечены случаи некоторого набухания даже ближе к менструации (Elder and Yerkes, 1936). У ближайших к человеку шимпанзе бонобо набухания половой кожи лишь в 50 % случаев совпадают с овуляцией (Douglas et al., 2016). И если обычно принято говорить, что у женщины овуляция скрыта, то у бонобо она также оказывается скрытой наполовину.
Иначе говоря, то, что принято называть овуляторными признаками, в действительности может таковым совсем и не быть. Даже у беременных самок случаются набухания половой кожи и держатся неделями, хотя никакая овуляция в это время уже невозможна (Гудолл, 1992, с. 498; Кузнецова, Сыренский, Гусакова, 2006, с. 25). Поэтому приматологи замечают: загадка не в том, почему у некоторых обезьян, включая человека, овуляторные признаки исчезли, а скорее в том, как и зачем они появились (Смолл, 2015, с. 55), ведь многие обезьяны прекрасно спариваются и без этих самых признаков. У широконосых обезьян Нового света (Центральная и Южная Америка) набуханий половой кожи нет совсем (с. 54).
К тому же расчёты некоторых исследователей допускают, что овуляторные признаки развились у шимпанзе уже после того, как их эволюционная линия разошлась с предками человека 7–5 млн. лет назад (Pagel, Meade, 2006). Если это так, то овуляция у предков человека попросту всегда была скрытой. Вместе с этим и известный в антропологии диспут о причинах "исчезновения овуляторных признаков у женщин" (см. Райан, Жета, с. 96), где авторы противоборствующих лагерей предлагают свои варианты "сексуальной стратегии самок", приведшей к утрате этих признаков, может представляться излишним.
С другой стороны, если когда-то овуляторная сигнализация у предков человека всё же была, то исчезнуть она могла совсем не из-за "новых сексуальных стратегий самок", а попросту из-за перехода к прямохождению около 5–4 млн. лет назад: набухания половой кожи у обезьян бывают очень внушительными — в них может содержаться около 1 литра жидкости (Burt, 1992), и поскольку даже четвероруким обезьянам эти набухания доставляют большие неудобства (Смолл, 2015, с. 55), то для прямоходящего человека они просто не представляются возможными (Pawlowski, 1999).
В общем, поскольку приматологи прошлого были убеждены, что половые набухания случаются именно и только в овуляцию, то и активизацию сексуальной активности самок также приписывали овуляции. Чего в действительности не было.
Вероятно, отсюда же растут ноги и у следующей традиции: в мире очень популярен взгляд, будто сексуальное желание женщины возрастает именно в овуляцию — особенно любят этот тезис приверженцы эволюционной психологии: кто не слышал, что в овуляцию женщины якобы склонны надевать более обтягивающую и провокационную одежду, что в овуляцию они предпочитают мужчин с более грубыми чертами лица, с более низкими голосами, и т. д.? Нюанс в том, что все исходные исследования не были подтверждены впоследствии (см. Соболев, 2020). Но, похоже, и с самой концепцией возрастающего в овуляцию сексуального желания тоже не всё так просто.
Известно, что вероятность секса в овуляцию никак не возрастает (Brewis & Meyer, 2005), а генитальная возбудимость женщин либо никак принципиально не отличается в разные фазы цикла (Slob et al., 1991), либо даже достигает пика как раз вне фазы овуляции (Schreiner-Engel et al., 1981; Кон, 2004, с. 146). Некоторые исследователи прямо заявляют:
"Часть женщин испытывает предсказуемый пик сексуального интереса близко к овуляции, однако эти женщины составляют меньшинство" (Bancroft, 2002, p. 18).
Не исключено, что устоявшийся в науке взгляд на специфику овуляции обусловлен биологизаторством: убеждённостью, что раз у животных в этот период случается гон (эструс, течка), то и у человека должно быть что-то близкое. Это и может заставлять исследователей обращать внимание только на случаи роста влечения в овуляцию, а не в другие фазы цикла. А возможно, дело ещё и в самой теме менструации, которая всегда была табуирована, постыдна, и потому ни учёным, ни даже самим женщинам не могло прийти в голову посмотреть на это явление под другим углом, увидеть в нём другие свойства. Неспроста одновременно со снятием покрова постыдности с темы месячных в минувшие десятилетия стало расти и число женщин, признающихся, что сексуальное желание у них особенно сильно в месячные — если в 1938 году только 2 % женщин признавались, что занимаются сексом в месячные, то в 1969-ом таковых было уже 75–90 % (Delaney, Lupton, Toth, 1988, p. 22).
В 1976-ом была написана, а в 1988-ом и дополнена, книга
"Проклятие: культурная история менструации" (Delaney, Lupton, Toth, 1988), где авторы (кстати, женщины) развивали тему усиленного влечения в месячные. Одно исследование дало цифру в 36 % женщин, прямо заявивших, что именно в менструацию их желание наиболее сильно (Silberman, 1950).
"Одна пациентка сообщила, что испытывала сексуальное желание только во время менструации, и однажды чувствовала себя настолько переполненной страстью, что, даже будучи очень застенчивой, прибегла к сексу с незнакомцем" (p. 260).
Но это исследование 1950-го года, а потому, возможно ли, что в последующие десятилетия женщин, готовых признать подобное, стало ещё больше? Одна моя знакомая признавалась, что при мысли о сексе в месячные её невольно передёргивает, то есть эта культурная установка даже сейчас может быть настолько сильной, что неудивительно ожидать, как немалая часть женщин может просто гнать такие желания из головы. Возможно, нечто близкое к этому было зафиксировано, когда группу женщин на протяжении трёх менструальных циклов завуалированным способом ежедневно просили оценить силу их влечения (Englander-Golden et al.,1980). Те женщины, которые отмечали самый пик влечения ближе к менструации, впоследствии, при ретроспективном опросе, утверждали, что в эти дни их влечение было как раз самым слабым. Авторы исследования объясняют такое расхождение влиянием именно культурных норм.
Мысль о максимальном возбуждении женщины в менструацию закреплена в поверьях некоторых традиционных народов. Так, например, считает народ нгулу из Танзании, но, что интересно,
"именно по этой причине мужчины должны избегать её" (Beidelman, 1964). Как тут не прийти в голову туманному допущению: а не повышенной ли сексуальной активности женщин в менструацию все мировые культуры исторически обязаны табуированию месячных? Не являлось ли табу месячных (признание женщины «нечистой» в этот период и даже вменение ей обязанности находиться в изоляции от общества) в первую очередь табу женской сексуальности вообще? Ведь и то, и другое явления одинаково были "под запретом" у большинства известных обществ (Панов, 2017, с. 245). Мысль интересная, но вряд ли исчерпывающая, и дальше мы это обсудим подробнее.
Чем же можно объяснить усиление женского влечения именно в менструацию? Особенно учитывая отсутствие его биологической целесообразности (зачатие невозможно). Может быть, это связано с тем, что при менструации приток крови к органам таза особенно силён, что повышает их мышечное напряжение и сексуальную возбудимость, а порой и болевые ощущения. При занятии сексом же выделяется ряд гормонов, снижающих болевую чувствительность (эндорфины) или же тонизирующих гладкую мускулатуру матки (окситоцин).
"Когда половое возбуждение достигает своего пика, происходит выброс окситоцина. Этот выброс, видимо, способствует мышечным сокращениям тазового дна" (Робертс, 2014). В подтверждение этого зафиксирована прямая связь между обильностью менструальных кровотечений и занятиями сексом в этот период (Cutler, Friedmann, McCoy, 1996). Не случайно окситоцин применяют в гинекологии для остановки маточных кровотечений. То есть секс может быть просто средством сбрасывания скопившегося в области таза напряжения.
Интересно, что Мастерс и Джонсон даже изучали мастурбацию как средство борьбы с болезненными ощущениями при месячных (дисменорея) (Роуч, с. 116) и в результате пришли к выводу, что оргазм действительно способствует ослаблению болей (Мастерс, Джонсон, Колодни, с. 85). Исследования показывают, что и у обезьян примерно за день до менструации возникает второй пик сексуальной активности, но он сильно варьирует в зависимости от конкретной особи (Keverne, 1976, p. 162; Loy, 1970). Если обилие менструальных выделений и сила сексуального желания прямо связаны, то у обезьян эти пики могут быть гораздо слабее женщин человека, так как эти выделения у обезьян так малы, что
"неопытным глазом этого можно не заметить" (Кузнецова, Сыренский, Гусакова, 2006, с. 23).
Таким образом, данные приматологии и сексологии рисуют картину, согласно которой сексуальные контакты преимущественно инициируют самки, и периоды их сексуальной активности далёко не ограничены только периодом овуляции, но и, вероятно, связаны с месячными.
Немного личного опыта
Лично для меня поводом обратить внимание на этот нюанс стали несколько случаев в бесшабашные 25 лет. Помню, тогда на первом же свидании в ресторане девочка вдруг начала активно сближаться со мной и прикасаться, класть свою руку поверх моей, прижиматься. Всё это как бы ненавязчиво и кокетливо, насколько возможно. Она была так легка в общении, что мы очень скоро поехали к ней. Конфуз случился буквально после первой же попытки соития — жёлтый диван вдруг сделался красным… Я мало смутился и только пошутил, что убийца не я, а садовник.
Но факт оставался фактом: девчонка заманила к себе в самый разгул месячных. С точки зрения биологизаторской концепции, это неожиданно, ведь шанс зачатия в такой период минимален. Но дело в том, что такой прыти и настойчивости я никогда не встречал прежде. А значит, было над чем задуматься. И я задумался, ведь именно тогда я уже интересовался феноменом полицикличности размножения у приматов.
К слову сказать, именно эта девчонка впоследствии смеялась над тем, что я увлекаюсь приматологией, спрашивая, зачем это мне, и не понимая, что человек примат и есть, а я же в тот момент как раз занимался приматологией "в полевых условиях".
Позже был эпизод с другой барышней, которая в начавшиеся месячные (
"У меня гости", смущённо сказала она), завалила меня на кровать, предусмотрительно застеленную широким лоскутом полиэтилена. Но с исключительно осознанной вербальной декларацией этого эволюционного бардака я столкнулся чуть позже в лице ещё одной девчонки, которая прямо заявила:
"У меня в месячные такой недо** случается, что просто жуть"…(здесь нецензурное выражение острой нехватки соития — число звёздочек равно числу пропущенных букв).
Я ответил, что заниматься этим в месячные — весьма проблематично. Она засмеялась. А уже позже, из дома, прислала картинку с путешественником Беаром Гриллсом, где тот среди снегов с окровавленным лицом (только что ел сырое сердце оленя), а внизу надпись —
"A real man loves his woman every day of the month" ("Настоящий мужчина любит свою женщину каждый день месяца"). Смеялся я несколько дней.
Вот тогда я плотно призадумался: а причём здесь овуляция? И уже после всех "полевых изысканий" мне стали встречаться материалы на тему усиления полового влечения женщины именно в месячные или в прилегающие периоды (прямо перед ними или же сразу после них). Сначала было короткое замечание в брошюре известного сексолога Дмитрия Исаева "Сексуальная привлекательность глазами мужчины и женщины", где неожиданно обозначалось, что максимальное половое влечение у 74 % женщин случалось непосредственно перед или именно в менструацию (2003, с. 45). В овуляцию же секса желали всего 14 % женщин. Этому вторило и давнее исследование, в котором пик тестостероновой выработки у женщины был выявлен как раз в овуляцию, а пики сексуального влечения — вне овуляции (Bancroft et al., 1983).
Эволюция, ты сошла с ума.
4. Репрессированная женская сексуальность
Известно, что женская сексуальность осуждаема и наказуема почти во всех культурах, на ней лежит такое мощное табу, что можно видеть в этом даже некую мировую универсалию: требование сохранять девственность до брака в части культур, более суровое наказание именно за женскую супружескую измену, традиция "женского обрезания" (клитородэктомия — отсечение клитора; или отсечение половых губ) у некоторых народов Африки и Азии, осуждение широких сексуальных связей женщины даже в культурах Запада и т. д.
Среди этнографов распространён взгляд, будто клитородэктомия — это древний обряд по устранению мужского начала у женщины: клитор похож на маленький пенис, а раз так, то у женщины его быть не должно (Абрамян, 1991; Байбурин, 1993, с. 63). Правда, если спросить о целях этой операции самих аборигенов, то можно услышать иное:
"Благодаря этому наши жёны будут нам верны", говорят в кенийском племени самбуру (Бергнер, с. 77). Впрочем, как покажу в следующих главах, оба эти объяснения не противоречат друг другу, а вполне даже дополняют.
Удивительным будет узнать, что удаление женского клитора практиковалась в 1860-е даже в Великобритании и в США, где считалось, что это убережёт женщину от истерии, эпилепсии и идиотии да и в целом укрепит её здоровье (Роуч, с. 92). Даже в XX веке, когда пионеры сексологии обнаружили, что именно клитор является главным органом женской сексуальности, научное сообщество стало игнорировать этот факт и даже отрицать, а в новых брачных руководствах упоминания о клиторе старались всячески сократить (там же, с. 87). Будто бы цивилизованный мир пытался всеми правдами и неправдами ограничить женскую сексуальность.
"Почти во всех обществах существует так называемый двойной стандарт — разные нормы сексуального поведения для мужчин и для женщин, предусматривающие гораздо более строгие ограничения женской сексуальности, нежели мужской. В большинстве первобытных обществ право проявления инициативы, ухаживания, выбора партнера и определения ритма половой жизни в браке принадлежало мужчине. В отношении добрачных и внебрачных связей половая мораль, как правило, снисходительнее к мужчинам" (Кон, 2004, с. 83).
В то же время,
"в тех сообществах, где нет двойного стандарта в сексуальных вопросах, где допускаются множественные связи, женщины пользуются случаем так же охотно, как и мужчины" (Ford, Beach, 1952, p. 118). Об этом же говорили исследователи славянской истории, подчёркивая, что до принятия христианства у славян царили значительные половые свободы, в разных регионах сохранившиеся вплоть до конца XIX века в виде оргиастических игрищ, и характерно то, что остатки этих древних половых свобод сохранялись в обществе главным образом "
благодаря усилиям женщин" (Шашков, 1879, с. 2), так как этими свободами
"пользовались в особенности девушки" (с. 5). Аналогичную картину описывали антропологи среди австралийских аборигенов, где в дни особых праздников царит кратковременная сексуальная свобода, особенно охотно которой пользуются именно женщины, которые за ночь могут заниматься сексом с несколькими мужчинами (Berndt, Berndt, 1951, p. 47).
"Самые авантюрные способны за вечер затянуть троих или четверых мужчин, и даже больше" (p. 143).
"Молодые девушки отдаются с явным наслаждением, в то время как мужчины, которым они уделяют своё внимание, обычно ведут себя застенчиво" (p. 142).
Поэтому не удивительно, что наличие во многих культурах "двойного стандарта" (запрета женской сексуальности и одобрения сексуальности мужской) одновременно сопровождается и мифами о повышенной сексуальной активности женщины, о её всепоглощающем и ненасытном желании. В мифологии некоторых племён
"животная природа отождествляется с сексуальностью, и женщины были первыми, кто познал её привлекательность. Мужчины, напротив, не интересовались этим до тех пор, пока не увидели своих потенциальных супруг" (Панов, 2017, с. 287). Но мифы не только приписывают сексуальность главным образом женщинам, а вместе с тем и указывают на её угрожающий характер. "
Женское начало вообще и его сексуальная сторона, в частности, ассоциируются с угрозой" (там же). Языки некоторых народов относят женщин к той же группе категорий, что огонь и другие
"опасные вещи" (Лакофф, 2004, с. 130) — и при этом женщина оказывается центральным звеном этой группы (с. 140).
"Женщина это разрушительница. Она разрушает всё", объясняют аборигены такое положение вещей.
Проще говоря, некоторые народы откровенно ставят знак равенства между женщиной, сексуальностью и опасностью (Дуглас, 2000, с. 218). Широко распространены поверья о негативном воздействии представителей одного пола на другой, но в основном опасность угрожает именно мужчине (там же, с. 25). В мифах женские половые органы символизируют не только плодородие, но и тёмное начало, таящее для мужчины опасность и угрозу смерти. Иногда его заменяет какое-то ужасное чудовище. У некоторых народов существуют легенды о живущих во влагалище змеях. Мифы говорят, что в половом акте влагалище "съедает" мужской член (Кон, 2004, с. 73). У некоторых африканцев даже в XX веке вагину называли по-разному в зависимости от возраста хозяйки: у маленькой девочки это "ротик", у подростка это уже "змея", а у взрослой женщины (после инициации) — "ловушка" (Андреев, 2008, с. 104). Как тут не вспомнить и библейского змея, побудившего Еву соблазнить Адама на недоброе дело, да и греческий миф о первой женщине — Пандоре с её легендарным ящиком, полным невзгод.
Даже древнегреческая поэтесса Сапфо отождествляла сексуальное влечение со змеем. Ей принадлежат строки:
"Эрос вновь меня мучит истомчивый — горько-сладостный, необоримый змей". То есть отождествление сексуальности со змеем прослеживалось во многих человеческих культурах (как увидим дальше, так обстояло и в средневековом христианстве).
Исследователи фольклора давно установили, что сказки и мифы разных народов отражают содержание древних (6–12 тысяч лет назад) ритуалов инициации, обрядовой дефлорации и брака (Кузьменко, 2014, с. 19). При этом, удивительно, но и образ змея возникает в этой же сфере. Опасный змей присутствует в мифологии почти всех континентов (Васильев и др., 2015, с. 365), но при этом он —
"одна из наиболее сложных и неразгаданных фигур мирового фольклора и мировой религии" (Пропп, 1998, с. 299). Анализ мировых мифов показывает, что змей непременно связан с женщиной — он её похищает (с. 301). После этого змей, овладевший женщиной, стремится проглотить мужчину — героя сказки (с. 302), зачастую при этом змей вдруг обретает женские черты (с. 303). Спасаясь от змея, герой скармливает ему немало попавшейся под руку живности — коней, птиц, собак и даже своих товарищей, но змей остаётся ненасытен (с. 303) (не отсыл ли это к ненасытной женской сексуальности?). Исследователи мировых сказаний пишут, что мотив змееборства возник из мотива поглощения и наслоился на него, поэтому наиболее архаической формой змея является змей-поглотитель (с. 307).
Фольклористы указывают:
"как общую картину имеем бессилие жениха, демоническую силу женщины". Сказки традиционных народов Северной Америки и Сибири подсказывают, что опасность эта —
"чисто сексуального характера. Женщина имеет в промежности зубы" (с. 403). Для ликвидации опасности герои часто используют камень — они вводят его в женщину, и так все её лишние зубы ломаются. Женщина обезврежена (с. 404).
"Власть женщины основывается на сексуальном начале. Этой сексуальностью она и сильна, и опасна" (с. 407).
У некоторых племён специальные хижины для обрезания юношей строились в форме змея (с. 308) — то есть вновь аналогия с влагалищем-змеем, которое должно откусить мужское достоинство или поглотить мужчину целиком (Берёзкин, 1991, с. 192).
Конечно, возникает вопрос, как женское влагалище в народных представлениях обрело зубы и стало ассоциироваться со змеем? Сначала надо отметить, что первостепенная угроза мужчине при совокуплении с женщиной у многих традиционных народов связана именно с лишением её девственности (Семёнов, 2002, с. 614), что зачастую обрастает настоящими ритуалами (то есть не потому, что девственность священна, а потому что дефлорация опасна). Но что происходит в момент дефлорации? Разрыв девственной плевы и выделение крови. Не этот ли момент пугал древнего человека? Войдя в женщину и увидев кровь, которая осталась и на нём, первым делом он мог думать, что нечто его там укусило. Поэтому-то в ритуалах лишения девственности часто используются различные искусственные предметы или даже посторонние
люди (из соседних племён или же шаман, который, считалось, мог совладать со змеем). Эта гипотеза подтверждалась в известном средневековом трактате о дальних странах Востока ("Приключения Сэра Джона Мандевиля", XIV в.) показаниями самих туземцев. Путешественник писал о необычной манере лишения девственности:
"Я спросил у них, почему они соблюдают такой обычай: и они ответили мне, что в старину в той стране некоторые мужчины умирали после того, как соединялись с девственницами, потому что у тех внутри тел обитали змеи, и они кусали мужчин за детородный орган, когда тот проникал внутрь, так погибло много мужчин, и с тех пор укоренился обычай вначале давать другим испытать этот неведомый путь, прежде чем самим браться за дело" (цит. по Бернстайн, 2014).
Но потом выяснялось, что змей не побеждён полностью. Повторные его "нападения" могли происходить и в моменты секса в преддверии месячных — у женщины будто снова отрастали зубы в неположенном месте. Но теперь уже камнем или бамбуковым ножом было не обойтись, ведь момент этот оказывался неожиданным. Дефлорация — это предсказуемый укус змеи, а менструация — непредсказуемый. Оттого и особая опасность менструации.
Что важно, анализ образа змея в мировых мифах указывает, что змей прежде всего и всегда — существо многоголовое (от 3 до 12).
"Это — основная, постоянная, непременная черта его" (Пропп, 1998, с. 299). Многоголовость змея может быть указанием именно на повторяющиеся месячные женщины. Люди могли приходить к выводу, что либо женщина содержит одну многоголовую змею, либо же она оказывалась вместилищем целого полчища змей. И всё это несло мужчине угрозу. Знание о том, что змеи часто живут в норах, под землёй, заодно могло положить представление о том, что женщина как-то связана с подземной жизнью (хтонический мотив), если змеи жили и в ней (Берёзкин, 1991, с. 191).
Кроме этого, в мифах некоторых народов женщина связана с луной, луна её символизирует или даже является предводительницей женщин (Берёзкин, 1991, с. 190). Возможно, в древности люди могли проводить параллели между женщиной и луной по причине сходства их месячных циклов — 28 дней (Руш, 2017, с. 571). Связь луны с женскими кровотечениями проявлялась и в том, что в мифах именно луна-женщина вызывает ежемесячные приливы и отливы, — то есть снова параллели с менструацией. У некоторых африканцев выражение "луна мучит меня" означает менструальные судороги (Power, Watts, 1997). Исследователи прямо отмечают, что в мифах существует значительное сходство между луной и червеобразным подземным чудовищем женского пола (Берёзкин, 1991, с. 191).
При такой интерпретации женских кровотечений панический страх некоторых племён перед женской сексуальностью очень даже понятен. Но если допустить, как было указано выше, что один из пиков женского желания приходится как раз на преддверие месячных или на сами месячные, то становится понятной причина особых мер по табуированию менструации у многих народов мира. В этот период женщину изолируют от общества, запрещая выходить из дома, прикасаться к еде, инструментам и к другим людям, ей положено ходить особыми путями, избегая встреч с кем-либо или смотреть другим в глаза. У некоторых народов на период менструации женщину даже отселяют в особые менструальные избы, где она томится несколько дней в весьма неуютном положении.
Распространённость менструального табу фактически по всему миру говорит, что, скорее всего, возникло оно ещё до расселения первых людей современного типа по планете, до того, как они покинули Африку 200–100 тысяч лет назад, но в разных регионах эта тенденция проявляется по-разному: где сильнее, а где слабее. Точно так же по-разному выражена легенда о "зубастом лоне" или змеях, живущих в женщине (Берёзкин, 2013, с. 141). Как бы то ни было, а универсальность образа змея в мифах как результат первобытного осмысления женских кровотечений в целом выглядит куда адекватнее, чем концепция инопланетной расы рептилоидов, посещавших Землю в древности. Дальше будет показано, что представление о змеях в женщине может быть лишь одной из причин всемирного табуирования месячных, вероятно, даже не главной.
Представления о большой сексуальности женщин характерны не только для культур охотников-собирателей по всему миру, но и для более технологически развитых цивилизаций древности. Так, в древнекитайских текстах
"женщина предстаёт как хранительница тайн секса, владеющая всей совокупностью сексуальных знаний. Во всех текстах, где говорится о сексуальных отношениях, женщина выступает в роли искусной наставницы, а мужчина — в роли невежественного ученика" (ван Гулик, 2000, с. 19). В тантристских текстах активной творческой силой также представляется не мужчина, а женщина (Жуковская, 1977, с. 23). Как античные, так и средневековые авторы
"чётко отмечали силу женского желания, его неистощимое возобновление, его пики, каковые суть выражение похоти и угроза для души" (Фоссье, 2010, с. 85). У древних германцев сексуальное влечение, похоть, обозначалось словом «libido», и при этом оно всегда употреблялось только по отношению к женщинам (Руш, 2017, с. 571).
Славянская традиция зафиксировала сходное понимание женщины. В сказке "Чёрт и баба" сообщается:
"Чёрт дерётся с бабой. На его вопрос, где заключена её сила, она задирает подол и показывает своё «зелье». Чёрт туда и прячется. С тех пор люди пытаются выгнать оттуда чёрта «кочергой», но не могут" (Кабакова, 2001, с. 200).
"Женщине приписывается больший пыл, чем мужчине, больший сексуальный аппетит" (с. 201).
Представителей древних цивилизаций, безусловно, интересовал вопрос о силе сексуального желания мужчины и женщины. Кто из них получает большее удовольствие от секса? Решение вопроса отражено в греческом мифе о Тиресии, которому довелось несколько лет побыть женщиной, после чего он ручался, что женщина получает удовольствия в 9 раз больше мужчины (Кон, 2004, с. 84). Схожий взгляд отражён и в древнеиндийском мифе о царе Бхангасване, который также некоторое время был женщиной. Когда повелитель богов спрашивает его, кем тот выбирает остаться, Бхангасвана выбирает женское воплощение.
"Потому, что женщина больше, чем мужчина, черпает наслаждения в любви" (Темкин, Эрман, 1982, с. 138).
"Образ женщины как источника и носительницы сексуального удовольствия был едва ли не центральным в православной и вообще в христианской этике. Большинство Отцов Церкви, всерьёз полагало, что в массе своей женщины изначально более сексуальны, нежели мужчины. На Руси даже библейского Змия-Искусителя изображали подчас в виде женщины-Змеи, фантастического существа с длинными вьющимися волосами, большой грудью и змеиным хвостом вместо ног. Авторы проповедей регламентировали интимное поведение женщин с большей строгостью" (Пушкарёва, 1996b, с. 66).
В назидательной русской повести XVII в.
"Беседа отца с сыном о женской злобе" о сексуальном желании женщины сообщалось:
"Если будет юн муж — она его обольстит, у оконца приседят, скачет, пляшет и всем телом движется, бёдрами трясет, хребтом вихляет и другим многим юнным угодит и всякого к себе прельстит" ("Беседа…", с. 491).
Героиня другой повести XVII века жалуется матери на мужа:
"Никакой утехи от него! Когда спит со мной, в постели лежит, будто бревно неподвижное! Хочу другого любить, чтобы дал утеху телу моему" ("Повесть о семи мудрецах", с. 213). И там же:
"Посадила его на постель к себе и положила очи свои на него. "О, сладкий мой, ты — глаз моих разжигатель, ляг со мной и будь, наслаждайся моей красотой… Молю тебя, свет милый, повесели моё желание!" И захотела его целовать и сказала: "О, любезный, твори, что хочешь, кого ты стыдишься?! Одна есть постель и спальня!" И открыла груди свои и начала их показывать, говоря: "Гляди, смотри и люби белое тело моё!" (с. 197).
Записки иностранных путешественников той же эпохи показывают, что русские женщины кормили "сердечных друзей" кушаньями, "которые дают силу, возбуждающую естество", и тексты заговоров позволяют представить женщин того времени
"если не гиперсексуальными, то, во всяком случае, весьма требовательными к партнёрам в интимных делах" (Пушкарёва, 2011, с. 123). Как указывает историк,
"трудно даже предположить, что интимные удовольствия не имели значения в частной жизни женщин того времени. При общей бедности духовных запросов, непродолжительности досуга, неубедительности нравственных ориентиров, предлагаемых церковнослужителями в качестве жизненного «стержня», физические удовольствия были для многих женщин едва ли не первейшей ценностью" (там же, с. 113).
До прихода христианства славянские девушки
"были воинственны и независимы по своему характеру до такой степени, что нередко могли успешно сопротивляться хищническим нападкам мужчины и, охраняя свою независимость, поддерживать свободный характер любовного союза" (Шашков, 1879, с. 6). Этнограф XIX века писал о русской женщине, отображённой в фольклоре:
"Она совершенно свободно располагает своим сердцем, выбирая себе возлюблённых и по произволу меняя их. Прекрасная королевна, к которой однажды заехал Илья Муромец, спрашивает его:
— Есть ли у тебя охота, горит ли душа со мною девицей позабавиться?
Тому же Илье жена Святогора предлагает "сотворить с ней любовь" (Шашков, 1879, с. 7).
И в XX веке тема женской сексуальности проскакивает в деревенском юморе. Молодка спрашивает у мужика:
"Братец, хошь или не хошь?" А он:
"Хошь не хошь, да где возьмёшь". А она:
"Вот еретик-то, опять выпросил" (Никифоров, 1995, с. 525).
Христианская Церковь, подхватив мировую тенденцию, была очень активна в деле подавления сексуальности, и особенно — сексуальности женской. Значительная часть назидательных текстов средневековой Церкви была сосредоточена именно на теме секса и именно на женской фигуре в нём — около половины вопросов исповедального опросника касались секса (Кон, 2010, с. 38).
"Духовник должен был не просто расспрашивать о грехе, но и требовать подробного рассказа о каждом прегрешении: когда, где, с кем и при каких обстоятельствах оно было совершено. Все же остальные грехи часто умещаются в краткой фразе: "А после сего вопросить об убийстве и воровстве" (с. 39).
Церковью активно продвигался идеал девственности (Рябова, 1999, с. 13) — даже в браке женщине желательно было оставаться таковой. Якобы только через девственность
"женщина может возвыситься над своим природным положением и стать такой же совершенной, как мужчина", то есть равенство достигалось путём
"победы над полом, над телесностью, над женской сексуальностью" (с. 14).
"Богословы и медики были едины в том, что женщина обладает большей сексуальностью, чем мужчина. Тезис о ненасытном сексуальном аппетите женщины — общее место в средневековой картине мира" (с. 128). Христианство видело истоки такого положения дел в Еве, подбившей бедного, нерасторопного Адама на недоброе.
"Грехопадение, дьявол, женщина и сексуальность представлялись культуре того времени как нечто тесно взаимосвязанное. Через грехопадение в мир пришла сексуальность" (с. 129).
Летописцы той поры совсем не смущались повествовать о сексуальных рвениях женщин. Европейская запись VI века повествует о епископе, отправившем жену в монастырь, чтобы отныне обоим жить в сексуальном воздержании.
"Так они и жили, когда ревность диавола, вечная соперница святости, шевельнулась в женщине и, распалив её похоть, сделала её новой Евой. Охваченная желанием, одолеваемая греховными помыслами, она во мраке ночи направилась к епископскому дому. Обнаружив, что все двери в доме заперты, она начала стучаться в них, говоря так: "Доколе ты будешь спать, епископ? Когда наконец отопрёшь ты двери? Зачем ты пренебрегаешь своей спутницей? Почему ты глух к наставлениям Павла? Ведь это он писал: "Не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не искушал вас сатана". Видишь, я возвращаюсь к тебе и прибегаю не к чужому, а к собственному сосуду". Долго взывая к нему сими и подобными речами, она наконец охладила благочестие епископа. Он велел впустить её в опочивальню и, разделив с ней супружеское ложе, отпустил её" (Турский, с. 21).
Многочисленные церковные наставления к монахиням,
"свидетельствуют, что в монастырях существовала и практика однополой любви; именно для её предотвращения рекомендовалось, чтобы всю ночь в келье горел свет и чтобы монахини спали одетыми и подпоясанными, в раздельных постелях" (Рябова, с. 62).
Именно в повышенной женской сексуальности видели средневековые богословы и причину женских контактов с Дьяволом. Уже позже, во времена Инквизиции, когда были сожжены тысячи женщин, обвинённых в колдовстве, особой популярностью пользовалась тема сексуальной связи с Дьяволом. Авторы знаменитого пособия по выявлению таких персон
"Молот ведьм", исходили именно из повышенной женской сексуальности, которую та не может обуздать (Шпренгер, Инститорис, с. 102, 126, 198), а потому ей и приходится периодически прибегать к его ночным «услугам» — именно поэтому же легендарная книга посвящена в первую очередь ведьмам, а не колдунам.
Параллельно богословам над «природой» женщины активно работали и светские мыслители, зачастую склонявшиеся к мысли о необходимости ограничения женщины во всём — и особенно в социальных контактах. Родителям давали рекомендации постоянно держать дочерей дома, запрещать хождение в гости, на танцы и даже общение с кем-либо вне дома (Рябова, 1999, с. 31).
Литературное наследие эпохи Ренессанса (1300–1600 гг.) также указывает на сексуальную ненасытность как характерную черту того времени, причём и
"мужчины и женщины отличались непомерным аппетитом". Как указывают исследователи той эпохи,
"хотя женщины и пассивны по натуре, однако они в этом отношении не только не уступали мужчинам, а, если верить современным поэтам и новеллистам, даже превосходили их своей требовательностью. Чтобы обрисовать ненасытность женщин, сатирики заявляли, что у них вообще, кроме любви, ничего другого в голове нет: о чём бы с ними ни беседовать, всё, даже самое невинное, они истолковывают в этом смысле" (Фукс, 1993, с. 200).
Наверное, именно поэтому в Италии XIV века бытовали предписания не отпускать женщин даже в церковь или на свадьбу,
"чтобы они не завели ненужные знакомства с мужчинами; самой радикальной мерой был запрет стоять у окна и глядеть на улицу. Окно действительно было источником соблазнов, поскольку в нём молодая женщина могла разглядеть мужчин, проходящих мимо" (Ялом, с. 112). Эти вечно совпадающие темы — ограничение женских социальных контактов и одновременно женской сексуальности — сквозной линией проходят через большинство исторических культур разных континентов: древние греки держали жён и дочерей в женской части дома (гинекей), и выходить на улицу без мужа или брата им строго запрещалось; ровно то же потом происходило у зажиточных русских, где жена стала заложницей терема (Пушкарёва, 2011, с. 48); каноны Ислама велят при выходе в люди с головы до ног закутывать женщину в материю; и даже европейские наставления совсем недавних времён (XIX–XX вв.) убеждали, что девушке не подобает первой проявлять внимание к мужчине. Трудно уйти от мысли, что за всем этим единодушием ограничительных стремлений, всё смягчающихся в веках, проглядывает именно исходный контроль за женской сексуальностью.
Если древние греки и средневековые христиане позволяли себе прямо обвинять женщину в чрезмерной похоти, то к XIX веку тактика назидателей сменилась: на фоне снижающейся религиозности общества отсылки к запретам Священного писания работали всё слабее, а потому в ход пошла развивающаяся наука — медики, биологи и психологи вдруг обнаружили, что женщина по природе своей холодна (Зидер, с. 141). Секс ей неинтересен. Его она способна лишь терпеть, уступая страдающему мужчине.
Не только художественные романы, но и медицинские трактаты той эпохи часто описывали женщин как "ангелов домашнего очага", бесплотных созданий без чувств и сексуальных потребностей, менее страстных и более возвышенных, чем мужчины (Ялом, с. 352). От уважаемого доктора эпохи можно было услышать:
"женщине не свойственно искать сексуального удовлетворения. Она подчиняется воле мужа исключительно с целью угодить ему" (с. 223),
"многим порядочным матерям, жёнам и хозяйкам неизвестно о сексуальных излишествах. Единственная страсть, которую они испытывают, — любовь к дому, детям и домашним обязанностям" (с. 353). Ему вторил другой уважаемый врач:
"Жёны! Прислушайтесь к моему совету. Подчинитесь требованиям своего мужа… заставьте себя угодить ему, будьте убедительны и сымитируйте судорогу наслаждения; такой невинный обман допускается, если на кону привязанность вашего мужа" (с. 224).
"Из дочерей Евы, причастных к человеческому грехопадению, викторианские жёны и матери превратились в духовных наставниц", заключает историк брака Мэрилин Ялом (2019, с. 223).
То есть, в отличие от средневековых поучений, культура XIX века пошла от обратного — отказалась от концепции "обвини женщину в грехе и принуди исправиться" и сменила концепцией "женщина — чистый ангел во плоти". В отличие от прежних попыток из женщины просто выкинули сексуальный порок, объявили исходно «чистой» — такова отныне стала её «природа». Иными словами, созданное в ту эпоху пространство культурных текстов (то самое
доминирующее знание) рисовало новый образ женщины, которой теперь каждая девочка сама старалась соответствовать. Больше не нужно было ни с чем бороться, преодолевать себя, держать в узде свои желания. Надо просто быть "самой собой", той, какая ты есть "по природе" — непорочное создание, без мыслей "обо всём таком". А думают "об этом" только «неправильные» женщины. Была сделана самая беспроигрышная ставка — задействован механизм самоидентификации: чтобы быть «правильной», "настоящей" женщиной, достаточно было лишь отрицать наличие у себя каких-либо «нехороших» желаний и мыслей. Это был хитрый ход. Женщине просто сменили систему ориентиров для самоидентификации, и это сработало. Сработало куда удачнее многовековых христианских проповедей и угроз.
В 1929 году Бертран Рассел писал, что в Англии даже было незаконным,
"если в печати появляются утверждения, что замужняя женщина может и должна получать удовольствие от полового акта. Мне попалась в руки брошюра, относительно которой суд вынес решение, что в ней содержатся непристойности. Всё вышеизложенное пытаются внушить молодым людям судебные органы, церковь и педагоги с консервативными взглядами" (Рассел, 2004, с. 99).
Общекультурная установка на подавление женской сексуальности просто очевидна. Но в связи с этим возникает один принципиальный вопрос. Антропологи Кристофер Райан и Касильда Жета в бестселлере
"Секс на заре цивилизации" язвительно и справедливо подмечают по этому поводу:
"несмотря на постоянно повторяемые заверения, что женщины есть создания не особенно сексуальные, мужчины почти всего мира по сей день изощряются изо всех сил, чтобы держать в узде женское либидо. Обрезание женских гениталий, чадра от макушки до пят, сжигание ведьм в Средние века, пояса целомудрия, удушающие корсеты, грязные ругательства в адрес "ненасытных шлюх", диагностика врачами-мужчинами нимфомании или истерии, поругание, которому подвергается любая женщина, если свободно проявит свою сексуальность… Только подумайте, какая кампания развёрнута по всему миру, чтобы удержать якобы невысокое женское либидо под контролем. Зачем весь этот супернепроницаемый забор из колючей проволоки под током против безобидного котёнка?" (Райан, Жета, с. 70).
Ощутимый перелом в культуре (и в сознании) Запада наметился только к середине XX-го века, когда было проведено легендарное исследование Альфреда Кинси о сексуальности человека, которое и показало, что величина сексуального влечения, которое способны испытывать женщины, до сих пор преуменьшалась. "Отныне сексуальное влечение у женщин было приемлемым и даже желательным" (Ялом, с. 427). С тех пор исследования женской сексуальности стали частыми и открытыми.
При этом интересна последующая неоднозначная роль феминизма в данном деле (см. Рубин, 2001, с. 510). Если одна часть феминисток объявила репрессии женской сексуальности происками "патриархальной культуры" (мужчины пытаются контролировать женщину, ограничивая её сексуальность), другая часть феминисток заняла прямо противоположную позицию — секс нужен только мужчинам, а женщина же к нему, как и прежде, равнодушна. Иными словами, вторая часть феминисток продолжала вполне себе прежнюю христианско-патриархальную линию в отношении женщин, невольно навязывая им асексуальный образ жизни и мысли. Такие феминистки стали клеймить порно и проституцию как эксплуатацию женщин мужчинами: сотни написанных ими текстов твердили, что фактически все порноактрисы и проститутки занимаются своим ремеслом против воли либо из-за безвыходности ситуации в условиях крайней нужды. Массив этой мифологии прорабатывали такие светила феминизма, как Андреа Дворкин и Кэтрин Маккиннон. Но всю эту мифологию пробовали развенчать другие феминистки, среди которых и скандально известная доктор медицины Брук Маньянти, некоторое время лично работавшая проституткой, в своей книге
"Секс-мифы. Почему всё, что мы знаем — неправда". Автор с опорой и на личный опыт, и на исследования показывает, что вопреки созданному феминистками мифу проституция в большинстве случаев — свободный выбор женщины, и съёмки в порно тоже. В одном австралийском исследовании 70 % проституток даже сказали, что снова выбрали бы секс-работу, если бы им пришлось прожить свою жизнь заново (Woodward et al., 2004, — цит. по Маньянти, с. 248).
"По моему опыту, заниматься сексом за деньги было намного лучше, чем выполнять любую другую из длинного списка низкооплачиваемых, эксплуататорских бессмысленных работ, которыми я занималась в студенческие годы", писала Маньянти (с. 261).
"Я какое-то время работала уличной сборщицей пожертвований на благотворительность и это было куда более депрессивное занятие. Я работала в колл-центре — и едва выдерживала вопли и занудство тысяч людей. Мною злоупотребляли и недоплачивали мне на бесчисленных розничных работах, а также на нескольких исследовательских. Ни разу я не ощущала в секс-работе той дегуманизации, которую чувствовала изо дня в день на многих из этих рабочих мест (и часто за гораздо меньшую плату)".
Феминистки "заклевали" Маньянти за её книгу: ведь женщина не должна любить секс так, как его любит мужчина, и уж тем более она не стала бы зарабатывать им на жизнь. В ответ Маньянти совершенно справедливо заметила, что феминизм предал сам себя.
"Возьмите, к примеру, такую цитату Джули Берчилл: "Когда война полов будет выиграна, проституток следовало бы расстрелять как коллаборационисток за их ужасное предательство по отношению ко всему женскому полу". Отличный способ поддержать женщин, да?
Предательницы — это феминистки, которые переняли у поборников патриархальности манеру грозить пальчиком" (с. 313).
Об этом же говорила и мастодонт феминизма Гейл Рубин:
"так называемый феминистский дискурс воссоздаёт весьма консервативную сексуальную мораль" (2001, с. 512). Она писала, как некоторые феминистки искажают реальность, акцентируя внимание лишь на громких и пугающих случаях:
"Этот дискурс о сексуальности является в меньшей степени сексологией, а в большей — демонологией. Он представляет большую часть спектра сексуального поведения в наихудшем из возможных свете. Характерные для него описания эротического поведения обычно используют худшие из существующих примеров, как если бы именно они были показательными. Он не гнушается наиболее отвратительной порнографией, наиболее продажными формами проституции и наименее приятными или наиболее шокирующими манифестациями сексуальных вариаций. Такая риторическая тактика постоянно представляет человеческую сексуальность всех видов в превратном свете. Картина человеческой сексуальности, которая просвечивает сквозь такие работы, является неизменно омерзительной" (2001, с. 511).
Я и сам знаю девчонок, зарабатывающих выше названными «непристойными» занятиями, но их ситуации и впрямь не выглядят столь пугающе, как часто живописуют феминистки: одна 25-летняя стриптизёрша мечтала стать таковой ещё с детства, когда впервые увидела «Шоугёлз» Верховена; обычная 18-летняя девочка признавалась, что мечтает сняться в порно, и не только знает имена всех европейских режиссёров, но и даже их адреса; 30-летняя женщина тайком от мужа работает проституткой — ездит к клиентам домой — и совсем не по причине "крайней нужды", а просто чтобы иметь средства на хорошую косметику, салоны красоты и одежду, на которые доходов мужа уже не хватает; 20-летняя подруга признавалась, что в свои восемнадцать работала в салоне интимных услуг (мастурбация клиентам, никаких проникновений), потому что тогда ей это было "просто интересно". И чем больше подобных случаев мне становилось известно, тем сильнее закрадывалось подозрение, что с освещением проституции и порнографии феминистками всё не так просто и чисто.
Можно согласиться с Маньянти, что представители феминизма не понимают, как подобными тезисами сводят свою же борьбу за женские свободы на нет: воспитанные в рамках патриархальной христианской морали (подавляющей женскую сексуальность сильнее всего), они не в силах от них избавиться и ищут им оправдание в новом контексте. С одной стороны, феминистки бьются за свободу женщин использовать своё тело, но с другой, запрещают им пользоваться телом, как им действительно угодно. Диктат патриархальной культуры просто сменяется на самодиктат женщин ровно с теми же критериями, и всё. На смену старых господ приходят новые, подчинение никуда не исчезает. И раз секс был "нужен лишь мужчинам", то значит, он не был нужен женщинам, и потому приходится продолжать угнетать женскую сексуальность, как то делал "патриархальный строй" тысячелетиями до. Очень сложно из себя выбить то, что закладывалось с детства.
Всё это очень досадно. На старой лошади сменился всадник, и всего-то.
В сдержанных беседах с феминистками в ответ на их "Женщина никогда бы не стала сама продавать своё тело, это унизительно" доводилось спрашивать, почему продавать своё время, свои навыки, свою физическую силу, эмоциональные ресурсы и многое другое, — это нормально, а как "продавать тело", так сразу унизительно? Не есть ли это неосознаваемые влияния христианских норм, объявлявших секс порочным? Вразумительного ответа никогда не звучало.
Отголоски этой феминистской амбивалентности проникли даже в сексологию. Ставшая весьма популярной книга сексолога Эмили Нагоски
" (2016), транслировала мысль, что женская сексуальность в корне отличается от мужской. Для возбуждения женщине недостаточно того, что достаточно мужчине: женщине якобы нужна эмоциональная привязанность, чтобы возжелать партнёра. Автором был популяризован термин «нонконкордантность» (nonconcordance — несоответствие), который подразумевал, что объективно фиксируемые приборами факты физиологического возбуждения женщины очень редко совпадают с реальным её психологическим желанием. Утверждалось, что женщины лишь в 10 % (!) случаев реально возбуждались на сексуальные стимулы, если их половые органы, подключенные к особому устройству (вагинальному фотоплетизмографу), реагировали возбуждением. При этом Нагоски пыталась учитывать фактор культуры, репрессивной к женской сексуальности, и допускала, что женщины могут просто неосознанно отрицать возникшее возбуждение (так как "это плохо", "не дозволено"), но это мало сказалось на её выводах. Автор призывала не верить возбуждению вагины, но больше учитывать изменение сердцебиения, при этом не пояснив, почему вдруг одна физиологическая реакция стала приоритетнее другой. В то же время игнорируется очевидный факт, упоминавшийся многими другими сексологами: женщине труднее проследить изменения, происходящие в её теле в ответ на сексуальные стимулы (Whipple, 1991), тогда как мужчину же его эрекция со всей очевидностью наталкивает на мысль о возбуждении (Келли, с. 133; Кон, 2004, с. 153).
"Мужчины, у которых гениталии имеют внешнее расположение, подают внешний сигнал, когда они возбуждены. Вы это знаете. Они это знают. Весь мир это знает. Женщины, напротив, таких очевидных признаков не демонстрируют" (Маньянти, с. 18).
В Интернете есть критический разбор книги Нагоски, автор которого высказывает минимум десять аргументированных претензий к её выводам, при этом сторонники феминизма в комментариях окрестили автора разбора «шовинистом» и другими ругательствами — ведь он посмел утверждать, что сексуальное влечение женщины сильнее мужского или как минимум не уступает.
Если же добавить к этому ещё и репрессивную к женской сексуальности культуру, мешающую женщине осознавать собственные желания, то весь феномен «нонконкордантности» оказывается просто пшиком. Культурные запреты определяют.
Эта ситуация сходна с той, когда измеряли физиологические реакции женщин на воображаемую измену партнёра. Принято считать, что женщин сильнее всего ранит "духовная измена" (когда партнёр влюбляется в другую женщину), нежели измена физическая (чисто случайный секс с другой). В эксперименте женщины воображали себе оба типа измен со стороны партнёра, пока приборы считывали их сердцебиение, артериальное давление и кожногальваническую реакцию (Harris, 2000). В итоге испытуемые дружно заявляли именно так, как принято считать: что сильнее всего их ранила именно "духовная измена" партнёра. Хотя приборы в этот момент не фиксировали значимых изменений в физиологических реакциях. То есть очень похоже, что люди отвечают именно так, как считают себя должными ответить, как им велит культура. И ситуация с «нонконкордантностью» ничем принципиально не отличается.
Конечно, было бы очень интересно пронаблюдать поведение женщины вне этих самых культурных запретов, но насколько такое возможно? Можно ли где-то отыскать женщину, свободную от культурных влияний?
В действительности человеческая история выписывает такие кульбиты, что некоторые предоставляемые ею примеры могут даже шокировать. В 1970-е стал широко известен случай девочки Джини (Genie) — ребёнка, первые 13 лет жизни росшей взаперти от социальных влияний в своей комнате, будучи привязанной к стулу. Она не умела говорить, не умела нормально ходить и даже жевать твёрдую пищу. Этот случай активно изучали психологи и лингвисты, Джини было посвящено немало фильмов и книг. Впоследствии её пытались обучить языку и нормам общепринятого поведения, что, впрочем, оказалось малорезультативным. Среди прочих поведенческих особенностей девочки, с которыми было невозможно справиться, оказалась её постоянная и прилюдная мастурбация.
"Несмотря на уговоры, она продолжала мастурбировать где угодно и как можно чаще. Её излюбленными предметами были предметы, которыми можно мастурбировать, и она пыталась это делать независимо от того, где она находится. Мы не знаем, подвергалась ли она сексуальному насилию со стороны отца или брата, но она предпочитала компанию мужчин, и когда они оказывались рядом, обычно пыталась вовлечь во всё это и их. Её тянуло к спинкам кресел, к дверным ручкам, краям дверей, углам стола, автомобильным зеркалам и так далее. В сущности, в помещении и на открытом воздухе она постоянно пыталась мастурбировать. Научиться контролировать эти желания было ужасно сложно для Джини, и сейчас, 4 года спустя, это всё ещё проблема", писала лингвист Сьюзан Кёртис, плотно занимавшаяся этой девочкой (Curtiss, 1977, p. 21).
Говоря о сексуальности обезьян, приматологи описывают, как клиторами самки "трутся друг о друга, о самцов, о ветви" (Смолл, 2015, с. 130). Напоминает поведение девочки Джини, не испытавшей репрессивного влияния культуры, верно?
Но есть и более гуманные и широко известные способы временно отключить влияния культуры — например, алкоголь. Наверное, нет необходимости упоминать народные поговорки про алкоголь и женщину. Но знаете, как часто ночами мне звонят разогретые коктейлями девчонки, угрожая приехать "вот прямо сейчас"? Часто. Да так часто, что однажды устаёшь придумывать отговорки и просто перестаёшь отвечать на звонки, если только что видел в её Instagram, как она резвится где-нибудь в клубе или на чьём-нибудь дне рождения. Не посчитайте бахвальством, это чистая правда.
5. Культура диктует видение
В первой главе была подробно раскрыта тема
доминирующего знания — общепринятого идеологического шаблона, через который люди склонны воспринимать действительность, а события же, противоречащие шаблону или просто в него не вписывающиеся, остаются незамеченными или же расцениваются как некие уникальные, исключительные и таким образом превращаются в знания
доминируемые. Люди склонны видеть то, что ожидают увидеть. И женская сексуальность в западной культуре представляет собой именно доминируемое знание — оно подавлено темой мужской сексуальности, которая считается преобладающей, более сильной.
Распространённая концепция мужской активности и женской пассивности более века определяла даже научные исследования. Самый известный миф, возникший благодаря такой идеологической базе, это, наверное, описание оплодотворения: сперматозоиды с боем рвутся вперёд в поисках пассивно ожидающей их яйцеклетки. Легенда о "самом конкурентоспособном" сперматозоиде известна всем. И только в конце 1980-х стало понятно, что процесс происходит несколько иначе: сперматозоиды не устремляются стройными рядами вперёд, а беспорядочно мечутся из стороны в сторону; движения головки обеспечивают избегание препятствий, и если сперматозоид упёрся в стенку, то ему так легче уйти в сторону, движения же жгутика, проталкивающего головку вперёд, значительно слабее. Самое забавное заключалось в том, что сперматозоид точно так же норовит убежать и от яйцеклетки, если всё же столкнулся с ней. Только благодаря особым молекулам яйцеклетке удаётся ухватить мечущийся сперматозоид, прикрепить к себе и затем начать его поглощение. Но самым же занятным оказалось, что даже выявив беспорядочные метания сперматозоида и активную роль яйцеклетки в его ловле и удержании, научная группа ещё целых три года использовала в описаниях общепринятые культурные сценарии — подчёркивала активную роль сперматозоидов и пассивную роль яйцеклетки (Martin, 1991). Представления о мужском начале как активном и женском как пассивном так глубоко укоренились в сознании людей, что даже учёные в своих описаниях невольно искажают обнаруженные факты.
"Научные принципы биологии — это не более чем ещё одна созданная культурой призма, через которую некоторые люди предпочитают смотреть на мир. Биологи могут думать, что научный метод позволяет им раскрыть некую «истину», но на самом деле эта истина искажается людьми, которые формулируют цели исследования, так как под влиянием собственных культурных традиций они проявляют интерес к определённым темам и ищут определённые ответы" (Смолл, 2016, с. 98).
Выше уже упоминалось, что самки макак резуса в порыве сексуального желания поворачиваются к самцу спиной и призывно хлопают по земле. Впервые этот жест был зафиксирован ещё в 1940-е, но много лет игнорировался научным сообществом. Словно приматологи не хотели признать, что именно самка является инициатором секса. Как подмечает Мэри Роуч (2018, с. 314), не было ли это связано с тем, что долгие годы все приматологи были мужчинами? Им даже и в голову не приходило допустить, что самка может проявлять сексуальную активность? Приматолог Ким Уоллен, рассуждая о реальной сексуальной активности самок, говорит, что
"это настолько бросало вызов идеям о доминирующей роли мужчин, что было просто проигнорировано" (цит. по Бергнер, с. 55). Ведь это действительно очень интересная мысль. И она очень хорошо согласуется с тем, что первыми же советскими приматологами, ставшими прямо писать, что именно самки оказываются активными инициаторами секса, также были женщины: Нина Александровна Тих в 1970-ом и Людмила Викторовна Алексеева в 1977-ом. Это очень интересно.
В 1984-м в США даже вышел сборник статей по приматологии, авторами которых оказались исключительно женщины. Книга так и называлась —
"Самки приматов: исследования приматологов-женщин" (Female Primates: Studies by Women Primatologists. Edited by M. F. Small. Alan R. Liss, New York, 1984), и в ней, конечно же, прямо подчёркивался тот факт, что исследователей-женщин в научных журналах публикуют куда менее охотно, чем мужчин, а потому часть «обезьяньих» проблем может оказываться скрытой от глаза наблюдателя.
В обзоре этого сборника в "New York Times" сообщалось, как
"новые исследования показали, что самки многих видов являются яростно конкурирующими, находчивыми и независимыми, сексуально напористыми и неразборчивыми (промискуитетными)". Статья так и называлась —
"Новый взгляд на самок приматов опровергает стереотипы"
"Знание, производимое женщинами о женщинах и для женщин, более аутентично, нежели представления, сформулированные идеологизированной, якобы объективной наукой. Мужчины, занимающие доминирующую позицию, обладают негативной привилегией обходить вниманием определенные социальные процессы и феномены" (Здравомыслова, Тёмкина, 2015, с. 123).
Если доминирующее знание мешает мужчинам разглядеть реальную женскую активность и реальную мужскую пассивность, то женщины же, в силу своего угнетённого социального положения, оказываются более чуткими к такой информации? Ситуация с игнорированием сексуальной активности самок характерна не только для приматологии, но и в деле изучения крыс: до конца 1970-х учёные будто не замечали сексуальной активности самок (Бергнер, с. 65) — они обращали внимание лишь на её поведение во время секса, но никак не на то, что она делала перед тем, чтобы его добиться.
Иными словами, доминирующее знание нашей культуры так сосредоточено на мужской сексуальности, что напрочь перевирает картину сексуальности женской. Людям сложно начать смотреть на вещи непредвзято, не как тому учит культура.
Хуже всего оказывается, когда учёные вполне сознательно игнорируют некоторые факты, потому что культура велит. Такое происходило в советские времена, когда этнографы собирали фольклор в деревнях. Если песня или сказка носила явный порнографический характер, то учёные вполне могли её исказить или же вовсе проигнорировать. Подобное научное малодушие случалось даже в 1980-е, когда этнографы урезали концовку песни, где пошли слова о том, как тёща ублажает зятя мёдом, пирогами и сексом (Адоньева, Олсон, 2016, с. 15). Не удивительно поэтому, что эротический фольклор в советское время фактически не публиковался (с. 16). В итоге собранный материал мог носить вполне себе невинный характер, показывающий русскую деревню эдакой глубоко пуританской обителью, где никто не ругается матом и грешных мыслей даже не имеет (точь-в-точь, как деревня в советском кино). Хотя в действительности, как отмечают более решительные и честные этнографы, русская деревня буквально наполнена сексом, и о нём там говорят куда проще, чем в городе (там же, с. 213; Никифоров, 1996, с. 510). Так и формируется доминирующее знание: не замечаешь одно, рассказываешь другое.
Кстати, в упомянутой выше песне про тёщу и зятя, именно женщине отводится активная роль — она всячески ублажает мужа своей дочери (опаивает медовухой, кормит, укладывает в кровать), чтобы затем овладеть им, а роль же мужчины трижды выражена одной фразой
"он […], как бык, сам не знает, как быть", то есть мужская роль откровенно пассивна. И уже в финале тёща, торжествуя над беззащитным зятем, поёт
"Подымайся, подол, раздувайся, хохол"
В интернете бродит женская мудрость:
"Если тебе показалось, что ты влюбилась, остановись и задумайся: возможно, у тебя просто давно не было секса". Вопрос сексуальности так плотно регулируется культурными установками, что оказывается непременно «вшит» одним из скрытых значений в концепт «любви»: сексом можно заниматься только, если «любишь». Это культурные манипуляции значениями с целью упрощения социального контроля за сексуальностью (особенно женской). Усложняя процесс сексуальных связей, культура спасает сложившиеся общественные иерархии от разрушения. Если тысячелетиями сексуальность контролировали разные религиозные предписания, то с индустриальной революцией и ростом городов в XVIII–XIX веках происходит ослабление роли религии в жизни людей. Но сложившийся тысячелетия назад сексуальный контроль оказалась на удивление живуч и в эпоху утраты религиозных ценностей нашёл другие механизмы влияния — именно в этот период рождается любовный роман с его идей непременной связи секса и любви (см. Шипов, 2010, с. 215). Оказавшись мощнейшим транслятором культуры, романы сильно повлияли на формирование новых взглядов на секс, цель которых в своей сердцевине мало отличалась от прежних религиозных догм: контроль за сексуальностью. Сексуальное влечение, одетое в философские суждения о любви, верности, "партнёрстве душ" и т. д., оказалось сложно реализуемым. Эту схему понял ещё Л. Н. Толстой, писавший, что роль влюблённости в том,
"чтобы облегчать борьбу похоти с целомудрием. Влюбление должно у юношей, не могущих выдержать полного целомудрия, предшествовать браку и избавить юношей в самые критические годы от 16 до 20 и больше лет от мучительной борьбы. Тут и место влюблению. Когда же оно врывается в жизнь людей после брака, оно не уместно и отвратительно" (Толстой, 1953, с. 200). Так сексуальное желание, крепко спаянное с концепцией "настоящей любви", продолжило оставаться под контролем древней культуры.
Но встречаются и находчивые люди с хорошим уровнем рефлексии. Одна подруга рассказывала про эпизод своей жизни, когда месяц была влюблена в молодого человека.
— Ну то есть как влюблена, — улыбнулась она. — У меня секса давно не было. А нам ведь, девочкам, как бы нельзя заниматься сексом без любви. Вот я и придумала себе любовь к нему, а уже через месяц он мне надоел… Ну и «любовь» прошла.
В противоположность этой, другая знакомая — меняет мужчин примерно раз в месяц. И при этом фактически каждого из них описывает сугубо в терминах «любовь», "страсть", «обожание». Она на полном серьёзе может эмоционально рассказывать:
"Я его сразу так полюбила… Просто сразу поняла, что это — моё". И точно так же через месяц-два она будет рассказывать уже о другом мужчине. Смешно или грустно, но ей 33 года, и при всём календарном возрасте она так инфантильна, что просто не может допустить мысли, что
всё дело просто в сексе. Нет, ей непременно надо описывать и осмыслять собственное поведение в рамках культурно одобренных шаблонов. С такой позиции, секс непременно должен быть связан с романтическими чувствами и т. д., а если же это не так, то это уже какое-то "плохое поведение".
Наверное, именно поэтому в одном исследовании женщины моложе 35 лет были склонны описывать секс в плотной связи с эмоциональной привязанностью, тогда как женщины старше 35 такую позицию уже не разделяли, и в сексе им был важен в первую очередь именно сам секс (Sprague, Quadagno, 1989). Чем взрослее становится женщина, тем вероятнее, что высвободится от навязчивых культурных предписаний и будет называть вещи своими именами?
Хотя женщины и утверждают, что для секса им важно наличие эмоциональной привязанности, всё же почти у половины из них случался секс и без неё; да и в целом 81 % прямо признаются, что порой им просто нужен секс как таковой (Carroll et al., 1985).
6. Что говорит наука о женской сексуальности
Переходя от данных приматологии и нейроэндокринологии к собственно поведению человека, что можно сказать о сексуальном желании и поведении женщины? Тот факт, что мы привыкли думать о повышенной сексуальности мужчин, а не женщин, — насколько он адекватен? Или же просто обусловлен культурными предписаниями?
В юности я слышал об американском исследовании, где парень предлагал случайным встречным девчонкам заняться сексом, и то же самое предлагала девчонка случайным парням. В итоге все девчонки парню отказали, а вот большинство же парней (3/4) на предложение симпатичной девушки согласились. И эта картина тогда казалась мне вполне убедительной. Никаких сомнений в результатах эксперимента даже не возникло, ведь всё было ровно в пределах общепринятой нормы, согласно которой секс нужен мужчине, но не женщине.
Только позже, всё больше подмечая несоответствие реальных событий стереотипным образам, которые культура по утрам вливает в наш кофе, стал понимать всю нелепость того эксперимента. Стал понимать, что девчонки и парни будут отвечать так,
как положено ответить их полу, слабо учитывая своё реальное желание; к тому же осознал важность контекста: к девчонке подходит совершенно незнакомый парень и предлагает пойти неизвестно куда уединиться — естественно, опасение будет первой ожидаемой реакцией. Куда он её уведёт? Что с ней там сделает? Отказать на такое предложение — самая разумная реакция в обществе, где насилие не сходит с экранов телевизоров.
Приматолог Мередит Смолл справедливо подмечает проигнорированный в этом исследовании факт, что
"некоторые из опрошенных женщин были бы рады подняться в квартиру с этим мужчиной, а большое количество согласилось на свидание. Меня этот факт заставляет предположить, что многие женщины даже перед лицом потенциальной опасности отправились бы куда-то с незнакомцем, которого они находят сексуально привлекательным" (Смолл, 2015, с. 174). И в случае с реакцией парней картина тоже не так проста, как казалось в юности. Транслируемый всё той же культурой образ мачо, "настоящего мужчины", требует даже от асексуала ответить согласием, если секс так легко идёт в руки. Поверьте, и со мной такое бывало (но об этом дальше). К тому же отказ женщине в такой ситуации — потенциальный удар по её самооценке катастрофической силы, что также может принуждать парня ответить согласием. Поверьте, и такое со мной бывало.
Как было сказано в первой главе, в психологии вербальные опросники выявляют не то, что человек реально думает и чего желает, а лишь культурную установку по данному вопросу, то есть пресловутое
доминирующее знание: то, как
должно быть, а не то, как есть.
В знаменитом исследовании (Alexander, Fisher, 2003) студентам (парням и девчонкам) раздали анкеты с вопросами об их сексуальной жизни. Но в одной группе ответить можно было анонимно, в другой группе опросные листы собирал их же однокурсник, чтобы передать исследователям, а значит, была вероятность, что он мог и сам заглянуть в каждую конкретную анкету. В третьей же группе к студентам крепили устройство, сказав, что это детектор лжи. Но на самом деле это была фикция, просто провода… Один из вопросов был о числе сексуальных партнёров за всю жизнь к данному моменту. Так вот парни во всех трёх случаях отвечали примерно одинаково, условия эксперимента слабо сказывались на ответах. Максимальное же расхождение в ответах было у девчонок. У той группы, где анкеты собирал однокурсник и мог подглядеть ответы, итоговое число сексуальных партнёров оказалось самым низким. В группе, опрашиваемой анонимно, число сексуальных партнёров оказывалось выше. Но самое большое число сексуальных партнёров оказывалось в группе с "детектором лжи". Причём в среднем число партнёров у девчонок этой группы оказалось даже чуть выше, чем у парней.

Аналогичные расхождения девчонки выдали и в вопросах о частоте мастурбации и о просмотре порно. Исследователи пришли к единственно разумному заключению: давление общества вынуждает лгать.
"Быть сексуальным, то есть тем, кому позволено быть сексуальным, — это свобода, с большей охотой предоставляемая обществом мужчинам, чем женщинам" (цит. по Бергнер, с. 26). И пока существует это табу женской сексуальности, тысячелетиями культивируемое в самых разных обществах, женщина будет вынуждена ходить по струнке социальных требований, оберегая свою репутацию хотя бы посредством лжи.
— Я бы уже давно тебе отдалась, если бы у нас не было столько общих знакомых, — услышал я как-то от 22-летней девчушки. Видимо, поэтому же она регулярно слала мне снимки своего обнажённого тела, осмотрительно оставляя лицо за кадром. Репутация — наше всё.
Так же и другая девчонка, дверь квартиры которой однажды ночью захлопнулась, вынудив её заявиться с ночёвкой ко мне, где она и склонила меня к нехристианским деяниям. Потом я сразу был предупреждён, чтобы в кругу общих знакомых я воздерживался от какой-либо демонстрации близости с ней, пригрозив "Иначе я тебя стукну". Позже она признала историю с захлопнувшейся дверью выдумкой.
В легендарной серии экспериментов (Chivers et al., 2004; Chivers et al., 2007) мужчинам и женщинам демонстрировали видеоролики эротического и неэротического содержания и с помощью особых устройств измеряли возбуждение их половых органов (те самые исследования, на основании которых Эмили Нагоски популяризировала термин «нонконкордантность», о чём сказано выше). Просмотр роликов с пейзажами и прочими нейтральными изображениями оба пола оставлял совершенно равнодушными. Кардинальная же разница обнаруживалась именно при показе эротических роликов.
Если мужчины смотрели видео с мастурбирующим мужчиной, их член незначительно, но набухал; на занимающихся сексом гомосексуалистов мужчины реагировали приблизительно так же вяло. Значительное же возбуждение происходило только при просмотре роликов с женщинами — одна женщина мастурбирует, женщина и мужчина занимаются сексом, две женщины ублажают друг друга (последняя категория пробуждала мужскую реакцию особенно сильно). Просмотр ролика с совокупляющимися шимпанзе бонобо не вызвал в мужских гениталиях никакой реакции.
С женщинами же картина выглядела совсем иначе. Их гениталии возбуждались на всё, кроме пейзажей.
"Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, мужчины с женщинами, одинокие мужчины или женщины, занимающиеся мастурбацией, — объективные данные, полученные с помощью приборов, которые технически можно назвать амплитудой вагинального пульса, взлетали независимо от того, кого показывали на экране, и что они делали друг с другом или с самими собой. Желание разгоралось, кровоток усиливался, капилляры бешено пульсировали" (Бергнер, с. 21). Самое же неожиданное: вагинальное возбуждение происходило даже при наблюдении секса у бонобо. Иначе говоря, женское влечение оказалось всеядным.
Это же показали исследования более 200 тысяч человек: женщин с сильным сексуальным влечением одинаково тянет как к мужчинам, так и к женщинам, тогда как мужчин с сильным влечением тянет только к одному полу (к женщинам, если мужчина гетеросексуален, и к мужчинам, если этот мужчина гомосексуален) (Lippa, 2006; Lippa, 2007, см. Райан, Жета, с. 377). Магнитно-резонансная томография мозга подтверждает, что мужчин возбуждает именно тот пол, который они изначально называют привлекательным, но никак не оба пола сразу (Safron et al., 2007).
Вопреки сложившейся культурной мифологии, утверждающей, будто женщина способна максимально возбудиться только в условиях близкой эмоциональной связи и доверительных отношений с партнёром, исследования упорно показывали, что это не так, и пик возбуждения приходится на ситуации с незнакомыми людьми (Бергнер, с. 34). Вагинальное возбуждение на незнакомок подскакивало в 2 раза, а на незнакомцев — аж в 8 раз.
В какой-то момент полученные результаты смутили даже самих исследователей, и они попытались найти им другое возможное толкование. Может, всё дело в ситуации стресса как таковой? Она вызывает волнение, усиление артериального давления и кровотока? Но уточняющий эксперимент разрушил и эту гипотезу: увлажнение гениталий происходило только при просмотре видео, где за женщиной гонится насильник, но не бешеная собака (Бергнер, с. 115). Возбуждение вызывал именно сексуальный контекст.
Всё та же Эмили Нагоски предложила свою интерпретацию данных исследований, введя такое понятие, как "релевантные стимулы": якобы влагалище женщины автоматически увлажняется на стимулы, связанные с сексом, но это не значит, что сама женщина его хочет. При этом, правда, Нагоски не уточнила, почему же спектр "релевантных стимулов" у женщины куда шире, чем у мужчины.
Возвращаясь к теме максимального возбуждения от незнакомцев, эти данные подтверждаются и наблюдениями приматологов: самок обезьян также больше всего привлекают незнакомые самцы из других сообществ.
"Единственный непреходящий интерес среди всех приматов — интерес к новизне и изменчивости", подчёркивают приматологи (Small, 1993, p. 153).
Важно отметить, что данный аспект (интерес к сексуальной новизне) характерен не только для самок (женщин), но и для самцов (мужчин), — этот феномен в целом известен как эффект Кулиджа: сексуальная активность особи ослабевает при давнем партнёре и усиливается с партнёром новым. Эффект Кулиджа продемонстрирован не только у самых разных видов животных, но и у человека: чем дольше мужчина и женщина состоят "в отношениях", тем реже занимаются сексом (по крайней мере друг с другом). У разных видов обезьян порой случается, что самец и самка образуют пару на некоторое время, но пара это не сексуального характера, а сугубо дружеского. Между ними образуются эмоциональные связи, но вот сексом же они занимаются как раз вне этой пары — со сторонними особями. Часто самки совокупляются вовсе с самцами из других сообществ — в 7 из 13 случаев шимпанзе беременеют от самцов из других групп (Райан, Жета, с. 110). На основании этого антропологи даже предположили, что
"повышенная сексуальная привлекательность незнакомых особей является механизмом, способствующим включению пришельца в систему группы" (Файнберг, Бутовская, с. 126), то есть усиленное сексуальное влечение к незнакомцам может служить увеличению группы (подробнее о снижении сексуальной активности в устоявшейся паре поговорим в следующих главах). Другие приматологи предполагают, что усиленное влечение самок к незнакомым самцам увеличивает генетическое разнообразие в группе, так как самка каждый раз беременеет от разных самцов (Wolfe, 1986).
Социология и сексология показывают существенные трансформации в проявлении женской сексуальности. Хотя в конце XIX века и было принято считать, будто мужчины гораздо более страстные, чем женщины,
"уже к 1920-м годам распространилось мнение, что женщины тоже испытывают влечение, сравнимое по силе с мужским, даже равное ему" (Ялом, с. 372).
"30 % жён оценивали свое желание заниматься сексом как сравнимое с желанием их мужей" (с. 373).
Исследования этого вопроса, начавшиеся в середине XX века, и последующий рост феминистских настроений позволили разоблачить доминирующее знание сложившейся культуры и заговорить о том, что женщина может и должна быть полноправным носителем собственного желания. Во второй половине XX века проявилось резкое уменьшение поведенческих различий между мужчинами и женщинами в возрасте сексуального дебюта, числе сексуальных партнеров, проявлении сексуальной инициативы, отношении к порнографии и т. д. (Кон, 2004, с. 146). В странах северной Европы девушки теперь начинают сексуальную жизнь даже раньше, чем парни (Кон, 2006b, с. 365).
"Сексуальное раскрепощение женщин везде и всюду способствует росту их сексуальной активности и удовлетворённости" (с. 366). Интернет-аналитика показывает, что всего за три года число женщин среди посетителей порносайтов увеличилось с 1/4 до 1/3 (Бергнер, с. 74).
С 1969-го по 1989-й число признаваемых внебрачных связей выросло, и особенно этот рост был заметен среди женщин: если в 1969-ом только 1/3 женщин признавали наличие внебрачных связей, то к 1989-ом их доля выросла до 1/2 (Golod, 1992). Ровно за те же два десятилетия число женских признаний в мастурбации выросло в два раза — и, вероятно, сложилось это в связи с изменением социальных норм (Кащенко, 2011, с. 83). Может, это и покажется смешным, но ещё в 2000 году 50 % вступающих в брак россиян не знали, что женщина должна получать удовольствие от сексуальной жизни (с. 69) — что является наглядной демонстрацией доминирующего по сей день знания ещё Викторианской эпохи, будто женщина в сексе совсем не заинтересована, а просто его терпит под натиском "животной природы" мужчины.
Снятие социальных табу с темы сексуальности делает её обыденной и будничной — и вместе с этим возникает такое новое явление, как
сексуальная скука: утрата интереса к сексу при совершенно нормальных физиологических функциях (Кон, 2006b, с. 368). Что характерно — сексуальная скука «поражает» главным образом мужчин, не женщин. Наибольшая подверженность такой скуке свойственна в первую очередь молодым мужчинам (вопреки пику тестостерона), потом мужчинам пожилым и только затем уже пожилым женщинам и наименьший показатель — у женщин молодых (Watt, Ewing, 1996). То есть мужчины теряют интерес к сексу куда быстрее женщин.
Аналогичные данные получены в ходе большого французского исследования (Bajos, Bozon, Beltze, 2008): хотя по прежнему и принято считать, что сексуальное влечение мужчины сильнее женского, в реальности же в возрасте 18–35 лет мужчин, совсем не интересующихся сексом, вдвое больше, чем женщин (6,2 % против 3,5 %). А в возрасте 18–24 года таких мужчин и вовсе аж 1/5. Впечатляет, не так ли? Это то самое, что нынче принято называть асексуальностью. И волна эта распространяется главным образом за счёт мужчин, вот в чём нюанс.
Совсем недавнее большое исследование (General Social Survey) в США выявило всё то же самое: с 2008 по 2018 годы число людей 18–30 лет, ни разу за минувший год не занимавшихся сексом, выросло. И особенно сильно выросло именно среди мужчин и составило аж 28 %, то есть почти треть. В то же время число женщин в этой категории составило лишь 18 %.
Исследователи объясняют такую ситуацию развитием технологий:
"Сейчас в 10 часов ночи предстоит сделать гораздо больше вещей, чем 20 лет назад — всякие социальные сети, стриминговые сервисы, консольные игры и т. д." Парни предпочитают порубиться в приставку, тогда как девчонки оказываются более консервативными и выбирают проверенные удовольствия.
Такая же картина и на Востоке, в Японии: там каждый третий юноша в возрасте от 16 до 19 лет не интересуется сексом (с 2008-го по 2015-й эта цифра возросла в два раза) и на каждые десять супружеских пар приходятся четыре пары, которые не занимались сексом месяц или даже более.
"В Японии это уже настолько распространённый феномен, что таких асексуальных мужчин называют "сошоку данши" — то есть «травоядные», в отличие от «плотоядных», которым секс всё еще интересен" (Зимбардо, Коломбе, с. 43). Совпадение или нет, но якобы уже в 1990-е женский секс-туризм из Японии в Таиланд (когда японки летают на отдых, чтобы там же найти и партнёра для секса) вырос в 10 раз.
"Чартеры, набитые исключительно японками, приземляются в Бангкоке еженедельно, если не чаще" (Райан, Жета, с. 395).
Многие годы различные исследования показывали, что мужчины действительно сексуально более активны и мотивированы: они чаще думали о сексе, чаще к нему стремились и т. д., но главная беда всех таких исследований — это опросный метод. Человека спрашивают — он отвечает. Но какова вероятность на прямой вопрос получить столь же прямой ответ? Трудность здесь очевидна, особенно если речь идёт о такой пикантной теме, как сексуальность. И особенно эта тема пикантна для женщин, следовательно, и надежд на их прямоту было меньше.
Конечно, нам вряд ли когда-нибудь удастся изобрести метод или прибор, который бы однозначно определил, чья сексуальность мощнее — мужчины или женщины. У нас всегда будет оставаться лишь ворох косвенных данных, интерпретировать которые можно и так, и эдак. Но, признаться, пример с сексуальной активностью обезьян, которые ещё не изобрели сложную культуру для её регулирования, всё же кажется очень показательным.
Если к эрогенным зонам мужчины относят, как правило, только головку члена, его ствол и мошонку, то у женщин перечень таких зон куда шире. Главной эрогенной зоной женщины считается клитор, затем вход во влагалище, а вот дальше — широчайший спектр других частей тела: половые губы,
"соски груди, ложбинка между грудями и под ними, поверхности бедер, кожа в области затылка, подбородок, шея, губы, мочки ушей и многое другое" (Кащенко, 2011, с. 67). Это позволяет некоторым сексологам прямо называть
всю женщину сплошной эрогенной зоной. И вряд ли так сложилось случайно.
Даже такой традиционалистский сексолог, как Эмили Нагоски, признаёт, что если бы в нашей культуре вдруг перестало порицаться женское желание, то больше женщин испытывали бы спонтанное влечение. "
Я даже готова поставить на это", пишет Нагоски (с. 223).
Любопытно, что анализ запросов в «Google» показывает в два раза больше жалоб на то, что парень не хочет заниматься сексом, а не на то, что этого не хочет девушка (Стивенс-Давидовиц, 2018, с. 153). То есть женщины чаще жалуются на отсутствие секса с партнёром, чем мужчины. Конечно, объяснить этот факт можно по-разному, но бывший аналитик «Google» справедливо замечает:
"Даже если данные Google и не означают, что парни действительно не хотят заниматься сексом вдвое чаще девушек, они все равно свидетельствуют о том, что парни избегают половых контактов чаще, чем готовы признаться" (с. 154).
7. Ну а что мужчины?
Когда лет девять назад подруга поделилась, что после замужества секса в её жизни стало меньше, меня это озадачило. Ведь народный стереотип гласит, что как раз в браке секс становится легкодоступным, а значит, и почти ежедневным. Но подруга прямо изрекла:
"теперь с мужем секс возможен только раз в месяц, да и то под дулом пистолета…" Мне это запомнилось и вспоминалось каждый раз, когда об этом рассказывали всё новые подруги, вышедшие замуж.
Тогда это уже заставило задуматься. В то же время на просторах Интернета попались две большие заметки с описанием женских жалоб на мужчин, не желающих заниматься сексом: в красках описывалось, как женщины месяцами (!) пытаются всеми правдами и неправдами склонять своих партнёров к сексу, но те… оказываются слишком ленивыми.
Одна из заметок была в блоге
prostitutka_Ket — Екатерина Безымянная писала, что ей приходит много писем от читателей.
"И вы даже представить себе не можете, в каком количестве мне пишут женщины, чьи мужчины всячески избегают секса, или занимаются им в духе "да на тебе, отстань уже от меня…"
Можно было бы подумать — что все эти женщины стары, а их мужчины уже давно перешагнули тот рубеж возраста, когда в жизни не остается ничего, кроме утки и клизмы, но… Если свести почти каждое такое письмо к одной фразе, то это будет выглядеть примерно так:
"Мне 22, ему 28, он спит со мной раз в месяц", "Мне 26, ему 32, секса у нас не было уже полгода", "Мне 35, ему 40, как только я начинаю его стимулировать, он уходит спать в другую комнату…". Таких писем не-ре-аль-но, просто таки зашкаливающе много", пишет автор.
Тогда-то пазл и начал складываться. Весь ворох известных мне случаев, когда мужчины отлынивали от секса, из разрозненной массы стал превращаться в осмысленную картину. Доминируемое знание пробилось к свету.
Когда в 2003-м эксперт по отношениям Мишель Вайнер Дэвис написала книгу
"Брак, изголодавшийся по сексу" о снижении сексуальной активности между супругами, она не ожидала, что потом её завалят письмами. И писали главным образом женщины, жёны: они сокрушались, что их мужья перестали реагировать на них и будто бы избегают, это изводит женщин месяцами, а порой годами. После этого автор быстренько набросала второй бестселлер —
"Изголодавшаяся по сексу жена: что делать, когда он потерял желание" (Weiner Davis, 2008).
В 2008 в США вышла книга и других авторов под названием
"Он больше не в настроении заниматься этим: Почему мужчины перестают заниматься сексом и что вы можете с этим сделать" (Berkowitz, Yager-Berkowitz, 2008), где было прямо обозначено, что утрата секса в браке — явление очень распространённое. Супружеские пары, полностью переставшие заниматься сексом или же занимающиеся около 10 раз в год, в американской сексологии называются «no-sex» и «low-sex» соответственно, — и число таких пар в сумме достигает около 20 млн по всем США (Johnson, 2016, p. 24). До 20 % американских пар занимаются сексом реже, чем десять раз в год (Райан, Жета, с. 402). Снижение сексуальной активности в браке носит универсальный характер, и характерно даже для Китая, где более 70 % разводов там инициируют женщины,
"причём одной из основных причин является неудовлетворённость женщин сексуальной жизнью" (Почагина, 2008).
Да, мужчины не такие и мачо, охотники за плотскими утехами, как это транслирует культура.
В свои 22 года я плотно дружил с тремя девчонками, сообща снимавшими квартиру. Все они сидели на одном сайте знакомств, и мужчины часто писали им смелые сообщения в духе "Напиши свой адрес, я сейчас же приеду и «взгрею» тебя так, что все последующие мужчины будут блеклыми, как моль". Девчонки показывали мне немало таких сообщений. И в качестве эксперимента они потом забавлялись — в ответ на одно подобное предложение сразу написали свой адрес с комментарием "Жду. Я сейчас одна. Позвони в дверь тремя короткими нажатиями".
Надо ли объяснять, что этот виртуальный мачо затем не только не приехал, но больше не реагировал даже на сообщения? "Все они герои по ту сторону экрана", смеялись девчонки. Опыт в этом деле был у них богатый, можно составлять каталоги.
Что это за тенденция? Мужчины больше бравируют, нежели воплощают в действительности? Просто реализуют культурные сценарии, которые предписывают им быть ненасытными, но в итоге дрейфят?
Когда делишься с друзьями всеми подобными случаями и подозрением, что высокая мужская сексуальность, похоже, просто миф, то можно ждать неожиданных откровений. Один разводившийся в тот момент друг, выслушав мои истории, будто выдохнул, сбросив с себя трёхлетнее проклятие, и сказал: знаешь, а ведь все эти годы я думал, что со мной что-то не так… Она хотела секса почти каждый день, и я старался через "не могу". Я ведь реально думал, что я какой-то не такой, и надо лечиться…
Кстати, если на «Amazon» найти упомянутую выше книгу "
Он больше не в настроении заниматься этим" и почитать отзывы, то без труда можно найти такие:
"Хорошая книга, заставила меня чувствовать себя менее одиноким" или
"Наконец-то какая-то полезная информация, чтобы сказать мне, что я не один в этом и я нормальный!", и т. д. То есть, во-первых, да, мужчин, переставших заниматься сексом в браке или же занимающихся через силу, действительно много; во-вторых, их самих угнетает такое положение дел, заставляя чувствовать себя «ненормальными», "не такими, как все". Мифология мужской одержимости сексом очень токсична для мужской самооценки.
Одновременно с этим страдает и самооценка женщины, ведь вобрав в себя всю эту мифологию, но на практике не встречая ожидаемого рвения со стороны мужа, она склонна искать причину в себе: располнела? утратила привлекательность? больше не желанна? Всё это только увеличивает шанс поиска ею опровержений где-нибудь "на стороне". Потому-то для истинных любителей женщин кольцо на её пальце — не знак «стоп», а скорее зелёный свет.
"Нет никого более истосковавшегося по мужской ласке, чем замужняя женщина", говорил мой опытный друг.
В 2011 году мир столкнулся с феноменом
"50 оттенков серого" — эротический роман Э. Л. Джеймс, в миг ставший бестеллером и переведённый на 51 язык. За несколько лет в мире было продано более 100 миллионов экземпляров этой трилогии, а в 2012-ом книга стала самой продаваемой книгой и в России. И кто раскупил все эти миллионные тиражи? Мужчины? Основным покупателем "50 оттенков серого" стали замужние женщины старше 30 лет (поэтому журналисты прозвали роман "маминым порно"). Скорее всего, именно замужние женщины потому, что, как известно сексологам, секса в браке, как и в любых долгих отношениях, становится меньше, и потому эротический роман мог быть попыткой восполнить дефицит.
Но если вдуматься, сколько в нашей культуре украдкой рассыпано подобных свидетельств, которые мы не хотим замечать или же замечаем, но с юмором, будто это нечто нетипичное?
Анекдот:
Забегает муж домой, хватает жену за руку, несётся в спальню, бросает на кровать…
Жена в шоке, за 20 лет такого не было!
Муж заваливается к ней, накрывает их одеялом с головой и говорит:
— Смотри! Часы купил… светятся!!!
Комедийный сериал "Счастливы вместе" с вечными и паническими увиливаниями Гены Букина от домогательств его жены помните? И ведь это реально вызывало улыбку. Но почему? Почему мы реагируем смехом на подобное положение дел?
В природе смеха пытались разобраться многие философы прошлого, и они сходились в том, что смех вызывает всё, что вскрывает культуру как фарс, как нечто, что
должно быть, но совсем таковым не является. Смех — это реакция на брешь в культурной ткани, в которой проглядывает отрицаемое, но всё же реальное положение дел. То есть это реакция на запрещённую правду, случайно вдруг обнажённую.
"Преувеличение комично, когда оно вскрывает недостаток" (Пропп, 1976, с. 67).
"Искусство карикатуриста в том и состоит, чтобы схватить порой неуловимую особенность и сделать её видимой для всех увеличением её размеров" (Бергсон, 1900, с. 28).
"Гипербола смешна только тогда, когда подчеркивает отрицательные качества, а не положительные" (Пропп, с. 68).
"Всё комическое обнажает недостатки" (с. 71).
Как-то я присутствовал на лекции, где сексолог рассказывала о гармонии в браке. Один слушатель начал задавать вопрос, и в нём прозвучала фраза
"когда женщина постоянно требует, а мужчина увиливает" — вся аудитория тут же прыснула со смеху. Какая-то женщина, сдерживая смех, попыталась возразить, мол, всё совсем наоборот, но народ разразился ещё большим смехом. И это действительно было забавно.
"Взрывы смеха — и обманный мир распадается" (Шкуратов, 1997).
Доминируемое знание (то, что сокрыто культурой, отрицаемо ею) и вызывает смех.
Должно быть вот так, но происходит совсем иначе, — и именно тогда становится смешно, ведь все мы усердно делаем вид, что всё обстоит именно так, как
должно обстоять. Хоть на самом деле это и не так. Таким образом, смех как бы оказывается признанием фарса, невозможности осуществляемого, и на что просто принято закрывать глаза. Смех является знаком нарушения правил условной игры. Именно условной, то есть совсем не обязательной, но функционирующей по типу "так принято".
Смех плотно переплетается с явлением карнавала, на время которого все сложившиеся общественные иерархии и нормы упраздняются, люди будто выдыхают накопленную культуру и на мгновение позволяют себе побыть свободными от неё (Бахтин, 1986, с. 298). В этом же ключе и явление русской частушки, в основе которой лежит возможность сказать о том, о чём говорить не принято, формат частушки даже требует табуированных тем (Адоньева, Олсон, с. 201), в силу чего частушка и стала незаменимым средством критики социальной реальности.
"Комический эффект частушки определяется её функцией: частушка оглашает скрытое, вбрасывает в сферу общего обсуждения. Частушечная речь отменяет ту социальную иерархию, которую другие формы коммуникации формируют и поддерживают. Смех, который обычно сопровождает исполнение частушек, представляет собой реакцию на открытое высказывание исполнителем того, что обычно замалчивается. Частушка позволяет обществу стать на мгновение открытым" (с. 209).
Наверное, не зря немалое внимание частушка уделяет сексу и половым органам (с. 210). Для частушки характерно, что к ней прибегали только социальные низы (женщины и молодёжь), поскольку их доступ к высказываниям в публичном пространстве был сильно ограничен (с. 202). То есть здесь налицо факт существования (и противостояния) доминирующего знания (о чём можно и нужно говорить) и доминируемого (о чём принято молчать), и именно последнее, как-либо проявившись, вызывает у людей смех. В этом плане недалеко ушёл и анекдот, рассказывая который,
"мы смеёмся над попытками культуры контролировать нас и таким образом уничтожать" (с. 229). Иначе говоря, мы смеёмся, когда запретное знание выплывает наружу, и король оказывается голым.
"Что вы, жёны, думаете, — кричит разъяренный супруг-ятмул, — я из железного дерева и могу совокупляться с вами столько, сколько хочется вам?" (Мид, 2004, с. 193). Забавная сценка, не так ли?
Мой друг — красавчик, пользующийся большим спросом у женщин, — однажды поведал, как от всего этого устал. Ему было трудно поддерживать общение с женщинами, с которыми он хоть однажды имел секс, так как при каждой следующей встрече они всячески стремились вновь свести общение к этому же. Наиболее близкая его подруга, с которой встречался больше года, регулярно зазывала на свидания, и он всё чаще выставлял условие:
— Хорошо, давай, но только без секса? Просто прогуляемся, поговорим…
— Так легко, — отвечала она. Но при встрече же вновь запускала руки туда, куда решено было не пускать. И регулярно происходили стычки, вплоть до сильных ссор по этому поводу.
В советской психиатрии даже описан крайний пример такого сценария. Мужчина на фоне некоторых жизненных стрессов больше двух месяцев не проявлял сексуальной активности.
"На упрёки жены в прекращении половой жизни отвечал нервными срывами, после которых чувствовал крайнюю разбитость и не мог заснуть. При очередной попытке жены склонить его к половой близости неожиданно для себя ударил её, от чего она скончалась" (Нохуров, 1988).
Но раз культура запрещает сексуальность женщины, то для объяснения того факта, что секс вообще случается, необходимым образом возникает концепция мужской одержимости сексом, сексуальным монстром объявлен именно мужчина. При этом роль полового гиганта, диктуемая культурой, выписывает занятные фортеля: стоит только мужчине откровенно сказать женщине, что к сексу он в целом равнодушен, так тут же будет с удивлением осмотрен с головы до ног, будто школьник на предмет ветрянки, и потом прозвучит сакральный вопрос: у тебя не было никакой детской травмы?
Ещё поэтесса XII века Мария Французская писала о рыцаре, который не смотрел на женщин, что это
"большое зло и проступок против природы" (Оссовская, 1987, с. 90). Мужчина
должен смотреть на женщин, в этом посыл.
В нашей культуре принято считать любовные подвиги достоинством мужчины и это оказывается явным давлением на него. И потом молодым парням очень сложно признать, что они лишились девственности далеко не в 16–18, а позже, и тот факт, что им совсем не хочется заниматься сексом семь дней в неделю. Когда мне было 24, моя сексуальная наставница десятью годами старше учила: если скажешь девушке, что к сексу ты спокоен, то сразу для неё утратишь интерес… Ей важно оставаться сексуально желанной.
"Иногда мужчина не столько не может, сколько не хочет, но считает, что должен, потому что боится быть неправильно понятым. Отказ со стороны мужчины воспринимается как знак его несостоятельности или как личное оскорбление. Мужчина — пленник стереотипных представлений о собственной силе. Хотя мужчины и много говорят о сексе, в некоторых вопросах они более скрытны, чем женщины. В одном американском исследовании (было опрошено 52 000 человек) молодые мужчины предположили, что девственников среди них — только 1 %, а фактически таковых оказалось 22 %" (Кон, 2004, с. 142).
"Традиционная модель сексуального поведения склонна приписывать всю активность, начиная с ухаживания и кончая техникой полового акта, мужчине, оставляя женщине пассивную роль объекта. Строго говоря, эта модель никогда не соответствовала действительности" (с. 144).
Вспоминая юные годы, могу сказать, что друзья часто говорили о девчонках и сексе, и я в этих беседах, больше похожих на браваду, тоже участвовал. Но вот уже тогда осознавал, что делаю это скорее потому, что так принято, нежели я этого в действительности сам хочу. Как-то, уже лет в двадцать, ехал на другой конец города к девчонке, пригласившей пить вино, а сам думал: сидел бы сейчас дома, читал книгу, и никакой суеты… Возможно, мало какой мужчина может позволить себе такие изобличающие самокопания. Хотя уверен, основа для них имеется у многих.
Когда мне было уже около тридцати, с коллективом девчонок я сидел в восточном ресторане, и у нашего столика вдруг начала виться исполнительница танца живота, надолго задержавшись рядом со мной, в полуметре от лица тряся блестящими монистами. Боковым зрением я видел, как девчонки с улыбкой наблюдали за мной, и потому не нашёл ничего лучше, чем жадно глазеть на эту танцовщицу, хотя внутри реально совсем ничего не дрогнуло, и я просто исполнял ту роль, которая, думал, от меня ожидается.
Уверен, точно так же парни с упоением обсуждают свой сексуальный опыт, большую женскую грудь и всё подобное, — потому что считают такое поведение «нормальным», чем-то должным, а не потому что это им реально интересно.
Вера в превосходство мужского сексуального желания так сильна, что люди в целом склонны не верить мужчинам, заявившим, что они стали жертвой женского принуждения. По некоторым данным, из двухсот парней 24 % могут признать, что были жертвами сексуального насилия со стороны женщины (Келли, 2000, с. 680). Лишь 1,5 % женщин достаточно смелы, чтобы признать факт собственного принуждения мужчины к сексу (с. 681). Наиболее распространённой стратегией склонения мужчины к сексу оказывается не применение силы (хотя в 14 % случаях происходит именно так), а простой шантаж или угроза распространения порочащих слухов — 22 % (Weare, 2017). В 62 % женщины склоняют к обычному вагинальному сексу, в 29 % — к оральному и в 9 % требуют анального проникновения. Важно, что лишь незначительное число мужчин склонны описывать случившееся как «секс», тогда как большинство определяют это именно как изнасилование. По понятным причинам (канон доминирующей мужской сексуальности), мужчины редко сообщают о таких инцидентах, и о реальных масштабах подобных действий мы можем лишь догадываться.
Всем известно, что мужчины часто прибегают к фармацевтическим средствам для обеспечения эрекции. Утрата потенции оказывается для мужчины не столько проблемой физиологического ряда, сколько психологического, репутационного.
"Мужественность в действительности постоянно подвергается проверке со стороны более или менее замаскированного коллективного мнения, а также в женских разговорах, в которых уделяется много внимания вопросам отношения полов, подвигам и поражениям, подтверждающим или умаляющим мужественность" (Бурдьё, 2005, с. 360).
Культура, построенная на канонах мужского господства, требует, чтобы мужчина всегда хотел и всегда мог. И если мужчина не хочет и не может, он должен сделать всё, чтобы хотеть и мочь. Так проявляет себя культура, затоптавшая женскую сексуальность и объявившая её носителем именно мужчину. Кстати, если задуматься, почему у некоторых народов существуют предания, описывающие силу того или иного правителя путём перечисления его многочисленных отпрысков от множества разных наложниц? Не потому ли, что секс для мужчины в целом оказывается трудоёмким процессом?
"Число жён служило одним из главных маркеров сакральной силы архаического лидера" (Бочаров, 2011).
"Общение со множеством наложниц — это вменяемая в обязанность обычаем тяжёлая работа, подтверждающая право царя и князя на власть" (Фроянов, 1996, с. 94). Думается, если бы секс для мужчины реально являлся чем-то простым и приносящим лишь удовольствие, то такого героического ореола мужчины, способного удовлетворить уйму женщин, никогда бы не возникло.
Мужчины некоторых аборигенов также прямо сравнивают секс с работой. "Половое желание — это работа", можно услышать от них, или же это просто — "big work" ("большая работа") (Панов, 2017, с. 384).
В заключение можно подытожить:
1. Приматология говорит, что именно самки обезьян (кем является и человек) в большинстве случаев выступают инициаторами сексуальных связей.
2. Причиной этого, возможно, являются такие физиологические переменные, как овуляция и менструация, и такая постоянная, как большее удовольствие от сексуального акта.
3. Фактически у всех видов обезьян царит промискуитет — спаривание множества самцов со множеством самок.
4. Большинство человеческих культур подавляют женское сексуальное желание: где-то его порицают, а где-то просто отрицают (в западных обществах с XIX века).
5. Возможно, в силу подавления женского желания, на передовую выводится желание мужское (чтобы в условиях этой идеологии как-то объяснить, почему секс вообще происходит).
Возникает главный вопрос: когда и как могли возникнуть условия, в которых культура стала подавлять сексуальное желание женщины? Ответу на этот вопрос и будет посвящён следующий раздел. Для антропологии данный вопрос был крепким орешком, но ответ, похоже, есть и здесь он будет предложен.
Глава 4. Рождение моногамной идеологии (реконструкция)
Энгельс был неправ. С этих слов необходимо начать.
Концепция возникновения семьи и моногамии, изложенная Энгельсом в легендарной работе
"Происхождение семьи, частной собственности и государства" (1884) по понятным причинам оказала большое влияние на труды советских антропологов: движимое наследием Маркса-Энгельса советское государство вынуждало учёных придерживаться хода мысли "отцов основателей" (Адоньева, 2019, с. 163; Артёмова, 2009, с. 63) — все новые данные должны были осмысляться только исходя из истинности концепции Энгельса. Для советской антропологии (этнографии) это был тяжёлый удар, от которого она не оправилась и по сей день.
По Энгельсу, общественное развитие претерпело ряд универсальных трансформаций, сменяя одну стадию за другой. Исходной стадией была эпоха промискуитета — когда сексуальные отношения в коллективе не были регламентированы никакими правилами, и мужчины с женщинами были свободны заниматься сексом с любым понравившимся партнёром; потом (в силу неких туманно раскрываемых причин "общественно-экономического" характера) следовали несколько стадий с другими вариантами брака, пока в итоге не возникает известный нам брак моногамный — союз одного мужчины и одной женщины. У этой гипотезы сразу нашлось немало противников, но, главным образом, среди западных учёных. В СССР же она была принята на ура.
На Западе энгельсовская гипотеза происхождения моногамии изначально была встречена прохладно, а потому всегда оставалась лишь одной из многих, и даже не в первых рядах. Только в 1960-е (в связи с хрущёвской оттепелью) советская наука стала свободнее от идеологических оков государства, и учёные начали всё чаще подвергать сомнению некоторые тезисы Энгельса (см. Артёмова, 2009; Клейн, 2014; Крих, 2013). Всё сомнительнее выглядели его концепции разных форм брака, якобы предшествовавших современному моногамному; совсем неубедительной была признана его концепция экзогамии, восходящая к табу инцеста (почему вдруг люди однажды стали вступать в брак с представителями других родов или племён, а не внутри своих собственных); да и господство мужчины над женщиной, которое Энгельс объяснял возникновением частной собственности, было обнаружено у современных охотников-собирателей фактически по всему миру, хотя никакая частная собственность им неизвестна.
Совсем в последние десятилетия оказалась очевидной несостоятельность и концепции Энгельса возникновения первых государств: по его версии, это было непременно связано с переходом к земледелию, тогда как всё чаще и по всему миру обнаруживаются остатки древних раннегосударственных образований с явным существованием классовых элит и сложным политическим устройством — и это ещё до какого-либо земледелия, у охотников-собирателей (см. Васильев и др., 2011, с. 158–162; Берёзкин, 2011, 2013b, с. 170; Раннее государство, его альтернативы и аналоги, 2006).
В 1960–70-е многие советские антропологи отвернулись от парадигмы Энгельса (Клейн, с. 465), и верными ей остались лишь самые упёртые единицы (см. Семёнов, 2002).
Помимо идеологического давления гипотез Энгельса, другой катастрофический дефект советской антропологии состоял в почти полном игнорировании или же в очень ограниченном использовании данных приматологии. Поведение обезьян как наших ближайших эволюционных родственников могло бы многое рассказать о нашем собственном доисторическом прошлом, но советские антропологи в целом не заинтересовались этим источником данных. И всё это притом, что в СССР приматология развивалась очень активно, и приматологи даже открыто критиковали откровенно искусственные реконструкции антропологов в их попытках осмыслить доисторическое прошлое человека (см. Тих, 1970; Алексеева, 1977).
В 1960–70-е (и ещё больше — в последующие десятилетия) в мировой приматологии было установлено, что фактически все виды обезьян промискуитетны — то есть большинство самцов спаривается с большинством самок, не образуя никакие "брачные пары". Промискуитет (неупорядоченные спаривания) — характерная черта всех обезьян (Файнберг, 1974, с. 95). Но всё
это не мешало советским антропологам измышлять картины доисторического общества, полностью игнорируя факт обезьяньего промискуитета. Советским учёным непременно мыслилась картина, что самке древнего человека было важно спариться только с одним, а потому самцы якобы яростно бились за неё. Забавно, что эти фантазии мешали учёным увидеть даже реальное поведение современных обезьян — в учебниках советской антропологии можно встретить пассажи в духе
"шимпанзе и горилла живут парными семьями" (Алексеев, Першиц, 1990, с. 140; этот ляпсус не был исправлен даже в 6-ом издании книги в 2007 году, с. 130). И потому, когда читаешь советскую антропологию, то, как говорится, просто кровь из глаз.
Знакомясь с теми самыми работами минувшего прошлого, трудно избавиться от ощущения, что авторы просто сидели и фантазировали, как же могло быть раньше. Тут тебе и "зоологический индивидуализм", и "половой инстинкт", и "инстинкт пищевой" — хотя приматологам давно известно, что у обезьян (особенно человекообразных) нет никаких инстинктов (Соболев, 2020). Таким образом, если западные учёные только в начале XX века могли писать, будто высшие обезьяны образуют
"прочные супружеские пары" (Малиновский, 2011, с. 162), то учёные СССР писали так и 50, и 70 лет спустя. Говоря жёстко, фактически все советские работы по исторической антропологии (попыткам реконструировать становление человеческого общества) можно просто выбросить. С позиции современного знания, это откровенно несостоятельные домыслы. Если у кого есть желание разобраться в нюансах становления человеческого рода, советскую антропологию лучше игнорировать. Инфицированные догмами марксизма, это просто вредные влияния на ум.
В целом использование работ по антропологии — и тем более приматологии — первой половины XX века оказывается очень рискованным, поскольку за прошедшие 70–50 лет было установлено много новых фактов, опровергающих старые. Один мой друг уже в 2010-ом излагал свою версию антропогенеза, отталкиваясь от советских работ 1960-х, когда ещё считалось, что современный человек произошёл от неандертальца. Он был очень удивлён, узнав, что мировая наука уже более 30 лет назад отказалась от этой идеи.
1. Эпоха промискуитета
Слепота к данным приматологии характерна и для нынешней российской антропологии. Признавая, что общества современных охотников-собирателей не могут служить достоверными образцами для реконструкции древних обществ, ведь за минувшие тысячелетия они прошли свою эволюцию, меняя собственное поведение и формы социальной организации (Артёмова, 2009, с. 127, 170), учёные заявляют, что нам, скорее всего, никогда не удастся понять, каким было первобытное общество. Капитулируя подобным образом, они даже мысли не допускают о той потайной дверце, которая имеется в руках приматологов: почему бы не обратиться к поведению наших ближайших биологических родственников, пути с последними из которых у нас разошлись около 5 млн. лет назад? Если мы найдём нечто общее для всех или даже для большинства видов обезьян, не перекинет ли это тонкую нить в наше собственное прошлое? Мысль разумная, но отчего-то антропологам неблизкая. В итоге их ограниченные построения рисуют странную картину: раз для современного человека (включая охотников-собирателей) главным образом характерна парная семья (один мужчина + одна женщина), то так было и в далёком прошлом, и, вероятно, человек вообще всегда был моногамен. Следует ли из этого, что моногамен всегда был только Человек разумный (Homo sapiens)? Или же и его предковые ветви, Человек прямоходящий (1,5 млн. лет назад) и Человек умелый (2,8 млн. назад) тоже?
Если проецировать образ моногамного человека в далёкое прошлое, далеко-далеко-далеко, то в конце концов мы обязательно упрёмся в кучу промискуитетных братьев-обезьян. Ключевое слово — "промискуитетных".
Как ни крути, а простым предположением, будто человек "всегда был моногамен", отделаться невозможно, ибо всё равно необходимо объяснить, как эта моногамия возникла, как совершился переход от общего для обезьян промискуитета к уникальной парной семье человека с жёстким контролем женской сексуальности. Случилось ли это только у Человека разумного или уже у прямоходящего или ещё раньше, а объяснить данный факт необходимо. В этом плане иронично, что группа исследователей, выявившая сходство ДНК шимпанзе и человека на 99.4 %, призвала и шимпанзе включить в род Homo, то есть объявить Человеком (Wildman et al., 2003). Тогда допущение, что человек "всегда был моногамен", зазвучало бы ещё более странно, ведь шимпанзе капитально промискуитетны.
Да, концепция Энгельса оказалась мертворождённым ребёнком, которого выхаживали слишком долго. Но отвергнув её, советские учёные ринулись в другую крайность — стали склонны видеть привычную им моногамную семью и в глубокой древности, и даже у современных обезьян. Тезис Энгельса о первичном промискуитете, соответственно, тоже был отвергнут. И это был тот самый случай, когда вместе с водой выплеснули и ребёнка.
Если бы советские антропологи прислушались к приматологам, то поняли бы, что от идеи исходного промискуитета отказываться как раз не стоит. Но нет, не прислушались. Обезьяний промискуитет оказался учёным неудобным, потому что иначе было бы сложно объяснить, как же тогда возникла моногамия.
"Если бы в праобществе существовал такой промискуитет, каким он рисуется в привычных представлениях, то никаких сколько-нибудь острых конфликтов на почве удовлетворения полового инстинкта в нём бы не возникло", рассуждали авторы (Бромлей и др., 1983, с. 362). Им нужен был именно некий конфликт, который бы и побудил доисторического человека биться за женщин, чтобы в итоге мужчины начали более-менее справедливо распределять их между собой. Без такого конфликта они не могли объяснить переход от промискуитета к моногамии (к монополизации самок). Но правда оказалась в том, что у всех обезьян действительно царил и царит промискуитет, при этом никаких стычек самцов из-за самок не бывает (так как все довольны), потому и никаким переходом к моногамии там, конечно, и не пахнет.
Маститый антрополог Ю. И. Семёнов, как и за 40 лет до этого, даже в 2002 году продолжает настаивать, что самцы древнего человека бились за самок, желая с ними спариться — тогда как современная приматология показывает, что самки являются как раз наиболее активными инициаторами сексуальных контактов с самцами. За что тогда бились самцы? За какой ограниченный ресурс, если доступ к самке был у каждого?
Видимо, неспроста Семёнов начисто игнорирует самых эволюционно близких к человеку шимпанзе бонобо, славящихся своим откровенным промискуитетом, — за все 790 страниц его книги о бонобо нет
ни одного упоминания (Семёнов, 2002). Очень уж неудобны эти ближайшие нам приматы его идеологизированным построениям.
Как же тогда всё произошло у древнего человека, который, несомненно, как и все наши родственники-обезьяны, просто обязан был также быть промискуитетным? Как человек оказался белой вороной, в корне отличающейся своей моногамией ото всей промискуитетной родни?
Это как оставалось загадкой, так и остаётся по сей день. Причём даже для антропологии западной. Там также были выдвинуты свои концепции такого перехода, но с несколько иных позиций: к примеру, самцу с чего-то вдруг стало принципиально важным, чтобы конкретная самка рожала именно от него (Lovejoy, 1981; Марков, 2011, с. 80). Но при этом упускались и упускаются из виду два фактора:
1. Как при промискуитете (когда все самцы регулярно спариваются со всеми самками) вдруг стал открыт феномен отцовства? Если спаривания всех со всеми постоянны, то самки однажды вдруг просто рожают, это как закон природы — здесь категорически невозможно установить причинно-следственную связь между спариваниями и зачатием. Такая ситуация характерна даже для некоторых человеческих племён современности — там верят, что женщина содержит в себе плод изначально, от рождения, и однажды он просто в ней начинает расти. То есть открытие феномена отцовства совсем не обязательно для монополизации самки, причины у неё какие-то другие.
2. Даже если феномен отцовства (связь между спариванием и зачатием) вдруг становится известен, то почему самцу непременно становится важным, чтобы отныне эта самка рожала только от него?
Подобные концепции, опирающиеся на роль отцовства в становлении парной семьи, не дают адекватных ответов и в целом поверхностны (хотя и очень популярны, особенно у обывателя).
Таким образом, что советская антропология (игнорировавшая промискуитет обезьян), что западная (этот промискуитет учитывавшая), так и не смогли объяснить, как у человека возникла моногамия — длительная связь одного мужчины с одной женщиной. Все существующие концепции неудовлетворительны.
Некоторые авторы указывают, будто никаких реальных следов промискуитета в прошлом человека не обнаружено. Но какие именно "следы промискуитета" они искали? И как вообще выглядят эти "следы промискуитета"? Что мы должны обнаружить, чтобы признать промискуитет в прошлом? Наскальный рисунок со сценой массового секса из "Парфюмера"?
Если не знаешь, что ищешь, то найти это крайне затруднительно. Но дело это не безнадёжно. В действительности "следы промискуитета" остались — они отпечатаны в физиологии человека и в некоторых культурных явлениях. Просто надо уметь посмотреть на некоторые привычные факты под новым углом. Дальше мы этим и займёмся.
Единственный советский антрополог, активно учитывавший все открытия приматологии своего времени, Л. А. Файнберг, сейчас почти никому не известен, хотя в своих работах (1974, 1980, и особенно — 1993, в том же году он и умер) он критиковал сложившуюся позицию большинства своих коллег по цеху. С опорой на многочисленные данные по приматам он доказывал, что в первобытном обществе наверняка, как и у всех ближайших к человеку обезьян, царил промискуитет — неупорядоченные спаривания самцов и самок, никакие "брачные пары" там не возникали. Работы Файнберга были наиболее аргументированными и последовательными, но в итоге затонули среди груды традиционных работ, не содержавших адекватных данных.
В наши дни идейными последователями Файнберга оказались западные антропологи Кристофер Райан и Касильда Жета с их мировым бестселлером
"Секс на заре цивилизации", где они изложили большой объём уже современных данных, свидетельствующих о том же — первобытный человек был промискуитетным, никаких "брачных пар" не образовывал, и у него царила сексуальная свобода. Книга Райана и Жеты действительно хороша (хотя и не без огрехов).
Здесь важно подчеркнуть, что промискуитет — ни в коем случае не синоним неразборчивости. Тем же обезьянам совсем не без разницы, с кем спариваться, они вполне избирательны в плане выбора партнёров и некоторых могут предпочитать, а других игнорировать. Это характерно не только для высших обезьян, но даже и для низших (Файнберг, Бутовская, с. 125).
"Выбор и предпочтения имеют влияние" (Райан, Жета, с. 77). То есть при промискуитете не только можно, но и нужно говорить о симпатиях: несимпатичные друг другу особи спариваться не будут. К тому же имеется ощутимая тенденция к избеганию родственных особей как сексуальных объектов (об этом дальше). Если описать проще, то неупорядоченность промискуитета — это свобода вступать в сексуальную связь с любой понравившейся особью. Таким образом, промискуитет — это не о неразборчивости, не о безразличии, а как раз наоборот: о свободном выборе, ограниченном только собственной симпатией. Это важное замечание.
Начнём с обезьян. Как в начале XX века наивно полагали приматологи, обезьяны образуют те же "брачные пары", что и современный человек, — то есть самец и самка были «преданы» друг другу и ни на кого «стороннего» не засматривались. Они вместе ходили в магазин, под ручку гуляли в парке и так же сообща качали своих детёнышей в колыбели. Только во второй половине XX века стало понятно, что ничего подобного нет, и самцы, и самки ведут вполне себе вольный сексуальный образ жизни.
Обезьяны — не моногамны
Термином «моногамия» (единобрачие) долгое время обозначали формирование устойчивой пары самец + самка, внутри которой концентрировалось удовлетворение многих их жизненных нужд, включая и сексуальность. Последний фактор был даже наиболее значимым в старых концепциях: моногамия означала сексуальную эксклюзивность партнёров (то, что наивно-бытовым языком можно описать как "супружеская верность"). То есть при моногамии секс всегда происходит только внутри этой пары, и никакие сторонние участники в него не допускаются. Так было гипотетически.
Исходный греческий термин «моногамия», описывающий характерное для человека объединение мужчины и женщины в некий единый (mono) союз, однажды заимствовали зоологи для описания поведения животных (Sue Carter, Perkeybile, 2018), и это стало началом длинной вереницы недоразумений. Потом учёные долгое время описывали многие виды «моногамных» животных — волки, пингвины, степные полёвки и, конечно же, лебеди (вспомним устойчивое выражение "лебединая верность"). Точно так же речь шла и о некоторых видах обезьян — гиббоны моногамны, игрунки моногамны и т. д. Глядя на широкий спектр моногамных животных, обывателю было нетрудно поверить, что весь животный мир состоит из прочных "супружеских пар".
Достаточно вспомнить гуляющие по интернету изображения льва и львицы как малограмотный и наивный символ той самой супружеской верности и любви, хотя даже детям хорошо известно, что в прайде на одного льва приходится несколько львиц — то есть «многожёнство»; ну а в действительности всё ещё сложнее.
Моногамия при таком раскладе даже кажется своеобразной константой для животных, а значит, очевидна и для человека.
Только буквально недавние десятилетия показали, что всё это было большим недоразумением: похоже, никакой сексуальной моногамии в мире животных не существует. В действительности целые поколения зоологов были склонны ошибочно описывать поведение животных, как раз исходя из нормы своей собственной культуры: раз люди образуют пары с "супружеской верностью", то это автоматически и неосознанно подразумевалось и для других животных. Раз сексом у людей занимаются, как правило, именно супруги (секс до брака или вне брака порицаем), то значит, и у животных происходит что-то в этом же духе, то есть между самцом и самкой возникает некоторая «связь», которая и делает секс дозволенным. Конечно, всё это было безумно наивно. Доминирующее знание нашей культуры долгое время влияло даже на взгляды учёных, что уж говорить про обывателя.
Именно благодаря этому в науки о животных когда-то перекочевали термины "брачное поведение", "брачный сезон" и даже "супружеская связь", хотя в действительности речь должна была идти просто о сексе, о совокуплении, и ничего больше. У большинства животных самец и самка встречаются лишь однажды — в период спаривания, и всё, дальше их пути вновь расходятся. Но нет, учёные непременно назовут их "брачной парой", а дойдя до обывателя, эта фраза уже автоматически будет понята как картина привычной моногамии с её длительным сожительством, совместной заботе о потомстве, сексуальной верности и т. д.
Учёные стали заложниками собственной культуры, набросив её и на всех других животных, которые, впрочем, и до сих пор не в курсе, что должны образовывать какие-то "брачные пары". Такой дефект в подходе и привёл к тому, что терминами «брачный» или «супружеский» стали описывать фактически любой тип сексуальных связей — кратковременных, долговременных, эксклюзивных или не эксклюзивных.
"Как только самка описывается как находящаяся в "супружеской связи" с самцом, все перестают замечать важность её регулярных сношений с другими самцами" (Райан, Жета, с. 168). Тот самый момент, когда культура диктует видение.
Ещё более смешным это становится, когда исследователи на дефектно понятую картину мира затем накидывают и собственные же моральные оценки, и секс вне пары, которую они изначально описали как «супружеская», сразу превращается в «измену», самка или самец признаётся «неверным», а будущий ребёнок — «незаконнорожденным» (с. 169). Смех смехом, но такие публикации действительно встречаются, особенно в научно-популярной литературе, где авторы пытаются говорить "понятным человеческим языком" — и именно этот самый язык и становится ловушкой для мышления. Но картина эта не нова, ведь даже 500 лет назад православные мыслители были склонны описывать жизнь животных именно с позиции человеческой морали. Птицы, проводящие с одним и тем же самцом бо́льшую часть времени, описывались «наичистейшими», а птенцы их,
"зачатые в чистоте, без похоти, являют собой образец добродетели и трогательно заботятся впоследствии о состарившихся родителях. Как аисты верны друг другу, так и люди не должны помышлять о прелюбодеянии" (Белова, 1996, с. 93). Птичка горлица "мужелюбива есть" и "хранит единобрачие до конца живота своего". Горлицу православные священники даже ставили женщинам в пример и призывали: не будь распутницей, а будь, как горлица. Куропатку описывали как "птица очень блудна"; кукушка — и подавно "ненасытное чрево", созывающее самцов "на смешение блуда"; ласка — "неправедна бывши", а верблюд за какие-то заслуги и вовсе — "блуднеише паче всех скот" (с. 98).
Православные мыслители, не стесняясь, описывали весь мир через призму своего учения с его представлениями о должном и запретном, о чистом и нечистом, и повадки ни в чём не повинных животных не стали исключением их желчного анализа. Как видно, и учёные XX века не сильно ушли от бородатых старцев из тьмы веков.
В общем, углублённые исследования зоологов в последние годы показали, что с пресловутой «моногамией» у животных всё совсем не так. Некоторые виды полёвок действительно образуют длительно существующие пары и совместно растят потомство — да вот только при этом и самец, и самка без проблем спариваются с другими особями своей группы (Райан, Жета, с. 193; Solomon et. al., 2004). То есть как бы моногамные, да как бы не совсем. Аналогичная картина и у обезьян игрунок, которых учёные долго описывали как моногамных (самец и самка сообща растят потомство), но при этом забывали добавить, что спариваются же они без проблем с кем-нибудь другим (Алексеева, 1977, с. 135). ДНК-анализ детёнышей многих видов птиц, долгие годы считавшихся моногамными, показывает, что
"в среднем от 15 до 20 % птенцов не будут потомством самца-партнёра их матери… Исследования показали, что из примерно 180 видов птиц, считавшихся ранее моногамными, 90 % на деле таковыми не являются. И лебеди, увы, также не вошли в «добродетельные» 10 %. Так что если ищете моногамию, забудьте и про лебедей", иронизируют Райан и Жета (с. 194).
Биолог Марлен Зук из Миннесотского университета описывает моральное негодование своих студентов, когда они узнают, что некоторые птицы не моногамны, как считалось раньше (Zuk, 2002, — цит. по Файн, 2017).
Как и православные мыслители пятьсот лет назад, так и в середине XIX века один британский священник (заодно и орнитолог-любитель) призывал своих прихожан
"жить скромно, как завирушка" — такая маленькая лесная птичка. И только в XX веке было установлено, что её система спариваний очень странная — точнее, никакой системы нет совсем: кто-то из завирушек образует моногамные пары, кто-то практикует сожительство по схеме 1 самка + 2 самца, кто-то по схеме 1 самец + 2 самки, а кто-то и 2 самца + 2 самки. Как с юмором замечает современный орнитолог,
"если бы паства преподобного любителя птичек последовала его совету, приход погрузился бы в хаос" (цит. по Файн, 2017).
Похоже, вера в птичью моногамию вообще оказалась слабым местом христианства. В 2000-х многие церкви в США даже арендовали кинотеатры, чтобы показывать прихожанам фильм о жизни пингвинов, ведь самец и самка так заботливо выхаживают яйца и птенцов, что это непременно должно было стать трогательным примером для людей. Но реальность, как всегда, оказалась иной: как только птенец научится плавать, родительская пара тут же распадается, чтобы затем вступить в подобные же отношения уже с какой-нибудь другой особью.
"При типичной продолжительности жизни взрослых птиц в 30 и более лет эти "образцы для родителей" имеют как минимум две дюжины «семей» за свою жизнь" (Райан, Жета, с. 191).
С легендарными волками ситуация тоже не такая простая: хотя часто и можно слышать, будто волки в сексуальном плане невероятно преданы друг другу, некоторые наблюдения показывают, что их поведение вариативнее и в зависимости от условий может отклоняться от этого образца. Как минимум самцы могут позволять себе спаривания с несколькими самками (Макридин и др., с. 19; Mech, 2003, p. 75).
Самки больших кошек (леопарды, львы и пумы) в период гона успевают спариться много раз и не с одним, а с несколькими самцами. Вопреки наивным представлениям, львица спаривается не только с одним львом ("держателем гарема"), но может делать это с разными самцами до 100 раз за день в течение 6–7 дней, пока длится её гон (Eaton, 1976, — цит. по Hrdy, 1986, p. 135).
Так вот несмотря на множество подобных наблюдений у самых разных видов животных, до 1980-х никакого научного интереса явление женского промискуитета (спариваний с разными самцами) не вызывало — его будто просто не замечали. Промискуитет самцов замечали, а самок — нет. Как справедливо считают некоторые антропологи, так было потому, что "теоретически этого явления не должно было существовать" и для его изучения "было слишком мало теоретической инфраструктуры" (Hrdy, там же). То есть то самое, о чём сказано выше: люди категорически не хотят видеть мир таким, какой он есть, и им удобнее считать его таким, каким он
должен быть. А должна быть моногамия. И уж тем более не должно быть никакого женского промискуитета.
Не может не броситься в глаза, как в рамках патриархальной культуры, где именно мужчины оказываются определяющим звеном множества социальных факторов, почему-то принципиально важным становится контроль женской сексуальности, и важным настолько, что все факты, не вписывающиеся в рамки канона, оказываются проигнорированными — сознание просто неспособно их заметить. Но почему женская сексуальность вдруг стала так важна почти всем человеческим культурам? Почему во всём животном царстве именно у человека развивается столь бдительный контроль за женской сексуальностью?
Нет, дело не в частной собственности, как предполагал Энгельс, всё началось гораздо раньше — но об этом дальше.
Как замечают Райан и Жета, большинство антропологов склонно представлять сексуальную организацию древних людей либо в виде привычной нам моногамии, либо в виде полигинии (гаремов), но вот о варианте с промискуитетом (неупорядоченными спариваниями мужчин и женщин) отчего-то вспоминают крайне редко (Райан, Жета, с. 34). Но почему так? Не потому ли, что мысль о женской сексуальной свободе в случае промискуитета способна подорвать веру в незыблемое мужское господство? Ведь моногамию и гаремы роднит то, что и там, и там главным всё равно остаётся мужчина, а женская сексуальность же становится его собственностью, которую он и контролирует.
Промискуитет потому игнорируют, что он — угроза мужскому господству? Интересная мысль.
Последним оплотом моногамной концепции у ближайших к человеку обезьян были гиббоны, и по-прежнему часты их описания как моногамных приматов. Но и «моногамное» поведение гиббонов в итоге оказалось дефектом описания (Palombit, 1994a). Почти всегда в кадр попадает пара гиббонов, а иногда и вместе с «детёнышами». Но исследования показали, что в действительности
"самец может быть недавним вдовцом, к которому только что присоединилась самка, ушедшая от своего предыдущего партнёра. А все эти так называемые отпрыски на самом деле могут быть двумя молодыми самцами, жившими по соседству, оставившими своих родственников ради этой воссозданной семьи" (Смолл, с. 44). В итоге
"картина оказалась совершенно не похожей на то, как этих животных трактовали в американских телевизионных фильмах 1950-х гг.", и группировки некоторых гиббонов могут включать в себя самку и двух взрослых самцов, двух самок и одного самца (Панов, с. 77), прямо как у непредсказуемой птицы завирушки. Что характерно, самцы могут совсем не конфликтовать из-за доступа к самке, даже когда видят, что один из них с ней спаривается (с. 78). Мало того, самки нередко покидали и собственную группу самцов для спаривания с самцами другой группы (с. 83–84; Palombit, 1994b).
Гиббоны моногамны? Такое я слышу даже сейчас, печатая этот текст и слушая очередной выпуск "Орла и решки" про Пхукет. Причём истина известна уже около 40–50 лет, но описания по-прежнему не меняются.
К концу XX века учёные признали, что термин «моногамия» оказался не очень удачным, так как не всегда подразумевал одно и то же: ранние зоологи, описывая живущих в паре животных, называли их моногамными именно на этом основании, тогда как выяснилось, что, несмотря на жизнь в паре, они легко могли совокупляться с совершенно разными особями; просто ранними зоологами неосознанно подразумевалось, что раз самец и самка образуют пару, то автоматически и секс для этой пары становился чем-то священным и эксклюзивным, хотя в действительности это таковым и не было (Huck, Di Fiore, Fernandez-Duque, 2020; Sue Carter, Perkeybile, 2018). Тогда и возникло понимание, что образование пары ещё не есть обязательные и исключительные совокупления внутри этой пары. Потому возникла необходимость в уточнении термина «моногамия», и его разделили на два разных понятия: в первом случае это обозначало лишь образование пары самец-самка с совместным уходом за потомством, но никак не исключало секса с другими сторонними особями — это было названо
социальной моногамией (pair-bonds) (Kinzey, 1987, p. 106; Файнберг, Бутовская, с. 120); во втором случае термин «моногамия» обозначал именно исключительное совокупление внутри этой пары, то есть сексуальную эксклюзивность, отчего и потомство их было общим, генетически принадлежащим только им — это было названо
сексуальной моногамией или
генетической. И вот именно этот, второй вариант моногамии, в природе встречается безумно редко. Настолько редко он зафиксирован на данный момент (к примеру, у койотов), что есть основания полагать, что и эти случаи могут оказаться результатом не слишком глубоких исследований.
В общем, на данный момент моногамия — это не обязательно "супружеская верность", но и просто сожительство самца и самки, без какой-либо "супружеской верности": совокупление одного из партнёров с какой-то сторонней особью по-прежнему продолжают называть «моногамией». И когда учёные сейчас говорят о "моногамных животных", то речь, как правило, идёт именно о
социальной моногамии, а не о
сексуальной, генетической. Это важный момент, который от обывателя обычно ускользает.
Аналогично с «моногамией» долгое время было принято считать, если в стаде обезьян присутствует лишь один самец и ворох самок, то это гарем — такая сексуальная организация, в которой лишь один самец всех самок контролирует и единолично же их оплодотворяет. Но в действительности это не так, и часто в таких группах обезьян происходят структурные изменения, к ним присоединяются другие самцы, которые и являются отцами многих детёнышей в группе.
"Односамцовая структура группы, таким образом, не соответствует гаремной системе спаривания" (Файнберг, Бутовская, с. 67, 142). Долго считалось, что и у павианов, и у горилл существуют именно гаремы — один альфа-самец спаривается со всеми самками, а бета- и омега-самцы, если они есть, доступа к самкам лишены; но всё оказалось иначе, и никто из присутствующих в стаде самцов не выключен из спаривания с самками (Панов, с. 87; Файнберг, 1980, с. 46; Файнберг, Бутовская, с. 98, 143). Возможность быть отцом не исключена ни для кого из них. Как у шимпанзе, так и у горилл и павианов стычки самцов из-за самок в действительности почти не наблюдаются (Файнберг, с. 21, 44).
Часто говорят, что у тех же шимпанзе альфа-самец может препятствовать спариваниям низкоранговых самцов с самками — такое действительно бывает. Но при этом самки всё равно спариваются с низкоранговыми самцами, просто делают это украдкой от глаз вожака (Гудолл, 1992, с. 466; де Вааль, 2019). Приматологам даже пришлось говорить о своеобразной "ошибке наблюдателя" (Loy, 1970), из-за того, что чаще всего они видят спаривания именно вожака и на основании этого приходят к выводу, будто он полностью монополизирует этот процесс и всех самок, в то время как многочисленные спаривания субдоминантных самцов оказываются просто скрытыми от глаз. Исследования показывают, что в реальности основное потомство в стадах обезьян рождается совсем не от доминантного лидера, а от прочих низкоранговых особей (Conaway, Koford, 1964; Loy, 1970; Smith, 1994). В стаде макак резусов самец-доминант произвёл около 22 % потомства, хотя 67 % всех наблюдаемых спариваний производил именно он; при этом самец рангом пониже хоть и был замечен лишь в 14 % спариваний, всё же стал отцом примерно 40 % детёнышей. Авторы этого восьмилетнего исследования резюмировали: "
за все годы, кроме одного, наибольшее количество потомков было произведено не от доминирующего самца, а от молодых самцов, которые были вторыми или третьими по рангу. В одной стае самец, давший наибольшее количество потомков, занимал седьмое место" (Curie-Cohen et al., 1983). Поэтому приматологи призывают коллег хранить бдительность и не забывать, что наблюдаемая сексуальная активность — плохой индикатор вероятного отцовства. Были случаи, когда вожаки и вовсе проявляли к сексу мало интереса, что просто обескураживало учёных (DeVore, 1965). Поэтому по-прежнему открытым остаётся вопрос о том, какие объективно полезные преимущества даёт доминанту сам факт его лидерства. Но версия о приоритетной возможности распространения собственных генов уже не выглядит убедительной.
Таким образом, гаремы горилл и павианов — это форма
социальной организации, а не сексуальной, вот в чём суть. Точно так же и одиночные пары гиббонов или же многосамцовые группы шимпанзе — это именно формы
социальной организации, но никак не сексуальной. В целом у всех обезьян царит промискуитет, и лишь в зависимости от формы социальной организации (большая группа, средняя или малая) он может проявляться более отчётливо или менее. Это и логично: если изолировать самца и самку шимпанзе, то за неимением альтернатив спариваться они будут только друг с другом, ну а мы, в свою очередь, легко впадём в заблуждение, будто они моногамны. Примерно такой дефект описания когда-то и случился в наблюдениях за гиббонами, которые живут очень малыми изолированными группами.
Приматологам хорошо известно, что именно социальная организация определяет организацию сексуальную (систему спариваний, mating system). Социальная же организация, в свою очередь, во многом определяется условиями среды (например, обилие корма). Дело в том, что обезьяны одного и того же вида формируют разные по составу и размерам группы в зависимости от того, обитают они в изобильной зоне или в засушливой (Файнберг, 1980, с. 31): в первом случае группы большие, во втором — маленькие. При дефиците корма малым группам прокормиться проще. К тому же в зонах с изобилием корма соотношение самцов и самок в группе примерно равное, тогда как в засушливых зонах размер группы уменьшается и главным образом за счёт изгнания лишних самцов (чтобы больше пропитания доставалось детёнышам). Так в экстремальных условиях пропитания возникает «гарем» — при многих самках остаются несколько самцов или даже один (а наблюдателю, в свою очередь, может показаться, будто один самец «монополизирует» самок для спаривания). Конечно, вместе с изменениями в размерах и в структуре групп меняется и сексуальная организация: когда самцов и самок примерно поровну, то царит промискуитет (Файнберг, 1980, с. 39; Mansperger, 1990). Предполагается даже, что поведенческая разница между бонобо и шимпанзе обыкновенным (первые живут в гораздо более крупных группах и гораздо миролюбивее) также может быть обусловлена именно разной средой обитания — бонобо, в отличие от других шимпанзе, живут в условиях большего продуктового изобилия (де Вааль, 2014, с. 117).
Помимо кормового изобилия на социальную организацию может влиять и обеспечение безопасности (Boesch, 1991). Обезьяны, большую часть времени проводящие на земле, образуют более многочисленные группы, чем древесные обезьяны (Файнберг, с. 51; Шнирельман, 1994, с. 64; Mansperger, p. 247), что, вероятно, связано с потенциальной угрозой со стороны хищников, противостоять которым проще коллективом. Роскошь существования в виде малых групп или даже в виде обособленных пар характерна только для древесных обезьян (те же гиббоны), которые на землю спускаются редко, а потому и хищники им почти не угрожают. И, как уже говорилось, у всех приматов, живущих многочисленными группами, распространён явный промискуитет (Mansperger, p. 249).
Иначе говоря, у приматов социальность определяет сексуальность, а не наоборот. Но, что интересно, все ныне существующие гипотезы происхождения уникальной для приматов сексуальной моногамии человека переворачивают эту конструкцию и неожиданно исходят из того, что у человека именно сексуальность вдруг определяет социальность (женщины используют секс, чтобы получить от мужчин заботу о детях, и т. д., и так якобы и рождается моногамная семья) — это дополнительный аргумент в пользу несостоятельности подобных гипотез. У обезьян сексуальная организация не определяет ничего, а как раз является результатом определяющих влияний организации социальной. Почему вдруг у человека должно быть наоборот, непонятно.
"Проживание в группах и члены, составляющие группу, определяют возможности для вступления в половые отношения. Большая группа означает большое количество возможных половых партнёров, тогда как маленькая группа ограничивает выбор партнёров" (Смолл, с. 32).
Как безапелляционно заявляют исследователи,
"количество моногамных видов приматов, живущих большими социальными группами, составляет ровно ноль" (Райан, Жета, с. 143). При этом человек единственный групповой и при этом моногамный примат (там же, с. 104) — не правда ли, странно?
Человека принято описывать моногамным, даже несмотря на многочисленных половых партнёров за всю жизнь, несмотря на разводы и повторные браки, а также несмотря на супружескую неверность, широко распространённую во всех существующих обществах, — тоже странно, не правда ли?
Поистине, человек самый удивительный примат.
Немоногамная физиология и прочие следы промискуитета человека
Как было сказано, антропологи XX века подчёркивали, будто "мы не обнаруживаем никаких следов промискуитета у человека в прошлом", но при этом было неясно, какие именно «следы» они ожидали увидеть. Что конкретно могло быть объявлено "следами промискуитета"? Антропологи прошлого и сами этого не знали. Но сейчас нам известно гораздо больше, а потому и "следы промискуитета" у древнего человека мы назвать можем. Часть из них зафиксирована в анатомии и физиологии человека и немного — в культурных феноменах. Начнём по порядку.
1. ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ
В современной литературе очень популярна концепция связи полового диморфизма обезьян (разницы в размерах самцов и самок) с системами их спаривания. Считается, что самцы существенно крупнее самок (гориллы, павианы) при гаремной системе спаривания, — якобы такие виды эволюционировали в условиях постоянных битв между самцами за право владеть «гаремом», что в итоге и привело к отбору наиболее крупных самцов. В то же время при моногамной системе спаривания разница в размерах самца и самки отсутствует (гиббоны), — якобы потому что самец исторически ни с кем не был вынужден драться за обладание самкой, так как виду свойственно образование пар. Промежуточное положение между этими крайностями (но всё же ближе к моногамным) занимают виды с промискуитетом (шимпанзе, макаки) — раз все самцы спариваются со всеми самками, то и драться тоже ни за что не нужно, а потому самцы лишь немного крупнее самок (как и у человека, кстати). В таком виде эта концепция и кочует из книги в книгу, не вызывая нареканий учёных. Но в действительности с ней всё не так просто. К ней есть вопросы.
Да, моногамные виды "образуют пару", но почему это должно уберегать самцов от драк за самку? Почему самцы горилл якобы бьются за свой гарем, а самцы гиббонов за своих самок нет? Франс де Вааль справедливо замечает:
"ничто не свидетельствует о том, что моногамия способствует миролюбию. Единственные моногамные приматы среди наших ближайших родичей — гиббоны — обладают внушительными клыками" (де Вааль, 2014, с. 94). Тезис о том, что моногамия снижает конфликтность в обществе — всего лишь популярный ничем не подтверждённый спекулятивный ход.
Другой вопрос к гипотезе полового диморфизма, это почему гориллы не ограничиваются только одной самкой, а им непременно нужен целый гарем? Почему гиббоны ограничиваются только одной самкой, а не претендуют ещё и на компот? Нюанс в том, что никакой прямой связи между половым диморфизмом и системами спаривания может и не быть. Возможно, это лишь корреляционная, а не причинно-следственная связь.
Вспомним всё, что было написано выше о реальных конфликтах самцов из-за самок у разных видов обезьян: ни гиббоны, ни гориллы, ни павианы, ни шимпанзе из-за самок не бьются. Наблюдения этого попросту не подтверждают. Франс де Вааль, долгие годы изучающий шимпанзе, подчёркивает, что конфликты между самками бывают даже кровопролитнее, чем между самцами, которые свои отношения чаще выясняют позами устрашения и до прямых столкновений доводят редко (де Вааль, 2019). Даже если альфа-самец, предотвращая спаривание какой-либо самки с низкоранговым самцом, решается на атаку, то его жертвой чаще всего оказывается именно самка, а не самец-конкурент — так он
"предупреждает её, что она должна избегать половых контактов с другими самцами" (Гудолл, 1992, с. 465; Smuts, 1995, p. 6).
К тому же, как говорилось выше, в целом для всех обезьян характерен промискуитет, который лишь оказывается в разной степени ограниченным в зависимости от социальной организации конкретной группы. Социальная организация же имеет тенденцию меняться даже у одного и того же вида в зависимости от условий существования (доступность корма и наличие хищников).
Тогда с чем может быть связан тот или иной тип полового диморфизма, если не с межсамцовой агрессией? Может, с межгрупповой агрессией? Возможно. Стычки разных групп обезьян действительно происходят. Но есть и ещё вариант: защита от хищников (Файнберг, 1980, с. 30).
Чем больше группа, тем лучше она защищена, чем группа меньше — тем хуже она защищена (Бутовская, 1998). Поэтому в маленьких группах принципиально важным становится размер самцов. Шимпанзе живут группами 20–50 особей, а порой фигурируют и более значительные цифры — 80 и выше (Файнберг, Бутовская, с. 140), и их половой диморфизм выражен слабо, а вот гориллы живут группами 15–20 особей, и их половой диморфизм выражен сильно. Иначе говоря, чем группа меньше, тем крупнее самцы, и чем группа больше, тем самцы меньше. Самки как ценный репродуктивный ресурс всегда оказываются меньшими в размерах, чтобы быть менее заметными, а самцы же выступают на охранной периферии — они могут отпугивать потенциальных хищников, а потому, с эволюционной точки зрения, должны быть больше, внушительнее. Ровно та же ситуация у львов: большой самец с пышной гривой — он виден издалека и таким образом отпугивает гиен от детёнышей прайда, но поэтому же он и реже охотится, а охотятся в основном самки (они не такие крупные, и у них нет заметной гривы). К слову сказать, несколько павианов, которые значительно крупнее самок и обладают внушительной, почти львиной гривой, в своей охранной функции способны основательно потрепать леопарда и порой даже льва (можно погуглить соответствующие видео в Сети). Так как основная опасность для обезьян исходит от леопардов, то размер самцов и мог эволюционировать в ориентации именно на этот фактор.
Поэтому, возможно, половой диморфизм — это показатель не формы сексуальной организации, а именно социальной, как средство защиты от хищников. К примеру, у тех же гиббонов разница в размерах самца и самки потому фактически отсутствует, потому что они живут в основном на деревьях, и хищники им не угрожают, — поэтому они не только могут существовать очень малыми группами (парами), но и обходиться без каких-либо половых различий в размерах. Макаки же одинакового размера не в силу их промискуитета, а просто потому, что настолько малы, что никакого смысла вступать в противостояние с хищниками нет, и они спасаются бегством врассыпную.
Как видно, половой диморфизм — весьма неоднозначная характеристика, чтобы чётко связывать её с какими-то "системами спаривания". Не связан он и с каким-либо типом доминирования: приматологи отмечают, что есть виды приматов с доминированием самок, несмотря на то, что самцы у них как раз крупнее (кошачьи лемуры, зелёные мартышки) (Бутовская, 1990, с. 71).
Если вернуться к популярной связи различий в размерах самцов и самок с их "системами спаривания", то там тоже всё не так просто, как обычно пишут. Нюанс в том, что многие исследователи сравнивают человека именно с «моногамными» гиббонами, потому что различия в размерах мужчин и женщин не очень значительны, что и выдаётся за якобы свидетельства "древней моногамии" человека. Но при этом авторы такого толка почему-то сравнивают человека только с «моногамными» гиббонами или с «полигамными» гориллами и отчего-то напрочь игнорируют промискуитетных шимпанзе. Как хорошо показали Райан и Жета, пропорции мужчин и женщин больше соответствуют именно промискуитетным шимпанзе и бонобо, которые, как и «моногамные» гиббоны, никаких межсамцовых стычек из-за самок не имеют. Поэтому низкий половой диморфизм человека может быть равно отнесён как к «моногамии», так и к промискуитету, а особенно к последнему (Райан, Жета, с. 297). Это очень справедливое замечание, которое почему-то очевидно не всем.
2. РАЗМЕРЫ ЯИЧЕК
Другим возможным анатомическим свидетельством "системы спаривания" могут быть размеры мужских семенников. У разных видов обезьян яички самцов действительно сильно отличаются размерами — у гиббонов и у горилл они просто крошечные, а у шимпанзе же просто гигантские. Человеческие яички по размерам — нечто среднее между гориллами и шимпанзе.
Предположительно, гигантские семенники характерны для
промискуитетных обезьян, где самцы регулярно спариваются с разными самками, а потому и спермы им требуется больше. Важную роль в этом играет присутствие других самцов в группе: так как с одной самкой спариваются сразу несколько самцов, то эволюционно сложилось так, что их противостояние за оплодотворение происходит на спермовом уровне — выброс большего объёма спермы, чем у конкурентов, мог быть залогом успеха в этом деле (Райан, Жета, с. 304; Смолл, с. 160). Это было названо «спермовойнами» или "спермовыми соревнованиями" (см. Бэйкер, 2013).
Из гипотезы следует, что маленькие яички свойственны моногамным и полигамным приматам — гиббонам и гориллам, лишённым острой необходимости противостоять другим самцам на спермовом уровне. Основываясь на этой картине, часть антропологов полагает, что размеры яичек мужчины, промежуточные между промискуитетными и «моногамными» обезьянами, говорят о том, что когда-то предок человека действительно был промискуитетным, но потом же стал эволюционировать в сторону моногамии. И, возможно, плоды такой трансформации были характерны уже для первых прямоходящих приматов, живших 4,4 млн. лет назад (Lovejoy, 2009).
У такого предположения есть много слабых мест. Выше уже была упомянута часть из них (с чего бы вдруг промискуитетные обезьяны стали переходить к моногамии, продолжая жить в группах? — адекватного ответа нет). Но есть и другие.
По какой-то причине в ходе эволюции у человека развился необычайно большой для всех обезьян пенис — он беспрецедентно длинный и ещё более беспрецедентно толстый. К тому же только человеческий пенис имеет расширяющуюся на конце головку — это эксклюзив в анатомии обезьян, ведь у тех же шимпанзе головка выражена слабо (Кузнецова, Сыренский, Гусакова, с. 104). Как замечают антропологи,
"Homo sapiens: большая человекообразная обезьяна с большим членом!" (Райан, Жета, с. 320). Но зачем в ходе эволюции человека развился столь уникальный для приматов член?
Возможный ответ был получен в серии экспериментов, где учёные изучали специфику взаимодействия пениса с вагиной (Gallup et al., 2003; Gallup, Burch, 2004). В тесте использовали искусственную вагину, наполненную веществом по консистенции максимально близким к сперме, и три фаллоимитатора: два с чётко выраженной головкой и один — без неё, просто сужающийся к концу. Так вот введение и извлечение из вагины всех трёх фаллоимитаторов показало, что головка члена способна исполнять роль, аналогичную поршню шприца: при выведении она создаёт за собой зону пониженного давления, в результате чего «сперма» вытягивается из вагины вслед за членом.
Натуралистичные фаллоимитаторы с расширяющейся головкой всего за одно движение извлекали из вагины аж 91 % искусственной «спермы», тогда как образец без головки извлекал лишь 35 % (см. Райан, Жета, с. 320; Роуч, с. 141). Но возникает логичный вопрос: для чего головке члена извлекать из вагины сперму? Авторы исследования пришли к выводу, что толстый пенис человека с его уникальной головкой эволюционно развился для удаления из женского репродуктивного тракта спермы предыдущего мужчины. Вот так вот. "Древняя моногамия"?
Дело в том, что прямо перед эякуляцией головка члена разбухает максимально, а сразу же после — мгновенно спадает. Таким образом, фрикции способны удалить сперму конкурентов подальше от матки, но как только будет произведён выброс собственной спермы, головка члена сразу прекращает выполнять функцию шприцевого поршня и свою сперму не оттягивает обратно. В итоге сперма мужчины оказывается ближе к матке, чем сперма предшествующих конкурентов.
Не гениальная ли задумка природы?
Такая интерпретация данных позволяет взглянуть на функцию уникального среди всех приматов человеческого пениса по-новому. Кстати, похоже, это единственное убедительное на данный момент объяснение этой уникальности. Если эта концепция верна, то уменьшившиеся по сравнению с шимпанзе мужские яички совсем не свидетельствуют о переходе от промискуитета к моногамии, а лишь говорят о смещении роли яичек в «спермовойнах» на сам пенис. Увеличение пениса человека, таким образом, оказалось компенсацией уменьшения яичек. А промискуитетные «спермовойны» продолжались.
Но как это могло случиться? Почему вдруг уменьшились яички и в компенсацию им увеличился член? Антропологи Райан и Жета выдвигают сложную (и излишнюю) версию с ускоренными генными мутациями именно в яичках, намекая, что их уменьшение случилось буквально в последние 10 тысяч лет. Но на самом деле всё может быть куда проще: просто не надо забывать о человеческом прямохождении, которого нет у шимпанзе. Если представить, что обладатель таких больших семенников, как шимпанзе, вдруг стал бы исключительно прямоходящим, то такое его «богатство» могло бы оказаться помехой для активной ходьбы и тем более для бега. Поэтому, вероятно, уменьшение яичек древнего предка человека происходило вместе с его переходом к прямохождению. Одновременно в качестве удачной компенсации развивался и толстый пенис с выраженной головкой, перенявший на себя роль участника в "спермовойнах".
Вдобавок к этому возможной причиной уменьшения мужских яичек при переходе к прямохождению оказался риск развития бесплодия из-за варикоцеле — усложнения оттока крови от яичек, в результате чего происходит их перегрев и нарушение производства пригодных для оплодотворения сперматозоидов. Варикоцеле — явление уникальное для прямоходящего человека (Goren, Gat, 2018). Если бы яички были ещё крупнее (как у шимпанзе), то и их обеспечение кровью было бы ещё активнее, а значит, риск развития варикоцеле (и бесплодия) оказался бы ещё выше. Иначе говоря, для прямоходящего человека большие семенники стали не только неудобны, но и мало результативны для размножения, а потому они и оказались уменьшенными в ходе эволюции. Это была вынужденная мера именно в силу перехода к прямохождению, а не к «моногамии». Увеличившийся же пенис является свидетельством никогда не прекращавшегося промискуитета.
3. РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД и МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАЗМЫ
Более однозначные "следы промискуитета" обнаруживаются в таких известных сексологии явлениях, как мужская рефрактерность и женская способность к множественным оргазмам.
Рефрактерность (от франц. refractaire — невосприимчивый) — то самое состояние расслабленности пениса, наступающее сразу после эякуляции. Эрекция убывает, и чтобы ей вновь восстановиться, требуется определённое время (оно и называется рефрактерным периодом). Рефрактерность затрагивает не только эрекцию, но и более широкий спектр свойств мужчины, включая мгновенное ослабление интереса к сексуальным стимулам и даже повышение раздражимости пениса к прикосновениям вплоть до болезненных ощущений (Васильченко и др., 1990, с. 24).
То есть рефрактерность — это неспособность мужчины в течение некоторого времени после завершения одного полового акта приступить к новому. В то же время у женщин рефрактерности нет. После оргазма они способны почти сразу продолжать участие в половом акте и достигать последующих оргазмов. Иначе говоря, если мужчина «кончил», то вместе с этим и закончил. А вот женщина же вполне готова продолжать.
Тут и возникает вопрос: откуда такое расхождение? Почему специфика мужской и женской сексуальности оказалась столь различной? Мужчина временно теряет способность к совокуплению, а женщина — нет. Ведь это один биологический вид. Но как так вышло?
На самом деле это «расхождение» возникает, только если смотреть на явление сексуальности через оптику привычной моногамной парадигмы (у одного мужчины лишь одна женщина, у одной женщины — лишь один мужчина). Но если же оглянуться на наших ближайших по эволюции родственников (шимпанзе), у которых сексуальные контакты организованы как раз по типу промискуитета, то картина предстанет в совсем ином свете. Если смотреть на мужскую рефрактерность и способность женщин к множественным оргазмам через оптику промискуитетных связей, никаких загадок и вопросов не возникает.
Ещё в советском учебнике по сексопатологии (под редакцией легендарного основоположника этой науки Г. С. Васильченко) о феномене мужской рефрактерности и женской способности к множественным оргазмам указано:
"Посторгастическая невозбудимость получает своё объяснение в свете эволюционного развития. Тот факт, что у мужчины рефрактерность нарастает сразу по нескольким каналам по сравнению со способностью женщины к множественному оргазму, надо рассматривать с точки зрения биологической роли совокупления в процессе эволюции: биологическая роль мужчины в акте совокупления — отдача полноценной спермы (после же первой эякуляции в эякуляте всё более преобладают секрет придаточных половых желез и слабоподвижные и морфологически незрелые сперматозоиды), а биологическая задача женщины — восприятие спермы, и поэтому она выигрывает при отсутствии феномена рефрактерности, так как если бы после первого оргазма у женщины развивалась протопатическая болезненность к продолжению коитуса, это уменьшило бы возможность оплодотворения"
С кем же собирается продолжать половой акт женщина, когда "её мужчина" взял вынужденный тайм-аут? Правильно: женщина остаётся рецептивной для других мужчин. У наших родственников шимпанзе (да и у некоторых других обезьян) именно так и происходит: с рецептивной самкой последовательно спариваются несколько самцов (Гудолл, 1992, с. 465). Таким образом, наличие рефрактерности у мужчин и способность к множественным оргазмам у женщин говорят именно в пользу этого образа жизни в нашей эволюционной летописи — в пользу промискуитета. Промискуитет был естественным для человека в сравнительно недавнем прошлом, что и оказалось запечатлённым в его физиологии.
Но и это ещё не все "следы промискуитета". Есть ещё.
4. РАЗНИЦА ФРИКЦИОННЫХ СТАДИЙ
Для достижения оргазма мужчине в среднем требуется совершить около 62 фрикций, на что уходит примерно 2 минуты. Для достижения же женского оргазма требуется около 8–10 минут (Кащенко, 2011, с. 71).
"Когда доходит до секса, мужчина — бахвалящийся спринтер, но именно женщины выигрывают весь марафон. Любой консультант по семейным проблемам скажет вам, что самая частая жалоба женщин, связанная с сексом, — то, что мужчины слишком быстрые и слишком прямолинейные" (Райан, Жета, с. 333).
В каких эволюционных условиях могло сформироваться такое расхождение? Сексологи подсказывают, что для увеличения шансов на женский оргазм требуется применение предварительных ласк различного характера, но очень сложно представить, как наш древний прямоходящий предок был так увлечён этими "предварительными ласками", что необходимость их аж закрепилась в женской физиологии эволюционно. Присутствие нескольких самцов в древней группе снова отвечает на этот вопрос.
5. ЭФФЕКТ КУЛИДЖА
И снова вернёмся к теме снижения сексуальных актов в длительных отношениях. Сексологи всё чаще пишут об этом: это и
"Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт" Эстер Перель, и
"Как хочет женщина" Эмили Нагоски. Обе эти книги посвящены одному — способам восстановления сексуальности у супружеской пары. Мэттью Джонсон в книге
"Большие мифы близких отношений: свидания, секс и брак" пишет:
"Будучи семейным психотерапевтом, самая главная жалоба, которую я слышу, связана с желанием большей сексуальной близости. Отсутствие секса было проблемой как в гетеросексуальных парах, так у геев и лесбиянок. Отсутствие секса в близких отношениях, кажется, не знает никаких гендерных или ориентационных барьеров. Я часто слышу, что пары предпочитают смотреть телевизор или читать, чем заниматься сексом" (Johnson, 2016, p. 10).
Феномен снижения частоты сексуальных актов в целом хорошо объясняется уже упоминавшимся эффектом Кулиджа — характерной для животных тенденции к спариванию с разными особями, а не с одной и той же. Спаривание с той же самой особью оказывается весьма затруднительным. Эффект был назван так в честь 30-го президента США Калвина Кулиджа, который запомнился миру благодаря одной байке.
"Президент с супругой посещали одну птицеферму в 1920 г. Во время осмотра первая леди спросила фермера, как он может производить столько яиц, имея всего несколько петухов-производителей. Фермер гордо объяснил, что петухи с радостью исполняют свой долг десятки раз в день.
— Может, вы сообщите эту информацию также и президенту? — попросила первая леди. Президент, бывший рядом, услышав это, спросил фермера:
— И что, петух каждый раз обслуживает одну и ту же курочку?
— О, разумеется, нет, — ответил фермер, — он всё время бегает от одной к другой.
— Понятно, — сказал президент. — Будьте так любезны, уточните этот момент для миссис Кулидж" (Райан, Жета, с. 393).
Действие данного эффекта характерно большому числу животных (Ventura-Aquino et al., 2018). Самец отказывается спариваться с самкой, если он уже проделывал с ней это недавно, зато с лёгкостью возбуждается на новую самку (Brown, 1974; Wilson et al., 1963). Самки тоже подвластны эффекту Кулиджа: к примеру, самка некоторых видов скорпионов не будет снова совокупляться с тем же самцом в течение двух суток, но если всего через час ей предоставить другого самца, то на совокупление она решится очень охотно (Johnson, p. 10). Сексуальное желание требует новизны. И человек здесь совсем не оказался исключением. Сексуальное возбуждение на один и тот же эротический стимул постепенно снижается, но вновь возрастает с появлением нового стимула (O'Donohue, Geer, 1985; O'Donohue, Plaud, 1991), причём, если вновь вернуть первый стимул, то реакция на него опять же окажется низкой, и всё это характерно как для мужчин, так и для женщин (Dawson et al, 2013; Meuwissen, Over, 1990).
Главным проявлением эффекта Кулиджа в человеческой популяции оказывается значительное снижение сексуальной активности с одним и тем же партнёром в длительных отношениях. О том, что секса в браке становится меньше, учёным известно уже не одно десятилетие (Udry, 1980; Greenblat, 1983), и на данный момент этому посвящено немало исследований. Самое резкое снижение частоты половых актов в паре происходит в течение первых двух лет — почти вдвое, это даже было названо "эффектом медового месяца", когда после некоторого всплеска радостной активности непременно происходит её спад (James, 1981; Kahn, Udry, 1986).
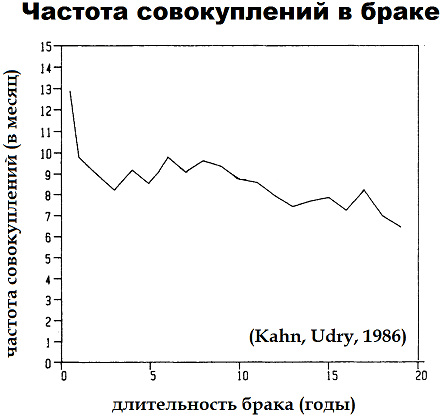
В каких-то исследованиях период резкого падения чуть больше — первые пять лет (Rao, Demaris, 1995). Как бы там ни было, а после первоначального периода резкого снижения затем следует многолетний период более медленного дальнейшего упадка (Call, Sprecher, Schwartz, 1995). Резкое снижение частоты секса в первые годы может объясняться как раз эффектом Кулиджа, надоеданием одного и того же партнёра. При этом в новых отношениях секса снова становится больше, чем в давних (Byers, Heinlein, 1989): активность эта может достигать разницы в два (Yabiku, Gager, 2009), а то и в четыре раза (Rao, Demaris, 1995). Развод и вступление в новый брак ожидаемо ведёт к возрождению половой активности (Call, Sprecher, Schwartz, 1995), но также ненадолго.
По данным одного национального опроса в США, в течение последнего года мастурбировали 60 % мужчин и 40 % женщин, а вот среди совместно живущих пар — 85 % и 45 % (Laumann et al., 1994 — цит. по Кон, 2006а), то есть сексуальное желание в браке никуда не уходит, оно просто перестаёт распространяться на своего партнёра. Вся эта ситуация отображается и на поисковых запросах в Google:
"Больше всего жалоб на отсутствие секса в браке. Поисковый запрос "брак без секса" делается в три с половиной раза чаще, чем запрос "несчастливый брак", и в восемь раз чаще, чем "брак без любви". Даже неженатые пары довольно часто жалуются на то, что они не занимаются сексом" (Стивенс-Давидовиц, с. 16).
Психотерапевт Эстер Перель едко подмечает:
"Медиа регулярно сообщают, что семейные пары перестают заниматься сексом, и я думаю, что, возможно, сексом-то они занимаются, но только не друг с другом" (2015, с. 201). Права она или нет, но есть подозрение, что тот вялый секс, что сохраняется в супружеской паре годы спустя, является не очень желанным и скорее вынужденным — за неимением иной возможности. И неправильным будет подумать, будто эти снизившиеся с годами брака сексуальные показатели устраивают супругов, ведь именно эта причина одна из основных, приводящая клиентов к семейным психотерапевтам. Супруги недовольны уменьшением секса. Но ничего поделать с этим не могут. Секс превращается в рутину. В "супружеский долг".
Но как могло сложиться так, что, считающаяся естественной, моногамия человека приводит к таким последствиям? Не говорит ли эффект Кулиджа, наблюдаемый в браке, что образование долгих отношений с сексуальной эксклюзивностью внутри пары как раз не является чем-то естественным?
"История эволюции показывает, что моногамная система — это сравнительно недавнее изобретение, которое последовательно нарушается, и, как показывает наше современное поведение, вообще может оказаться несостоятельным", рассуждают приматологи, отталкиваясь от анализа сексуального поведения обезьян (Смолл, 2015, с. 18).
"Если вы ждёте ключа к возрождения Эроса в ваших отношениях, сохраняя моногамию, я боюсь, что у меня нет для вас простых ответов", подытоживает психотерапевт Мэттью Джонсон (Johnson, 2016, p. 12).
В общем, для романтических натур всё очень грустно.
Эффект Кулиджа лежит в основе ещё двух известных явлений: "табу инцеста" и
эффекта Вестермарка. Более ста лет назад Фрейд предположил, что детей сексуально влечёт к их родителям, а также друг к другу, но человек научился бороть эти импульсы, которые могли бы стать разрушительными для всех общественных иерархий. Чуть позже Фрейда дополнил антрополог Леви-Строс, предположив даже, что именно с запрета инцеста (сексуальных отношений между кровными родственниками) и началась человеческая цивилизация, культура (Levi-Strauss, 1969). Якобы именно запретом инцеста человек выделился из животного мира. Но фантазии Фрейда и незнание Леви-Стросом зоологии в итоге разбились о факты (Bischof, 1975).
По этому поводу изучавший шимпанзе Франс де Вааль даже воскликнет:
"как же ошибался Леви-Строс!" Время показало, что избегание кровнородственных спариваний
"хорошо развито у многих живых существ, начиная от плодовых мушек и грызунов и кончая приматами. Это почти обязательное требование у любого вида, размножающегося половым путём. У бонобо сексуальные отношения между отцом и дочерью невозможны, потому что самки в период созревания покидают стаю, чтобы присоединиться к одному из соседних сообществ. Секс между матерью и сыном тоже полностью отсутствует, несмотря на тот факт, что сыновья держатся рядом и часто кочуют вместе с матерями. Практически это единственные комбинации партнёров, между которыми в стае бонобо никогда не бывает сексуальных отношений. И без всяких табу" (де Вааль, 2014, с. 107).
Действительно, случаи инцеста у обезьян очень редки. На фоне всей сексуальной активности кровосмесительные контакты занимают очень малый процент (Файнберг, Бутовская, с. 79; Гудолл, 1992, с. 479; Смолл, 2015, с. 190), который, кстати, очень близок к показателям в человеческой популяции (Дерягин, 2005). Самки спариваются почти со всеми самцами, за исключением собственных сыновей и братьев. Причём у обезьян это, разумеется, не выглядит каким-то осознанным запретом, а скорее просто отсутствием сексуального интереса к своим родственникам противоположного пола.
Что интересно, даже в условиях гомосексуальных контактов (которые характерны в основном для самок) обнаруживается та же картина: в гомосексуальные партнёры никогда не выбирают близких родственниц (Chapais, Mignault, 1991; Wolfe, 1984). Этот факт служит дополнительным свидетельством того, что избегание инцеста основано не на каком-то биологическом механизме (избегание кровосмешения) или же каком-то "культурном запрете" (у обезьян о такой вещи говорить вряд ли возможно), а на некоем психологическом механизме. Этот механизм впервые был описан Эдвардом Вестермарком ещё в конце XIX века, почему и был позже назван в его честь. Суть эффекта Вестермарка в том, что особи, выросшие вместе, не испытывают сексуальной тяги друг к другу вне зависимости от степени генетического родства. То есть детям даже от совершенно разных родителей достаточно просто провести вместе много времени в раннем детстве и впоследствии они никак не смогут рассматривать друг друга в качестве сексуальных партнёров. Влияние эффекта Вестермарка было зафиксировано в разных человеческих популяциях, где описанная ситуация имела предсказанный эффект — чем больше дети воспитываются как брат и сестра, тем меньше шансов на сексуальное влечение между ними (Wolf, 1995; Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, 2004).
Антропологи указывают, поскольку эффект Вестермарка имеет место, то у человечества не было необходимости специально устанавливать запрет инцеста (Файнберг, Бутовская, с. 82). Если вдуматься, никакого запрета ведь реально и не существует. Часто принято говорить о табу или запрете инцеста, но в чём он реально выражен? Никакого "запрета инцеста" и нет. Люди просто не занимаются сексом с близкими родственниками, и всё. Это происходит само по себе.
"Нет причин, по которым эти молодые люди не могут влюбиться друг в друга. Просто они не влюбляются" (Смолл, 2015, с. 193).
Почему же тогда люди могут эмоционально реагировать, если узнают о случаях инцеста? Согласно изложенной в первой главе концепции о переходе
описаний в
предписания, поскольку люди растут в обществе, где никаких романтических и сексуальных связей между роднёй (как правило) не бывает, то такое положение вещей автоматически понимается ими как естественный порядок. И если они вдруг узнают о каком-либо факте инцеста, это вызывает у них недоумение, возмущение или даже отвращение, но не больше. То есть такая реакция — это просто реакция на нарушение некоего общего правила, считавшегося незыблемым "законом природы". Эта ситуация аналогична с ношением юбок мужчинами: не носят, потому что просто не принято, а если вдруг кто-то осмелится, то шокирует многих. Инцест в этом плане ничем не отличается. Как нет никакого реального запрета на ношение юбок мужчинами, так нет и никакого собственно "табу инцеста".
При всём этом
"отсутствие половых связей между совместно выросшими людьми автоматически приводит к экзогамии коллектива" (Файнберг, Бутовская, с. 82), то есть к тенденции поиска сексуального партнёра вне привычной группы. Выше говорилось, что это наблюдается уже у шимпанзе, где самцов и самок больше всего привлекают особи из соседних групп, а не из своей собственной. Поэтому и все старые концепции возникновения экзогамии, так популярные у советских авторов, сейчас могут представлять лишь исторический интерес.
Исходя из всего описанного, в самом общем виде эффект Кулиджа можно сформулировать так: хорошо знакомая персона теряет сексуальную привлекательность. В случае совместного детства данный принцип проявляется в виде эффекта Вестермарка, а в случае длительных отношений уже взрослых людей — в виде снижения частоты сексуальных актов. Вся эта куча фактов указывает на одно: человек не приспособлен к сексу с тем, кого долго знает. Это знак явно не в пользу "природной моногамии" человека.
6. МЕНОПАУЗА
Для самок некоторых видов животных характерна менопауза — прекращение менструаций и овуляции в преклонном возрасте, в связи с чем они больше неспособны зачать, но при этом проживают ещё немало лет. На данный момент известно, что менопауза свойственна очень ограниченному числу животных — некоторым обезьянам (включая человека), слонам и некоторым китообразным. У большинства же прочих животных самка способна беременеть до самого конца своей жизни. Естественно, возникает вопрос, почему вообще в эволюционном ряду некоторых редких видов развивается менопауза? Почему вдруг однажды их самки теряют способность зачать, но, в отличие от большинства других животных, продолжают жить ещё долго?
Так родилась
"гипотеза бабушки". Суть её в том, что утрата престарелыми самками способности к зачатию увеличивает их вклад в поддержку своих уже рождённых отпрысков — детей и внуков. При таком раскладе бабушки успешнее участвуют в охране и прокорме своего потомства. В последнее время данная гипотеза всё активнее подтверждается исследованиями. Дети выживают чаще, если у них есть бабушка, живущая неподалёку или непосредственно вместе с ними (Engelhardt et al., 2019; Chapman et al., 2019). Изучение некоторых племён охотников-собирателей показывает, что именно пожилые женщины посвящают сбору съедобных кореньев, фруктов и мёда большую часть времени, и затем всё добытое разделяют со своими детьми и внуками (Hawkes et al., 1989). При этом бабушки тратят на добычу пропитания около 7 часов в день, тогда как молодые девушки — лишь 3 часа, а взрослые женщины с детьми — 4,5 часа. Что важно, за один час бабушки добывают столько же корма, что и более молодые женщины. В итоге получается, что бабушки добывают основную часть еды племени.
"Гипотеза бабушки" недавно была подтверждена и для косаток: в группах, где имелись бабушки, выживаемость молодняка ощутимо выше, чем в группах без них (Nattrass et al., 2019). Сходные данные были получены раннее и по некоторым обезьянам (Fairbanks, McGuire, 1986).
Вмешательство бабушки в обеспечение безопасности внуков было отмечено даже у лемуров: когда самка кольцехвостого лемура, переносившая детёныша на спине, агрессивно стряхивала его на землю, к ней подскакивала её собственная старая мать (бабушка детёныша) и нападала на нерадивую дочь (de Waal, 1996, p. 59).
Но если "гипотеза бабушки" верна, то что ещё это может значить, если вдуматься? Ведь если такое явление, как бабушки, возникает сугубо для того, чтобы поддерживать жизнеспособность потомства, то что это значит для фигуры самца, фигуры отца-мужа? Давайте задумаемся. Если защитницей и кормилицей оказывается бабушка, то не означает ли это, что никакой фигуры отца-кормильца у таких животных попросту и нет? Что касается обезьян, слонов и косаток, то ответ однозначно положительный — самцы у этих видов, как правило, играют лишь роль оплодотворителей, после этого короткого акта они удаляются со сцены (либо возвращаются в своё стадо, либо просто не играют никакой роли по отношению к самке и её детёнышу). Что у косаток (Pilot, Dahlheim, Hoelzel, 2010), что у слонов (Bertschinger, Delsink et al., 2008; Sukumar, 2003), что у обезьян самки спариваются с разными самцами, то есть оказываются промискуитетными и никаких «пар» не образуют. В таких условиях отец всегда остаётся неизвестным. Стада слонов и косаток представляют собой матриархальные семейные группы — в основе их лежат отношения между матерью-матриархом, её детьми, внуками, детьми внуков и т. д. Вероятно, так эволюционно и возникает менопауза — у тех животных, которые не знают никакого отцовства, и где самец никакого участия в развитии потомства не принимает. Такое участие принимают бабушки.
У обезьян, как правило, за детёнышами мамам помогают присматривать либо их же уже подросшие дети — правда, выходит это у них довольно вяло (Smith, 2005, p. 112), — либо же именно бабушки, у которых это получается куда лучше (p. 126).
Если "гипотеза бабушки" верна, то женская менопауза может указывать на то, что наши древние предки существовали промискуитетными коллективами, в которых какое-либо участие самцов в жизни детёнышей отсутствовало или было минимальным, и самки справлялись с выхаживанием самостоятельно, регулярно помогая друг другу. Участие самцов в этом деле могло быть только косвенным, например, как указывалось выше, в отпугивании возможных хищников благодаря нахождению на периферии группы.
Феномен менопаузы шепчет нам, что в древности
"альтернативой парной семье могли быть лишь упор на родственные связи и помощь со стороны самок друзей и родственниц" (Бутовская, 1998). Нужно заметить, что у высших обезьян учёные редко обнаруживают связь между бабушкой и её внуками, так как половозрелые самки расходятся по соседним группам, и потому бабушка просто не знает своих внуков. Поэтому часть приматологов сомневается в действености "гипотезы бабушки" у высших обезьян. Но они упускают из виду нюанс, что бабушка не обязательно должна следить за своими внуками, она может делать это в отношении любых других детёнышей — так менопауза всё равно вносит вклад в жизнеспособность вида. Чтобы менопауза реально была полезной, вовсе не обязательно рассматривать связи между кровными бабушкой и внуками. Самые последние данные говорят, что взрослые самки могут также помогать успешной адаптации своих сыновей-подростков (Reddy, Sandel, 2020) — в таком случае менопаузу можно назвать "гипотезой пожилой мамы".
Ещё одна подсказка в пользу промискуитета со стороны менопаузы: отсутствие аналогичного явления в физиологии мужчины. Да, у стареющего мужчины сперма постепенно становится хуже, но в целом он остаётся способен к оплодотворению. Вопрос: кого должен был оплодотворять старенький «муж», если его гипотетическая моногамная «жена» уже в менопаузе и зачать неспособна?
7. АВУНКУЛАТ
Возможно, есть и ещё одно свидетельство промискуитета древнего человека, но свидетельство уже культурного порядка, — это авункулат (лат. avunculus "дядя по матери") — традиция особой связи между человеком и братом его матери (то есть дядей) (Косвен, 1948; Ольдерогге, 1983, с. 117; Лаврененко, 2018). Иначе говоря, это особые иерархические отношения между племянником и дядей, но обязательно дядей по матери. Исторически связь эта была крепче, чем между ребёнком и его родным отцом. Авункулат был характерен для самых разных народов мира (Косвен, 1948, с. 27; Леви-Строс, 2001, с. 46) — в Африке, у древних народов Европы — а в некоторых культурах его можно обнаружить и в наши дни. Антропологи подчёркивают, что у многих исследуемых народов
"связь между братом и сестрой является самой сильной из всех общественных связей" (Леви-Строс, с. 52). Следы авункулата обнаруживались ещё в Средневековье (Леви-Строс, с. 53) и тогда же у древних славян: указание на особую роль дяди по матери для племянников содержится в первом варианте Русской правды, известном как Краткая Правда — написана около 1020–1070 гг. (Лаврененко, 2018).
Согласно логике авункулата, дети сестры (племянники) для дяди важнее детей собственных. Поэтому в раннее Средневековье враги предпочитали брать в заложники не детей друг друга, а именно племянников (Лаврененко, 2018, с. 364). Значимость связи племянников с дядей (по матери) выражалась и в том, что именно они наследуют его имущество, а не какие-то его собственные дети.
Авункулат оказался крепким орешком для мировой антропологии. Над его разгадкой (когда и зачем возник) учёные усиленно бились всю первую половину XX века, но в итоге она так и не была разрешена. В 1970–80-е споры постепенно стихли, и про авункулат почти перестали упоминать. Советские антропологи робко допускали, что семьи, состоящие из брата, сестры и её детей,
"возможно, предшествовали парным", то есть семьям из мужа и жены (Алексеев, Першиц, 1990, с. 236), но позиция эта осталась совершенно неразработанной. Очевидно, что главной ошибкой антропологов была попытка объяснить, как брат
появился в семейной системе между сестрой, её мужем и их детьми, — любые реконструкции в этом русле выглядели искусственно и неубедительно (см. Косвен, 1948, с. 36). Редкие антропологи замечали, что дядя
"не появляется там, а является непосредственно данным условием" (Леви-Строс, с. 55), то есть роль дяди по отношению к сестре и её детям исходна, а значит, и очень древняя. Не удивительно, что в фольклоре многих народов речь идёт, как правило, об отношениях между дядей и племянником, но не об отце и сыне (Косвен, с. 34).
"Отец не появляется ни в какой другой роли. Он вообще никогда не упоминается и не присутствует ни в одной части мифологического мира" (Малиновский, 2011, с. 94). То есть отец, а точнее, феномен отцовства как таковой, стал известен гораздо позже, — первоначально у женщины был только брат: он был до мужа и до отца её детей. А так как именно от дяди племянник наследовал имущество, то брат сестры в древности — это прототип отца, каким мы его знаем в современности (Малиновский, с. 47).
Вместе с тем авункулату существует простейшее объяснение, если исходить из существования неупорядоченных сексуальных связей (промискуитета) в древности — феномен отцовства в таких условиях не мог быть открыт (женщина просто рожала, это выглядело неким естественным порядком). В пользу промискуитета древнего человека и отсутствия понимания связи между сексом и зачатием говорит и древняя мифология.
"Первые люди, чьё появление описывается в мифе, — это всегда женщина, иногда в сопровождении брата, иногда — тотемного животного, но никогда — мужа. В некоторых мифах ясно описывается, как забеременела первая прародительница. Она начинает свой род, когда по неосторожности оказывается под дождем, или купается и её кусает рыба, или в пещере на неё падают капли воды со сталактита. Таким образом, она «открывается», в её лоно попадает дух ребёнка, и она беременеет" (Малиновский, с. 93).
Можно видеть, что в древнем мифе речь идёт не только о присутствии брата и отсутствии мужа, но вместе с этим и о непонимании связи между сексом и зачатием — женщина беременеет неким экзотическим способом, что может отражать оригинальность древних представлений о зачатии. Поскольку отцовство в древности было загадкой, дети родившей автоматически получали покровительство её брата. Нельзя не обратить внимание, что при такой схеме отец становится и совершенно не нужен — ему достаточно выступить лишь осеменителем матери и исчезнуть. Гениальная схема, ни в какой моногамии не нуждающаяся.
Поэтому когда археологи обнаруживают древние отпечатки ног взрослого мужчины, женщины и детей и сразу начинают трубить о якобы столь же древнем институте моногамии и нуклеарной семьи (Буровский, 2008, с. 262), то не следует забывать, что с таким же успехом это могли быть брат, сестра и её дети (от неизвестного мужчины). Таким образом, феномен авункулата, некогда известный по всему миру, может быть (и скорее всего, является) свидетельством древнего промискуитета, запечатанным в культурных кодах. Антрополог Робин Фокс был одним из немногих, кто во второй половине XX века отстаивал концепцию промискуитета древнего человека и именно через промискуитет объяснял и авункулат (Fox, 1997, p. 211), но по удивительным причинам, несмотря на всю стройность этой гипотезы, она в целом так и осталась проигнорирована научным миром: авункулат предпочли оставить необъяснённым, нежели допустить царство промискуитета в прошлом.
Помимо указанных, некоторые исследователи называют и такие "следы промискуитета", как менструальные кровотечения и женские стоны во время оргазма. Дело в том, что обильные выделения в месячные — слишком странная и энергозатратная потеря, с точки зрения эволюции. Но, возможно, у этих регулярных выделений есть скрытый смысл. Гипотетически, они могут быть защитой от инфекций, переносимых сперматозоидами (Profet, 1993; см. Смолл, 2015, с. 107). Известно, что в случае некоторых внутриматочных инфекций менструальные выделения становятся обильнее обычного, при этом могут длиться дольше и даже возникать в любой момент цикла. Исходя из этого, возможно, обильные менструации были бы особенно адаптивными у крупных видов, практикующих неупорядоченные сексуальные связи, так как в этом случае риск заражения выше, и в конце цикла организм просто «вымывал» бы из себя возможные инфекции.
Что касается оргазма, то вокруг него давно идут споры: какую роль он играет в сексуальном поведении женщины? Каким бы ни был ответ, но есть и более интересный вопрос — почему во время оргазма женщина кричит?
"Почему от Манхэттена до верховий Амазонки женщины гораздо чаще мужчин громко оповещают всех вокруг о получаемом ими сексуальном удовольствии?" (Райан, Жета, с. 347). Если секс у человека с самых древних времён был делом сугубо интимным, сокрытым от глаз других (как полагает концепция древней моногамии), то откуда тогда взялась эта предательская вокальная сигнализация, которую женщины контролировать порой просто не в силах?
Оргазм обнаружен у многих видов приматов, но самое интересное, что установлена связь между криками во время оргазма и неупорядоченной системой спаривания (там же, с. 349; Pradhan et al., 2006). Приматологи полагают, что крики эти призваны привлечь внимание других самцов группы или даже самцов соседних групп для совокупления с этой самкой (Semple, 2001).
"Если в современную человеческую сексуальность включены тысячи поколений совокуплений с множественными партнёрами, то становится ясно, о чём эти крики" (Райан, Жета, с. 348). Учитывая, что крики во время секса способны привлечь и хищников, то они никак не могут быть простым капризом природы, а явно несут какие-то выгоды: самка созывает самцов, чтобы инициировать «спермовойны» внутри себя и отобрать лучшее семя для оплодотворения.
Подытоживая, следы промискуитета у человека имеются. Да и анализ социальной организации и поведения многих видов современных обезьян показывает, что древние люди почти наверняка существовали группами из многих женщин и многих мужчин от 30 до 75 человек (Файнберг, Бутовская, с. 237; Панов, с. 98), а в таких условиях у обезьян всегда практикуется промискуитет — сексуальные контакты многих самок со многими самцами. Таким образом, именно эта форма сексуальной организации была характерна и для древнего человека. К тому же промискуитет устраняет необходимость конфликтов за право доступа к особи противоположного пола, то есть упрощает мирное существование в большой группе (Райан, Жета, с. 148).
В условиях промискуитета не может быть известно отцовство не только конкретного самца, но и феномен отцовства вообще: при непрекращающихся спариваниях установить причинно-следственную связь между ними и беременностью просто невозможно. Самки однажды просто вдруг рожают — это должно выглядеть неким естественным процессом, не зависящим от взаимодействия с самцами.
Ни умозрительные построения советских антропологов, ни антропологов западных о том, как выглядели и функционировали общества древних людей, и как затем сложился переход к образованию лишь парных связей, в свете данных современной приматологии не выглядят удовлетворительными. У промискуитетных приматов, живущих большими группами, стычек самцов из-за самок не наблюдается, и, более того, проще даже представить обратное: стычки между самцами могли бы происходить как раз в условиях моногамии, когда один самец монополизирует самку. А учитывая же тот факт, что у обезьян в большинстве случаев именно самкам принадлежит сексуальная инициатива, то конфликты самцов из-за самок вовсе могли бы только озадачить. Мало того, образование стабильных парных связей с эксклюзивной сексуальностью внутри пары (моногамия) представляет собой очевидное противоречие женской природе приматов, самки которых в поисках сексуального разнообразия активно посещают соседние группы, что заодно ведёт и к большему репродуктивному успеху и генетическому разнообразию вида. Промискуитет выгоден всем сторонам и по всем параметрам, и потому какой-либо объективный смысл в монополизации самок самцами отсутствует. Такая монополизация скорее оказалась бы даже вредной и невыгодной виду в целом.
Среди прочего, поскольку при промискуитете крайне сложно представить открытие феномена отцовства, то и известная гипотеза Оуэна Лавджоя, согласно которой, самцы стали монополизировать самок, чтобы быть уверенными в своём отцовстве, выглядит сильно неубедительной и даже романтизированной. Как замечали антропологи ещё сто лет назад,
"желание надёжно знать, кто является твоим потомком, кажется слишком сентиментальным чувством для варвара" (цит. по Крих, с. 49), и с этим трудно поспорить. Это замечание актуально и для современности, когда так много отцов-уклонистов от уплаты алиментов.
Даже у цивилизованных римлян, как было описано выше, отец без проблем мог отказаться от собственного ребёнка и при этом так же легко усыновить кого-нибудь другого. Кровное родство в древности вряд ли имело какую-то особую ценность — родство устанавливалось и осмыслялось по очень широкому спектру оснований, а не только по крови. Значимость именно кровного родства, вероятно, стала характерной только для последних столетий, да и то только для некоторых прогрессивных культур. Даже у некоторых современных африканских племён отцом ребёнка считается не тот, кто его зачал, а именно муж матери — в случае смерти мужа, все дети, которых вдова родит впоследствии, также будут считаться его детьми и принадлежать его клану, хотя уже и будут зачаты от совсем другого мужчины (Fox, 1997, p. 226).
Даже маститые антропологи отмечали неубедительность ссылок на отцовство как основания для монополизации женщины в древности. Как указывал Леви-Строс, легендарный Бронислав Малиновский в одной своей книге утверждал, что у всех народов одним из движущих мотивов брака является
"естественная склонность каждого мужчины иметь дом и хозяйство и естественное стремление иметь детей", а в другой же книге писал совсем иное:
"в большинстве обществ самец отказывается нести всякую ответственность за своё потомство, если его не вынуждает к этому общество". "Действительно, любопытная естественная склонность!" иронизирует французский антрополог (Леви-Строс, 2001, с. 24).
Сомнительная ценность отцовства заставляет приматологов выражаться о гипотезе Лавджоя не очень лестно.
"Доказать подобное утверждение могла бы лишь маловероятная находка останков самца и самки с обручальными кольцами на пальцах; во всех остальных случаях оно останется чистой спекуляцией" (де Вааль, 2014, с. 93).
Когда я рассказывал подруге, что переход от древнего промискуитета к современным "парным связям" в антропологии так и не нашёл вразумительного объяснения, она с удивлением посмотрела на меня и выдала:
— Так это же очевидно! Люди просто стали умнее…
— Умнее? — улыбнулся я. — Думаю, любой школьник на уроке математики скажет, что когда вместо десятка яблок у тебя остаётся только одно, это скорее утрата, чем какой-то разумный ход.
Так как же возникло то, что мы называем «моногамией» у человека? Когда и в силу каких причин, если неупорядоченные сексуальные отношения так удобны и выгодны нашим родственникам-обезьянам, а значит, были удобны и выгодны и нашим древним предкам? Почему человек однажды перешёл к монополизации женщин, которую мы сейчас именуем браком?
Может показаться, что разобраться в этом вопросе уже просто невозможно, но это не так. Дальше попробуем реконструировать причины этого грандиозного
явления, добавив ко всему вороху уже изложенных данных ещё кое-что, что и поможет нам выяснить, как мужчина стал монополизировать женщину и господствовать над ней. И случилось это до возникновения частной собственности и перехода к земледелию, как ошибочно полагал Энгельс.
2. Начало мужского господства
Как случилось, что на одном конце спектра — ворох повально промискуитетных обезьян, а на другом — якобы сугубо «моногамный» человек? Как исторически вдруг случился этот кардинальный разрыв? Попробуем разобраться.
Начнём с того, что, как и в случае с животными, термин «моногамия» (единобрачие) применительно к человеку оказался не слишком удачным. Этим словом исторически обозначали брак в Древней Греции, где у мужчины могла быть только одна жена, а у женщины — только один муж. Впоследствии этот термин распространился на все аналогичные союзы, ограниченные единственными супругами. Современный человек, сталкиваясь с описанием того, что у древних греков был моногамный брак, по простоте душевной думает, что, значит, у них был такой же брак, как и у современного европейца. Но дело в том, что это совсем не так.
Древнегреческая моногамия — это не о сексе, не о сексуальной эксклюзивности и супружеской верности. Там этого не было, и мужчине легко дозволялось практиковать сексуальные связи вне брака: это и распространённые контакты с гетерами (аналог современных девушек из эскорт-услуг), и с паллаке (сожительницами — аналог конкубины, то есть женщины, не состоящей с мужчиной в законном браке, но находящейся у него на содержании), и с диктериадами (аналог современной проститутки). Право женатого мужчины Древних Афин иметь сексуальные связи с целой когортой женщин публично подчёркивали поэты в своих речах:
"Мы имеем гетер для удовольствия, сожительниц — для повседневной заботы о телесном существовании, жён — для рождения законных детей и для верной охраны имущества" (цит. по Свенцицкая, 1996, с. 77).
Помимо прочего, мужчине всегда была доступна сексуальная эксплуатация своих рабынь, и это тоже было нормой:
"рабыня как сексуальный объект считалась настолько несомненной принадлежностью дома, что казалось едва ли возможным запретить пользоваться ею женатому мужчине" (Фуко, 1998, с. 186).
Можно видеть, что в античном мире в жизни мужчины одновременно находилось место пёстрому перечню женщин в зависимости от настроения и целей. Жена же предназначалась, главным образом, для распоряжения хозяйством и для продолжения рода. Сексуальные связи с прочими женщинами не расценивались как обман или же "супружеская неверность", таких представлений тогда просто не было. Здесь мы вновь сталкиваемся с обманчивым термином «моногамия», который больше вводит в заблуждение, чем поясняет. Как и в описанных случаях у животных, относительно древних греков корректнее говорить о социальной моногамии, а не сексуальной. Таким образом, моногамия — это о заключении законного брака, а не о сексе. У мужчины может быть лишь одна законная жена, а у женщины — лишь один законный муж. Секс прямо здесь вообще никак не фигурирует. Но есть одно "но"…
Несмотря на сексуальные свободы моногамного грека, у его жены аналогичных свобод не было. Древнегреческие жёны сидели дома взаперти (покинуть его пределы без мужа не имели права), были мало образованными (умели читать и писать, но не разбирались в литературе, политике и философии), и были, по сути, безмолвными субъектами брачного союза со строго очерченной целью — рожать детей и блюсти хозяйство. Жена, в отличие от мужа, конечно же, никакими сексуальными свободами похвастать не могла, если ей даже нельзя было выходить на улицу. По закону, если муж вдруг заставал в спальне жены любовника, то имел право его убить, а жену же должен был вернуть её прежним опекунам (Свенцицкая, 1996, с. 81) — отцу, братьям или другим родственникам-мужчинам, обобщённо называемых греческим термином «kyrios» — что в современном понимании близко к «господин», "повелитель" или «собственник». Интересно, что мужчина-господин имел право также убить любовника своей незамужней дочери, сестры и даже любовника своей матери (Демосфен, XXIII. Против Аристократа, 53), то есть власть мужчины распространялась не только на его жену, но и на его сестру, незамужнюю дочь и на собственную мать. Только выдавая свою дочь или сестру за кого-либо замуж (а устроением браков занимались именно мужчины), мужчина утрачивал над ними власть, которая отныне переходила к мужу.
На три тысячи лет раньше Греции аналогичное положение вещей было характерно и для культур Месопотамии:
"на протяжении всей своей жизни женщина вынуждена считаться с желаниями окружающих её мужчин: отца, свёкра, мужа, сыновей. Она всегда вроде как кому-то принадлежит, подобное подчинение происходит потому, что она живёт в доме этого мужчины, свобода её передвижений ограничена, и женщина не решается удалиться от дома из страха быть наказанной" (Гласснер, с. 415). И, конечно, точно так же женская сексуальность оказывалась под строгим мужским контролем, тогда как мужчина обладал куда более широкими половыми свободами (с. 419–420).
Из описанного ясно, что если моногамию понимать в смысле сексуальной эксклюзивности, то у древних цивилизаций она была обязательной только для женщин, но никак не для мужчин. В этом плане моногамия — это контроль женской сексуальности со стороны её мужчины-господина. Потому исследователи справедливо замечают, что на первый план в таком «моногамном» браке выходит мужское господство над женщиной, а, значит, такой брак было бы разумнее назвать патриархическим, а не моногамным (Семёнов, 2003, с. 228).
"Антропологический опыт учит, что в целом существование неравноправия полов в большинстве человеческих обществ всё же выражается в превосходстве мужского пола над женским" (Рулан, с. 269). По всему миру и в самых разных культурах
"мужчины в целом составляли группу людей с более высоким статусом, женщины — с более низким" (Артёмова, 2009, с. 350).
"Вторичный статус женщины в обществе является одной из бесспорных универсалий, общекультурным фактом" (Ortner, 1974).
Как видно, контроль женской сексуальности оказывается плотно переплетён с мужским господством. Мужчина господствует над всеми женщинами своей семьи и он же властен передавать их другим мужчинам — замуж. В антропологии данный феномен широко известен как
обмен женщинами (Levi-Strauss, 1969; Рубин, 2000; Гапова, 2001, с. 378). Во всех культурах мужчины каким-то образом получили право распоряжаться женщинами, передавая их друг другу в качестве жён, хозяек, матерей или рабынь.
"Первая греческая невеста, которая появляется в мифе о происхождении человечества — мифе о Прометее, носит имя Пандора, принадлежащее к той же лексической группе, что и слово didomi (давать). Пандора отдана замуж Зевсом. Женщина всегда отдавалась (didomi) своему мужу другим мужчиной" (Ледюк, 2005, с. 251).
Да, и привычный нам брак до самых недавних пор — был именно выдачей дочери из-под отцовской власти во власть мужа. Это отчётливо проявлялось в почти уже исчезнувшей традиции "просить руки и сердца" у отца невесты. Брак — это и есть обмен женщинами. Только в последние десятилетия ситуация в западных странах ощутимо изменилась, и мужское господство над женщинами в силу экономических причин сильно ослабло — по крайней мере, женщинами теперь не обмениваются, а они сами, добровольно идут под власть мужчины (замуж), некритично ориентируясь на выработанные ещё в древности культурные схемы должного.
В предыдущих разделах подробно описано, что брак прежних эпох в явном виде содержал в себе мужское господство вплоть до нормы насилия над женщиной и даже её убийства. Всё это наталкивает на мысль, что историческое рождение брака могло быть обусловлено именно этим фактом — существованием мужчины-господина. То есть не мужское господство рождается и проявляется в браке, а брак возник при мужском господстве. Брак стал результатом мужского господства, пользуясь которым, мужчины обменивались родными женщинами и так заключали между собой союзы (Артёмова, 2009, с. 353). Жениться, в понимании даже современных племён, это не столько сочетаться браком с женщиной, сколько обеспечить себе дружественную связь с её братьями.
Новогвинейский туземец возмущается на гипотетическую мысль о женитьбе на собственной сестре:
"Неужели вы хотите жениться на своей сестре? Что с вами? Неужели вам не нужен зять? Вы что, не понимаете, что если вы женитесь на сестре другого мужчины, а другой мужчина женится на вашей сестре, то у вас будет по крайней мере два зятя, а если вы женитесь на своей собственной сестре, то у вас не будет ни одного? С кем вы будете охотиться, ухаживать за посадками, к кому вы будете ходить в гости?" (Levi-Strauss, 1969, p. 485; Мид, 2004, с. 188).
"Повсюду в Австралии были распространены обычаи одалживания женщин и обмена жёнами на время или навсегда. У мужчин-аборигенов было принято предоставлять своих жён другим мужчинам, чтобы укрепить или завязать с ними дружбу, проявить сочувствие или просто вежливость, возместить нанесенную ранее обиду, получить взамен какие-нибудь услуги или вещи" (Артёмова, 2009, с. 350).
В мире нет ни одной культуры, где женщины бы властвовали над мужчинами и обменивались ими. Обмену всегда подлежат женщины. И обмениваются ими мужчины.
"Если женщины — дары, то мужчины — партнёры по обмену" (Рубин, 2000, с. 104). Но как исторически сложилось мужское господство? Что к нему привело?
Энгельс, а вслед за ним и все марксисты, ошибочно полагали, будто порабощение женщины мужчиной случилось около 10 тысяч лет назад в связи с переходом от охоты и собирательства к земледелию и накоплению собственности: якобы только тогда женщина стала рассматриваться как орган, родящий потенциальную рабочую силу для возделывания полей, а также будущих наследников отцовского имущества. Мало того, было даже принято считать, будто в первобытные времена царило тотальное равенство среди людей — ведь никакого имущественного расслоения ещё не существовало. Этот взгляд в силу кажущейся убедительности долго царил в советской науке, но уже во второй половине XX века был основательно расшатан данными этнографии (см. Грэбер, 2014, с. 46; Грэбер, Уэнгроу, 2019).
"Истоки патриархата лежат далеко во времени, задолго до развития сельского хозяйства, цивилизации, капитализма или других аналогичных недавних (т. е. в течение последних 10 000 лет или около того) явлений, на которые обычно ссылаются феминистки для объяснения патриархата" (Smuts, 1995).
"Женщин угнетают в обществах, которые нельзя описать как капиталистические, как бы мы ни напрягали своё воображение. В долине Амазонки и в горах Новой Гвинеи женщин часто ставят на место, применяя групповое изнасилование, когда обычные механизмы запугивания не действуют. "Мы усмиряем наших женщин бананом", — сказал мужчина из племени мундуруки. Этнографические материалы изобилуют описанием практик, смысл которых состоит в том, чтобы держать женщину в узде" (Рубин, 2000, с. 94). Австралийские аборигены считали, что
"честь мужа заключалась в его способности держать жену в повиновении, а долг жены — подчиняться мужу" (Артёмова, 2009, с. 351). У самых разных групп туземцев
"мужской коллектив господствует, женщины занимают подчинённое положение и порой подвергаются насилию. В отличие от насилия в пределах семьи, которое возможно в любом обществе, речь идёт о противопоставлении всех женщин как группы всем мужчинам" (Берёзкин, 2015, с. 75). Ритуальные обряды, сопровождавшиеся открытым насилием по отношению к женщинам (о чём подробнее поговорим дальше), были характерны для народов Меланезии, Аляски и Южной Америки (Васильев и др., 2015, с. 368).
Долгое время был популярен взгляд на африканских охотников-собирателей как на пример исходного равноправия древнего человека: много было написано о равенстве полов у пигмеев, бушменов и хадза. Но более внимательные исследования показали, что это не так, и мужское господство ощутимо и у них (на русском языке об этом почти не пишут, и данные об этом дальше будут приведены впервые). Сглаженность же мужского господства можно списать на длительный и далеко не мирный контакт этих народов с племенами скотоводов банту, которые непременно вытесняли их с нажитых мест, а ещё позже — контактом с внутриафриканскими и особенно с европейскими государствами, которые десятками тысяч уничтожали представителей всех этих племён. В условиях таких масштабных гонений названные народы просто утратили свои прежние иерархии — им попросту стало не до постоянного утверждения мужского господства над женщинами. Хотя мифология и некоторые ритуалы всё же сохранили следы этой практики в древности.
В 2019-ом в России даже прошёл антропологический симпозиум по теме "Изобретение равенства", где раскрывалась мысль, что
"представление о первобытном равенстве как исходном состоянии, из которого постепенно развились все известные науке формы социального неравенства, — своего рода академический конструкт, не соответствующий древнейшим реалиям" (Артёмова, 2019). Можно
"допустить, что в праистории власть жёстче и грубее направляла общественную жизнь, чем это происходит сегодня" (Головнёв, 2009, с. 129).
"Вопрос о "происхождении социального неравенства", возможно, является ошибочной отправной точкой. Действительно, мы не имеем ни малейшего представления о том, как была устроена социальная жизнь человека до начала того периода, который называется верхним палеолитом" (Грэбер, Уэнгроу, с. 27).
Археологам известны многие палеолитические захоронения с ярко выраженными статусными регалиями (там же, с. 28). Сложные иерархические общества, по последним данным, вполне могли существовать задолго до перехода к земледелию и до появления частной собственности (Крадин, 2004, с. 110). Такие общества были и в Восточной Азии, и в Южной Америке, и в Океании (Берёзкин, 2015, с. 75).
Одним из способов порождения властных отношений может быть монополизация некоего знания, как правило, это знания ритуальные, тайные (Артёмова, 2009, с. 454). Это отчётливо представлено явлением шаманизма, когда отдельные индивиды заявляют, что имеют связь с миром духов и видят-знают больше других. В обществах охотников-собирателей шаманы имеют реальную власть, по их требованию даже приносят в жертву конкретных людей, и часто их статус отмечен обладанием нескольких жён (Давыдова, 2015, с. 190).
В последние десятилетия в науке всё чаще говорят о
престижной экономике — такой древней форме социально-экономических отношений, важным элементом которых является дарение. Даруя какую-либо вещь, человек (или группа людей) поднимали свой престиж, и чем более ощутимым был акт дарения, тем большее увеличение престижа он сулил (Крадин, с. 104). Племена порой организовывали пышные праздники (как потлач у индейцев США), на которых раздаривались или просто демонстративно уничтожались разные накопленные богатства, что в отдельных случаях вело даже к сложению легенд, разносившихся по региону, и тем самым повышая социальный статус определённой группы. То был ритуальный праздник, где практиковались
"намеренные попытки поставить соседей в неловкое положение собственной щедростью" (Ридли, 2013, с. 145). В процесс дарения, увеличивающего престиж, вовлекалось всё: одеяла, жир, ягоды, рыба, шкуры животных, лодки и многое другое, что можно было накопить. Важным нюансом таких актов дарения оказывалось негласное правило впоследствии возместить полученный дар ответным даром, который должен был по щедрости превосходить полученный. Если же получивший дар затем не мог вернуть ещё больший, то между ним и первым дарителем возникало психологическое отношение долга. Даритель приобретал власть над берущим. Так престижная экономика способствовала социальному расслоению.
"Таким образом, если в капиталистическом обществе господствуют вещные связи, то в докапиталистических — личные отношения. Если в первом случае исходной «клеточкой» является товар, то во втором — престижная экономика и дар" (Крадин, с. 106).
Долгое время в антропологии представление о дарообмене как важной составляющей традиционных обществ было очень популярно. Но, как видим, в реальности всё оказалось сложнее, поскольку привычный нам термин «дар» плохо сочетается с термином «обмен», так как подразумевает здесь всё же некоторое ответное действие. То есть это оказался не дар вовсе, а скорее кредит. Философы Сартр и Деррида предложили смотреть на концепцию дара критически: первый утверждал, что целью дара является сделать Другого обязанным; второй добавлял, что даритель при этом ещё и обретает собственную щедрость (см. Зубец, 2008).
Традиционными народами дарение действительно часто рассматривалось как кабала, что зафиксировано в пословицах: "Дают подарки, глядят отдарки", "Подарки создают невольников, как кнуты — собак" или "Нет ничего хуже, чем ждать, догонять и отдавать" (Крадин, с. 99). Уклонение от отдаривания могло привести к серьёзным последствиям. Поэтому да,
"обмен подарками может быть выражением соревнования и соперничества" (Рубин, 2000, с. 101).
В последнее время даже рождение искусства пытаются объяснить с позиций престижной экономики: "искусство возникает как инструмент борьбы за престиж и влияние, то есть за власть. Престиж и влияние, а не материальные ценности как таковые — вот значимый приз в догосударственных (да, в сущности, и в любых) обществах. Высоких позиций достигают лица и группы, способные предъявить изделия высшего качества, семантическая нагрузка которых признана наиболее ценной" (Берёзкин, 2015, с. 74; Васильев и др., 2015, с. 451). Цель использования сложных предметов первобытного искусства в ритуалах "состояла не только в обучении мифологии, но и в утверждении иерархии" (там же).
Даже рождение первых государств древности, вопреки схемам марксизма, может быть объяснено с использованием категорий престижа и престижной экономики (см. Васильев, 2013).
Трудно не провести аналогию между престижным дарообменом и обменом женщинами: в этом плане женщина оказывается тем самым даром, которым однажды мужчины начали обмениваться. Такой обмен вёл к обязательствам между мужчинами, что помогало создавать союзы. Престижность владения женщиной можно легко проследить почти во всех культурах. Повсеместно
"мужчины обретали высокий статус в социуме только благодаря женщине. Более того, мужчина имел возможность состояться в качестве социального субъекта только посредством женщины. Полноправным членом социума мужчина становился только после заключения брака. Остаться холостяком считалось позорным. Холостяки продолжали пребывать в статусе мальчика" (Бочаров, 2011, с. 101).
О пренебрежительном отношении общества к холостякам я уже писал в первой главе (
"холостяк — полчеловека" и т. д.). Чтобы стать мужчиной, надо было стать мужем — то есть господином женщины. А до этого же он мальчик-холостяк, с которым никто не считается. Обладание женщиной превращает мальчика в мужчину.
"Данный поведенческий архетип, возникший, вероятно, на заре человеческой истории, обнаруживается и в поведении современников. В той или иной мере данного "неписаного закона" придерживаются сегодня представители практически всех культур. В частности, вряд ли мы сможем легко обнаружить холостяка, стоящего во главе государства, да и вообще на вершине государственной иерархии" (Бочаров, там же). Как уже говорилось, с самой древности
"число жён служило одним из главных маркеров сакральной силы архаического лидера" (с. 109).
Всякий австралийский абориген по достижении зрелости стремится обладать женой, да не одной, а сразу несколькими. Вопреки сложным концепциям марксистов, это никак чётко не связано с бытовыми нуждами (якобы большее число жён могло лучше справляться с хозяйственными обязанностями и т. д.). Как правило, многожёнцами оказывались уже старые мужчины. При этом
"нельзя объяснить хозяйственными нуждами стремление пожилого обладателя семи жён, из которых четверо молоды и здоровы, заполучить в жёны ещё и двенадцатилетнюю девочку или же попытки шестидесятилетних мужчин обеспечить за собой девочек, только что появившихся на свет. Такие случаи не были редкостью, и скорее всего эти люди руководствовались в первую очередь мотивами сексуального или престижного свойства" (Артёмова, 2009, с. 352).
"Чем выше статус мужчины, тем больше женщин он мог взять себе в жёны. Многие влиятельные мужчины имели одновременно по 10–12 жён" (с. 353). У отдельных персонажей было даже 20–29 жён, а кто-то претендовал и вовсю на сотню.
Какая "хозяйственная необходимость" могла требовать от мужчины обзаводиться таким количеством жён? Особенно если учесть, что это кочующие охотники-собиратели и даже ни разу не земледельцы. Дело не в какой-то «необходимости», а в соображениях престижа. На деле женщины рассматривались как вознаграждение за какие-то личные заслуги. Беглый британский каторжник, в начале XIX века вынужденно проживший с аборигенами 32 года, однажды научил их сооружать хитрую запруду и отлавливать в неё много рыбы.
"Затея с запрудой так понравилась австралийцам, что они одобрительно хлопали меня по спине и уверяли, что я заслужил трёх или даже четырёх жён" (Бакли, 1966, с. 65). Даже если мужчина считался посредственным охотником, но при этом был грозным воином, он имел несколько жён (Артёмова, 2009, с. 352).
Женщины оказались медалями за заслуги на мужском кителе, стали знаками мужского статуса, к которому сразу же тянулись приобщиться другие мужчины, предлагая своих женщин.
Но даже если общественное расслоение, вопреки Энгельсу, возникает задолго до земледелия и частной собственности, то старый вопрос остаётся: как возникло мужское господство над женщинами? Даже если они оказались наградой в играх мужского престижа, то почему не случилось обратного и такой наградой не стал мужчина?
Историк Юваль Харари в своей "
Sapiens. Краткая история человечества" попытался рассмотреть три самых известных возможных объяснения сложившемуся положению вещей (2016, с. 192).
1) Мужчина сильнее
2) Мужчина воинственнее
3) Мужчина и женщина биологически предрасположены господствовать и подчиняться соответственно.
Но в итоге Харари совершенно справедливо нашёл все три неудовлетворительными. Что касается разницы в физической силе, то она среднестатистическая и описывает картину в целом, но есть немало женщин более сильных, чем многие мужчины, что вовсе не ведёт к их господству над ними. К тому же женщины по многим физиологическим параметрам выносливее, устойчивее мужчин. Но
"главное, что подрывает эту теорию: на всём протяжении истории женщин отстраняли как раз от тех работ, для которых физическая сила не требуется (не принимали в священники, судьи, политики), но со спокойной душой отправляли их надрываться в поле, в мастерскую, на завод или "по хозяйству". Если бы положение в обществе определялось физической силой и выносливостью, женщины вполне могли бы захватить власть" (Харари, с. 192).
"Более того, история человечества убеждает, что зачастую связь между физической силой и социальным положением — не прямая, а обратная. В большинстве обществ ручной труд выпадает на долю низших классов" (с. 193). При этом историк верно отмечает, что не обнаружено прямой связи между физической силой и властным положением — это справедливо даже для обществ обезьян, где для достижения высшего статуса требуется не сила, а навык образования союзов с ключевыми особями, в том числе с самками (см. де Вааль, 2019).
Многие эволюционные психологи любят фантазировать о человеческой предыстории как о временах, когда мужчина силой брал женщину и "волок в свою пещеру". В итоге это якобы и привело к тому, что успешнее размножались агрессивные самцы и покорные самки. Но в главе о женской сексуальности было подробно описано, что в условиях повального промискуитета обезьян главным инициатором спаривания выступает как раз самка, да к тому же спаривается она далеко не с одним самцом, так что никто за самок никогда не бьётся. Промискуитет оказывается сильным средством снижения внутригрупповых конфликтов. Поэтому фантазии о большем репродуктивном успех агрессивных самцов и покорных самок выглядят именно фантазиями.
Воображение некоторых авторов рисует, как самка стала подчиняться одному самцу в поисках защиты от других самцов. На это Харари отвечает:
"трудно принять гипотезу, будто женщины вынуждены были подчиниться мужчинам, потому что нуждались в помощи, — отчего тогда они не обратились за помощью к другим женщинам?" (с. 197). И это более чем справедливо, ведь приматологам прекрасно известны коалиции самок против нападок со стороны самцов. Самки разных видов обезьян объединяются с родственницами да и просто с подругами и сообща успешно защищают и себя, и своих детёнышей (Smuts, 1995). Группа солидарных самок может запугать и загнать на дерево даже агрессивного альфа-самца (де Вааль, 2019). А если вспомнить феномен менопаузы, то в случае верности "гипотезы бабушки" он говорит о том, что самки наших предков действительно очень плотно взаимодействовали друг с другом на протяжении всей эволюции вида.
Вот именно последняя характеристика легла в основу ещё одной интересной гипотезы становления мужского господства. Антрополог Барбара Смутс обратила внимание, что это господство могло возникнуть при условии, если способность женщин древнего человека противостоять мужской агрессии была подорвана сокращением социальной поддержки со стороны родственников и союзников-женщин (Smuts, 1995). Это действительно интересный подход. И как же удачно он перекликается с феноменом "обмена женщинами" в человеческих культурах, не правда ли?
Если у большинства приматов действительно именно самки образуют "ядро" сообщества (Файнберг, Бутовская, с. 85; Бутовская, 1998), формируют наиболее крепкие поддерживающие связи между собой, то человек от них отличается как раз тем, что женщины оказываются наиболее разобщёнными — с самой древности историкам хорошо известны разнообразные "мужские союзы" (Кон, 2009а, с. 72), но никаких "женских союзов" никогда не наблюдалось. Мужчины всегда передавали женщин друг другу, тасовали, как карты в колоде, и тем самым препятствовали выстраиванию каких-либо союзов между ними. Таким образом, да, можно заключить, что на каком-то этапе доисторического развития произошло разделение женщин друг с другом, блокирование их возможности создавать коалиции. Но беда в том, что без ответа по-прежнему остаётся вопрос, как именно стали мужчины обмениваться женщинами, и почему женщины этому не воспротивились? Этот вопрос наталкивает на мысль, что мужское господство всё же предшествовало обмену женщинами, но с введением последнего могло дополнительно укрепиться.
Удивительно, что Харари забыл назвать ещё одну популярную гипотезу — мужчины-охотника, мужчины-добытчика. Согласно этой гипотезе, женщина древнего человека стала нуждаться в мужчине (а следовательно, и подчиняться), потому что однажды он начал заниматься охотой и добывать мясо. Как бы всё это ни звучало разумно, но и к этой версии много вопросов.
Первый: да, известно, что даже шимпанзе почитают мясо за деликатес, но неужто первые женщины настолько его полюбили, что оказались готовы отдать за него свободу? Как иронически замечают антропологи, согласно этой гипотезе, можно сказать, что женщины
"продали себя за бело́к" (Stone, 1997).
Второй нюанс: да, женщины были обременены детьми и ограничены в активности, что и склонило их в сторону собирательства растительной пищи, но, во-первых, не все ведь женщины беременели и рожали разом, одновременно. Часть небеременных и нерожавших женщин могла принимать участие в охоте. У шимпанзе так и происходит, самки тоже порой охотятся. С другой стороны, не обязательно каждой матери оставаться со своим ребёнком, а на время охоты всех детей можно было оставить под опекой всего нескольких женщин. Даже у гиеновых собак, когда большинство особей отправляется на охоту, с общими щенками непременно остаются несколько "сторожей" — ими могут быть как самки, так и самцы. Вернувшиеся же с охоты потом срыгивают часть добычи детёнышам и их "сторожам" (Файнберг, 1980, с. 64). Почему такого же не могло происходить у куда более сообразительных людей, непонятно.
Дело в том, что когда человеческая фантазия рисует, будто некая древняя маленькая нуклеарная семья из мужчины, женщины и их детей жила обособлено от большой группы людей, то это забавное недоразумение. Такого никогда не было. Выходя в саванну, предки современного человека непременно существовали группами, иначе им было не спастись от хищников, которых в древние времена было куда больше, чем сейчас (Бутовская, 1998). А потому картина, когда "муж" уходит на охоту, а с детьми некому остаться, кроме жены, также нелепа. Группы наших древних предков были довольно крупными, иначе быть не могло (Панов, 2017, с. 98; Файнберг, 1980, с. 8, 51), а потому на время охоты всех детей можно было оставлять с небольшим числом взрослых, не обязательно с их матерями. В этом плане популярное объяснение перехода к парным связям у людей формулой "женщина стала нуждаться в мужчине" всегда было откровенно спекулятивным.
Но
главная претензия к гипотезе "мужчины-добытчика" такая: мужчины добывают куда меньше пропитания, чем женщины. По-видимому, гипотеза "добытчика" кажется настолько естественной, что выражение "мужчина-добытчик" не вызовет вопросов, наверное, даже и у самого любопытного ребёнка. В силу этой "естественности" и "самоочевидности" не удивительно, что гипотеза долгое время совсем не подвергалась проверке. Затрещала же она по швам уже в 1960–70-е, когда стало ясно, что у большинства современных охотников-собирателей мужчины не только не являются основными добытчиками пропитания, но, как правило, даже уступают это первенство женщинам. Зачастую мужская охота приносит лишь половину того, что добывают женщины собирательством. В разных обществах вклад мужской охоты в пропитание варьирует от 50 до 20 % (Lee, 1968; Hawkes, 1990; Панов, 2017, с. 334). В некоторых районах Австралии мужчины добывали вовсе около 10 % всей пищи (Артёмова, 2009, с. 354). Даже у пигмеев, порой охотящихся на слонов, до 70 % пищи всё равно приносит женщина (Кабо, 1986). Пигмеи честно признают:
"чем больше женщин, тем больше еды" (Levi-Strauss, 1969, p. 40). Открытие этого минимума мужского вклада в прокорм даже подвигло некоторых исследователей к переформулированию термина "охотники-собиратели" на "собиратели-охотники" (Bird-David, 1990). При этом разные исследователи всё же пытались как-то оправдать концепцию "мужчины-добытчика", сравнивая питательность мясной пищи с растительной, в результате чего первая действительно выигрывала, но при этом из внимания совсем выпадал тот факт, что повышенная калорийность мясной пищи играла бы существенную роль лишь при регулярном её употреблении, а не редком: у организма есть определённый лимит на усвоение белка, а потому далеко не весь объём питательных веществ из мяса им реально усваивается. То есть, если в 0,5 кг мяса содержится такое-то число калорий, то это совершенно не значит, что все они и будут усвоены.
Важно и то, что животную пищу добывают не только мужчины, но и женщины. Они регулярно ловят мелкую дичь — зайцев, грызунов, змей, личинок разных насекомых, содержание белка в которых просто зашкаливает, а в прибрежных районах моллюсков и мелкую рыбу. Мужчины же мелкую дичь в большинстве случаев игнорируют и специализируются именно на крупной дичи (средней массой от 40 кг). Это важный момент, и давайте запомним его. А пока лишь отметим, что потребность в животном белке, таким образом, не требует охоты именно на крупную дичь, и когда кто-то говорит, что мужская охота направлена на удовлетворение именно этой потребности, это не соответствует действительности.
"Не меньшее удивление вызвало у исследователей и другое обстоятельство", пишет Джаред Даймонд.
"После успешной охоты индеец аче не спешил с добычей к жене и детям, а начинал щедро делиться мясом с каждым соплеменником, оказавшимся поблизости. Точно так же они поступали и с добытым диким медом. В результате подобной щедрости три четверти всей добытой на охоте пищи достается кому угодно, но только не самому охотнику и не его жене и детям" (Даймонд, 2013). То есть плоды мужской охоты в первую очередь перепадают самим же мужчинам. Феномен непременного дележа крупной дичи с другими соратниками (порой даже приходят люди из соседних деревень) характерен для охотников-собирателей по всему миру. В то время как пойманная мелкая дичь (грызуны, ящерицы и т. д.) дележу не подлежит и может быть полностью отдана в семью. Исследователи, кстати, верно замечают здесь, что мужская охота на крупную дичь никак нельзя обосновать концепцией "отцовской заботе о потомстве" (Hawkes, O’Connell, Blurton Jones, 2018), скорее она прямо ей противоречит.
К тому же охотники
"постоянно подвергают и себя, и своих близких огромному риску, так как из 29 дней, проведённых ими на охоте, 28 оказываются совершенно бесплодными. Семья охотника может умереть с голоду, дожидаясь, пока их муж и отец наконец сорвёт свой джекпот и притащит домой тушу жирафа. Охота на крупного зверя явно не самый лучший способ прокормить семью" резюмирует Даймонд. И дальше он задаётся вопросом, почему мужчины тогда не переключатся на "негероическую женскую работу" по собирательству, если она оказывается куда стабильнее и результативнее? А это большая загадка.
Выше уже было сказано, что мужчины преимущественно игнорируют мелкую дичь и сосредоточены на добывании представителей крупной фауны. Южноамериканские индейцы, живущие у реки Маракайбо, могли бы ловить рыбу, но всё же предпочитают охотиться. И это несмотря на то, что рыбалка там может приносить мяса в 4 раза больше, чем охота (Speth, p. 153). В одном из австралийских племён мужчины охотятся на кенгуру, тогда как женщины добывают крупных ящериц гоанна. При этом охота на кенгуру выливается в фиаско в 75 % случаев, и мужчины в основном питаются мясом ящериц, пойманных женщинами лишь с 9 % фиаско (там же). У индейцев аче под боком всегда множество упитанных броненосцев, убивать которых можно просто голыми руками, — их вес достигает аж 35 % веса животных, на которых мужчины-аче любят охотиться (p. 155), но они совершенно не занимаются броненосцами. Или же личинки пальмовых долгоносиков, достигающих 7 сантиметров в длину, обитающих в избытке и содержащих колоссальные объёмы жира и белка — их легко собирают руками, выискивая в сгнивших пальмовых стовалх. Но мужчины аче всё равно предпочитают вооружённую охоту на более крупных животных, сопряжённую с риском для жизни, поскольку она проходит вдалеке от мест их проживания, что чревато вероятностью заблудиться, столкновением с вражескими племенами или же просто с хищными животными типа ягуара или змеи. Об этом бессмысленном риске красноречиво сообщает статистика смертности среди аче от несчастных случаев: 16 % у мужчин против 4 % у женщин (p. 154), то есть разница в четыре раза. Ради чего?
Однажды был поставлен остроумный эксперимент (Hawkes, O’Connell, Blurton Jones, 1991) с целью выяснить, сколько пропитания добывали бы мужчины, если бы, вопреки традиции, сосредоточились на мелкой дичи? Охотникам хадза было предложено на время отказаться от крупной дичи и приносить в лагерь только мелкую — за это было обещано вознаграждение. В итоге оказалось, что охота на мелкую дичь результативнее охоты на крупную. Но мужчины-охотники по всему миру предпочитают её игнорировать. Почему? Это загадка, к разрешению которой мы очень скоро вернёмся.
В сходном русле с гипотезой мужчины-добытчика шла популярная версия, которая предполагала, будто при многожёнстве мужчина способен прокормить всех своих жён, а потому число жён якобы эквивалентно вкладу мужчины в пропитание семьи. Но исследования показывают, что никакой прямой связи между навыками мужчины как добытчика и числом его жён при полигинии не существует (Marlowe, 2003; см. Панов, 2017, с. 375). То есть многожёнство у охотников-собирателей может быть обусловлено чем угодно, только не способностями мужчины-"добытчика". Как тут не вспомнить описанную выше схему, по которой женщина — всего лишь награда за престиж и социальный статус?
Но всё же, как могло сформироваться универсальное для всех культур мужское господство, если на деле имеются большие сомнения в значимости мужчины вообще? Не зря Джаред Даймонд, назвав одну из глав своей книги "
Для чего нужны мужчины?" и разобрав все возможные версии, так и не нашёл вразумительного ответа и завершил её словами:
"вопрос "Для чего нужны мужчины?" сегодня актуален не только для антропологов, но и для всего нашего общества" (2013).
В итоге анализ продуктивности мужской охоты порой наводит антропологов на мысль, что
"роль мясной пищи в эволюции людей оказалась сильно преувеличенной" (Панов, 2017, с. 374). Но вот именно на этом тезисе надо остановиться поподробнее. Не так всё однозначно. По какой-то неведомой причине почти во всех исследованиях по быту и пропитанию современных аборигенных племён напрочь обходится вниманием такое фундаментальное явление древности, как мегафауна — совокупность видов гигантских животных (мамонты, мастодонты, бизоны, гигантские ленивцы и т. д.), ещё 10 тысяч лет назад густо населявшая фактически всю планету. Оценивая богатство животного мира в древние времена, сложно остаться при мнении, что мужская охота тогда приносила так же мало, как и сегодня. Так вот если в уравнение о древнем человеке мы вставим охоту на мегафауну — какие изменения это может привнести в наши реконструкции?
Давайте попробуем.
Великая Охота и рождение гендера
Древний человек охотился уже около 1,5 млн. лет назад. Накапливается всё больше данных даже о причастности человека к исчезновению мегафауны на всех континентах. Если в прежние эпохи также случались массовые вымирания, то именно при человеке эти вымирания становятся сильно избирательными — около 125 тысяч лет назад начинают вымирать главным образом крупные виды, тогда как вымирания, обусловленные климатом, прежде не были связаны с размерами животных (Smith et al., 2018). С другой стороны, удивительным образом так совпало, что на всех континентах мегафауна вымирала вскоре после прибытия туда человека (Буровский, 2010). Особенно показателен пример Австралии, где гигантские животные исчезают около 50–40 тысяч лет назад, как раз через несколько тысячелетий после прибытия первых людей, в то время как ощутимые климатические изменения в регионе произошли лишь ещё через 25–20 тысяч лет (Пучков, 2010, с. 459). Анализ массива данных по разным континентам показывает, что, хотя изменения климата и могли внести свою лепту в сокращение мегафауны, всё же решающим фактором оказалась именно человеческая охота (Bartlett et al., 2015).
Другим косвенным свидетельством причастности человека к уничтожению мегафауны оказывается тот факт, что в Африке и в Азии мегафауна пострадала меньше всего (остались слоны, бегемоты, носороги и др.), а вот самые же масштабные вымирания произошли на новых континентах — в Австралии и в обеих Америках. Учёные объясняют это феноменом совместной эволюции животных и человека: зародившись и развиваясь в Африке, предки человека не менее 4 миллионов лет существовали бок о бок с другим зверьём, и когда позже постепенно стали практиковать охоту, животные выработали приспособительные механизмы к этому, научились избегать опасного двуногого хищника, бояться его. При расселении же на территории новых континентов человек сталкивался со стадами совершенно непуганой дичи, ещё не выработавшей никаких рефлексов на это новое двуногое существо — человека. В Азию предки человека (Homo erectus) проникли ещё около 1,5 млн. лет назад, где, видимо, потихоньку и развивали своё охотничье ремесло, что давало фауне время приспособиться, как это происходило и в Африке. Если животные этих регионов научились держаться от человека подальше, это значит, он действительно уже тогда представлял для них угрозу.
С трудом представляется, как человек, выработав все охотничьи навыки и соответствующий инструментарий, смог бы удержаться от охоты на этих гигантов. Ведь даже современные маленькие пигмеи успешно практикуют охоту на слонов. Так что могло заставить и древнего человека не делать подобное? Известны и останки древних слонов с застрявшими в них около 400 тысяч лет назад копьями (Дробышевский, 2017; Файнберг, 1980, с. 87), и наскальные рисунки, изображающие коллективную охоту на стада крупной живности. Наших собратьев неандертальцев современная наука чётко расценивает как специализированных охотников на крупных животных, по уровню потреблению мяса с которыми могли сравниться лишь гиены, волки и медведи (Добровольская, 2009). Если в местах обитания неандертальцев водились мамонты и шерстистые носороги, то именно их останки в рационе неандертальцев в первую очередь и обнаруживаются, и только если в некоторых районах таких гигантов не было, тогда охота велась на диких быков и лошадей. Анализ найденных зубов показывает, что даже двухлетние дети неандертальцев уже питались мамонтом (Добровольская, 2005). Известны останки древних людей с признаками заболеваний, обусловленных переизбытком животной пищи в рационе (там же). Современные исследования показывают, что этот суперохотник неандерталец мог вымереть только в одном случае — если наши предки превосходили его в охотничьих навыках (Timmermann, 2020). То есть Человек разумный, пришедший в Европу, непременно должен был отнять у неандертальцев всю дичь — всех этих мамонтов, носорогов и буйволов. Так что поводов сомневаться в охоте на мегафауну нашими предками очень мало. На данный момент известно, что около 200 тысяч лет назад Человек разумный точно успешно охотился на больших копытных (оленей и даже древнего тура), причём среди прочих останков мелкой дичи почти не обнаруживается (Yeshurun et al., 2007). Опять это игнорирование мелкой дичи и выбор крупной. Как видно, это очень древняя традиция — как минимум с 200-тысячелетней историей.
Иначе говоря, вряд ли стоит недооценивать роль охоты в жизни древних людей. Изобилие животных в древности не могло не сказаться на образе жизни человека. Он охотился и охотился активно. Этим древний человек и должен был отличаться от современных охотников-собирателей, охота которых выглядит более чем скромной. Но как охота на мегафауну могла сказаться на образе жизни древнего человека? И действительно ли главной была роль мяса или же охоты самой по себе как рискового и эффектного мероприятия?
На примере современных
охотников-собирателей мы знаем, что охота — это прерогатива мужчины, не женщины. Даже если в условиях современности за счёт охоты мужчины добывают мало пищи, они всё же держатся за этот образ поведения и не желают отступать. Всё тот же Джаред Даймонд, анализируя быт различных племён, подчёркивает, что сейчас их мужчины приносили бы куда больше пользы, если бы вдруг переключились на собирательство, а не охоту. Но этого не происходит. Не происходит уже много лет, а вероятнее, даже тысячелетий. Даймонд применяет очень ловкие формулировки, подчёркивающие суть происходящего. Он пишет:
"В своём стремлении к большим, но ненадёжным ставкам мужчины напоминают азартных игроков, которые хотят во что бы то ни стало сорвать джекпот: в долгосрочной стратегии игроки извлекали бы большую выгоду, положив деньги в банк и получая небольшой, но предсказуемый процент". Что африканские, что новогвинейские мужчины
"упорно продолжают охотиться, хотя их добыча очень скудна". Зачем они это делают?
Терминология Даймонда, отсылающая к азарту и кушу, очень интересна. Невольно вновь на ум приходит "престижная экономика" с её ролью социального статуса. Европейские богачи, в XIX–XX веках так стремившиеся в колониальную Африку ради охоты на слонов, львов, буйволов и носорогов, демонстрировали это во всей красе. Гигантских животных уничтожали не с целью пропитания, а с целью добычи трофеев, для утверждения собственного величия и статуса. Целью был престиж. И, возможно, всё это могло возникнуть задолго до европейских колонизаторов XIX века.
Первобытные женщины, в стремлении прокормить своё потомство, занимались куда более прозаическими делами, как то же собирательство или добыча мелких животных, а вот мужчины, оторванные от этой необходимости, были увлечены куда более интересным занятием — Великой Охотой на гигантских зверей. Для них это могла быть просто Большая Игра, полная азарта, соревновательности и решающая вопросы престижа.
По занятному совпадению в английском языке слово "дичь" — это "game", а "большая дичь" — соответственно "big game", то есть и Большая Игра одновременно.
Подозрения, что целью Великой Охоты могло быть вовсе не желание прокормить своих соплеменников, а именно вопросы престижа, начали высказываться ещё в 1990-е, а позже фактов накопилось столько, что антрополог Джон Спет в книге "
Палеоантропология и археология охоты на крупную дичь: белок, жир или политика?" подробно излагает такой вариант подхода (Speth, 2010). На эти мысли наводит и тот факт, что древние люди часто уничтожали зверья куда больше, чем могли унести. В 1960-е в это было названо плейстоценовым перепромыслом (overkill) (Martin, 1966). Хищническое истребление животных в количестве больше нужного для пропитания и хозяйственных нужд отмечали многие исследователи (Буровский, 2010). На территории Евразии известны крупные жилища из костей мамонтов, на сооружение которых уходили кости до 30–40 особей. Успешная коллективная охота позволяла уничтожать целое стадо гигантов за раз, если коллективу охотников удавалось загнать его в заранее подготовленную ловушку или овраг. В таких условиях не представляется удивительным, что часто охотники просто оставляли часть туш прямо на месте — для них это было слишком много. Не редкость, что на некоторых стоянках древних людей археологи обнаруживали кости крупных животных лежащими в анатомическом порядке — это говорит о том, что эти туши даже не разделывали, а просто бросали.
Учитывая всё это, Спет замечает, что хотя охота на крупных животных, безусловно, и приносит съедобную отдачу, мотивирующий же фактор, лежащий в основе эволюции охоты на крупную дичь, скорее всего, лежит в социально-политической сфере, а не в том, чтобы принести еду на семейный стол. Охота на крупных животных исторически возникла
"как форма дорогостоящей сигнализации, способ для мужчин продемонстрировать свою ценность, мастерство, надёжность и пригодность в качестве товарищей и партнёров по альянсу". В этом плане интересны наблюдения за современными племенами, мужчины-охотники в которых также немалую часть добытого мяса съедают прямо на месте, разделяя между собой, — в деревню же они несут лишь остатки. Даже у известного своим равноправием африканского народа хадза есть ритуал, в секретной обстановке которого мужчины поедают самые жирные куски добытого мяса, считающиеся священными, — женщины на ритуал не допускаются под угрозой изнасилования и даже смерти (Power, Watts, 1997). Про канадских индейцев было известно, что они
"женщин держат на расстоянии и ставят очень низко. Даже жёнам и дочерям вождя не положено приступать к еде, пока все мужчины, включая слуг, не закончат трапезу. Поэтому в голодное время женщинам нередко не достается ни крошки. Естественно, наверно, предположить, что они питаются тайком, но делать им это приходится с величайшими предосторожностями — разоблачение грозит сильными побоями" (Моуэт, 1985). Исследование костей китайцев 3–4 тысячелетней давности показывает, что женщины питались хуже мужчин, отчего страдали заболеваниями костей, вызванными недостатком железа и витаминов (Dong et al., 2017). Несмотря на то, что в хозяйстве той эпохи уже были одомашненные коровы и овцы, в рационе женщин преобладала в основном растительная пища, а мясо употребляли мужчины. Как упоминалось выше, даже в начале XX века в крестьянских семьях Европы обычным делом было, что
"лучшие куски мяса получали лишь мужчины, а женщины довольствовались кусками худшего качества" (Зидер, 1997, с. 50). У некоторых австралийских аборигенов "
женщины, независимо от их возраста или репродуктивного статуса, обычно получали меньшую долю мяса, чем мужчины; и им часто не разрешалось есть животный жир […] Порядок приоритета распределения пищи — старики, охотники, дети, собаки и женщины" (Speth, p. 158).
Здесь главным снова становится вопрос о необходимости охоты на мегафауну в те далёкие времена — насколько это действительно было целесообразно и жизненно важно? Ведь современные племена охотников-собирателей успешно живут при минимальной добыче мяса. То есть охота на мегафауну не обязательно являлась неизбежным и необходимым элементом жизни древнего человека. Просто однажды мужчины этим занялись. Вероятно, это был лишь вопрос эффектности и престижа. Даже изучение охоты современных аборигенов показывает, что осуществляется она совсем не ради самого мяса, а больше именно для демонстрации мужчинами самих себя — в антропологии это даже получило название
хвастовства или
выпендривания (showing off — см. Hawkes, 1991; Hawkes & Bleige Bird, 2002). В этом плане древняя Великая Охота оказалась неким подобием грандиозного спортивного состязания, в которой мужчины подтверждали своё право претендовать на звание Мужчины. Избыток же добываемого мяса при этом был лишь приятным бонусом.
В книге "
Insipiens: абсурд как фундамент культуры" я развил мысль, что многие аспекты человеческой культуры были развиты именно на почве древнего соперничества между мужчинами, где главной ценностью был престиж, слава. И лучшей базы, чем охота на животных-исполинов, для этого дела не придумать. Трудность реального осмысления феномена охоты в том, что её полезность кажется объективной — люди охотятся, чтобы есть мясо. Но это представление кажущееся. Если сместить взгляд на эмоциональную и социальную составляющую охоты на крупного зверя, то можно увидеть картину в совершенно ином свете. Этнографы всегда отмечали роль мужских эмоций в случае успешной охоты: это кураж, экстаз, неописуемый восторг от победы над зверем. При этом важно, что охота на мелкого зверя или птицу среди охотников носит менее престижный характер, а порой за охоту даже не считается (Веселова, 2014). Про охоту у андаманцев этнографы прямо замечают, что это "
не просто труд, средство добывания необходимого пропитания, а и развлечение, спорт, волнующее коллективное действие" (Маретина, с. 51). То есть дело не в мясе как таковом. Дело именно в риске и умении победить солидного зверя.
Как известно, африканские пигмеи охотятся и на слонов, но делают это очень редко. Почему? Да потому что в этом нет необходимости: пигмеям хватает и другой еды, включая дичь поменьше (антилопы, окапи и дикие свиньи). Убийство же слона даёт шанс для бравады, демонстрации охотничьей удали и повышения личного престижа — для этого отдельные представители готовы потратить несколько дней на выслеживание слоновьего стада. Если послушать самих пигмеев, то они прямо признают, что убивают слонов для утверждения собственного величия. Натуралистка Энн Патнем описывала тот редкий случай, когда престарелый пигмей сразил слона, и объяснение героя было таким:
"— Я уже дед, у меня три сына и внук. Мне хотелось, чтобы они гордились мной. "Так значит, это было проявлением смелости, проверкой собственного мужества", — подумала я. — В тот день, когда я пошёл на эту охоту, — продолжал Фейзи, — в деревне не было голодных. Наши сети были полны антилоп и диких птиц. Не было ни одного пустого желудка. Просто я хотел убить огромного слона. Вот и всё" (Патнем, 1961).
В этом монологе всё говорит само за себя.
Отдельно интересно, что после удачной охоты как пигмеи, так и другие африканские народы устраивают представление, в котором наглядно демонстрируют, как охотник-герой выслеживал добычу и убивал её — это по-настоящему костюмированное шоу с танцами. И оно может длиться несколько часов. Вполне возможно, что театр как таковой когда-то развился именно из этих охотничьих обрядов древности (Арсеньев, 1981), целью которых было восхваление удали конкретного охотника или целой их группы.
В Древней Греции Олимпийские игры имели сакральный характер, в связи с чем доступ женщинам на них был закрыт, только лишний раз свидетельствует о том, что борьба за престиж всегда была сугубо мужским делом. Почти наверняка и древняя охота на мегафауну носила такой же спортивный характер, пока женщина занималась реально необходимым ежедневным трудом — собирательским промыслом, результативность которого всегда гарантирована. Наблюдения за некоторыми охотничьими культурами современности также дают основания считать охоту во многом аналогом спортивного состязания. "
В процессе охоты человеку важно проявить своё умение добыть зверя, "перехитрить его". Это своеобразная "игра" с диким животным. Таким образом, охотничья удача связана не просто с взаимодействием с окружающей средой, способной вознаградить охотника за его старания, она связана ещё и проявлением смекалки, навыков" (Давыдов, 2014). "
Охота предполагает ловкость и смекалку охотника. Охота опасна встречей с хищником, более хитрым и сильным, чем человек, прежде всего с медведем. И, возвращаясь к этимологии названия промысла — "охота", укажем на испытываемый в процессе промысла страстный азарт […]. Поскольку охота (и особенно промысел активный — с ружьём) является по преимуществу мужской практикой, мы имеем дело с мужскими гендерными ценностями" (Веселова, 2014).
То есть охота — это отличный способ "померяться силами" и показать себя. Всё это уходит корнями в глубокую древность, где "праздный класс" (по Веблену) мужчин имел много свободного времени, чтобы громогласно заявить о своём существовании.
В том же "
Insipiens: абсурд как фундамент культуры", я показал, что у разных племён примитивных скотоводов сохраняется странный обычай забоя скота: мужчины его не просто, как можно подумать, закалывают, а перед этим сначала обязательно вступают с ним в рискованную схватку. Мужчины на полном серьёзе в рукопашную (иногда с палками) бьются с буйволом, вместо того, чтобы просто его убить. Такое поведение есть даже у часто называемых миролюбивыми скотоводов Индии тода: они бьются с быком палками и зачастую не просто получают травмы, но и погибают. Аналогичные вещи совершают некоторые африканские скотоводы, и, возможно, так делали на древнем Крите. Но с какой целью всё это происходит? Что характерно, вся эта ритуальная борьба характерна только против крупного скота, со свиньями или козами такого никто не практикует. Размеры животного очевидным образом выступают значимым фактором для демонстрации мужской бравады. Если экстраполировать эту картину в ещё более древнее прошлое, то охота на мегафауну просто не могла избежать подобного же неутилитарного использования. Бои с одомашненным быком, вероятно, и произошли из древней традиции добывания мужского престижа в битве с крупными животными. Учёные справедливо замечают, что подобное поведение могло сложиться именно в период древней охоты, поскольку в скотоводстве нет противостояния животному, оно есть только в охоте, следовательно, из охотничьей практики оно и пришло.
Если всё это так, и это древняя традиция, тогда Великая Охота действительно могла быть просто Большой Игрой взрослых мужчин. Охота на животных-исполинов была привлекательна не столько объёмами добытого мяса, сколько именно возможностью бравировать друг перед другом, демонстрируя свои навыки и отвагу, ведь каждая такая охота была сопряжена с угрозой собственной гибели. Мелкая дичь была в этом плане куда менее привлекательной, к тому же её легко могли добывать и женщины, как они делают это и в современных племенах: к примеру, бушменские женщины ловят мелкую дичь силками (Guenther, 2020), точно так же и женщины на Русском Севере (Веселова, 2014) и у манси (Фёдорова, 2019). Но при этом во всех этих же культурах женщинам категорически запрещено не только использовать "мужские" орудия охоты (копья или ружья), но даже и прикасаться к ним (об этом дальше). Это запрет именно культурного характера. Часто встречается тезис, будто женщина не охотилась на крупную дичь по причине недостатка силы, но так ли? Пигмеи Конго убивают слонов очень просто: маленький человечек выслеживает стадо, подкрадывается под одного из них и просто вонзает копьё в брюхо; слон убегает, и дальше достаточно просто следовать за ним, ожидая его смерти. Вес пигмея — 40–45 кг. Неужто женщина весом в 50–60 кг не смогла бы проделать то же самое? А что особенно интересно, этнографы описывают (Патнем, 1961), что после удачной охоты именно пигмейские женщины по несколько километров тащат туши убитых животных, а мужчины же идут налегке лишь с копьём — так кому тут действительно требуется сила? Мансийским женщинам запрещено участвовать в охоте на крупную дичь (олени, лоси), но при этом забавным образом именно они занимаются транспортировкой добытых туш, впрягаясь в нарты, иногда вместе с собаками (Фёдорова, 2019). Да и в целом данные этнографии единодушны в том, что во всех культурах именно женщина всегда занималась регулярным тасканием тяжестей — переноска грузов при перекочёвках, таскание дров для костра, воды и даже волочение саней, в которых сидит муж (но подробнее об этом дальше).
Женщины вполне могли бы охотиться и на крупную, но просто не стали этого делать. Ответственность за прокорм детей вынуждала выбирать гарантированные поиски пищи — таковым всегда оказывалось (и оказывается сейчас) собирательство. У мужчин же не было никаких обязательств, и они были куда свободнее в выборе деятельности: могли выбирать и ту, которая вообще не имела утилитарного характера.
Конечно, охота в те давние времена не была индивидуальной: раз речь идёт об охоте на исполинов или даже на стада животных, то охота эта чаще всего была коллективной (Файнберг, 1980, с. 83). Следовательно, если вести речь о таком продукте Великой Охоты, как престиж, то изначально он был наградой для всей группы охотников. Сейчас можно только гадать, состязались ли как-то разные охотничьи группы между собой в престиже, но назвать две большие группы, между которыми охотничий престиж точно воздвиг колоссальный водораздел, мы можем: это мужчины и женщины. Мужчина обрёл величие, а женщина сникла в его тени.
С установлением Великой Охоты возникает чёткое разделение между деятельностью мужчин и деятельностью женщин. Если вторые, как и самки всех приматов, занимаются детьми, собирают плоды и травы, а порой добывают мелкую дичь, то мужчины же отныне — сугубо охотники. Причём не на мелкую дичь, как женщины, а именно на крупную, на мегафауну, на этих страшных и могучих исполинов. Иначе говоря, с Великой Охотой рождается
гендер — совокупность особых характеристик, в рамках данной культуры приписываемых конкретному полу. Характеристики, отныне приписываемые мужчинам, содержат элементы силы и смелости, доминирования и величия.
Выше уже упоминался хорошо изученный в антропологии факт, что мужская охота приносит куда меньше пропитания, чем женское собирательство. Но пока учёные по всему миру ломают головы и строят сложные концепции, пытаясь объяснить, почему мужчины тогда вообще продолжают охотиться, некоторые исследователи высказывают ту мысль, которая лежит на поверхности: "
Несмотря на то, что собираемая женщинами часть съестного значительно превосходит то, что могут добыть на охоте лучники-мужчины, все бушмены в первую очередь считают себя не бортниками-вегетарианцами, а охотниками-мясоедами. При этом их не устраивает, например, возможность убивать в год примерно 25 миллионов долгоногов — шустрых зверьков, напоминающих среднеазиатских тушканчиков, мясо которых служит главным источником белков для нескотоводческих племён этого района. Практически вся жизнь мужской части бушменского общества всегда была связана с "чи го" — или "большой охотой" на крупную дичь. Выследить и подстрелить "коровью антилопу" кон-гони, зебру или орикса — это своего рода праздник для бушменских мужчин, лучшее доказательство их превосходства над женщинами, Потребление орехов и корешков, собираемых женщинами, мужчины рассматривают лишь как способ поддержания существования, в то время как мясо "даст возможность жить по-настоящему" (Кулик, 1996). Охота на крупную дичь была и остаётся главным идеологическим способом подтверждения мужского господства над женщинами, превосходства первых над вторыми. Так обстоит по всему миру, так обстоит и у бушменов, которых мы так любим называть "эгалитарными".
Учёные тонко подмечают, что женщинам не запрещена охота как таковая — им запрещено пользование оружием (Speth, p. 159). Оружие — мужское. Этот запрет выливается в распространённые по всему миру охотничьи табу для женщины (см. дальше). Всё это чётко и однозначно указывает на исключительно идеологическую подоплёку полового разделения труда — никакая "биология" к этому не располагает.
Но если мужчина охотится, то что же делает женщина? Нет, не просто рожает детей и "следит за очагом", как часто принято говорить. Нет, отныне женщина делает
вообще всё остальное. Но к этому вопросу мы ещё вернёмся.
Когда возникает чёткое разделение труда, со временем возникает и негласное требование соответствовать этому разделению. Тот самый случай, когда из-за специфики человеческого мышления
описание превращается в
предписание: раз все мужчины охотятся, то мужчина —
должен охотиться. С распространением охоты на мегафауну каждый рождённый мальчик невольно впитывал эти поведенческие нормы, вбирал в себя в качестве жизненных ориентиров, отступать от которых даже не было мысли.
Началу охоты предшествовали ритуалы, окончание её также сопровождалось ритуалами и празднествами. Мужчины-герои торжественно уходят, мужчины-герои торжественно возвращаются. Как астронавты на мысе Канаверал… Ну а после закатывают небывалый пир. Убивая исполинов, Мужчина становился исполином сам. В лучах славы возникал и разрастался ореол Великого Охотника — Мужчины. Это только на первый взгляд кажется, что охотник просто добывает пищу, просто вносит свой вклад в пропитание, но это не так, охотника всегда и везде сопровождает полумистический ореол, налёт некоего могущества. Этнографы отмечают, что даже у тех народов, которые недавно перешли к земледелию, фигура охотника стоит особняком ото всех других мужчин. К примеру, у африканцев бамбара, всего 2 % мужчин продолжили заниматься охотой, но при этом остальное население воспринимает их как "
в какой-то мере людей из "потусторонья". Это вызывает, с одной стороны, непонимание, отчуждение, опасение, но и уважение, преклонение, замешанные на страхе и ощущении простыми земледельцами бамбара превосходства охотников над ними, над обыденностью, рутинностью и упрощенной стандартностью их стиля и образа жизни, знаний" (Арсеньев, 2011). Причастность к статусу охотника сама по себе есть знак доблести, отваги и мудрости. Считается даже, что мужчина-охотник обладает некой магической жизненной силой больше, чем мужчина-земледелец. "
Охотник не только одеждой, походкой, манерой говорить, но и психологическим складом отличается от основной массы земледельцев. Он — зримо обозначенная "элита". Он — авторитет. Впрочем, этот авторитет должен постоянно подтверждаться "охотничьими подвигами" (там же).
Разумеется, чем на более крупной дичи специализируется охотник, тем выше его статус (Арсеньев, 1991a, с. 82, 96). Причём такой охотник "высшей категории" наделяется народным сознанием почти сакральными чертами — ему приписываются некие тайные знания, умение исцелять и даже прорицать (там же, с. 95). Не исключено, что именно древние охотники были первыми шаманами, колдунами. Таким образом, в традиционном сознании искушённый охотник "
превращается в лицо, близкое божеству, или даже в само божество" (с. 123). И такое восприятие не только у африканцев, но некогда даже и у славян, для которых "
охотник прежде всего не человек, занимающийся звероловством, но, наряду с другими "знающими", лицо, которому приписывались магические способности и колдовское знание" (Веселова, 2014). Охотник вызывает трепет у обычного человека, но больше всего — у женщины. Как говорят сами африканцы бамбара, "
женщины особенно боятся охотников" (Арсеньев, 1991a, с. 91).
Так если образ охотника воспринимается столь величественно даже в современных условиях, когда охоты на мегафауну давно уже нет, то как он мог восприниматься тогда, когда охотники эффектно уничтожали целые стада исполинов? Конечно, тогда Охотник мыслился полубогом. Поэтому в те времена (а где-то во многом и сейчас) целью охоты была не столько добыча пропитания, сколько престижа. Мужского престижа.
Великая Охота длилась сотни тысяч лет. В эти цифры необходимо вдуматься: речь не о двух-трёх столетиях, не о двух-трёх тысячелетиях и даже не о 20–30 тысячах лет — речь о нескольких
сотнях тысяч лет. Возможно, даже о миллионе лет. Это значит, что всё это время образ жизни древнего человека никак не менялся (Stiner, 2013), и формирующиеся вокруг Великой Охоты нормы ложились в основание новой культуры, они просто обязаны были пронизать её насквозь, так как были её несущими сваями, над которыми надстраивалось всё остальное. Концепция Великого Охотника не внедрялась в культуру, она стала самой культурой — мужской культурой, патриархатной.
Флёром Великого Охотника пронизан каждый культурный элемент. Он здравствует и поныне, хотя ситуация уже несколько десятков тысячелетий как в корне изменилась. С постепенным исчезновением мегафауны мужчина добывал всё меньше, но величие его оставалось непоколебимым. Так как человеческая культура складывалась вокруг Великой Охоты и сопутствующего ей феномена мужского престижа, то эти явления не могут так запросто из неё исчезнуть, даже если они уже и исчезли из реальной практики людей. Традиции, лежащие в самой сердцевине культуры, особенно инертны.
"Символическое господство — престиж определенных паттернов мужественности — закрепляется в идеологии, в религиозных доктринах, практиках первичной и вторичной социализации, культурных репрезентациях, на уровне субъективной идентичности" (Здравомыслова, Тёмкина, 2015, с. 417).
Охота давно перестала быть прибыльным делом или даже исчезла вовсе, но образ «мужчины-добытчика» продолжает существовать фактически во всех культурах. Мужчина по-прежнему бегает за хлипкой дичью и потрясает копьём, пытаясь демонстрировать следы былого величия. И именно сейчас это всё больше похоже на игру, так как уже напрочь лишено какой-то ощутимой пользы. И жизнь мужчины современного мегаполиса ничуть не отличается, содержа основные элементы той архаичной картины. Как заметил философ,
"мужчина — это ребёнок, играющий в мужчину" (Бурдьё, 2005, с. 333), и эта картина хорошо раскрыта Вирджинией Вулф в эссе "Три гинеи", где она размышляет, что в глубине культуры сидит заговор против женщин, навязывающий им
"ужасного самца с громогласным голосом и тяжёлыми кулаками, и по-детски рисующее мелом на полу знаки, эти мистические демаркационные линии, между которыми зажаты суровые, одинокие и искусственные человеческие существа. В этих местах, украшенный золотом и пурпуром, обрамлённый перьями как дикарь, он выполняет свои мистические ритуалы и наслаждается сомнительным удовольствием власти и господства, в то время как мы, «его» женщины, мы остаёмся в семейном доме, поскольку нам не разрешено участвовать ни в одном из этих многочисленных сообществ, из которых состоит общество" (цит. по Бурдье, 2005, с. 337).
Попытки господствовать над самками наблюдаются у разных видов обезьян, но в целом
"в отряде приматов отсутствует однозначная закономерность доминирования мужского пола над женским" (Бутовская, 1990). При этом господство над самками в некоторых колониях важно не само по себе, а выступает лишь средством в деле борьбы между самцами за иерархию — альфа-самец пытается препятствовать "своим" самкам спариваться с его конкурентами, выражая таким образом превосходство именно над ними, а не над самками. Борьба за место в иерархии порой выглядит основным способом времяпровождения самцов. Эти "мужские игры", вероятно, обусловлены фактом, что в природе самец выполняет лишь оплодотворяющую функцию, и дальше становится не нужен, самки заботятся о потомстве самостоятельно — проще говоря, у самцов оказывается слишком много свободного времени. Борьба за место в иерархии — основной способ хоть как-то это время занять. Шумные и агрессивные демонстрации оказываются наиболее действенным способом произвести эффект на одногруппников — знаменитый случай, когда самец шимпанзе научился эффектно громыхать найденной канистрой, за счёт чего сразу же поднялся в глазах товарищей. Надо полагать, если бы однажды вместо канистры шимпанзе попалась возможность охоты на мегафауну, то эффект такой "демонстрации" оказался бы куда более впечатляющим и растянулся бы на тысячелетия. Прям как у нас.
Интересно, что обыкновенные шимпанзе, известные своей немалой агрессивностью и некоторым доминированием самцов над самками, занимаются охотой, для чего самцы объединяются в группы. Они отлавливают и поедают представителей низших обезьян и маленьких антилоп. В то же время более миролюбивые шимпанзе бонобо охотятся значительно реже, и самцы совсем не образуют охотничьих групп, и при этом их строю характерен матриархат, главенство самок. То есть, возможно, роль охоты в деле объединения самцов и противопоставления их самкам в зачатке наблюдается уже у шимпанзе обыкновенного.
"Заслуженный охотник в наибольшей мере соответствует жизненному идеалу мужчины, который на языке бамбара выражается словами "чее дафален", то есть настоящий мужчина. Состояние "чее дафален" достигается человеком только к старости. Но в качестве идеальной жизненной модели оно прививается с детства" (Арсеньев, 1991a, с. 97).
Сотни тысячелетий назад флёр Великого Охотника привёл к пониманию того удивительного факта, что мужчиной не рождаются — им становятся. Чтобы стать настоящим мужчиной, отныне надо было стать Великим Охотником. Только совершив все необходимые действия, можно было примкнуть к новоявленной элитной касте Мужчин. Так родились распространённые по всему миру обряды инициации мальчиков, которые, как признают антропологи, оказываются для всех культур куда более значимыми, чем какие-либо сходные обряды для девочек (Абрамян, 1983, с. 86). В один прекрасный день у девочки случаются первые месячные, и всё, с этого момента она навсегда женщина. А вот
"быть мужчиной предполагает определённую работу, чего не требуется от женщины, чтобы быть женщиной. Гораздо реже можно услышать как призыв к порядку слова "Будь женщиной!", тогда как соответствующий призыв к мальчику и даже к взрослому мужчине распространён в большинстве человеческих сообществ" (Бадентэр, с. 12). Мужественность оказывается чем-то хрупким, нестабильным, чем-то, что нужно регулярно подтверждать и удерживать. Становлению Мужчины все культуры уделяют главное внимание.
"Мужественность для мужчин важнее, чем женственность для женщин" (Бадентэр, с. 62).
"Этнографические данные свидетельствуют, что мальчики строже девочек охраняют принятый гендерный порядок" (Кон, 2009b, с. 32). В этом направлении работает вся культура в целом, всё общество.
"Отклонение от женской роли воспринимается обществом относительно более спокойно, чем отклонение от мужской. Люди гораздо сильнее беспокоятся по поводу мальчиков, играющих в девчоночьи игры, чем по поводу девочек-"сорванцов" (Бёрн, 2008, с. 190). На этом фоне женщина выглядит откровенно второстепенным персонажем, обделённым вниманием культуры.
Возникшее в условиях Великой Охоты противопоставление мужчин и женщин с явным превосходством первых затем привело к ещё более детально проработанным механизмам этого противопоставления.
1. Территориальное разделение
У некоторых современных племён существуют так называемые "мужские дома" — особые большие хижины, вход в которые разрешён только мужчинам, вход женщинам же строго табуирован и может жестоко караться ритуальным групповым изнасилованием. В таких домах не только хранятся священные предметы мужских ритуалов, но и там мужчины в компании друг друга проводят большую часть времени с того самого момента, как посредством ритуалов инициации становятся отлучены от матери. Чем больше времени мужчина проводит в мужском доме, а не общается с женщинами, тем более он "настоящий мужчина" (Кон, 2009а, с. 70). Таким образом, противопоставление мужчин женщинам происходит чисто в пространственном плане путём сакрализации какой-то его части. Что интересно, даже женатые мужчины не жили со своими жёнами постоянно, но обычно проводили с ними в отдельной хижине лишь какую-то часть года, а остальное же время оставались в мужском доме в кругу других мужчин. "
У некоторых народов Африки муж и жена не только жили в разных хижинах, но и сами жилища были расположены довольно далеко друг от друга: мужские — в одной части деревни, женские — в другой. Иногда это расстояние было таким, что путешественники говорят даже о мужских и женских деревнях" (Тюгашев, 2006). Этот факт, кстати, указывает, что семья и брак в древности возникли никак не потому, что "вместе жить было проще".
Такой, территориальный, вариант противопоставления мужского женскому, вероятно, наиболее древний. Позже в результате трансформаций социального уклада развивается иной тип пространственного противопоставления полов — уже внутри дома: путём деления его на мужскую и женскую половины. У древних греков женская половина, которую женщина не имела права самостоятельно покидать, называлась гинекей, а мужская же половина, куда женщина не имела права входить, — андрон. У народов Кавказа мужская половина (кунацкая, хачеш, уазагдон) также обособлялась от женской: именно там мужчины принимали гостей и обсуждали все важные проблемы. При этом кунацкая сохраняла и очевидные сакральные элементы древнего "мужского дома": в ней хранились, развешанные на стенах, ритуальные музыкальные инструменты и оружие. Всё это подчёркивало "
доминирование, первичность мужского, воинского духа в пространстве" этой мужской половины дома, и конечно же, "
женщины и обслуживающая молодёжь […] находятся на веранде", вход внутрь им запрещён (Паштова, 2014). "
Хачеш не псарня" говорили черкесы о том, можно ли женщине посещать это сакральное мужское место. Посещение же общей части дома, где проводили время женщины и дети, было для горцев оскорбительным. Всё это действительно ярко подчёркивает сакральную роль мужчины, жизненное пространство которого должно быть отделено от "профанного" женского.
Ещё же более поздний вариант такого разделения известен куда шире — это типичное для многих культур исключение женщин из публичной жизни и заточение их в пределах дома. Женщина становится ответственной за функционирование хозяйства, а мужчина становится представителем семьи вне дома — в публичных местах, на собраниях, на рынке и т. д. Мужчина, проводящий дома слишком много времени,
"подозрителен или смешон: это "домашний мужчина", он "сидит дома, как курица на насесте". Уважающий себя мужчина должен быть видимым, постоянно выставлять себя на обозрение других, состязаться с ними, смотреть им в глаза. Он мужчина среди мужчин" (Кон, 2009а, с. 71).
У многих народов существуют легенды, где женщина описана представляющей угрозу мужчине, особенно если он пробудет с ней достаточно долго. Это наиболее чётко выражено в мифах об особых "женских островах", где женщины обитают отдельно от мужчин, которые без осложнений могут посещать острова лишь на короткое время (Семёнов, 2002, с. 611–616). Всё это указывает на большую древность мужских страхов перед женщинами, на очень древнее опасение, что слишком близкий и долгий контакт с женщинами может лишить мужчину его мужского статуса. Он будто может быть «инфицирован» женщиной, частично стать ею. Возможно, этот тип легенд отображает ту пространственную организацию древних племён, где мужчины жили в своих "мужских домах", стремясь минимизировать контакты с женщинами. Мифы бушменов повествуют о глубокой древности: "
В те времена мужчины и женщины жили отдельно. Мужчины охотились на животных, которых было повсюду множество, а женщины собирали семена и зерна" (Мифы и сказки бушменов, с. 30), заодно, кстати, подчёркивая и глубокую древность разделения на мужскую охоту и женское собирательство.
2. Преобразования тела
Даже на телесном уровне люди стали стремиться закрепить разницу между мужским и женским, совершая друг над другом хирургические манипуляции. Точнее, это было не столько закрепление разницы, сколько её создание путём устранения изначальных природных сходств. Обрезание крайней плоти мальчиков исторически было обусловлено её схожестью с женскими половыми губами, от которых следовало избавиться, чтобы стать менее женственным (Бадентэр, с. 92). Согласно одной из версий, и "женское обрезание" (клитородэктомия) — это уничтожение "мужского" органа у женщины, так как клитор является гомологом пениса (Байбурин, 1993, с. 63) (впрочем, в разделе о женской сексуальности приводились аргументы, что удаление клитора служит усмирению женского желания; хотя эти взгляды и не противоречат друг другу). Африканские догоны верят, что первые люди имели сразу по две души — мужскую и женскую, причём женская душа у мужчин сосредоточена в крайней плоти, а мужская душа у женщин — в клиторе (Абрамян, 1991), и отсечение того и другого помогает обоим полам стать полноценными мужчиной или женщиной. Примечательно, что и у австралийских племён слово "dabi" означает крайнюю плоть и матку одновременно (там же).
Спектр хирургических процедур, практикуемых человечеством с целью углубить различия между полами, за тысячелетия стал очень широким — чего только ни проделывают люди со своими телами, чтобы подчеркнуть, где Он, а где Она. Где-то мальчикам просто регулярно разбивают нос, чтобы с кровью из него выходила вся доставшаяся ещё от матери "женская субстанция", где-то обрезают крайнюю плоть, а где-то делают глубокий и чрезвычайно болезненный продольный разрез полового члена до самой уретры (субинцизия), который затем периодически обновляют (Абрамян, 1991; Панов, с. 245) — на что только не идут мужчины, чтобы изгнать из себя частичку женщины.
"Социальный мир обращается с телом так, как мы — с неким запоминающим устройством: он записывает на нём фундаментальные категории видения мира" (Бурдьё, 2005, с. 303).
Гендерное деление, это противопоставление должного мужского и должного женского, существует во всех известных культурах и корнями уходит в самую глубокую древность (Дуглас, 2000, с. 209). Для человеческой культуры оппозиция "мужчина-женщина" является первичной по сравнению с такими оппозициями, как "день-ночь", "да-нет" и т. д.
"В основе всей культуры, всей социальной иерархии лежит табу на одинаковость мужчины и женщины, подавляющее в них обоих любое естественное сходство. Страх "одинаковости" — это боязнь деконструкции нынешнего социального порядка" (Гапова, 2001, с. 378).
"Противопоставление "мужского" и "женского" оказывается одной из доминирующих оппозиций в мифах и ритуалах архаических культур" (Панов, 2009, с. 244). И в этой оппозиции именно женскому началу отведён угрожающий характер.
Обряды мужской инициации есть во всех культурах (Гилмор, 2001). В обществах рыболовов это может быть безрассудная одиночная рыбалка далеко в море, кишащем акулами; причём если юноша отказывается, над ним насмехаются, и он по-прежнему считается мальчиком. У бушменов юноша обязательно должен выследить и убить крупную антилопу. Другие племена практикуют жестокие истязания ребят возраста 12–15 лет: наряженные в ритуальные одежды отцы раздевают их и секут
"посредством довольно жестокой юкковой розги, которая разрывает кожу до крови и оставляет не сходящие шрамы. Юноши должны безропотно переносить побои, чтобы показать силу своего духа". Только после этого отцы говорят "Теперь ты мужчина. Тебя сделали мужчиной!" (с. 887).
Родившееся в древности представление о превосходстве мужчин вылилось в поверья, что контакты с женщинами могут его осквернить, сделать нечистым и лишить удачи. Из этого страха папуасы отнимают мальчиков у матерей и в течение нескольких дней истязают до крови, веря, что с этой кровью выходит и некая вредоносная женская субстанция, передавшаяся мальчику от матери. После этого ребятам ещё долгое время запрещено говорить с матерью, касаться и даже смотреть на неё. Именно это и является одной из целей посвящения в мужчины: жестоко разорвать любящие материнские объятия (Бадентэр, с. 119). Страдания, переживаемые мальчиками в этот период, просто колоссальны, но им нельзя плакать или как-то ещё показать наличие этих страданий. Они должны доблестно всё выдержать, чтобы стать "настоящим мужчиной". Мужчины отнимают сыновей от матери не только у новогвинейских папуасов, но и у австралийцев: под покровом ночи они врываются в хижину и силой вытаскивают напуганного ребёнка (Рафси, 1978), чтобы в течение нескольких дней или недель заставлять его проходить мучительные испытания. Ровно это же происходит и в Африке: "
ранним утром старейшины внезапно врывались в дома и силой несли детей к татуировщику. Тот на каждом плече юноши делал по три надреза длиной до 30 сантиметров, покрывал бесчисленными шрамами его лицо" (Иорданский, 1982, с. 252). У других народов "
каждого подростка несколько раз били тяжёлой дубиной по спине или груди. Испытуемый не должен был показать ни тени боли, иначе на всю жизнь за ним потянулась бы позорная слава труса. И чем дольше на теле оставались следы побоев, чем ужаснее они выглядели, тем выше был авторитет мужчины" (Асоян, 1987). Всё это говорит о глубокой древности такой традиции, уходящей корнями именно в период до выхода sapiens'а из Африки. Также интересно то совпадение, что как в Австралии, так и в Африке изъятые из семьи мальчики в период инициации обучаются особому тайному языку, на котором обязаны говорить какое-то время (там же, с. 251; Рафси, 1978).
Эта идея, что материнское влияние портит сына, мешая ему стать полноценным мужчиной, распространено во многих культурах мира, даже в современных странах Запада (с. 118). "Маменькин сынок" — удивительно, но это оскорбление. Совпадение в этом плане или нет, но первое упоминание понятия «свобода», известное в человеческом языке, шумерское слово amarga, буквально означает "
возвращение к матери" (Грэбер, 2014, с. 162).
С нашей точки зрения парадоксально, но папуасы, отняв сына у матери и выгнав из него вредоносную "женскую субстанцию", затем подвергают его процедуре наполнения "мужской субстанцией" — отныне в течение нескольких лет (10–15) мальчик должен отсасывать сперму старших мужчин и питаться ею (Панов, 2009, с. 246). Так он наполняет себя мужским началом и становится "настоящим мужчиной". Сходным образом поступают и в некоторых африканских племенах, где старшие мужчины надрезают себе руку и дают подросткам пить свою кровь (Бадентэр, с. 134).
Поскольку Мужчина должен быть создан определёнными действиями и образом жизни, то очевидно, что Мужчина — это культурный конструкт (Гилмор, 2005, с. 236), изобретённая однажды в древности культовая фигура нашего общества. В психологии прекрасно известно о стрессах, которым подвержены мужчины, живущие в обществе, где от них постоянно требуется подтверждать свою мужественность. Для описания данного феномена даже введён термин "
токсичная маскулинность": мужчины, наиболее рьяно придерживающиеся традиционных взглядов на мужественность, чаще страдают от одиночества и отличаются низким уровнем социализации (Campos-Castillo et al., 2020). Необходимость постоянно демонстрировать компетентность, решимость и силу часто оказывается просто маской, какую обладатель Y-хромосомы вынужден носить 24 часа в сутки 365 дней в году. Но в те моменты,
"когда маска падает, перед вами предстаёт дрожащий ребёнок" (Бадентэр, с. 217).
"Значительной частью жизни мужчин управляет страх. Для мужчины признать, что в его жизни присутствует страх, — значит рискнуть перестать ощущать себя мужчиной и ждать, когда его начнут стыдить окружающие" (Холлис, 2005).
"Мужчина представляет собой рукотворный продукт, отличающийся от творения природы, и как таковой он постоянно подвергается риску быть признанным продуктом с изъяном, подобно браку производства, с дефектом в мужском оснащении. Короче, мужчина может оказаться несостоявшимся" (Бадентэр, с. 13). По сути, Мужчина —
единственный искусственный гендер. Женщина же оставалась такой, какой была от природы. Тот факт, что у многих народов мира именно мужчина ассоциирован с культурой, а женщина — с природой, широко известен в антропологии (Ortner, 1974).
"Во многих обществах между оппозициями "природа — культура" и "женщина — мужчина" ставится знак равенства" (Леви-Строс, 2016, с. 90). То есть "искусственность" Мужчины осознавалась ещё в глубокой древности.
Интересны в этом плане мысли учёных о
традиции некоторых народов совершать над ребёнком определённого возраста обряд первого пострига: хоть возраст ребёнка здесь и варьирует, но важен тот момент, что волосы обрезали только мальчикам, тогда как девочкам просто заплетали первую косу (Байбурин, 1993, с. 60). В чём смысл такого обряда и чем обусловлено такое половое разделение? А дело в том, что в старину считалось, что человек отличается от прочих животных главным образом наличием языка и отсутствием шерсти, а волосы в этой схеме оказывались этаким промежуточным явлением. "
Волосы — это то, что объединяет людей и животных и нарушает симметрию распределения признаков. обрезание волос можно, видимо, рассматривать как искусственное "выравнивание парадигмы". Обрезание волос […] в конечном счете определяет статус человека. Вместе с тем обрезание волос является очередной операцией по "созданию" человека. Отрезанные волосы символизируют его прежнее, "докультурное" состояние" (там же, с. 58). Получается, обрезание волос только у мальчиков точно так же означает только их переход от "животного" состояния в культурное, а девочки же никуда не переходят, они там и остаются, в мире животных, в "природном" состоянии. Примечательно, что на Украине в момент обряда постригания мальчика и заплетания косы девочке даже приговаривали "
хлопчика на чоловiчу стать, а дiвчинку на жиноцьку" (с. 59), то есть из мальчика делали человека, а из девочки — женщину. Это вновь поднимает известную тему о совпадении во многих языках значений "мужчина" и "человек", что снова отсылает к мысли, что человеком в древности и считался только мужчина, женщина же мыслилась по-прежнему представителем животного царства. Возможно, заплетание девичьих волос в косу также символизировало определённое взятие женской природы под контроль (Левинтон, 1991). Последующее вступление в брак было плотно сопряжено с широко распространённой женской обязанностью носить какой-либо головной убор, скрывающий волосы, который также мог символизировать тот самый культурный контроль за её "животной" природой. При этом головной убор оказывался как бы и символом самого мужа, нависающего над женой, главенствующего над ней. Негативный эмоциональный оттенок термина "опростоволоситься", исходно означавший именно отсутствие головного убора, когда он положен, оказался так силён, что с годами вытеснил первичный смысл и стал означать совершение какой-либо оплошности вообще. Здесь же можно вспомнить и негативный смысл термина "распущенность", что исходно вновь был связан с распущенными волосами (не заплетёнными в косу, лишёнными культурного контроля), а потом стал означать лишь дурной нрав, склонный к нарушению норм. К тому же, как упоминалось выше, в давние времена распущенные волосы плотно связывались с женской сексуальностью, то есть снова с её "животной" природой. Да и во многочисленных обрядах плодородия, женщины непременно распускали волосы, что якобы снова сближало их с природой. Примечательно, что фигурки почти всех палеолитических Венер (30–25 тыс. лет н.) — от Европы до Сибири — изображают на женской голове некую сеточку, которая не получила в науке однозначного истолкования: то ли это художественный узор, изображающий волосы как таковые, то ли это именно некий женский головной убор. Если учесть всё изложенное выше, то можно предположить, что "сеточка" Венер действительно была обязательным головным убором, что также может означать, что это были изображения именно замужней женщины (не обязательно конкретной), символически находящейся под культурным контролем мужчины. Поскольку на фигурках палеолитических Венер не изображалось больше никакой одежды, но только этот головной убор, это должно говорить о какой-то особой его символической значимости, чуть ли не как о предмете культа.
Таким образом, можно говорить, что только мужчина с самой древности мыслился собственно человеком, тогда как женщина же в тех представлениях оставалась представителем животного мира. И этот "животный мир" постоянно угрожал культуре — то есть мужскому миру, мужскому господству. Презрение к женщине, одновременно смешанное со страхом, было настолько сильным, что породило широчайшие представления о женской "нечистоте". Как уже было сказано, страх перед женской менструацией, в крови которой якобы содержалась какая-то "женская сущность", распространён по всему миру. Точно так же распространены представления о женской "нечистоте" в период беременности и некоторое время после родов (зачастую её изолируют так же, как и менструирующую — Геннеп, 1999, с. 43; Иорданский, 1982, с. 231). В антропологии очень популярно объяснение (см. Байбурин, 1993), будто страх перед женщиной и полагание её "нечистой" возникли из веры в её связь с загробным миром, с миром смерти: женщина представлялась аналогичной земле, из которой всё рождается, но и в которую всё уходит после смерти. Способность к деторождению связывалась с миром предков, духи которых через женщину могли перерождаться. Надо заметить, во многом это действительно хорошо проработанная гипотеза, но с ней не всё так гладко. В частности, если женщина опасна из-за своей связи с миром мёртвых, то почему-то удивительным образом не оказываются опасными мужчины, во многих культурах во время мужских ритуалов преображающиеся в духов предков и даже якобы на это время становящиеся их вместилищем. В такие периоды связь мужчин с миром мёртвых просто очевидна, но "нечистыми" они, тем не менее, не становятся. Убедительнее всё же кажется гипотеза именно противопоставления мужского и женского как культурного (возвышенного) и животного, природного (низкого). В этой схеме легко объясняется и страх перед женскими месячными, и перед её беременностью — и то, и другое оказывается сугубо женскими качествами, отсутствующими у мужчин, то есть это нечто, присущее именно женской природе, а потому также "низкое" и опасное. Менструация и беременность — максимально "немужские" качества, а потому контакт с женщиной именно в эти её специфические периоды для мужчины и особо опасен.
Кроме того, в действительности женщина "нечиста" не только в месячные и в беременность, она нечиста всегда и во всём, если рядом мужчина, просто в эти два периода она особенно опасна. Ярким примером этого является и пространственная градация: во многих культурах женщине ни в коем случае нельзя оказываться выше мужчины, быть над ним. Контакт мужчины хотя бы с такой "низовой" частью женщины, как её штаны, также угрожает мужчине утратой силы (Архипова, 2016). У некоторых групп цыган удар женской юбкой по лицу мужчины означает потерю чести. И судя по всему, дело не столько в самой юбке, а именно в том, что низовая часть женщины оказалась на уровне мужского лица. Как известно, в некоторых городах цыгане образуют целые посёлки, но расселение их при застройке этого района высотками зачастую наталкивается на трудности, поскольку цыганам жить в многоэтажном доме сложно. Дело в том, что цыганскому мужчине нельзя находиться ниже женщины, а в городской высотке есть почти стопроцентная вероятность, что в одной из квартир выше окажется женщина. Здесь символизм презрения к женщине, её подчинённого положения "внизу" просто очевиден. У дагестанцев при сборе фруктов мужчины должны срывать плоды с ветвей, а женщины — подбирать под деревьями (Антропология и этнология, 2018, с. 220). Поверье, что женщине нельзя оказываться над мужчинами, характерно как для скотоводов, так и для охотников. У манси женщине поэтому запрещено даже подниматься на крышу или чердак (Фёдорова, 2019). Женщине даже "
запрещалось задевать все предметы, которые могли быть подняты до уровня плеча и выше" (там же) — то есть снова запрет на достижение уровня мужского лица. У некоторых народов Западной Африки "
женщине запрещено забираться на пальму за кокосами" в том числе и потому, что это "
оскорбительно для мужского достоинства" (Асоян, 1987). Запрет на возвышение женщины над мужчиной в некоторых культурах касался даже секса: у африканских берберов есть миф, из которого выводится, что "
мужчина должен ложиться на женщину, а не наоборот" (Берёзкин, 2013, с. 138), аналогичным же образом и христианские священники когда-то пытались запрещать позу наездницы в сексе, так как мужчине не положено быть под женщиной: "
для секса в браке годилась только миссионерская поза. Если женщина садилась сверху, мужчине грозило трехлетнее покаяние" (Сидоров, 2018, с. 55). Учёные подчёркивают, что такая поза осуждалась во множестве цивилизаций (Бурдьё, 2005, с. 319), и, видимо, как раз потому, что правильным было, чтобы мужчина "брал верх", а не женщина. "
В санскрите для обозначения такой позы употребляется слово Viparita, что значит перевёрнутый, используемой также для обозначения мира наоборот, перевёрнутый с ног на голову" (там же, с. 359), то есть нарушающий порядок.
Помимо оппозиции верх/низ, где женщина символически занимает менее престижное положение внизу, существует и аналогичная оппозиция право/лево, которое во многих культурах соответственно соотносится с правильным и неправильным. Левое всегда связано с чем-то негативным, сулящим несчастья, а правое — с позитивным (
правильным). Не удивительно, что правое соотносится с мужским началом, а левое — с женским (Иванов, Топоров, 1974, с. 259). Даже Ева якобы была создана из левого ребра Адама. Отмечено, что в русской традиционной культуре существовал обычай, по которому женщина должна была идти слева от мужа. "
До сих пор принято мужскую одежду застегивать справа налево, а женскую — слева направо" (Альбедиль, 2013). В Таиланде "
женщина спит слева от мужа, потому что слева менее почётное место" (Бернстайн, 2014). Археология показывает, что в парных захоронениях у славян женщин хоронили также слева от мужчин (Иванов, Топоров, с. 267). Даже у новогвинейских народов пятна на правом боку умершего означали, что порчу наслали духи по линии отца, а пятна на левом боку указывали на линию матери (Бьерре, 1967). При этом связь мужского начала с правой стороной (и одновременно — с оружием) отмечена в свадебных ритуалах как африканцев, так и индусов, и даже бурят: если в момент свадьбы жених почему-либо отсутствует, то его замещает стрела, которую невеста держит в правой руке (Калинина, 2019).
Как у скотоводов, так и у охотников, внутри жилища именно левая сторона предназначается для женщины. Это характерно как для народов Евразии, так и для (часто называемых эгалитарными) африканских бушменов, считающих, что "
если мужчина будет сидеть на женской половине, он потеряет мужскую силу" (Дуглас, с. 108). В жилище манси все изображения божеств и другие культовые предметы хранились именно в правой, "мужской" части, и женщина не могла к ним не только прикасаться, но на некоторые даже и смотреть (Фёдорова, 2019). Мансийской женщине нельзя было даже садиться на мужскую кровать.
Картина с "женской половиной" в доме в целом выглядит так, будто представителя животного мира впустили пожить в культурное пространство Человека, при этом от греха подальше обложив кучей запретов за нарушение которых, он будет наказан. Запреты эти защищают Человека от слабого, но всё же опасного животного — от женщины.
В продолжение мысли о связи женщины со всем левым некоторые африканцы плаценту от родившейся девочки закапывали слева от дома, а от мальчика — справа (Иорданский, 1982, с. 232). У славян было заведено класть покойников ногами к выходу, но при этом мужчин клали от выхода справа, а женщин — слева (Байбурин, 1993, с. 109).
Не менее прочна и культурная связь женщины с левой рукой, которая также символизирует всё дурное. По этой причине на пользование левой рукой наложен ряд табу. Взаимодействовать с чем-то благородным и важным можно было только правой рукой, а левой же — только с чем-нибудь нечистым. Некоторые африканцы "
пользуются только левой рукой, чтобы взять что-то грязное, поскольку правой рукой они пользуются во время еды" (Дуглас, с. 58). Точно также у некоторых народов Индии, подмываться после туалета можно только левой рукой (с. 63). У одного из народов Кении правая рука прямо называется
акан нак’акилиокит — то есть "мужская рука", а левая же —
акан нак’абири — "женская". "
Передать (и взять) еду, пиво, пожимать руки можно только правой. Сделать это левой — значит оскорбить, ибо левая — слабая и подчиненная, "как женщина". Передача чего-либо "женской" рукой предполагает неуважение к партнеру, вызов" (Ксенофонтова, 2004, с. 115). Даже в Новом завете имеются описания Царства божьего, где праведники будет сидеть от Христа по правую руку, а грешники по левую. "
Уже в первобытном искусстве одним из способов символического изображения женского начала был знак левой руки" (Кон, 1989, с. 90). Возможная связь левой руки с чем-то негативным и опасным отмечена и во многочисленных наскальных рисунках по всему миру — в большинстве случаев ритуальные отпечатки рук изображают левую руку. Антропологи отмечают, что это не связано с тем, что древние художники держали краски в правой руке, а потому обводить могли именно приложенную к скале левую, так как даже в тех случаях, когда краска наносилась посредством выдувания через рот, к скале всё равно прикладывалась левая рука (Иванов, 1972. с. 111). Таким образом, левая рука с самой древности могла предназначаться для контактов с чем-то запретным: нечистым и опасным. И раз левое при этом повсеместно ассоциировано с женщиной, то это говорит и о приниженном положении женщины с самых древнейших времён.
Другим следствием веры в губительные влияния женщины на Мужчину, в возможность его осквернения и лишения удачи проявилось во множестве так называемых охотничьих табу — отказа от сексуальных контактов незадолго до планируемой охоты. Хоть некоторые советские этнографы и пытались объяснить такие табу с уже упоминавшейся позиции гипотетических "конфликтов самцов из-за самок", что могло расстроить организацию охоты (см. Семёнов, 2003), такие события, как было описано выше, не могли иметь место в нашем доисторическом прошлом, учитывая царивший промискуитет и высокую сексуальную активность самок. Наиболее вероятно, что известные по всему миру табу на сексуальные связи перед охотой обусловлены именно боязнью негативного женского влияния на мужчину, а поскольку именно охота была наиболее "мужским" занятием, которое формирует его и утверждает, то с охотой и должны были быть связаны вынужденные ограничения на контакт с женщинами, из которых секс оказывается наиболее тесным. У некоторых современных аборигенов Африки охотнику, входящему в особо престижную категорию охотников на крупную дичь, в целом предписано сексуальное воздержание (Арсеньев, 1991a, с. 98). Особенно сильным был страх перед сексуальной связью с женщинами у новогвинейских туземцев, которые были уверены, что мужчина "
потеряет всю силу, как только поспит с женой, что он рано превратится в "кожу да кости" и станет плохим воином" (Бьерре, 1967). Ещё у одних африканцев мужчина не пойдёт охотиться, если у его жены менструация, так как считается, будто кровь месячных способна нейтрализовать яд его стрел и испортит охоту (Power, Watts, 1997). В культурах всего мира женщине запрещено прикасаться или даже просто перешагивать через мужские орудия охоты (Калинина, 2019; Фёдорова, 2019; Фрэзер, 2001, с. 307). Женщина — не охотница. Она занимается чем угодно, только не охотой, а потому она может передать мужчине частичку себя, "инфицировать" его собой, что непременно привело бы к неудаче в охоте. А это уже было бы сопряжено с утратой мужчиной своего элитного мужского статуса.
Концепция осквернения принуждала древних мужчин и женщин выполнять отныне им отведённые социальные роли (Дуглас, 2000, с. 209), закрепляла возникший гендерный порядок. Но, пожалуй, наиболее обширным оказался особый тип осквернения — без непосредственного контакта с женщиной. Это осквернение от выполнения её работы, "женской работы".
Создание брака и контроль женской сексуальности
Поскольку именно мужчины в силу эффектности и оттого престижности впряглись в охоту на животных-исполинов, то за женщинами закрепились другие сферы деятельности, более традиционные для всех высших обезьян: собирательство плодов и кореньев, а также добыча мелкой дичи (грызуны и другие доступные животные), и, конечно, уход за детьми. У женщин в этом плане вообще ничего не изменилось и осталось, как было миллионы лет до этого. Изменения коснулись только мужчин, за которыми отныне закрепилась роль Великого Охотника: охота и ритуалы, с ней связанные, стали главным идентифицирующим признаком мужчины. Возникший мужской престиж вывел женщину на окраину бытия, сделав её "вторым полом". Всё, что делали женщины, было обыденным, заурядным, неэффектным, а оттого и презренным.
"Женские процессы осуждены оставаться незамеченными, в первую очередь самими мужчинами: привычные, постоянные, повседневные, повторяющиеся и монотонные действия в большинстве своём осуществляются незаметно" (Бурдьё, 2005, с. 345).
Даже в обществах современных охотников-собирателей, где престижной оказывалась сфера церемониальной деятельности (которой заправляют мужчины), заниматься выращиванием реально жизнеобеспечивающего продукта
"было не только не престижным, но и позорным делом, и мужчины старались воздерживаться от выращивания «женских» растений, которые тем не менее составляли их главную пищу" (Шнирельман, 1990). То есть в древности, каким бы основательным и стабильным ни был вклад женщины в пропитание и функционирование группы, эта её деятельность наверняка была игнорируема и даже презираема.
Героями стали мужчины. И здесь даже не важно, как много мяса они реально добывали своей грандиозной охотой (хотя, скорее всего, действительно много), важна была сама новая атмосфера, крутившаяся вокруг их деятельности. Возникший на этом половом разделении труда мужской гендер оказался очень чувствителен к любым переменам в трудовой сфере. Исследователи верно подмечают, что даже в условиях современности мужчин страшит перспектива вдруг заняться "женской работой" — это пугает их так сильно, потому что грозит поставить под сомнение их мужественность. Мужчина — это тот, кто занимается "мужскими делами", и даже если таковых сейчас нет, то уж точно он не занимается делами «женскими». Заняться "женскими делами" — это перестать быть Мужчиной.
Описывая конвульсии многих мужчин конца XIX века, когда женщины выбили себе право на образование и стали требовать возможности работать на новых для себя должностях, Элизабет Бадентэр замечает:
"В конце концов им приходится задаваться вопросом, не придётся ли им выполнять женскую работу, короче — о ужас! — не превратятся ли они в женщин!" (1995, с. 32).
"Лекарства в этой ситуации предлагаются самые разнообразные. Большинство мужчин выступают за возврат к здоровой поляризации ролей обоих полов. Для того чтобы мужчины смогли вновь обрести мужественность, необходимо, чтобы женщины вернулись на своё природой уготованное им место. Лишь восстановление границ между полами излечит мужчин от их тревог, связанных с определением своей сущности" (с. 37).
"Женская" работа угрожает Мужчине, она может осквернить его сильнее менструальной крови, ведь смыть её не так просто. Если бы Джаред Даймонд с этого ракурса взглянул на кажущееся странным поведение мужчин современных племён, то у него бы не возникло вопроса, почему они никак не перейдут к собирательству вместе с женщинами: собирательство — "женское дело", и мужчине браться за него ни в коем случае нельзя. Он лучше будет сидеть и ждать своей удачной охоты. Которая за минувшие тысячелетия случается всё реже.
Запрет мужчине прикасаться к орудиям «женского» труда или даже находиться рядом с ними широко известен. У славян ещё сто лет назад мужчинам запрещалось контактировать с ткаческими инструментами и серпом — ведь ткачество и жатва серпом были сугубо женскими делами. Мужчине даже было запрещено приближаться к хлебному тесту и к кадке, в которой женщины его замешивали, — считалось, это лишает мальчика и мужчину мужественности (Кабакова, 2001, с. 225). Африканисты подчёркивают, что "
если в деревне узнают, что парень сам готовит еду, он рискует навечно покрыть себя позором […] А мальчикам в прежние времена запрещалось даже проходить вблизи кухни, чтобы они "не заразились" женской работой" (Асоян, 1987). Причём аналогичной силы запретов для женщин не существовало — ничто не могло лишить женщину женственности. Конечно, им также были запрещены контакты с некоторыми "мужскими" предметами, но в целом при особых условиях женщина вполне может себе это позволить. К примеру, когда по тем или иным причинам мужчины вынужденно и надолго покидали селение (на войну или на заработки), женщины принимались за "мужские" работы: пахать, сеять, ездить в лес по дрова. При этом женская самоидентичность никак не страдала — женщина всегда оставалась женщиной.
Французская крестьянка описывает это так:
"Если женщина делала мужскую работу, ей ничего не говорили, нет, ничегошеньки! Ведь женщина создана для того, чтобы делать всё! Над женщиной, которая работала в поле, шла за плугом, никто не смеялся. Женщина должна делать всё, вот так-то! Но если бы парень стал доить коров, все бы принялись издеваться над ним!" (там же).
Тот факт, что мужчине нельзя заниматься "женскими" делами, а женщине как бы тоже нельзя заниматься "мужскими", но это только в присутствии самих мужчин, говорит о том, что в обоих случаях угроза создаётся исключительно феномену мужественности, образу Мужчины. Мужчина, занявшийся "женским" делом, утрачивает мужественность, тогда как женщина же, занявшаяся "мужским" делом, как бы покушается на сферу мужчин и тем самым развенчивает какую-то их особость, десакрализует, при этом сама она ничем не рискует.
Мужчине нельзя быть женщиной, женщина же может быть Мужчиной. Просто Мужчина против. Как заметил философ, исторически женщина совсем не чуралась мужской одежды, но в этом ей препятствовали сами мужчины.
"Табу на иной пол имеет неравную силу: феминизация мужчины — под социальным запретом, которого практически нет для маскулинизации женщины" (Барт, 2003, с. 292). Иначе говоря, любой контакт с женщиной рискует погубить Мужчину. Этим и объясняются драматически напряжённые и зачастую амбивалентные отношения между полами в самых разных культурах на самых разных исторических этапах. Но ещё интереснее тот момент, что женщина не только угрожает Мужчине, но она же его и создаёт, поддерживает его существование. Когда мужчины исчезают, женщины без проблем перенимают на себя «мужские» дела, но что бы стал делать Мужчина, если бы вдруг исчезли женщины? Начал бы ткать одежду, готовить, убирать, чистить и т. д.? Но это ведь «женские» дела, и контакт с ними уничтожает Мужчину. Мужчина должен категорически избегать этих "женских" дел, чтобы продолжить существовать. Тогда что ему остаётся делать?
Верно, ему остаётся лишь найти себе другую женщину. Найти ту, которая сможет выполнять необходимые для его существования «женские», непрестижные функции.
В первой главе шла речь, что овдовевшая крестьянка ещё десятилетия вполне себе продолжала содержать целое хозяйство, которое прежде они содержали с мужем вдвоём (Адоньева, Олсон, 2016, с.99). Историками отмечен о многом говорящий факт, что в прежние века женщины не стремились повторно выйти замуж, тогда как мужчины же повторно женились и чаще, и скорее (Зидер, 1997, с. 59; Цатурова, с. 157). Текст XIX века рассказывает о портном,
"который менее чем через год после смерти первой жены, которую он совсем не любил, пришёл к выводу, что без жены совершенно не может вести своё хозяйство: он просит Бога "направить его сердце к какой-либо добродетельной личности", спрашивает родственников, "нет ли у них какой-либо девицы, желающей выйти замуж", а менее чем через месяц после получения положительного ответа идёт к алтарю со своей избранницей" (Шлюмбом, 2007, с. 167). Когда в XVIII–XIX веках в некоторых русских деревнях под влиянием старообрядческих взглядов возникли особые течения, где женщины принципиально отказывались от вступления в брак, помещики были вынуждены вмешиваться в такое положение дел своих крепостных, но самое интересное, что на это помещиков своими жалобами подбили крепостные мужики (Бушнелл, 2020). Мужики не могли без жён.
"Отсутствие женщины в доме может быть восполнено только другой женщиной. Поэтому даже срок траура для вдовца короче, чем для вдовы" (Кабакова, 2001, с. 224). Когда-то в древности не женщина "стала нуждаться в мужчине", как фантазируют некоторые авторы, силясь объяснить рождение человеческой "моногамии", а как раз наоборот — в женщине стал нуждаться Мужчина.
Уже ясно, к чему ведёт такой ход мысли? Да, так в древности рождается брак — закрепление за Мужчиной конкретной женщины как исполнительницы непрестижной работы, без плодов которой Мужчина всё же существовать не может. Мужчина попал в свою же ловушку и стал нуждаться в презираемой им женщине, ведь только она могла выполнять работы, которые его бы низвели до статуса простого смертного. Мужчина стал жертвой собственного величия. Как король нуждается в слугах, несущих длинный шлейф его мантии, так Мужчина стал нуждаться в женщине и в её непрестижном труде.
Тот факт, что брак оказывается именно средством обслуживания Мужчины непрестижной работой порой фиксируется и в языке: "
на языке луганда слово "куфумбира" означало одновременно готовить еду мужчине и выйти за него замуж" (Асоян, 1987).
Желание быть уверенным в своём отцовстве, какая-то необъяснимая романтическая любовь и прочие сомнительные концепции становления моногамии — это всё вообще не при чём и никакого отношения к действительности не имеет. Не в сексе было дело и не в потомстве, значение всей этой репродуктивной катавасии лишь ошибочно кажется существенным. Причина формирования союза между мужчиной и женщиной — в хрупкой, дефектной природе мужского престижа. Брак — последствие рождения гендера, где образ Мужчины оказался сакральным и для поддержания коего была необходима женская рабочая сила. В этом плане исследователи не зря указывают, например, что
"в системе индуистского мышления смертная женщина ценится прежде всего как жена и лишь затем как мать" (Лоро, с.62), в то время как мужчина признаётся "полноценным человеком" именно в роли домохозяина (Альбедиль, 1991). У некоторых африканцев также считается, что рождение детей не играет такой роли в становлении женщины, как становление женой: "
брак делает завершённую женщину" (Арсеньев, 1991b).
Маргарет Мид хорошо подметила различия между мужчиной и самцом обезьяны:
"жена ему не нужна. Если не брать в расчет сексуальную активность, самец-примат исключительно самодостаточен. Он сам находит пищу, сам её ест, сам может искать паразитов в своей шерсти. Он не эскимос, ему не нужна жена для того, чтобы жевать кожу и шить из неё сапоги, не папуас — жена не нужна ему, чтобы кормить его свиней. Он не похож и на мужчин из других обществ, где жена требуется мужчине для того, чтобы обеспечить ему место в состязаниях по плаванию, штопать ему носки, выделывать шкуры животных, которые он приносит с охоты. Ему не нужна жена и для того, чтобы заботиться о своих детях. У него нет детей — в этом смысле. Дети есть у самок, самки о них и заботятся. В то время как самец-примат нуждается в самке по непосредственным физиологическим причинам (и только), человеческий самец, даже на простейших уровнях социального развития общества, о которых у нас есть хоть малейшие сведения, нуждается в жене. И жена всегда, во всех обществах, во всех известных условиях, считается чем-то большим, чем просто объект или средство удовлетворения вожделения мужчины" (Мид, 2004, с. 192).
Антропологи и раньше видели связь между половым разделением труда и существованием брака, но смотрели на неё под другим углом: будто целью разделения труда является создание союза мужчины и женщины (Levi-Strauss, 1971, p. 348; Рубин, 2000, с. 107). Так оба пола становятся зависимыми друг от друга и образуют союз. Но возникает резонный вопрос: а как возникла потребность создать нечто (разделение труда), чтобы оно затем создавало союзы мужчин и женщин? Если бы какая-то реальная необходимость в таких союзах и была, то она была бы сама по себе и её не понадобилось бы придумывать. Предлагаемый классической антропологией ход событий выглядит примерно так:
"Давай отсечём себе по руке, тогда многие дела нам придётся делать сообща".
Куда убедительнее как раз предлагаемый здесь подход: никакой собственно "цели" у разделения труда не было, поскольку оно само было следствием (рождения гендера, рождения Мужчины). Цель же была как раз у брака — чтобы как-то компенсировать разделение труда, сгладить его отрицательные последствия для Мужчины и таким образом сделать возможным его дальнейшее существование. То есть причинно-следственную связь между разделением труда и браком надо развернуть как раз в обратном направлении.
И да, главный вывод: брак существует, чтобы существовал Мужчина. Так эта схема работает. Тот же Леви-Строс говорит о какой-то "взаимозависимости между полами", но никакой взаимозависимости не было и нет. Женщины всё могли (и могут) делать самостоятельно, вообще всё. Особенно когда существовали коллективно, дружескими группами, как существуют косатки и слоны, наши родственники по менопаузе. Это Мужчине вдруг стали недоступны многие вещи и занятия, так что никакой "взаимозависимости" не было, а была лишь односторонняя зависимость — Мужчины от женщины. Мужчина без женщины — человек без рук. Ему можно делать только одно, а ей же — всё остальное. И вот безо всего этого "остального" Мужчина был просто обречён.
Так рождается пресловутый обмен женщинами — мужчины стали обмениваться ими как бесплатной рабочей силой в стремлении удержать собственный статус. Каждому мужчине отныне должна была принадлежать минимум одна женщина, если он хотел быть реальным Мужчиной. Женщина как бы изымала у Мужчины все презренные занятия, взваливая их на себя, и так спасала его от опасности осквернения и утраты статуса. Неспроста во всех культурах в определённом возрасте, после всех обрядов инициации, юноша не просто получает право взять себе жену, как часто принято считать в антропологии (Гилмор, 2001, с. 884), а он даже становится обязан это сделать, он
должен найти себе жену, ведь холостяков презирают. Жена необходима, чтобы выполнять все непрестижные работы за него, и он смог быть Мужчиной и дальше. Потому холостяки везде и презираемы: они — не Мужчины, потому что какую-то часть непрестижных работ по самообслуживанию вынуждены выполнять сами. За Мужчину же это делает жена. Холостяк может хорошо охотиться, это даёт ему основание быть Мужчиной, но отсутствие жены всё перечёркивает. Потому-то холостяк — "человек наполовину", он неспособен удержать мужской престиж. Власть над женщинами оказывается важным компонентом мужского статуса (Бочаров, 2011).
Вместе с этим понятно, что частная собственность в истории человечества рождается не с земледелием, как широко принято думать. Первой собственностью стала женщина. Социологи отмечают, что мотив собственности хорошо отражён даже в современной романтической лексике, которой нынче принято описывать связь между мужчиной и женщиной.
"За исключением "Я люблю тебя", наиболее общим типом выражения любви являются фразы наподобие: "Будешь ли ты моей?", "Возьми меня", "Я твой навеки". Этой терминологией полны любовные песни, и таков способ, которым люди разговаривают между собой и с другими людьми о своей любви. Это язык собственности. "Мой", "моя", "его", "её" — это, вероятно, наиболее употребляемые слова в разговорах о любви, даже чаще, чем само слово "любовь" (Коллинз, 2004, с. 535).
Что интересно, ещё Маркс и Энгельс писали, что "
рабство в семье есть первая собственность" (1955, с. 30), но почему-то в итоге так и не стали разрабатывать эту концепцию.
Как выглядел женский труд, который спасал Мужчину? Что-то понятно и так (ткачество, готовка пищи и многие другие занятия "по дому"), а какие-то данные нам предоставляет этнография. Как упоминалось выше, долгое время считалось, что мужчина — добытчик и кормилец (что в современных условиях оказалось ошибочным), примерно в том же русле считалось, что мужчина много трудится, чтобы "содержать" женщину. Но этот ничем не обоснованный стереотип (типичное доминирующее знание) также был опровергнут: фактически во всех известных культурах женщина трудится гораздо больше мужчины.
Ещё в XVII веке римский посол в Москве писал о России:
"женщины трудятся на полях гораздо более, чем мужчины" (Пушкарёва, 2011, с. 35). При этом дома картина, похоже, была ещё ярче, и женщина проводила за домашним трудом аж на 600 % больше времени, чем мужчина (Адоньева, Олсон, с. 97). Вдуматься только: на 600 %.
80-летняя крестьянка рассказывала, каким на протяжении жизни был её с мужем рабочий день:
"Бывало, я со своим мужем, так и каждая женщина, вот по сих пор ходим в болоте, ведь болота были. И клали копну на таких рассохах, палочки ставили и [на] носилки клали и так носили. И вдвоём копненки [носили], я сзади, он спереди, ведь он — мужчина. Он кладёт, поставит на рассохи, он укладывает этот стожок. Я, женщина, лезу на тот на стожок, ведь там надо поправлять, надо укладывать. Придём домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и всё надо делать, и дети есть, и дети есть хотят, и он хочет есть. Он придёт, сядет, и всё. И коротко-ясно. И одну работу делаем. Но у него есть время, а женщины всё работают" (Кабакова, 2001, с. 222). То есть муж и жена вне дома выполняли одинаковую работу, но придя же домой, мужу позволялось расслабиться, тогда как женщине ещё предстояло много чего проделать. Классическая картина с мужиком на печи не такая и глупая. Сходная картина наблюдается и в жизни современных жителей мегаполисов, когда женщина после работы вынуждена ещё делать многое по дому, что в социологии получило название женской "второй смены" — но подробнее об этом в следующих главах.
Интересно, что, похоже, в народе довольно ясно осознавали такое положение вещей, что было зафиксировано в некоторых сказаниях. В одном из них объяснялось, что женщина вынуждена работать больше мужчины, потому что однажды не подсказала дорогу заблудившемуся Христу, а отослала его спросить об этом мужа, пахавшего неподалёку. За то Христос сказал женщине: "У тебя никогда не будет времени. Ты будешь одну работу делать, а десять тебя будут ждать". Муж же дорогу разъяснил, и Христос ему обещал: "У тебя всегда время будет" (Кабакова, там же).
И так не только у славян. Южноамериканские племена земледельцев используют участок земли 4–6 лет подряд, после чего покидают его из-за истощения почвы или из-за трудноискоренимых сорняков. Основная часть работы мужской половины племени состоит в обработке нужных земель с помощью каменного топора и огня. Эта задача, выполняемая в конце сезона дождей, мобилизует мужчин на один или два месяца. Почти вся оставшаяся часть сельскохозяйственной работы — сажать, пропалывать, собирать урожай — в соответствии с половым разделением труда входит в обязанности женщин.
"Из этого следует забавный вывод", отмечают антропологи.
"Мужчины, то есть половина населения, работали примерно два месяца раз в четыре года! Что касается оставшегося времени, они его посвящали занятиям, которые воспринимались не как обязанность, а как удовольствие: охота, рыбалка, праздники и попойки; или, наконец, удовлетворение своей страстной тяги к войне" (Кластр, 2019, с. 41).
Интервью женщин одного из народов Меланезии (тробрианцы) показывают, что они не очень высокого мнения о своих мужчинах. Женщины выполняют основные хозяйствующие функции племени, а про мужчин же говорят, что они просто сидят и сплетничают весь день, не делая никакой реальной работы, если не призывают сразиться с другими общинами (Weiner, 1976). Поговорка новогвинейского народа вогео гласит:
"Мужчина играет на флейте, женщина выращивает детей" (Панов, с. 246).
У многих папуасов распространено свиноводство, но главное же, конечно, снова то, что свиньями должна заниматься именно женщина — это непрестижный для мужчины труд. Хотя, что характерно, в итоге свиньи всё равно считаются собственностью мужчины (и чем их у него больше, тем выше его статус в общине). Такое положение вещей логично ведёт к тому, что многие мужчины стремятся приобрести как можно больше жён, ведь тогда они смогут разводить для него больше свиней. "
Отсутствие женщины в хозяйстве вообще не позволяет заниматься свиноводством. У цембага отмечен случай, когда смерть жены заставила мужчину убить всех своих свиней, так как о них некому стало заботиться" (Шнирельман, 1980, с. 154).
Возможно, слегка неожиданной характеристикой женского труда во многих культурах окажется таскание тяжестей. Стереотипно считается, будто именно мужчины занимаются наиболее тяжёлой работой, но, вероятно, это лишь очередное доминирующее знание. Изучая быт новогвинейских папуасов в XIX веке, Миклухо-Маклай писал:
"Ежедневно, жена приносит с поля плоды и собирает дрова на ночь для огня; она же таскает воду с морского берега или из ручья. Часто вечером можно видеть женщин, возвращающихся с поля тяжело нагруженными. На спине у них висят два мешка, прикрепленные к верёвке, обвивающей лоб: нижний — с плодами, верхний — с ребенком. На голове, сильно нагнутой вперед, благодаря тяжести мешков, они несут ещё большие вязанки сухих дров, в правой руке часто держат пучок сахарного тростника, а на левой висит ещё один маленький ребенок. Такой труд, при жаре и при узких тропинках, должен очень утомлять: свежесть и здоровье молодой женщины уносятся поэтому очень скоро" (Миклухо-Маклай, с. 443).
"
Картина, знакомая многим, кто бывал в Африке: по обочине налегке шагает африканец, а за ним — с тяжелой поклажей на голове его жена" (Асоян, 1987). Женщины многих африканских племён таскают воду и собирают древесину для костра, и за этим им приходится преодолевать по много километров с тяжёлым грузом, в то время как мужчины ведут более праздный образ жизни — особенно после женитьбы (Holtzman, 1995, p. 45). Культурный же идеал мужчин этих племён состоит в планировании работ и в управлении, поэтому они позволяют себе много плясать, любят вязать друг другу косички и раскрашиваться охрой. Лишь в особо засушливые сезоны мужчины должны угонять скот на дальние пастбища.
Дальше можно привести большой фрагмент из замечательной работы об австралийских аборигенах О. Ю. Артёмовой "Колено Исава" (2009, с. 353–382).
"Многие наблюдатели сообщали, что традиционные хозяйственные обязанности и заботы женщин занимали гораздо больше времени и требовали большего труда, чем хозяйственные занятия мужчин […] Абориген обычно старается переложить на своих жён всю работу, особенно если жён у него несколько, сам же охотится на кенгуру, валлаби и эму или бьёт копьём рыбу только тогда, когда у него бывает настроение […] Мужчины постоянно заставляют ловить рыбу женщин, а сами спят или просто отдыхают в это время на стоянках […] Когда женщины возвращаются с пустыми руками, мужья сурово наказывают их.
В Центральной Австралии мужчины много времени проводили в лагере, иногда вообще ничего не делая, женщины же целый день были заняты поисками пищи […] Экономика общины основана в первую очередь на женском труде. Если в общине много женщин, то забот у мужчин немного. Если в общине мало женщин, мужчины должны трудиться от темна до темна […] Подавляющую часть пищи добывали женщины, причём не только растительную, но и мясную: мелких сумчатых, ящериц, змей и т. п. Мужчины охотились редко, кушанья из добычи, принесённой ими (крупные виды кенгуру, морские животные, крупные птицы), считались деликатесами.
Даже в засушливых районах страны, где количество растительной пищи ограничено, доля продуктов женского труда в пищевом рационе аборигенов составляла 60 %, а в плодородных тропических районах севера женщины добывали около 90 % всей пищи".
Во время обычных переходов аборигенов с одной стоянки на другую женщины несли все пожитки, а также маленьких детей, мужчины же шли налегке. Некоторые авторы связывали этот обычай с тем, что у мужчины должны быть свободными руки, чтобы он мог в любую минуту броситься преследовать пробегающее мимо животное. Такое объяснение не очень убедительно; возможно, оно позаимствовано у мужчин-аборигенов, которые пытались оправдать свои порядки в глазах осуждавших их европейцев. Мужчины во время перекочёвок иногда заставляли женщин нести в придачу к другим вещам и свои копья.
В Западной пустыне женщины перетаскивали тяжёлые камни для зернотёрок. Базедов писал, что жёны у аборигенов рассматривались как "средство транспортировки" всего имущества".
Некоторые антропологи предполагают, что у аборигенов Центральной Австралии многожёнство со временем исчезло с появлением там верблюдов, которых европейцы активно завозили в конце XIX века. Абориген, которого спросили, почему у него всего одна жена, ответил: "А зачем мне ещё жена? Вот этот, — он показал на принадлежащего ему верблюда, — снесёт больше, чем десять жён". То есть здесь видим, что не обязательно женщина, но и вьючный скот может спасать Мужчину от непрестижных занятий.
Один из австралийцев, жена которого ушла к другому мужчине, сказал ему: "Зачем ты увёл у меня жену? Она собирает много пищи, и так как у меня нет других жён, я хочу получить её назад".
Но несмотря на то, что женщины добывали большую часть пищи, несли подавляющую часть забот, связанных с уходом за детьми, и выполняли множество других обязанностей, их значение в жизни общества оценивалось много ниже, чем значение мужчин. Похороны женщины, как правило, сопровождались более скромной и менее сложной обрядностью, чем похороны мужчины. Отмщение за убийство женщины, не считалось делом столь важным и необходимым, как месть за смерть взрослого инициированного мужчины. Обида или физические увечья, нанесённые женщине, гораздо реже бывали отомщены, чем обида или увечья, полученные мужчиной.
На примере всё тех же австралийских аборигенов антрополог Шарль Летурно хорошо резюмировал все выше изложенные тезисы:
"Во время перекочёвок женщина укладывает и несёт на себе весь домашний скарб. Мужчина идёт впереди, с пустыми или почти пустыми руками, ему приходится нести только лёгкое оружие, тогда как женщины следуют за ним нагруженные, как вьючные мулы, четырьмя-пятью корзинами, доверху полными провизией. Если в одной из корзин сидит ребёнок, то это не мешает матери нести на плече и другую, побольше. Пища мужчин состоит главным образом из мёда, иногда, случайно, из яиц, дичи, ящериц, но вообще он приберегает для себя животную пищу, предоставляя жене и детямпитаться растительной и добывать её, где угодно. Для мужчины охота прежде всего спорт, а не способы добывания пропитания для семьи, кормить семью — не его дело, он не признает, чтобы роль мужа налагала на него какие-нибудь обязанности. Он живёт в своё удовольствие, уходит на охоту, лишь только обсохнет роса на траве, и возвращается уже под вечер, иногда с пустыми руками, пожрав на месте пойманную добычу" (цит. по Крадин, 2006, с. 394).
Европейский торговец, в XVIII веке контактировавший с канадскими индейцами, описывал, как один из них скупал себе жён у разных племён (у него их было семь).
"Почти каждая была под стать хорошему гренадеру. Матонаби заметно гордился высоким ростом и силой своих жён и частенько говаривал, что редкая женщина способна тянуть более тяжёлую поклажу. И хотя они были мужеподобны, он предпочитал их товаркам более хрупкого телосложения" (Моуэт, 1985). Далее автор сообщает, что в женщинах очень ценится среди прочего умение
"переносить сто сорок фунтов (около 63 кг — С. П.)
на спине летом или вдвое больше тащить за собой по снегу зимой". Этнографы вообще утверждают, что в доколониальный период у индейцев американского севера сани таскали именно женщины, а создание же собачьей упряжки стало возможным, только когда европейцы завезли ружья, что позволило индейцам лучше охотиться, а значит, содержать и кормить достаточно собак (Шнирельман, 1980, с. 144). Как видно, не только верблюды, но и собаки освобождали женщин.
Быт новогвинейских папуасов выглядел так:
"впереди шёл муж, в руках которого не было ничего, кроме лука и стрел, а позади плелась жена, сгибаясь под тяжестью собранного хвороста, плодов и младенца. Мужские охотничьи вылазки, похоже, затевались в основном ради возможности провести время с друзьями: изрядную часть добычи съедали сами охотники прямо в лесу. Женщин продавали, покупали или бросали, не спрашивая их согласия" (Даймонд, 2013).
Аналогично был устроен быт монгольских кочевников, в XIII веке описанный итальянским монахом-путешественником:
"Мужчины ничего вовсе не делают, за исключением стрел, а также имеют отчасти попечение о стадах, но они охотятся и упражняются в стрельбе. Женщины их все делают полушубки, платья, башмаки, сапоги и все изделия из кожи, также они правят повозками и чинят их, вьючат верблюдов и во всех своих делах очень проворны и скоры" (цит. по Крадин, 2006, с. 395).
"На собирательной стадии женщина является вьючным животным и служит для переноски всякого рода тяжестей. Женщина, как вьючное животное, проявляет большую выносливость. Она переносит тяжести на плече, или на голове, или на спине, при помощи особой лямки, перекинутой через лоб или перетянутой через грудь" (Богораз-Тан, 1928, с. 75).
Такие же описания оставили путешественники по Дагестану второй половины XIX века, называя местных женщин
"несчастными женщинами кавказских гор, работающими, как вьючный скот, и не только под старость, но и в 30 лет уже не могущими распрямить свой стан! В облегчение полевых работ дидойских женщин нигде не видно было и ишака, этого единственного существа, участь которого в горах может сравниться с участью женщин. Но нет, ишаки в Дагестане всё же в большей холе, чем женщины!" (Воронов, 2011, с. 321).
Как видно, эксплуатация женщины свойственна самым разным культурам всех частей света — как охотникам-собирателям, так и земледельцам, и скотоводам, а раз так, то почти наверняка такое положение дел уходит корнями в глубокую древность. Как показывают некоторые реконструкции, благодаря одной успешной загонной охоте древний человек мог добывать сразу около 13,5 тонн мяса. Это очень внушительно. И чтобы затем доставить всю эту дичь в лагерь, одному мужчине требовалось нести около 45 кг, совершив около шести ходок. На основании этого учёные справедливо полагают, что в транспортировке мяса участвовали и женщины, и подростки (Файнберг, 1980, с. 93). А исходя же из всего описанного выше, можно даже предположить, что Мужчина вовсе не участвовал в этом процессе, а только лишь женщины и подростки. Знаменитый скелет 9–10-летнего ребёнка (поначалу ошибочно считавшегося девочкой) со стоянки Сунгирь (около 30 тыс. л. н.) имеет деформации, указывающие, что он регулярно переносил тяжести на голове (Бужилова, 2005, с. 70).
Выше не зря было отмечено, что раз когда-то в древности за Мужчиной была закреплена Великая Охота и сопутствующие ей ритуалы, за женщиной же осталось закреплено фактически
всё остальное. И когда исполины мегафауны в итоге вымерли, женщина оказалась единственным реальным кормильцем всей группы. И мужчин тоже.
Порой возникают сообщения, что в древности и женщина могла охотиться на мегафауну наравне с мужчиной. Но это маловероятно, так как подобные догадки строятся лишь на факте обнаружения в женских захоронениях охотничьих орудий, что, однако, не даёт уверенности в участии женщин в охоте: известны и детские захоронения 3-х лет, где также были погребены орудия охоты (Potter et al., 2014), что вполне может указывать, что к усопшим могли класть вещи участников погребального обряда, просто в знак уважения или скорби.
Что указывает, что охота на крупную дичь была закреплена сугубо за мужчинами?
1. Почти во всех культурах существует стереотипная связка: охотник — это мужчина.
2. Основные гендерные факторы, приписываемые мужчине, больше подходят именно для охоты (отвага, небрежение болью, ловкость, бесстрашие и т. д.)
3. Есть мясо — привилегия мужчин.
4. Охотничьи табу для женщин — по всему миру (см. Семёнов, 2002, с. 730).
5. Половое разделение труда зафиксировано в большинстве культур. Лучшего базиса, чем мегафауна, этому не найти.
6. Даже в современном браке сохраняется расстановка, что женщина выполняет все бытовые дела, а мужчина же делает минимум — он ждёт подвига.
7. Наскальная живопись по всему миру в сценах охоты всегда изображает мужчину (что, вероятно, говорит, что сложилось это ещё до выхода Человека из Африки).
Все эти факторы надо иметь в виду, когда мы допускаем, что когда-то в древности женщина могла охотиться наравне с мужчиной.
Возникает вопрос: почему женщины не воспротивились такому порядку? Как вдруг мужчины оказались способны обмениваться ими и при этом не получили отпора? Думать, будто женщины всегда принимали такое положение вещей за должное, будет ошибочным. Фольклористы указывают, что примерно 1/3 женских песен в русской деревне — протестные, их сюжет восстаёт против сложившихся традиций доминирования-подчинения (Адоньева, Олсон, с. 191). К тому же среди деревенских женщин всегда циркулировали заговоры на доминирование в доме: бабушки обучали им своих внучек перед замужеством (с. 88). То есть женщины не только осознавали своё подчинённое положение, не только были им недовольны, но и пытались как-то противостоять. Но наиболее полно картину женского недовольства ещё в 431 году до н. э. описал Еврипид в трагедии «Медея», где героиня горько произносит:
Нас, женщин, нет несчастней. За мужей
Мы платим, и не дешево. А купишь, —
Так он тебе хозяин, а не раб;
И первого второе горе больше.
И главное — берешь ведь наобум:
Порочен он иль честен, как узнаешь?
А между тем уйти — тебе ж позор,
И удалить супруга ты не смеешь. […]
Ведь муж, когда очаг ему постыл,
На стороне любовью сердце тешит,
У них друзья и сверстники, а нам
В глаза глядеть приходится постылым.
Но говорят, что за мужьями мы,
Как за стеной, а им, мол, копья нужны.
Какая ложь! Три раза под щитом
Охотней бы стояла я, чем раз Один родить.
Чтобы понять, почему женщины подчинились, надо учесть следующее: флёр Великого Охотника, величие Мужчины — это был грандиозный феномен. Вся развивающаяся культура начала вращаться вокруг него, мифы и ритуалы обволакивали Мужчину плотным облаком, и длилось это тысячелетия. Это была уже хорошо проработанная идеология, согласно которой Мужчина — единственный и непререкаемый авторитет. Идеология, пересаженная в голову человека, становится его психологией. Так случилось и с женщинами: они рождались и росли в этой культуре, впитывали её нормы и ценности, и не могли помыслить, что мир может быть устроен как-то иначе. Как говорили Маркс и Энгельс, мысли господствующего класса являются господствующими мыслями (1955, с. 45).
Мужчина был главным, Мужчина всё решал. Женщина должна была слушаться. Она верила в это и слушалась. Женщины подчинялись, потому что однажды так уже просто стало принято. Конечно, это не означает, что уход из родственной группы, где прожила с самого детства, в подчинение какому-то мужчине был для женщины простым делом. Это было тяжело. Всегда. Именно это и осталось зафиксированным в народных традициях известных как свадебный причет — исполнение невестой жалобных криков-песен о тяжёлой доле и нежелании расставаться с домом (о чём уже было в разделе "
Восприятие брака никогда не было радужным"), и по наблюдениям этнографов, эти причитания были родственны с другими причитаниями — похоронными. Надо думать, параллели и атмосфера ритуалов были заданы неспроста: исторически девочки не очень хотели замуж.
Углубление в вопросы свадебного причета наводит на интересные мысли. Во-первых, распространённость "невестиного плача" поражает — этот феномен сопровождает свадьбы во многих частях света: не только на русском Севере (как многим привычно думать), но и в странах Средиземноморья, на Ближнем Востоке и в Африке. У некоторых бантуязычных народов традиция предписывает недельное рыдание невесты перед бракосочетанием, а когда же настаёт время уходить в дом жениха, она рыдает следующим текстом: "
О, прощай родимый дом! Прощай навсегда! За что так жестоко поступили со мной отец и мать, братья и сестры! А ведь мне будет так одиноко! Муж станет бить меня, и никто мне не поможет!" (Асоян, 1987). Даже такой народ-изолят, как андаманцы, заселившие Андаманские острова Индийского океана 50–30 тысяч лет назад и начавшие контактировать с остальным миром лишь в XVIII веке, также имеют традицию свадебного причета (Маретина, 1995, с. 182), что может говорить о большой её древности, уходящей корнями ещё в Африку до расселения Человека. Особенно интересно, что у многих народов свадебный обряд представлен не только ритуализованным плачем невесты, но и её похищением, чему она активно сопротивляется (и при этом, конечно же, плачет). Так происходит и в Африке (Иорданский, 1982, с. 280), и у арабов на Синае (Геннеп, с. 116), и даже у ненцев Северного Ледовитого океана (с. 117). При этом подмечено, что от похищения невесту защищают не её родственники-мужчины, а подруги или родственницы (Иорданский, 1982, с. 280), то есть защитницы — это сугубо женская группа (Геннеп, с. 116). Невесту защищают женщины. У южно-индийских кхондов группа женщин, защищая невесту, даже вступает в вооружённые столкновения с друзьями жениха, используя камни и палки, так что эта "борьба это не просто игра: часто мужчины бывают серьезно ранены" (с. 118). Аналогичные традиции были записаны в середине XIX века у индейцев Амазонии (Берёзкин, 1987, с. 45). Мужчины же, родственники невесты, обычно оказываются в сговоре с женихом и, получив от него выкуп, либо просто безучастно взирают на похищение невесты, либо даже оказывают в этом пособничество. Учитывая эти нюансы, антропологи указывают, что распространённое мнение, будто подобные браки умыканием символизируют похищение невесты у семьи — ошибочно. В действительности картина скорее такая, что похищение происходит у всей женской группы, а не у конкретной семьи (Геннеп, с. 116). Это наблюдение напоминает и обряд
алима у пигмеев Конго, когда половозрелых девушек запирают в большой хижине, на охрану которой выставляется отряд женщин с палками. В условленный час молодые парни предпринимают попытки прорваться в хижину (для секса), но встречают упорное сопротивление женщин-охранниц и часто оказываются побитыми (Патнем, 1961; Turnbull, 1957). То есть и здесь налицо противостояние коллектива женщин и коллектива мужчин, что может быть отображением каких-то драматических отношений между полами в древности.
Свадебный причет бывает двух видов: индивидуальный (причитает невеста) и групповой (причитают и все её близкие женщины), при этом считается, что групповой причет — архаичнее индивидуального, а "
индивидуальное голошение — возможно, один из самых поздних этапов в эволюции плачевой системы" (Лапин, 2010). Что характерно, мужчины в свадебных причетах никогда не участвуют, только женщины (Левинтон, 1991). Это также может указывать на древнюю противоположность их ролей в этом процессе: конкретная женщина изымалась из конкретной женской группы по предварительному сговору мужчин (мужского родственника невесты с женихом из другого коллектива), и этому факту противилась не только сама невеста, но и все её подруги. В бракосочетании африканских тутси в ответ на плачь невесты её подруги отвечали причетом:
"Успокойся, ведь всегда так было.
Мужчина ведь не леопард,
Муж ведь не удар грома.
И твоя мать была женой твоего отца,
А что касается работы, то от неё
Ещё никто не умирал.
Никто не умирал от работы в поле
Или от домашних дел.
Никто не умирал от собирания хвороста
Или от стирки.
Но если ты думаешь на нас,
То мы не виноваты.
Мы не хотели, чтобы ты уходила,
Мы слишком любим тебя.
Это твоя красота виновата,
Причина в том, что ты прелестна…" (Асоян, 1987).
То есть, возможно, самый первоначальный "обмен женщинами" происходил именно в таких драматических тонах (с коллективным противодействием женщин). Конечно, как именно складывалась эта традиция, сейчас установить невозможно, но её древние корни — несомненны. И многое в ней позволяет предполагать, что с самой древности свадьба не была желанной для женщин.
Все эти архаичные брачные обряды заставляют думать, что тысячелетия назад далеко не все женщины и не всегда безмолвно повиновались такой культуре. В свадебных ритуалах разных народов есть не только чёткие элементы укрощения невесты, но и мотивы физического завладения ею, своеобразные охотничьи метафоры, в которых жених должен силой отнять у невесты какой-нибудь её девичий символ, после чего та делалась ему покорной (Байбурин, 1993, с. 69; Кузнецова, 1993, с. 58, 94). В свадебной обрядности славян для описания жениха порой применялись термины "погубитель" и "разоритель" (Левинтон, 1991), и лингвисты подчёркивали, что так "
жених изображается охотником и наделяется соответствующими воинственными эпитетами" (Трубачёв, с. 95).
Вообще, может показаться странным и даже смешным, но в этнографии уже давно чётко установлено, что вооружённые стычки между разными племенами по всей планете происходили главным образом из-за женщин (Казанков, 2002, с. 116). Не из-за еды, воды или других ресурсов, а именно из-за женщин: мужчины одной группы совершают набеги на другие группы, что увести с собой женщин. Ошибочно будет думать, будто мужчины захватывают их по причине неуёмного сексуального аппетита. Нет, как написано выше, истинные истоки полигамии (как и брака вообще) — подчеркнуть собственный статус через обретение женщин, которые будут выполнять непрестижные ("нечистые") работы для мужчин. Престарелый австралийский абориген, вспоминая давно ушедшие времена, когда племена постоянно враждовали друг с другом, прямо признаёт: "
Почти всегда женщины были причиной драк среди мужчин" (Рафси, 1978). "
Женщины и свиньи — главная причина распрей", говорят наблюдатели про новогвинейских аборигенов (Бьерре, 1967). Старая меланезийка с Соломоновых островов вспоминала: "
Много, много лет назад, когда и я была такой же молодой девушкой, юноши с Улавы похитили нас четырёх на берегу близ родного селения, связали и бросили в лодку. Одну из нас, которая отчаянно кричала и сопротивлялась, они убили палицами и швырнули в море, а с остальными уплыли в океан" (Гижицкий, 1974). У тасманийских племён, "
когда мужчина достигал совершеннолетия, чтобы жениться, он обычно тайно или силой захватывал женщину из другого племени" (Murdock, 1934, p. 9). Американские индейцы кроу "
часто женятся на женщинах, захваченных из враждебных племён, и при определённых обстоятельствах воровство женщин разрешено даже внутри племени. Однако одобренный способ заключения брака — покупка" (p. 274). Если вражеских мужчин у народа Самоа было принято убивать, то "
женщин обычно щадят и раздают захватчикам" (p. 64). В конце XVIII века вице-губернатор одного из австралийских штатов описывал традицию похищения женщин у аборигенов: "
сначала оглушенную ударами дубинок или деревянными мечами по голове, спине и плечам, каждый из которых сопровождается потоком крови, её тащат по лесу за одну руку с таким упорством и жестокостью, что казалось, она вот-вот оторвётся. Любовник, или скорее похититель, невзирая на камни или обломки деревьев, которые могут оказаться на его пути, озабочен только тем, чтобы передать свою добычу в целости и сохранности своей собственной группе, где происходит сцена, слишком шокирующая, чтобы рассказывать о ней […] Изнасилованные таким образом женщины становятся женами, включаются в племя, к которому принадлежит муж" (Collins, 1798). Излюбленной темой индоевропейской героической литературы был не только угон скота, но и кража невест, что, "
по-видимому, отражает реальную практику. Примечательно, что эта практика настолько захватывает воображение, что её отголоски сохраняются в ритуалах, даже когда реальная практика больше не санкционируется обществом" (Arabagian, 1984). Интересно, что попытки определить происхождение слов "женщина" и "жена" в праиндоевропейском языке приводили часть лингвистов к таким исходным корням, как "бить/убивать" и "гнать", на что другие линвгисты реагировали: "
Это сопоставление дало бы маловероятное значение "та, которую убивают (гонятся, чтобы убить)". Очевидно, эта этимология ошибочна" (Трубачёв, с. 108). Но описанные факты физического насилия при завладении жёнами у разных охотников-собирателей как минимум заставляют задуматься над неоднозначностью такого категорического вывода. Как отмечают исследователи, вероятно, именно завладение женщинами оказывалось реальной причиной многих межобщинных конфликтов, которые иногда лишь прикрывались поводами отомстить за нанесённое оскорбление или за какие другие обиды. "
Аборигены никогда не захватывали у противника ни земли, ни материальных ценностей: единственным предметом их вожделений были женщины" (Шнирельман, 1994, с. 82). У некоторых народов более 90 % столкновений происходили из-за женщин (с. 83).
Удивительно ли при всём этом, что в брачной обрядности разных народов оказываются скрыты некоторые элементы охоты? Например, мужики на Русском Севере обступали свадебный дом и палили из ружей в воздух, объясняя это чисто по-охотничьи, сравнивая невесту с куницей, которую выстрелы должны испугать и заставить впредь не высовываться из гнезда — то есть отныне жена должна сидеть дома при муже (Веселова, 2014). Если в древности мужчина женщину добывал (либо покупал у союзника, либо просто похищал, порой с боем), то совпадение образа невесты с дичью, с объектом охоты совершенно понятно и осталось зашифровано в брачной обрядности на многие тысячелетия. Выше уже говорилось, что в прошлом у нынче эгалитарных бушменов был распространён брак умыканием (то есть похищение невесты), но даже ещё в XX веке, если молодой бушмен похищает невесту,
"а другого жениха у неё нет, то никто против этого не возражает" (Бьерре, 1964). У бушменов дзю/'хоанси "
церемония бракосочетания включает в себя имитацию насильственного выноса девушки из хижины её родителей … Фактически "нормальный" брак дзю имеет много аспектов брака умыканием" (Lee, 2013, p. 88). В середине XX века это были уже ритуальные элементы, оставшиеся от некогда реально практиковавшейся традиции, которую учёные фиксировали ещё в начале XX века (Bleek, 1928, p. 33; Fourie, 1928). Этнографы давно пытались объяснить, почему в представлениях бушменов женщина часто эквивалентна дичи — то слону, то антилопе (Guenther, 2020). Особенно интересно, что девушка начинала ассоциироваться с канной — антилопой, считающейся особо желанной дичью, — когда у неё происходили первые месячные, то есть по достижении возраста, когда её можно взять в жёны. Видимо, не зря в языке бушменов "жениться" означается тем же словом, что и "забрать"/"поймать" (Bleek, 1928). У южноамериканских индейцев макуно брак умыканием прямо называется "охотой" (Barnes, 1999), и такой способ обретения жены практиковался когда-то по всему миру.
Охотничья метафорика содержится и в некоторых элементах обездвижения невесты перед свадьбой. У восточных славян
"сразу после сватовства невеста резко изменяет свой образ жизни. Прежде всего вводятся ограничения на её передвижения. Не случайно период от сватовства до венчания на Русском Севере носит название "сидеть в невестах", она "обезножела". Она как бы лишается основных качеств живого человека: способности самостоятельно передвигаться, что-то делать, видеть и говорить" (Байбурин, 1993, с. 66). Понятие "девичья воля" касалось только периода до сватовства, тогда как замужество означало наступление неволи (с. 69). Сюда же можно отнести и распространённую у разных народов традицию покрывать голову невесты специальным платком, который бы скрывал её лицо, одновременно лишая обзора вокруг и возможности передвигаться самостоятельно — невесту водили за руку куда велел ритуал, таким образом подчёркивая её безвольное положение. Участницы подобных брачных ритуалов описывали, что главной эмоцией в тот момент был страх (Веселова, 2014). Славянскому "обезножению" вторит традиция некоторых африканцев, где у одних сразу после ставовства "
девушка содержалась в заточении, не могла встретиться даже с подругами и всё свободное время занималась плетением корзин" (Асоян, 1987), а у других жених "обезноживает" невесту ещё конкретнее — пускает ей в бедро стрелу, чтобы
"символически воспрепятствовать её побегу" (Рубин, 2000, с. 131). При этом, как замечают антропологи, "
молодые жёны всё-таки почти всегда убегают". Но если у африканцев это был уже больше ритуальный жест, то у народов Огненной Земли в первой половине XX века было описано прямое применение стрел против жён: как и у всех народов, у племени óна была традиция похищать женщин у соседних групп, таким образом становившихся жёнами захватчиков, но если вдруг новообретённые жёны всё же пытались сбежать в свою родную группу, новые мужья либо сильно избивали их, либо же прямо стреляли из луков по ногам (Bridges, 1948, p. 223). Так что можно думать, в глубокой древности такая практика женского "обезножения" имела не символический, а самый прямой характер.
В племенах австралийских аборигенов, где обращение мужей с жёнами известно небывалой жестокостью, одним из самых частых поводов для её демонстрации оказывается измена жены: случаи побегов супруги с любовником, широко описаны в этнографии (Артёмова, 2009, с. 428), и всё это несмотря на то, что наказание потом будет самым суровым. Выглядит оно примерно так: "
муж безжалостно пронзает копьём свою жену, чтобы она больше не встречалась с другим мужчиной. Он почти что убил её, чтобы она больше не встречалась с другим мужчиной"; "мужчина бьёт свою жену палкой или бумерангом, бьёт и бьёт её, а не просто ударит один раз"; "мужчина бьёт жену безжалостно, бьёт, пока она не ранена, вся в кровоподтёках из-за его битья"; "Он перестал её бить, бедняжка лежит вся израненная, не может даже сесть" (с. 426).
Эти примеры из столь различных культур, разных уровней развития и разных концов света подсказывают, что и в древности, на заре создания брака, периодически картина могла быть сходной, что и отразилось в свадебных обрядах элементами «обезножения» невесты. В целом так и рождается существующий и нынче контроль женской сексуальности, несравненно более суровый именно к женщине. Мужская же сексуальная активность порицалась только в случае контактов с уже замужней женщиной, то есть принадлежащей другому Мужчине, это оказывалось покушением на его собственность.
Высокая женская сексуальность была большой силой (хотя не единственной и не главной), заставляющей женщину сбегать из-под контроля Мужчины, которого она должна обслуживать. В этом смысле женская сексуальность стала угрозой мужскому гендеру. И потому на неё были обрушены самые суровые репрессии. Это очень древняя история, безумно древняя.
"Моногамия была для женщин своеобразной культурной клеткой — одной из многочисленных клеток, устроенных социумом и искажающей либидо" (Бергнер, 2016, с. 133).
Есть одно меткое наблюдение: агрессию проявляет зависимый (услышал в каком-то сериале). И суть взаимоотношений мужчины и женщины хорошо укладывается в эту схему. Женщина стала жертвой в мужских играх престижа, медалью за Его заслуги и одновременно согбенным постаментом, на котором Он стоит. Отсюда столь трепетное и противоречивое отношение мужчины к женщине, отсюда столь ревностная забота о её сексуальных свободах. По-настоящему зависим в этой паре — Мужчина. Он очень хрупок и раним, отчего легко теряет над собой контроль, когда постамент начинает шататься.
Антропологи, выдвигавшие разнообразные гипотезы перехода человека к "моногамии" с упором на какие-либо биологические факты (гарантированное потомство от конкретного самца и т. д.) или экономические, не могли помыслить, что всё это не имело значения, а контроль женской сексуальности оказывается в этом деле не первичным, а вторичным явлением, следствием, а не причиной. Переход же от промискуитета к «моногамии» имел чисто идеологическую причину. Мужчины некоторых современных племён сурово карают жён за супружескую измену, но при этом без труда "делятся" ими с друзьями или с теми, с кем хотят подружиться (Артёмова, 2009, с. 351; Богораз, 1934, с. 137); у чукчей это даже называется "товарищество по жене" (Верещака, 2013). То есть дело не в какой-то репродуктивной стратегии, не в биологии, а откровенно в вопросах власти: женская сексуальность в такой системе ценностей должна быть полностью подконтрольна мужчине.
Склонность учёных XX века во всём искать пресловутую "объективную необходимость" ("раз так случилось, значит, в этом была некая объективная польза") послужила им определёнными шорами, мешавшими посмотреть на явление с непривычной стороны. Дело оказалось не в экономике и не в биологии, а в древнейшей идеологии, в способе осмысления реальности древним человеком, в культурном конструкте, вызревшем по нелепой случайности и без какой бы то ни было необходимости (охота на крупную дичь не была обязательной для выживания человека, так как основу его рациона всё равно составляла, как составляет и сейчас, растительная пища, а потребность в животном белке вполне удовлетворялась мелкой добычей, доступной и женщинам). Да, сложившийся и просуществовавший тысячелетия порядок был плодом случайности. Если допустить, что мегафауна бы никогда не существовала, то мир был бы другим.
Ещё в глубокой древности люди придумали мифы, должные объяснить, почему мир именно такой, а главное — почему он таким
должен быть и дальше. Обывателю почти неизвестно, что у народов всех концов света существуют мифы о свержении власти женщин. Все они сводятся к сюжету, что женщины раньше правили, но что-то у них не получилось, и потому власть перешла к мужчинам, у которых всё вдруг заладилось (Абрамян, 1983, с. 82). Подобные мифы есть не только у таких "дремучих туземцев", как южноамериканские индейцы (Берёзкин, 1991) или африканцы (Power, Watts, 1997), но они были и у славян даже в XIX веке (Кабакова, 2001, с. 223; в этой версии мифа сообщается, что когда-то женщины были главными, а мужчины делали женскую работу, но однажды женщина побила бога и святого Петра, и лишилась власти). Учёные совершенно справедливо замечают, что миф вряд ли отображает реальное положение дел в прошлом (будто женщины действительно когда-то властвовали), а лишь попытку мужчин объяснить с помощью мифа, почему именно за ними закреплена власть сейчас.
Мифотворчество древнего Мужчины не блистало фантазией, и он придумал легенду, будто только мужчины способны взаимодействовать с некими духами и таким образом оказываются посредниками между мирами (Артёмова, 2009, с. 358). Мужчины даже разыгрывают странные ритуалы, целью которых оказывается вселить ужас в женщин и детей. По общей схеме на разных континентах мужчины уходят в лес якобы на охоту, но затем, ряженые в маски и в самые разнообразные костюмы из пучков травы и обрывков коры, шумно возвращаются в деревню и разворачивают перед женщинами устрашающие сцены, внушая, будто они настоящие духи и есть. Наиболее подробно данные мужские ритуалы индейцев Южной Америки и алеутов Аляски и Камчатки описаны в работе Ю. Е. Берёзкина "Голос дьявола среди снегов и джунглей: истоки древней религии" (1987), где приведено множество нюансов, характерных для каждого из указанных народов, но в целом ясно, что корни этого явления общие и уходят в глубокую древность. Аналогичные ритуалы есть и у народов Меланезии (хориоми у тробрианцев), во время которого ряженые мужчины, пришедшие из леса, громко свистят, издают много других пугающих звуков, заставляя женщин прятаться в хижинах, которые затем начинают закидывать ломтями глины, кусками дерева или морскими раковинами, чтобы поддерживать в женщинах страх (Белков, 2009, с. 202). Подобные ритуалы есть и у австралийцев (церемония огня у варрамунга), где также присутствует момент нападения мужчин на женский лагерь и забрасывание его кусками коры (Абрамян, 1983).
Австралийские мужчины во время тайных обрядов пускают себе кровь и мажут ей наконечники копий, затем возвращаются в лагерь и объявляют женщинам, что это
"кровь гигантского питона Уонгара, которого они убили "там, на мужской земле". Когда проводились обряды кунапипи, женщины должны были думать, что звук гуделки, вращаемой в зарослях, — это голос огромной змеи, приближающейся от "земли мужчин" к "земле женщин". Как правило, устрашающие версии, в которых мужчины представляли свои обряды и мифы женщинам, были призваны воздействовать на воображение последних, подчёркивать значительность действий мужчин, усиливать как в женщинах, так и в мужчинах ощущение глубокой разницы между ними" (Артёмова, 2009, с. 382).
Это удивляет, но мужчины действительно разыгрывают настоящую фантасмагорию, при этом занимаясь явным подлогом, лишь бы возвысить свою роль над женщинами. Даже древние мифы они рассказывают в искажённом виде, укрывая подробности, где женщина представлена в более весомой роли, — и лишь потом, на ушко этнографу, они могут рассказать исходную версию мифа, пояснив, что женщины и дети не должны о ней знать (Абрамян, 1983, с. 85). В это сложно поверить, но все эти грозные мужчины-туземцы реально пускаются в фальсификации и откровенную ложь, когда дело касается поддержания их сакрального статуса. Причём некоторых из них, видимо, всё же тяготит это глупое действо, так как этнографы зафиксировали эпизод: "
Как бы чувствуя свою вину, после смерти жены муж приходит на её могилу, признаётся ей в том, как её обманывали на празднике хориоми, и просит прощения" (Белков, 2009, с. 201).
Ещё интересно, что в этих разнообразных, но в то же время однотипных мужских ритуалах, запугивая женщин и детей, ряженые в демонических духов мужчины непременно требуют от них пищу (как правило, мясо). Эти псевдо-духи отнимают еду и скрываются в лесу. Конечно же, там мужчины просто тайком съедают всё отнятое сами. Часто оказывается, что в священные флейты и горны, звуки которых мужчины выдают за голоса духов, приближающихся к деревне, и одновременно же являющиеся вместилищами этих духов, требуется втирать животный жир или даже вкладывать кусочки мяса — якобы духи так питаются. То есть их надо кормить животной пищей. Не проглядывает ли в этом попытка ещё древнего Мужчины как-то обосновать необходимость собственной охоты на крупную дичь? Как уже было сказано выше, учёные более полувека бьются над загадкой, зачем мужчины охотятся на крупных животных, ведь эта деятельность оказывается менее результативной, чем охота на мелкую дичь или даже чем женское собирательство. Но мужчины всё равно охотятся — им это нравится, так они соревнуются в вопросах престижа. Так не было ли так, что ещё в древности люди сомневались в необходимости рискованной охоты на крупную дичь, для того и была придумана легенда об угрожающих духах, требующих животной пищи, добывать которую могут как раз мужчины? Они уходили добывать мясо и жир, чтобы якобы задабривать грозных духов и тем самым спасать женщин и детей? Это действительно может быть намёком на понимание ещё древними людьми отсутствия необходимости охоты на крупную дичь и попытку как-то её придумать. Эта придумка и вылилась в мифологию мужских ритуалов, распространённую по всему миру. Мифы южноамериканских индейцев прямо раскрывают эту схему: якобы в древности женщины владели ритуальным "мужским домом" и священными музыкальными инструментами (вместилищами духов), мужчины же занимали униженное положение, но однажды духи стали требовать у женщин мясной пищи, а поскольку охотиться могли только мужчины, ситуацию удалось в корне переломить и мужчины стали господствовать (Берёзкин, 1987, с. 98). Подобная связь обнаруживается и у африканского народа хадза (который в популярной литературе принято считать эгалитарным): помимо того, что инициированный охотник у них именовался эпеме (epeme), был у них и одноимённый тайный мужской ритуал, в рамках которого они поедали лучшие куски крупной дичи, и помимого того, что само это мясо также называлось эпеме, периодически мужчины устраивали типичный мужской ритуал: с криками они врывались в лагерь, будто напуганные духом Эпеме, который следовал за ними по пятам (разумеется, это снова был ряженый в перья и тёмную ткань мужчина), женщины же должны были непременно прятаться в хижинах. При этом "дух Эпеме" выискивает в деревне какие-либо женские предметы и ломает их (Woodburn 1964, p. 304; Power, 2015). Учитывая такую многозначность слова "эпеме", исследователи ожидали услышать какое-то сложное для него определение, но к их удивлению всё свелось к простой формулировке: эпеме — это мясо (Skaanes, 2017). То есть на примере хадза видна не просто связь, но даже тождество между охотником, мясом и духом, угрожающим женщинам. Всё это эпеме.
Тот факт, что женщинам не столько запрещена сама охота (они постоянно добывают мелкую дичь), сколько взаимодействие с орудиями охоты на крупную дичь (копья и стрелы), которые почти священны и считаются сугубо мужскими, действительно указывает на банальную монополизацию этой сферы мужчинами, снабдившими её устрашающей мифологией и идеологией мужского господства, тем самым возведя охоту в ранг важнейшей деятельности (без реальной её надобности). Так необязательная охота стала фундаментом древней человеческой культуры — достаточно было лишь хитрости и желания господствовать.
Порой во время мужских ритуалов женщины даже подвергаются актам физического насилия (Васильев и др., 2015, с. 368), вплоть до групповых изнасилований и убийств под предлогом того, что женщины якобы увидели запретного духа или его свящённую флейту, видеть которую дозволено только мужчинам (Берёзкин, 1987, с. 127). Практика жестоких групповых изнасилований женщин за нарушения ритуальных табу распространена у аборигенов по всему миру. "
Это дом духа Каука", показывал южноамериканский индеец исследователю "мужской дом". "Это его священные флейты. Женщины не должны их видеть. Если входит женщина, то все мужчины забирают её в лес и насилуют. Так было всегда" (Gregor, 1985, p. 2). "
Я не хочу видеть священные флейты", признавалась молодая туземка. "
Мужчины меня изнасилуют. Я бы умерла. Вы знаете, что случилось с женщиной Ваура, которая видела флейты? Все мужчины изнасиловали её. Позже она умерла" (p. 103).
Во время мужских ритуалов, мужчины врываются в деревню, гонятся за женщинами, срывают с них одежды, стирают нарисованные узоры с их тел, а потом выкрикивают назидания: "
Мы рисуем узоры, а не вы. Мы встаём и произносим речи, а не вы. Вы не играете на священных флейтах. Мы делаем это. Мы мужчины. Вы просто женщины. Ты делаешь хлопок. Ты плетёшь гамаки. Играешь на флейте Каука? Не ты!" (p. 113). Потом мужчины всё равно насилуют женщин.
Мужчины всеми силами стараются сохранить свой сакральный статус и придумывают некие тайные знания, которыми только они и обладают и выдавать кои женщинам нельзя под страхом смерти (Бадентэр, с. 119). Женщинам же остаётся только верить и во всём подчиняться. Этнографы сходятся в том, что все подобные ритуалы 1) оказываются как минимум очень древними, уходящими на десятки тысяч лет в прошлое, и 2) предназначены именно для поддержания верховенствующей роли мужчины в обществе, внушая женщинам мысль об их подчинённом положении.
Какое-то время считалось, что феномен мужских ритуалов распространён только в регионах вокруг Тихого океана и, соответственно, зародился где-то в Южной Азии уже после выхода Homo sapiens из Африки (то есть менее 50 тысяч лет назад). И поскольку в Африке аналогичных мужских ритуалов нет, то с самого начала для человека были характерны и равноправные отношения мужчин и женщин. Но дело в том, что всё это не так, и в Африке есть аналоги мужских ритуалов тихоокеанского региона — и у миролюбивых сейчас хадза, и у пигмеев. Ритуальные горны последних и сам ритуал носят название
молѝмо, и участвовать в нём разрешено только мужчинам. "
Африканские параллели делают излишними размышления о каких-то специфических меланезийско-индейских связях. Остаётся предположить, что либо сходные черты в культуре обитателей разных континентов независимо развились уже после расселения по ойкумене, либо перед нами древнейшее общечеловеческое наследие, которое сохранилось везде, где до недавних пор оставались крупные массивы первобытных племён" (Берёзкин, 1987, с. 154). "
Можно предполагать, что мужские ритуалы, связанные с институализированным противопоставлением полов, возникли в Африке и были принесены в Австралию и на Новую Гвинею первыми сапиенсами" (Берёзкин, 2013a, с. 147), то есть в реальности речь идёт минимум о 50–60 тысячах лет (хотя из предлагаемой здесь гипотезы о связи мужского господства с охотой на мегафауну следует, что возраст этих ритуалов может исчисляться даже несколькими сотнями тысячелетий).
Возможно, следы мужских ритуалов сохранились и у народов Евразии. Что напоминает это ритуальное поведение в современном западном мире? Ряженные в маски требуют еду… Конечно же, это всем известный Хэллоуин, где в канонической форме люди в масках обходят дома и требуют угощений. Аналогичное поведение было характерно и для восточных славян в виде колядования в святки и в масленицу (Берёзкин, 1987, с. 156), когда участники наряжались в различных духов и зверей. А в некоторых регионах России в русальную неделю сохранялся и обычай, когда ряженые бросались на женщин с кнутами (с. 157). И конечно же, по окончании обряда все учатники сообща поедали добытые угощения.
Мифы о свержении власти женщин в Африке тоже широко представлены, и общая их схема просто один в один с тихоокеанскими регионами (Иорданский, 1991, с. 88). В них точно так же рассказывается либо о том, что раньше женщины владели ритуальными масками, позволявшими им общаться с духами, либо же охотничьим оружием, а мужчины же были подчинены и занимались добыванием растительных плодов и другими бытовыми делами. Есть такой миф даже и у народа хадза, которые в последние десятилетия принято описывать как очень эгалитарных (Иорданский, 1982, с. 272). По мифам, мужчинам не нравилось господствующее положение женщин, и потому в один удобный момент они их непременно свергли. Священное для хадза мясо (эпеме), по их мифам, раньше также ели именно женщины, а не мужчины (Woodburn 1964, p. 298). Поэтому полагать, что раз какие-то современные народы в данный момент ведут эгалитарный образ жизни, то такой образ они вели всегда, а потому он и наиболее "естественный" для человека, — это наивная ошибка. Всё это могло измениться именно после конфликтов с пришедшими племенами скотоводов сотни лет назад или с европейцами ещё с XVI века. Поэтому возможно, что нынешнее миролюбие бушменов было вызвано этими факторами (Казанков, 2002, с. 51). Не зря в наиболее жестокой форме все эти "мужские ритуалы" зафиксированы в отдалённых уголках Тихоокеанского региона — потому что туда длинные руки западной цивилизации дотянулись в последнюю очередь. В пользу этой мысли говорит и тот факт, что все жестокие мужские ритуалы и групповые изнасилования женщин в основном были записаны путешественниками конца XIX и начала XX веков, тогда как уже к середине прошлого века среди аборигенов об этих традициях остались лишь рассказы — мол, "наши предки когда-то делали так". И вместе с этим осталась мифология, где в веках была запечатана идеологическая подоплёка мужского господства. Она идентична как для околотихоокеанского региона, так и для Африки — откуда все и вышли. Те же хадза нынче уже лишь на словах говорят, что женщину, увидевшую обряд эпеме, следует убить или изнасиловать, — никто так уже не делает, но память о должном жива. Даже когда некоторые африканцы уже перешли к добыче железа, тайные обряды кузнеца по старому, обкатанному тысячелетиями сценарию, по-прежнему запрещалось видеть женщинам и детям: как замечают исследователи, "
ранее нарушение табу каралось смертью" (Иорданский, 1991, с. 61). Точно так же и у бушменов есть свой священный огонь, зажигаемый мужчинами, видеть чего женщины и дети не могут. У африканцев бамбара при вступлении мальчиков в тайный мужской союз дети приносили клятву старейшине — "
не раскрывать секреты братства посторонним, в особенности девочкам. Вождь группы обращался к каждому из них: "Если ты заговоришь, если ты раскроешь свою клятву, ты умрёшь". И дети хором повторяли: "Пусть я умру!" (там же, с. 87). Ну и конечно, это тайное братство затем периодически устраивало клоунаду с приближением угрожающего духа Симо к деревне, прятаться от которого должны были именно женщины. "
Вся система была мощным средством удержания женской половины деревни в покорности" (там же).
Вся эта схема с сотворением некоего тайного знания буквально из ничего и исключением женщин и детей из круга посвящённых безумно стара. И родом она именно из Африки.
Да и вообще нельзя не заметить, что, согласно изложенной выше гипотезе древнего рождения брака, сам по себе факт его существования у какого-либо народа,
каким бы эгалитарным он сейчас ни был, оказывается чётким индикатором как минимум мужского господства над женщиной в прошлом, что уже не позволяет говорить о былом эгалитаризме. К примеру, у тех же андаманцев, проживших в изоляции на Андаманских островах около 30 или даже 50 тысяч лет, "
измена жены может грозить смертью не только ей, но и её возлюбленному" (Маретина, 1995, с. 154) — и это притом, что обычно их принято описывать как народ с выраженным равенством полов. В том же духе и у всеми любимых бушменов: хоть часто и принято говорить о равнопроавии их мужчин и женщин, но исследователи не любят обращать внимания, что и у них "
все первые браки устраивают родители" (Lee, 2012, p. 86), "
и девочки не имеют права голоса в этом вопросе" (р. 89). При этом "
в некоторых случаях девушки пытались покончить жизнь самоубийством, не позволяя заключить брак" (p. 90). То есть и принудительный брак по договорённости, когда родственники невесты решают за неё, есть и у бушменов.
Хорошо развенчивают миф о равенстве полов среди бушменов конкретные цифры: 23 % убийств у них связаны с сексуальной ревностью (Lee, 1979). То есть, как и во всём мире, мужья-бушмены убивают бушменок-жён. "
Домашнее насилие распространено среди семей бушменов сан на юге Африки. Согласно сообщениям женщин, бойфренды и мужья били их, наносили ножевые ранения или ожоги. Часто мужчины были пьяны, но также случалось, что они били женщин за то, что те не выполняли приказы делать или не делать что-то" (Felton, Becker, 2001, p. 57). Часть учёных утверждает, что семейное насилие у бушменов возникло сравнительно недавно из-за усиливающегося воздействия цивилизации, но если верить самим бушменкам уже преклонного возраста, "
в старые времена, то есть в молодости, когда они жили в центральной части Калахари, сексуальная ревность играла доминирующую роль, как и "недопонимание" между мужьями и женами […] Драку всегда начинали мужчины" (там же). У бушменов также распространены изнасилования, включая и групповые (p. 61). Так что образ тихого, мудрого и миролюбивого бушмена, созданный в ранних работах 1960-х, оказался сильно идеализированным. Да и если бы мужчины и женщины бушмены действительно были равноправными, а в их семьях царила гармония, то пришлось бы тогда взрослой бушменке успокаивать девочку-подростка, боявшуюся предстоявшей ей свадьбы, поясняя: "
Мужчина тебя не убьёт; он женится на тебе и станет для тебя как отец или как старший брат"? (Моррис, 2017, с. 88).
Не удивительно, что сходная картина есть и у якобы эгалитарных пигмеев Конго. У них распространена такая схема, при которой мужчина, изъявивший желание жениться, должен обещать брату невесты свою собственную сестру в качестве жены (то есть пресловутый
обмен женщинами). Этнограф Колин Тёрнбулл, проживший среди пигмеев некоторое время, описывал, как пигмей впал в ярость, когда его сестра, вопреки традиции, отказалась выходить замуж за брата его будущей жены. Брат прилюдно избил сестру, почти даже убил. "
Когда он закончил с Ямбабо, она представляла собой жалкое зрелище, поцарапанная и истекающая кровью, с заплывшим глазом. И всё же она отказалась выйти замуж" (Turnbull, 1961, p. 207). Интересно, что смотревшие на это соплеменники одобряли поведение брата, а один из них даже сказал, что "
возможно, ему следовало бить её сильнее, потому что некоторым девушкам нравится, когда их бьют" (p. 208).
Точно такая же картина характерна для многих и многих регионов мира. У новогвинейских племён также, "
вступая в брак, мужчины чаще всего обмениваются сёстрами. Когда молодой человек женится на девушке, то от него ждут, что он выдаст свою сестру за брата своей жены. Если он почему-либо не может этого сделать, ему приходится платить за невесту большой выкуп. Девушек всегда выдают замуж братья" (Бьерре, 1967). Ну и конечно, для новогвинейских невест, как и для невест всего мира, характерно нежелание выходить замуж, сопровождаемое слезами и даже попытками побега.
Последние исследования (Walker et al., 2011) в полном соответствии с предложенной здесь гипотезой показывают, что брак по договорённости (когда родственники выдают невесту замуж против её воли) был, вероятно, самой ранней формой брака и, поскольку сейчас характерен для большинства охотников-собирателей по всему миру, то, значит, зародился ещё до выхода первых sapiensиз Африки — то есть никак не позже 50 тысяч лет назад (а вероятно, и несколько сотен тысяч лет). Учёные делают важное замечание: "
брак по договорённости не связан с такими средовыми переменными, как широта, температура, среда обитания, мобильность, качество питания, плотность населения или какие другие". То есть форма брака не зависит от внешних условий. Раз так, то ответ надо искать именно в сфере древней идеологии — мужского господства и престижа.
Становление мужских ритуалов и мифологии стало средством утверждения мужского господства и обоснования подчинённого положения женщин. Антрополог Пьер Кластр видел в мужском господстве реакцию мужчин на существование невыносимого для них факта, который они всеми силами выбивают из своего сознания: речь идёт о фактическом превосходстве женщины над мужчиной. Мифы, являющиеся отображением этой мысли, которая присутствует в подсознании мужчин, очень хорошо отражают эту перевёрнутую ситуацию.
"Мифы всё излагают, перевернув порядок существующих вещей и представляют судьбу общества как судьбу мужскую, а в действительности всё наоборот: судьба общества — это судьба женская, вот в чём очевидная истина. Итак, что же получается, мужчины более слабы, покинуты и неполноценны? Именно это и признают мифы почти во всём мире. Ведь они представляют потерянный золотой век или рай, которого нужно достигнуть, как бесполый мир, как мир без женщин" (цит. по Рулан, 2000, с. 147).
"Гендер — это не природно-физиологические различия между полами. Это культурная классификация, основанная на половом разделении труда, которое может быть единственной высокозначимой культурной формой. Если гендер создаёт и устанавливает неравенство и господство, что может быть важнее него? Как могло бы выглядеть и развиваться человеческое общество без гендера?" (Zerzan, 2010).
Нельзя обойти вниманием и такую популярную концепцию, по которой все описанные "мужские" психологические особенности (склонность к агрессии, неопрадавнному риску, высокой конкурентности) определяются некими биологическими факторами (генами, гормонами и т. д.). Это действительно очень популярная версия, но при этом совершенно несостоятельная. В рамках данной книги не очень уместно расписывать несостоятельность применения каких-либо инстинктов или биологических "предрасположенностей" к поведению человека, поэтому могу лишь отослать к своей предшествующей книге "
Мифы об инстинктах человека", где подробно расписано всё о природе инстинктов у животных и их отличия от формирования поведения человека. И правда очень часто сложившееся положение вещей описывается отсылкой к каким-то биологическим истокам, и порой такая позиция разделяется даже учёными. Ещё в 1969-м антрополог Лайонел Тайгер (Lionel Tiger) опубликовал нашумевшую работу "Мужчины в группах" (Men in groups), где пытался обосновать, что знаменитая склонность мужчин к формированию обособленных от женщин групп (мужских союзов) уходит корнями в древнюю охоту на мегафауну (и здесь наши взгляды сильно сходятся), но при этом делает упор на то, будто эта склонность тогда же и закрепилась в мужчинах генетически (и тут наши взгляды расходятся). С позиции Тайгера, Великая охота определила не столько культуру человека, сколько сами биологические основы его поведения. Творчество Тайгера вызвало много справедливой критики со стороны научного сообщества. В действительности, это всеобщая проблема, когда учёный зоолог (или даже антрополог) приступает к поискам причин человеческого поведения, ведь поведением наиболее досконально занимается психология, а потому именно с изучения научной психологии и надо начинать, но многие авторы игнорируют её.
Тайгер утверждал, что формирование мужских союзов было необходимо в условиях охоты или военных стычек с другими группами, а потому без крепкого доверия и без "чувства плеча" было не обойтись. Но если бы Тайгер интересовался психологией, то знал бы, что для мужчин как раз-таки характерна повышенная внутригрупповая конкурентность: мужчины (даже друзья) борются за статус лидера, они стремятся превзойти друг друга в возможных достижениях, а потому для мужской дружбы всегда характерно напряжение (обо всём этом подробнее поговорим в последующих главах, а пока лишь всё в общих чертах). Изучая поведение мужчин, складывается впечатление, что они создают союзы как раз для конкуренции — либо друг с другом внутри них, либо же с другими группами (но часто и то, и другое сразу). С другой стороны, ладно, допустим, мужчины в древности действительно формировали союзы для лучшей поддержки друг друга, но почему тогда в итоге для мужчин всего мира оказалось так важным непременно изгонять любую женщину из своего союза? Если в их мужском союзе уже налажена поддержка и "чувство плеча", то как этому мешает женщина(-ы)? Почему вход в туземные "мужские дома" строго настрого закрыт для женщин, вплоть до угрозы смерти? Почему мужчинам так принципиально иметь какую-то свою деятельность, категорически отличную от женской? Почему мужчинам даже на пространственном уровне запрещено плотно взаимодействовать с женщиной? Почему всё женское объявлено нечистым и презренным? Причём здесь какая-то генетическая база?
Гендер (все эти специфические представления о "мужском" и "женском") создаётся исключительно культурой — не биологией. Что характерно, в разных культурах гендер выражен через разные явления: у охотников-собирателей это обязательно охотящийся мужчина и собирающая женщина, у скотоводов с мелким скотом это пастух мужчина, а женщина же снова собиратель и занимающаяся обустройством жилища, поддержанием очага, тогда как у скотоводов с крупным скотом женщине уже вполне доверятся уход за скотом мелким (козы, овцы), а мужчина же занимается уже чисто крупным скотом (причём в те моменты, когда мужчины покидают селение — на войну или торговлю, — то на женщину ложится и уход за крупным скотом). То есть всё это гендерное деление — оно сугубо условное и не связано с какими-то объективными факторами как таковыми. Просто принято, что мужчина и женщина должны заниматься разными делами, и всё. В средневековой Европе женщине, как и всегда, дозволен очень ограниченный круг занятий, тогда как мужчина занимал все ведущие должности (причём женщинам именно запрещалосьзанимать те же должности: быть юристом, лекарем или учёным, то есть это был вполне сознательный и откровенно культурный запрет, не зависящий от какой-то "биологии" (ведь те редкие случаи, когда средневековой женщине всё же удавалось всеми правдами и неправдами совершать запретную для неё деятельность — лечить, писать философские трактаты, — показывают, что объективно она могла с этим справляться, запрет был чисто культурного характера). Кроме того, что именно мужчины всегда принимали законы, запрещающие женщинам голосовать и получать образование, с индустриализацией (вплоть до XX века) именно мужчины же выступали активными противниками женской работы на фабриках и заводах — просто у мужчин должна быть (любая, но максимально престижная) деятельность, отличающаяся от женской. У мужчины должно быть своё сакральное место, куда женщине нет входа. Всё это указывает, что в человеческой культуре с самой древности для мужчин и женщин был императив различаться — это было именно культурное требование. И выражалось оно уже даже в процедуре обрезания для обоих полов в раннем детстве: мальчикам срезали крайнюю плоть (так как она походила на женские половые губы), а девочкам отсекали клитор (так как он походил на маленький пенис). То есть гендерные различия целенаправленно воспроизводились даже путём "корректировки" естественного, данного от рождения тела. Люди "исправляли" природу, подгоняя её плоды под собственные представления о должном.
Все механизмы поддержания гендера — сугубо культурного характера, а не какого-либо "природного". И правда, если бы к этой дифференциации была как-то причастна "биология", то разве пришлось бы выстраивать такие сложные культурные механизмы для её оправдания и поддержания? Если бы половое разделение прав и обязанностей опиралось на биологию, то оно бы одинаково устраивало оба пола, но почему же всегда и везде именно женщины стремились вырваться из-под мужского гнёта? Кто-то может сказать, будто гендер оберегается всем обществом, но это неправда. Если углубиться в данные возрастной психологии, социальной истории и этнографии, то можно увидеть, что гендер оберегается главным образом мужчинами, это противопоставление "мужского" и "женского" почему-то важно именно для них. Примерно с 4-летнего возраста мальчики вдруг перестают играть с девочками и начинают играть только с мальчиками, причём девочек в свои игры они не берут (Кон, 2005a, с. 245). А вот девочки же не имеют такого запрета на игры с мальчиками и потому без особого труда берут в свои игры тех редких из них, кто на это отважится (как правило, это изгои из мальчуковой группы). Точно так же примерно с 5-летнего возраста мальчики вдруг начинают делить еду на "мужскую" и "женскую" (конечно, "мужская" — это красное мясо, а "женская" — овощи и фрукты), тогда как девочки такого разделения ещё не проводят (Graziani et al., 2021). Для них это не важно. А вот для мальчиков уже важно. "
Инициаторами и защитниками этой сегрегации чаще бывают мальчики" справедливо заключают исследователи (Кон, с. 245). То есть мальчикам не столько важно объединяться с другими мальчиками, сколько противопоставить себя девочкам. И все эти пресловутые мужские союзы древности — это в первую очередь именно способ противопоставления мужчины женщине, а не для построения мужской дружбы и обретения "чувства плеча".
Но почему вдруг это противопоставление "мужского" и "женского" так важно именно мужчинам? Скорее всего, именно потому, что в нём мужчина занимает привилегированное положение, а женщина — приниженное. Женщина нечиста и опасна (с ней надо по возможности меньше взаимодействовать), а быть мужчиной же — предмет священной гордости, и быть среди мужчин — также. Именно поэтому на вопрос, почему гендер оказался одним из самых устойчивых явлений культуры, можно ответить просто: потому что он касается представлений о "мужской чести", о его значимости и грандиозности в этой культуре. И мужчина готов отстаивать эти представления, даже карая женщин смертью.
Как давно сложился такой порядок? Датировать рождение гендера и связанного с ним брака сложно. Как описано выше, это началось не раньше, чем охота на мегафауну, но когда началась эта охота, в науке остаётся дискуссионным вопросом. Есть свидетельства, что такое могло случиться уже 1,3 млн. лет назад (Марков, 2011, с. 168; Balter, 2010). Но даже если Великая Охота действительно началась так рано, то вряд ли это быстро привело к рождению мужского гендера. Для этого ещё должна была сформироваться своя культурная база, символический фундамент из ритуалов, мифологии и конкретного образа поведения. Но тот факт, что в той или иной форме брак распространён по всему миру, говорит о том, что рождение гендера сложилось до выхода Homo sapiens за пределы Африки. Долго считалось, что это случилось около 100 тысяч лет назад, но по новым данным, это могло произойти и около 200 тысяч лет назад (Yeshurun et al., 2007). Иначе говоря, существование гендера и брака как способа его обслуживания, может быть очень древним.
3. Открытие отцовства
Как в науке, так и у обывателя очень популярен взгляд, будто уже в глубокой древности мужчине была "важна уверенность в собственном отцовстве", что и стало одной из возможных причин моногамии. Этот взгляд очень наивен. В действительности нет ни малейших доказательств, что явление отцовства (биологической роли мужчины в зачатии) было древним людям известно. Скорее всего, отцовство по историческим меркам было открыто довольно недавно. Чтобы понять, как это могло случиться, надо вернуться к первейшему "обмену женщинами" и понять, как именно он мог осуществляться.
Поскольку мы исходим из того, что до Великой Охоты древний человек практиковал неупорядоченные сексуальные связи (промискуитет), возможные свидетельства чего приведены в соответствующем разделе, то вариант с отцом, раздающим своих дочерей замуж с началом этой охоты исключён: при промискуитете отцовство как явление неизвестно. Женщины однажды просто рожают. Следовательно, обмен женщинами, каким он нам известен сейчас (отец выдаёт дочь замуж), — это уже более позднее явление. Изначально могло быть немного не так.
Как выглядит типичная семья при промискуитете, когда феномен отцовства неизвестен? Это семья из матери, её детей (дочерей и сыновей), а также внуков (от дочерей). Всё потомство подчиняется матери. Что изменилось с переходом к Великой Охоте? Как показано, возвышается фигура Мужчины, он становится грандиозным культурным феноменом. И с этим рождением культа Мужчины изначальная картина меняется: мужчины начинают формировать отдельные от женщин устойчивые группы (создаётся та самая дистанция между полами), и сопровождающая этот процесс культурная трансформация (новая мифология и т. д.) неотвратимо обволакивает уже и мальчиков, которым в будущем предстоит стать Мужчиной. Значение сына сильно вырастает. Рождение сына — предмет гордости для матери (тот самый феномен, который наблюдается и сейчас почти по всему миру). Мать рождает будущего Героя. Вся община смотрит на Него. Естественно, вместе с этим вырастает и роль брата в глазах сестры.
Значимость Мужчины оказалась такой большой, что даже тысячелетия спустя люди предпочитают делать аборт, узнав, что у них должна родиться дочка. За последние полвека по всему миру в результате избирательных абортов не родилось около 23 млн. девочек (Chao et al., 2019).
"Когда речь заходит о рождении первого ребенка, родители в два раза чаще называют предпочтительным появление мальчика, среди отцов эта цифра равна четырём. Даже слово, которое существует в русском языке для обозначения первого ребенка — «первенец», мужского рода. Аналога женского рода не существует. Дети приходят в мир, где мальчикам отдаётся явное предпочтение" (Козлов, Шухова, 2010, с. 130). Даже в соцсетях родители делают заметки о сыновьях чаще, чем о дочерях, и эти заметки также получают больше «лайков» (Sivak, Smirnov, 2019).
Бóльшая ценность рождения мальчика отражалась и в брачном обряде славян, когда на колени невесте усаживали ребёнка того пола, которого ей желали родить, — как правило, это был именно мальчик (Байбурин, 1993, с. 40). Фольклористы отмечают, что на Руси, женщин, рожающих девочек, даже считали "пустыми", неплодными (Бернштам, 2011, с. 98). Что касается усаживания мальчика на колени невесты в брачном обряде, то очень интересно в этом плане наблюдение за всё теми же андаманцами, прожившими в изоляции на островах 30–50 тысяч лет, — в брачную церемонию у них также есть традиция усаживания на колени невесте, но только жениха (Маретина, 1995, с. 179). Этнографы не раскрывают чёткого символизма этой традиции, но не исключено, что она также может быть выражением желания родить мальчика, и тогда это стремление оказывается действительно очень древним.
У шимпанзе матери доминируют даже над своими взрослыми сыновьями (Файнберг, 1980, с. 45), как бы ни был высок статус самца в группе, он всегда подчиняется матери. И как разительно в этом плане отличается человек в культурах с древней идеологией, где сыну позволено не только побить свою мать за измену отцу, но и выбирать ей мужа, если она овдовела (Артёмова, 2009, с. 425, 350). Вот это и есть результат древнего возвеличивания Мужчины.
Другая разница человека с обезьянами в том, что их самки свободно перемещаются из группы в группу (как правило, в поисках секса), а у человека же на это как раз налагается строгий запрет, и перемещения женщины из одного коллектива в другой жёстко контролируются мужчинами (брак, обмен женщинами). Став таким необходимым исполнителем непрестижных работ, женщина попадает под контроль Мужчины, и отпускать её отныне он не хочет. Вероятно, первым таким господином женщины стал именно её брат. Как упоминалось выше, в антропологии феномен господства брата над сестрой и её детьми известен как авункулат (лат. avunculus "дядя по матери"). Брат отдаёт свою сестру другому мужчине (замуж), но её будущие дети оказываются под его властью и опекой, а не под властью мужа.
В этом плане интересно, что по некоторым воззрениям лингвистики, в индоевропейских языках многие термины свойства́ (родства по браку) производны от древнего названия сестры «suesor» ("sue" — "своя"). Именно от этого корня затем происходят «свёкры», "сватьи", «свояки» и некоторые другие родственники через брак (Трубачёв, 1959, с. 90). Важно, что «suesor» — это кровная сестра по отношению к говорящему (с. 66), то есть, возможно, терминология подразумевает именно брата центром отсчёта, это он говорит, и именно он же через сестру обретает новых союзников в лице её мужа и родни мужа, которых и называет терминами, производными от своей сестры. Если это предположение верно, то это может косвенно отражать древнее господство брата над сестрой.
Что важно, у обезьян связи между братом и сестрой в целом довольно слабы, и это сильно отличает их от человека (Chapais, 2008, p. 129). Это также может свидетельствовать, что с возвеличиванием Мужчины изначальное удержание женщин осуществлялось братом по отношению к сестре, к «своей». То есть авункулат и был началом мужского господства.
На протяжении всей эволюции человека женщины самостоятельно занимались детьми, но с началом Великой Охоты и с рождением Мужчины в воспитание детей вмешивается брат матери, он устанавливает покровительство над племянником. Как было описано для народов Новой Гвинеи, по достижении половой зрелости мужчины забирают мальчика от матери и проводят над ним обряды инициации. Вероятно, эта схема и была характерна для тех древних времён, когда мужское господство (в лице брата) уже установилось: даже в XX веке у многих племён с авункулатом достигший половой зрелости мальчик обязательно возвращался в дом дяди (Косвен, 1948, с. 13).
Выше было показано, что брак рождается как средство обеспечения существования мужского гендера. Если мы исходим из того, что в древности царили неупорядоченные сексуальные связи, то феномен отцовства не мог быть известен, и по этой причине самым первым господином женщины должен был оказаться именно её брат. Брат стал дарителем своих сестёр и их дочерей другим мужчинам, своим соратникам. Этот обмен выступал хорошим способом заключения союзов между мужчинами, выражая высшую степень их дружбы. Отданная другому мужчине сестра или племянница становилась его женой, тогда как он сам становился зятем её дарителю (брату). Так родился брак с его системами свойства́, и управляли им исключительно мужчины.
Чисто психологически сложно представить, чтобы между братом и сестрой, с детства растущими вместе, не возникали нежные отношения привязанности, такое непременно должно было случаться. Но установившаяся культура требовала обмена женщинами. Следы вмешательства такой культуры в отношения брата и сестры с целью разрыва их привязанности можно найти у некоторых современных племён Меланезии, где при достижении определённого возраста брату запрещаются любые контакты с сестрой.
"Когда брат и сестра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать в разные стороны или спрятаться. Если мальчик узнаёт следы ног сестры на песке, то ему нельзя идти по этим следам, так же, как и ей по его следам. Больше того, он не смеет произносить имён своих сестёр и побоится произнести самое обычное слово, если оно входит составной частью в имя кого-либо из них. Это «избегание», начинающееся с момента церемониала инициации (возмужалости), соблюдается в течение всей жизни" (Фрейд, 2005, с. 25). Наблюдая за отношениями между дядей и мамой, мальчик понимает, что он
"наследник своего дяди и сам также будет господином над своими сёстрами, от которых к этому времени он уже отделён социальным табу, запрещающим между ними любую близость" (Малиновский, с. 47). Впрочем, антропологи привыкли трактовать эти табу на нежность между братом и сестрой как механизм предотвращения инцеста между ними (Панов, с. 214), что вряд ли соответствует действительности, так как выше мы уже видели, что инцест между растущими вместе маловероятен сам по себе (эффект Вестермарка).
Таким образом, картина древности, когда мужчины начали охоту на мегафауну, чем породили мужской гендер и половое разделение труда, прекрасно дополняется рождением авункулата (господства брата над сестрой) при допущении, что существовали неупорядоченные сексуальные связи (промискуитет), как и подобает всем приматам.
Тогда как исторически мог быть открыт феномен отцовства? Только в условиях уже сложившегося контроля женской сексуальности. То есть «моногамия» предшествовала открытию отцовства (Fox, 1997; Chapais, 2008), при свободном промискуитете это было невозможно. Сначала был налажен "обмен женщинами", затем возникло ограничение женской сексуальности как условие удержания женщины при одном мужчине, которому она вручена, и лишь так возникают условия для возможного открытия феномена отцовства — связи между сексом и зачатием, ведь женщина отныне занимается сексом не постоянно и со всеми, а лишь иногда и только с одним. Если муж вовсе игнорировал сексуальные потребности жены, то она и не беременела. Только так сквозь многие поколения люди могли догадаться о связи секса с зачатием, а следовательно, и об отцовстве. Если исходить из того, что и по сей день существуют народы, не знающие связи между сексом и беременностью (тробрианцы и др.), то открытие отцовства было сделано уже после выхода Человека разумного за пределы Африки и в разных частях света происходило независимо.
Брак возник до открытия отцовства, а не наоборот, как часто гипотезируют антропологи и социобиологи. Даже и сейчас существуют народы, где брак уже есть, а вот феномен отцовства по-прежнему неизвестен. При этом там сохраняется и господство брата матери над её детьми, то есть авункулат.
Как было указано в разделе "Фигура Отца", похоже, открытие роли мужчины в зачатии по историческим меркам было совершено довольно недавно. В древних языках термин «отец» изначально описывал социальный статус мужчины, главу дома, а не его биологическую связь с ребёнком. Поскольку речь идёт о древних индоевропейских языках, то это может означать, что в ареале их распространения биологическое отцовство вполне могло оставаться неизвестным даже около 5 тысяч лет назад. К тому же в этих языках для обозначения сына существовали два термина: «сунус» и «путра» — причём первый термин связан с материнской функцией и происходит от чего-то близкого к "
рождённый матерью", тогда как второй термин производен от "
зачатый отцом". Так вот обозначение сына как "рождённого матерью" ("сунус") было куда более древним и распространённым, а понимание сына как "зачатого отцом" было довольно поздним и менее распространённым (Трубачёв, 1959, с. 50–52). Китайские источники IV в. до н. э. также сообщают, что в ещё более древние времена
"дети знали только своих матерей, но не отцов" (ван Гулик, 2000, с. 19).
Косвенным свидетельством в целом недавнего открытия отцовства могут служить и палеолитические «венеры», если исходить из гипотезы, что они символизировали женское плодородие, так как изображали беременных женщин. Эти древние статуэтки могут быть свидетельством сакрального отношения древних людей к беременности, которую они никак не могли объяснить, кроме как некими таинственными силами. Тот же факт, что «венеры» наиболее распространены именно в палеолите и исчезают в неолите (около 10 тысяч лет назад), как раз и может намекать, что в это время и был открыт феномен отцовства — причастность мужчины к оплодотворению, что и привело к десакрализации беременности.
Достоверно известно, что отцовство было известно уже в Древней Греции, вокруг чего даже сложился настоящий культ Отца (см. Зойя, 2017). Можно предположить, что в районе Средиземноморья и в ближайших частях Азии это знание могло (и должно было) возникнуть ещё раньше, но вот насколько именно раньше, уже никто не скажет. Необходим обширный анализ древних текстов под критическим углом высказанной гипотезы (что биологическое отцовство по историческим меркам было открыто не так давно), чтобы проверить её состоятельность. Антропологи, полагающие промискуитет важной чертой древнего человека, также считают феномен отцовства в целом недавним открытием (Fox, 1997; Chapais, 2008). "
Отец — это хрупкая и недавняя пена на долгой волне человеческой эволюции" (Зойя, 2017). Советские учёные также отмечали, что все функции дяди по матери переходят к мужу (отцу) менее 10 тысяч лет назад (Косвен, 1948, с. 32), и можно полагать, такой переход функций мог быть связан как раз с открытием феномена отцовства и с пониманием того факта, что дети женщины принадлежат не её брату, а мужу. Но даже если отцовство и было открыто примерно тогда, то всё равно нет оснований считать, что оно тут же приобрело ценность — какая-либо значимость не вшита в отцовство само по себе, для этого необходима какая-то идеологическая база или же практическая полезность. Если мы говорим о времени не более 10 тысяч лет назад, то эта эпоха известна рождением земледелия и скотоводства. В ту пору дети могли понадобиться мужу (отцу) именно в качестве рабочей силы по обслуживанию хозяйства, что и могло послужить причиной отнять у дяди власть над детьми. Но, конечно, возможно, всё было и как-то иначе.
Если всё действительно так, то предположение о недавнем открытии отцовства может объяснить, почему этот институт до сих пор так плохо прописан в человеческой культуре. Как бы ни были некоторые авторы склонны идеализировать роль отца, в действительности она вряд ли когда-либо была реально значимой. Отец — это всегда было о власти, нежели о чём-то ещё. Антрополог Луиджи Зойя написал полное драматизма сочинение об Отце, где особой грустью наполнены главы о XX веке и о якобы упадке роли отца в жизни детей (Зойя, 2017). Но не было никакого упадка. Взаимодействие отца с детьми всегда было незначительным, и очень часто было окрашено скорее негативно, чем позитивно (см. "
Детско-родительские отношения прошлого"). Как для прошлых эпох, так и для современности "
при всей вариабельности отцовских образов, психологическая близость между отцом и сыном — явление редкое и скорее исключительное" (Кон, 2005). Институт отцовства (некой особой связи отца и детей) никогда не был развит. Если биологический отец был «открыт» лишь несколько тысячелетий назад, то никакой иной роли, кроме властно-распорядительной, для него впоследствии так и не нашлось. Давно ставший классическим эксперимент Ури Бронфенбреннера показал, что хотя отцы и склонны сильно преувеличивать время своего контакта с детьми, в действительности они делают это в среднем 2,7 раз в день при средней продолжительности в 37,7 секунд (Обухова, 2013, с. 163). Сходные цифры получены и в более поздних исследованиях (Бадентэр, с. 273). Даже в тех семьях, где родители придерживаются принципов равенства, отцы проводят наедине с ребёнком в четыре раза меньше времени, чем мать, "
и не обнаруживают такого же чувства ответственности по отношению к нему" (там же). Так часто звучащее сейчас требование/пожелание эмоционального и деятельного контакта отца с детьми — это новомодное веяние последних десятилетий (Тартаковская, 2005, с. 197), которое на деле осуществляется из рук вон плохо, и лишь единицы отцов действительно могут следовать этому призыву.
В психологии хорошо известно, что отец, позитивно и плотно взаимодействующий с детьми, действительно оказывает колоссальное влияние на их развитие (Parke, Sawin, 1976; Ninio, Rinott, 1988), но нюанс в том, что таких отцов очень мало, они большая редкость. Лишь 23 % молодёжи отмечают влияние отца в период взросления (Реан, 2017). Степень одиночества подростков в полных и неполных семьях существенно не различается (Зайцева и др., 2017), и широко распространённое мнение о неблагополучии детей из неполной семьи не подтверждается исследованиями (Крюкова и др, 2005, с. 53). То есть, можно сказать, отец отсутствует в обеих семьях — и в полных, и в неполных. Во многих семьях отец, присутствуя физически, отсутствует психологически, оказываясь неким вынужденным соседом своей жене и её детям, вечно лежащий на диване и смотрящий телевизор, этакий "чужой среди своих" (Шнейдер, 2013, с. 31).
Психологи отмечают, что тёплые отношения между отцом и сыном встречаются очень редко, и когда сыновья рассказывают об этом, то складывается впечатление, что у многих мужчин "
был один и тот же отец, все отцы сливались в один персонаж, архетип отца: чуждый призрак, полутиран, павший полудеспот, и в этом достойный жалости. Неловкий, стесняющийся или не чувствующий себя как дома мужчина; раздражённый человек, плохо владеющий своими эмоциями" (Бадентэр, с. 239). Но больше, чем на насилие, сыновья жалуются на отцовское отсутствие. При этом отсутствие это прежде всего относится к отцам, живущим дома, но "
играющим роль призрака" (там же). Неспроста современный отец так рвётся на рыбалку или в гараж: исследователи так и окрестили их — "гаражная популяция мужчин" (Комарова, 1990, с. 75). Роль Отца в культуре настолько нова, что попросту ещё не прописана в её кодах. И те редкие мужчины, которым всё же удаётся построить хорошие отношения с детьми, оказываются по-настоящему старательными первопроходцами в этом деле.
Луиджи Зойя справедливо замечает о ближайших к нам обезьянах: "
Существование самцов не имеет смысла на индивидуальном уровне. Они — просто генетический резервуар для следующего поколения", но при этом Зойя даже не думает посмотреть ровно под этим же углом на человеческого мужчину, на отца. Отец — это миф. Такой же миф, как и Мужчина. И эта тоска по Отцу, играющему со своими детьми и наставляющему их, так свойственная некоторым авторам, — это скорее плод осознания, что такого отца как раз нет, да никогда и не было. А так хотелось бы… Сотни тысяч лет мужского господства отчётливо проступают во всех аспектах культуры, тогда как более поздняя фигура Отца оказалась такой новой, что роль для неё и в воображении философов прописана слабым пунктиром. "
Даже спустя длительное время мужчина несёт в себе тревогу по поводу той бесполезности, которая характеризовала самца обезьяны" (Зойя, 2017).
Заключение
Помните, в разделе "
Культура диктует видение" было рассказано, что учёные-мужчины по какой-то причине долгое время не могли разглядеть промискуитет у самок животных, а способными на это оказались только учёные-женщины? Учёные-мужчины всегда и везде склонны видеть либо моногамию (один самец + одна самка), либо полигамию (один самец + много самок), но никак не промискуитет (много самцов + много самок). Почему-то именно концепция неупорядоченных сексуальных связей, сексуальной свободы обходит сознание учёных-мужчин стороной. На этот же нюанс обращают внимание Кристофер Райан и Касильда Жета: почти все антропологи, строя гипотезы о древнем человеке, говорят либо о моногамии, либо о полигамии (Райан, Жета, с. 34), промискуитет же решительно избегается. И это притом, что наши ближайшие родственники шимпанзе откровенно промискуитетны, и этот факт сам по себе уже как бы кричит, привлекая внимание. Но нет, этого не происходит. Учёным-мужчинам или не хочется, или очень трудно представить неупорядоченные сексуальные связи у наших предков. Не в том ли дело, что как при моногамии, так и при полигамии (гарем при одном мужчине) сохраняется концепция мужского господства? И там, и там мужчина главный. И только при промискуитете его нет, этого мужчины-господина. Промискуитет — угроза мужскому господству? Сам факт, что женщина вольна выбирать себе сексуальных партнёров, не останавливаясь ни на ком надолго и никому при этом не принадлежа, не укладывается в понимание людей, воспитанных в культуре мужского господства, он вызывает негодование, возмущая до глубины души. Нет ничего более отвратительного, чем женская сексуальная свобода. Потому что она говорит об утрате мужского господства над женщиной. Исследуя деревенские песни и былины, где жену-изменницу карает муж, фольклористы также приходят к выводу, что "
женская неверность заслуживает смерти, потому что она угрожает самим основам патриархальности" (Адоньева, Олсон, с. 188).
Но каким бы ни был страх мужчин перед промискуитетом, это не отменяет факта, что до рождения гендера человечество неизбежно было именно таким — обществом с неупорядоченной сексуальностью (Cucchiari, 1992). Просто об этом предпочитают не думать.
Брак (и присущий ему контроль женской сексуальности) когда-то выступил главным механизмом порабощения женщины. Феминистки прошлых веков сумели это разглядеть и уже в XVII веке открыто заявляли, что брак — это "столп фаллократического общества", а муж, дети и родственники мужа — настоящий бич для женщины (Бадентэр, с. 27). В 1792-м году именитая феминистка Мэри Уолстонкрафт прямо сравнивала брак с кандалами для женщин. "
К 1850-м годам стало общим местом сравнивать брак с рабством на основе неравного разделения прав между супругами" (Ялом, 2019, с. 238). В 1890-м в своём манифесте "
Сексуальное рабство" Вольтарина де Клер восклицала: "
Да, наши повелители! Земля — это тюрьма, свадебное ложе — это тюремная камера, женщины — это заключённые, а вы — тюремные надзиратели!" Она замечала, что брак "делает каждую замужнюю женщину рабыней на цепи, вынужденной принять фамилию своего господина, брать пищу из рук своего господина, выполнять приказы своего господина и прислуживать его любовницам
При этом понимание ситуации не всегда было полным, и в переписке феминисток проскакивало: "
Жизнь женщины не улучшится, пока она угнетаема в браке", и далее мысль, что брак должен строиться "
исключительно на любви, понимании и равенстве между полами" (Ялом, с. 234). Это и есть шаткая иллюзия, поскольку брак исторически — именно механизм подчинения женщины, он только с одной целью и создан: поддержание жизнеспособности мужского гендера через подчинение женщины. Идея обслуживания Мужчины лежит в самой сердцевине брака, это его фундамент, и если эту идею убрать, то в браке пропадает всякий смысл.
Мысль о том, что брак должен строиться на любви и уважении, показала свою несостоятельность взрывным ростом разводов в XX веке, когда браки действительно стали заключаться именно на этом шатком основании. Брак по любви не длится долго: он никогда на любви не строился и никогда на ней стоять не сможет. Брак — он для другого. Он для мужчины, а не для женщины.
Ближе к современности критика брака со стороны феминисток сильно ослабевает, и они больше переходят к критике непосредственно самих мужчин. При этом продолжая выходить замуж. Есть подозрение, что отход от критики брака был обусловлен упростившейся в XX веке процедурой развода для женщин: теперь они могли просто прекратить брак по первому же позыву. И затем вступить в новый в надежде, что "на этот раз всё сложится иначе". Как иронизируют социологи, высокие показатели разводов не означают ещё, что браки находятся на пути к исчезновению. "
Напротив, они более популярны, поскольку теперь каждый стремится иметь их больше, нежели прежде" (Коллинз, 2004, с. 561) — а ведь это не что иное, как маленький шаг к былому промискуитету.
Углублённый взгляд на историческое становление брака мог бы помочь женщинам, борющимся за свои права, делать это лучше. Отказ от института брака может скорее привести к деконструкции мужского гендера, к упразднению Мужчины, этого Великого Охотника и Господина женщины. Теоретик феминизма Гейл Рубин писала: "
Моя мечта — это андрогинное и безгендерное (хотя и не бесполое) общество, в котором анатомическое устройство половых органов человека не играет никакой роли в том, какую профессию он выбирает, чем он занимается и с кем занимается любовью" (2000, с. 129). Всего этого можно достичь лишь упразднением брака, на котором зиждется мужской гендер. Тогда женщина будет способна объявить, что она никому не принадлежит и отныне свободна.
О необходимости избавления от мужского гендера специалисты говорят уже несколько десятилетий (Киммел, 2006, с. 411). Они призывают к реконструкции мужественности, "
цель которой в том, чтобы сохранить все хорошие аспекты, относящиеся к роли, и устранить устаревшие и нефункционирующие части" (Бёрн, 2008, с. 189). Рассуждая о древнем положении вещей, Элизабет Бадентэр говорит: "
Таких отношений между мужчиной и женщиной мы больше не хотим. И мы не станем оплакивать мужчину старого образца, умирающего у нас на глазах" (с. 156). "
Кризис современности берёт свои начала в навязывании гендера. Разделение и неравенства начинаются в нём, когда символическая культура только появляется, вскоре став определяющей основой одомашнивания и цивилизации — патриархатом. Гендерная иерархия уже не может быть изменена так, как классовая система или глобализация. Без глубокого радикального освобождения женщин, мы будем преданы убийственному обману и искажению, что приведёт к ужасным потерям. В единстве естественных отношений, не основанных на гендере, может быть скрыт рецепт нашего освобождения" (Zerzan, 2010). Взгляд, что исторически именно гендер является основой всех последующих социальных иерархий наиболее чётко выражала Джоан Скотт. "
Гендер есть первичное средство обозначения отношений власти", писала она, а
"иерархические структуры полагаются на обобщённые понимания так называемых естественных отношений между мужчиной и женщиной" (Скотт, 2001).
Сравнение отношений в моногамных парах с отношениями в полиаморных союзах (где каждому дозволено иметь более чем одного сексуального и эмоционального партнёра) приводят учёных к выводу, что моногамия ограничивает женскую самостоятельность, умаляет её активность, и в целом моногамию можно определить как институт, поддерживающий систему гендерного угнетения (Ziegler et al., 2014). Преимущество полиаморных союзов состоит как раз в том, что традиционные гендерные роли в них уживаются очень сложно (труднее решить, кто главный и т. д.). Это лишний раз подчёркивает, что исторически моногамия (брак) была создана для обеспечения жизнеспособности мужского гендера.
Здесь надо сделать уточнение. В текстах сторонников феминизма нередко слышны призывы к созданию общества с гендерным равенством. Так вот эта формулировка кажется оксюмороном: гендер
изначально возник как неравенство, это в самой его природе. И дело не в неравном распределении труда, трудового времени, а в неравном распределении его престижности — Мужчина взял на себя весь престижный труд, а женщине оставил труд презираемый. Собственно, именно потому гендерный порядок существовал столько тысячелетий — не потому что это было как-то разумно или соответствовало неким "объективным условиям", а потому что некоторая группа от поддержания такого порядка получала все статусные сливки. То есть гендер возник и зиждется не столько на разделении труда, сколько на разделении престижа — причём на разделении одностороннем, фактически на полной его монополизации. Это легло в основу гендерного порядка. Поэтому говорить о "гендерном равенстве" — это говорить о мёртвом гендере.
Удивительно, как мало существует в мире работ на тему рождения гендера и мужского господства. Особенно на русском языке. Величайшие антропологи XX века, кажется, и вовсе мало интересовались этим вопросом. Читая их труды, понимаешь, что вопрос о рождении гендера и мужского господства интересовал их не сильно, а вероятно, ныне существующий порядок просто мыслился ими как единственно возможный, чуть ли не естественный, а потому посмотреть на него критически было сложно. В то же время "
ничто в природе не объясняет ни половое разделение труда, ни такие институты как брак, супружество или отцовство. Всё это построено на ограничении женщин, всё это является проявлениями цивилизации, которые необходимо разъяснить, а не использовать в качестве объяснения" (Meillasoux, 1981, pp 20–21).
"Женщины составляют половину мирового населения, выполняют почти две трети всей работы, получают одну десятую мирового дохода и владеют меньше чем одной сотой мировой собственности" (Брайсон, 2001, с. 204).
На данный момент наиболее убедительной остаётся концепция антрополога Робина Фокса, который в ряде публикаций ещё с 1960-х развивал идеи, что именно охота на мегафауну сыграла роль в становлении мужского господства (Fox, 1980), правда, упор он делал на том, что женщины безропотно перешли под это господство, так как мясо было уж очень желанным деликатесом (та самая версия, что женщины "продали себя за белок"). Но именно роль мяса, как отмечалось выше, совсем не кажется убедительной. Критики справедливо замечают, что, в свою очередь, и у женщин тоже было что предложить мужчинам в обмен на мясо — секс или плоды, добытые собирательством (Stone, 1997), и для этого вовсе не обязательно было переходить в подчинение. Гипотеза Фокса учитывает не только охоту на мегафауну, но и промискуитет, и неизвестность феномена отцовства, и авункулат, то есть все те феномены, которые большинством известных антропологов обычно игнорируются. Вот только тезис о роли мяса в подчинении женщины выглядит слишком слабым. Предложенный же здесь вариант рождения мужского господства — через рождение гендера благодаря охоте на мегафауну, культурное возвеличивание Мужчины, — кажется куда убедительнее. Женщина была подчинена не мясом и не грубой физической силой. Женщину подчинила родившаяся вокруг Великой Охоты культура, пронизанная идеей величия Мужчины. Именно идеология, созданная Великим Охотником, внедряемая в женские головы десятки, сотни и тысячи поколений, поработила их. Идеология, внедрённая в голову, становится психологией. Следуя логике созданной мужчинами культуры, женщина непременно приходила к выводам этой же культуры (Ortner, 1974, p. 76). То есть в известной степени женское подчинение было добровольным — просто это был единственный культурный сценарий, который за тысячелетия стал считаться естественным, иное и помыслиться не могло: женщина принадлежит Мужчине. Мы и до сих пор так считаем. Правда, всё слабее и слабее.
Возникшая сотни тысяч лет назад идеология мужского господства и с выходом человека из Африки распространившаяся по всему миру, конечно, не была застывшим монолитом: из эпохи в эпоху, от культуры к культуре она по-своему трансформировалась, где ослабевая, а где сохраняя основные черты. В одних уголках мира легенды, оправдывающие мужское господство, утрачивались, а в других они оставались; где-то постепенно отношения между полами снова уравнивались (как у некоторых африканских племён, южно-азиатских или даже в Спарте), а где-то женщины, возможно, даже обретали больший политический вес, чем мужчины (как у ирокезов или минойцев). Ощутимые колебания в культуре мужского господства происходили и на протяжении нескольких минувших веков на территории Европы, где женщина то обретала новые права, то снова их лишалась.
Как самодостаточны женские коллективы животных с менопаузой (бонобо, косатки и слоны), так же самодостаточны и женщины. Но однажды всё пошло не так, и сначала фигура мужа, а затем и фигура отца оказались неуклюжими попытками втиснуть ненужного мужчину в царство женщин, что и привело к созданию современного общества. Построенная на столь неоднозначном фундаменте современная семья просто обязана нести в себе отпечатки былой несправедливости. Так что у нас в плане современного положения вещей?
Мы уже рассмотрели прошлое, которого не было, и прошлое, которое было. Теперь давайте рассмотрим настоящее, которое есть.
Часть II. Брак в настоящем
Тёмные стороны брака и семьи
По следам истории можно проследить, что положение женщины росло, когда по тем или иным причинам мужчины исчезали из её жизни. Чаще всего такой причиной выступали войны: в эти периоды, когда мужья надолго покидали дом, управление хозяйством женщины полностью брали на себя, и когда позже мужья возвращались, с новым положением вещей приходилось либо мириться, либо как-то ему противостоять, что не всегда получалось успешно. Как отмечают историки, в немалой степени именно частые войны послужили повышению роли женщины в Древней Греции от классического периода (450 г. до н. э.), когда она была тотально изолирована в доме, к эллинистическому периоду (300–30 гг. до н. э.), когда она уже вполне свободно ходила на рынок, встречалась с подругами и посещала публичные мероприятия (Свенцицкая, 1996, с. 91–92). Аналогичное влияние войн на освобождение женщин было в Древнем Риме (Гис и Гис, с. 29). Ровно это же происходило и два тысячелетия спустя во Вторую мировую, о чём говорилось в первой главе, когда ещё вчерашние домохозяйки были вынуждены пойти работать на заводы, компенсируя нехватку мужских рук, а по возвращении же своих мужей немало женщин не захотели возвращаться к старому порядку и продолжили работать, создавая фундамент собственной независимости.
"Можно сказать, что война дала женщинам новые возможности, позволив им быть более независимыми и занимать ответственные должности, что раньше трудно было представить" (Ялом, с. 400).
Но не только война могла извлечь мужчину из жизни женщины: такую же роль играло обычное вдовство. В народе популярно мнение, будто в прежние эпохи женщине без мужа было никуда, но это не было так. Историки указывают, что в действительности вдовы были наиболее самостоятельной категорией женщин — вдовы и незамужние, оставшиеся без родственников-мужчин, оказывались в более выгодном положении, чем жёны (Абрамсон, 1996, с.125–126). В Средние века, вопреки мифам, такие женщины заключали экономические сделки, совершали торговые путешествия, заведовали пивоварнями и виноградниками, и много чего ещё.
Усиление же закабаления женщины в Европе вновь происходит только в XIX веке, когда из-за роста городов возникает новый тип малой семьи (Репина, 1996, с. 25). В который раз все экономические отношения общества замыкаются исключительно на мужчине (женщине запрещается работать либо на законодательном уровне, либо через общественное осуждение), и отныне жена снова только сидит дома с детьми и полностью обслуживает быт, а уходящий на работу муж становится единственным источником дохода. Тогда и рождается миф о «мужчине-добытчике» (Зидер, 1997, с. 131), который будет весьма силён и весь XX век. Публицистика той поры активно пропагандирует образ "идеальной жены", внушает женщинам мысль об "истинном предназначении" женщины (там же, с. 123). Идеология патриархатной культуры не дремала и в периоды наибольшей слабости умела особенно активизировать усилия. Лишь ко второй половине XX века спустя две мировые войны и благодаря всё развивающемуся производству женщина вновь получит возможность обрести независимость.
За тысячелетия основанный на мужском господстве союз мужчины и женщины претерпевал много трансформаций, главной из которых была постоянная тенденция к уменьшению сожительствующего коллектива (семьи): если в древности жители одной деревни плотно взаимодействовали друг с другом, и дети с лёгкостью перебегали из одной семьи в другую, то с развитием цивилизации и городов широкие родственные связи постепенно ослабевали. В сельской местности под крышей общего дома могли жить сразу несколько поколений и боковых линий родни, но с распространением городов и малых жилых помещений сожительствующий коллектив также уменьшался. Уход от необходимости возделывать землю и содержать скот привёл и к ослаблению нужды в дополнительных рабочих руках: в городе человек мог прокормиться уже вполне самостоятельно, просто работая наёмным сотрудником. Большая семья и широкая родственная сеть утратили своё былое значение.
Что так и не было утрачено, так это привычка вступать в брак. Древний культурный сценарий оставался непреклонен. Наверное, нет другого столь глубоко укоренённого в культуре императива, как необходимость приписать женщину мужчине. Древность этой традиции так велика, что даже у некоторых учёных создаёт иллюзию естественности для человеческого рода. Живучесть брака в условиях, когда, казалось бы, все объективные причины для его существования исчезли, показывает, насколько эта идея древняя, а вместе с этим показывает и живучесть мужского господства, идеей которого пронизана вся культура.
Распад больших родственных коллективов из-за разрастания городов привёл к рождению такой привычной нам сегодня формы семьи, как нуклеарная, состоящая отныне только из мужа, жены и детей. Отныне «нормальной» семьёй считалась именно такая семья (на что совершенно некритично стали опираться разные направления семейной психотерапии). Никаких лишних родственников: тёти, дяди, племянники, двоюродные братья, бабушки и дедушки — всё это ушло в прошлое. Формально они, конечно, оставались, но реальное взаимодействие с этими туманными лицами всё больше сводилось к минимуму, они стали скорее мифическими персонажами, витающими на периферии бытия.
Вместе с измельчанием семьи в XIX–XX веках происходят и некоторые другие культурные трансформации семейно-брачных отношений.
Во-первых, рождается и всё активнее развивается концепция брака "по любви". Отныне считается, что в основе брака должна лежать трепетная любовь между мужчиной и женщиной, хотя, как было показано выше, исторически любовь рождалась как раз вне брака, который был скорее "о власти и подчинении", нежели "о любви". В прежние эпохи женщину всегда отдавали замуж, редко спрашивая её согласия. Любовь могла родиться только вне брака (между женой и любовником), отчего она всегда считалась губительной страстью, отрицательным качеством, угрожающим браку и семье. Только ближе к XX веку основания брака оборачиваются на 180 градусов и заодно становятся на голову.
Во-вторых, в силу глобальных культурных перемен в странах Запада широкое распространение получают идеи равенства. В XIX веке борьба против рабства идёт параллельно с борьбой за права женщин: сторонники феминизма отвоёвывали право женщины на образование, на работу, на равную оплату труда, право голоса. Борьба была долгой (и даже сейчас нельзя сказать, что победа везде и однозначно одержана), но постоянно звучащая тема о правах женщин внесла изменения и в структуру брачных отношений. Всё чаще стало считаться, что мужчина и женщина в браке также равны. А поскольку отныне основой брака считали любовь, это взаимное чувство, то и древний концепт контроля только женской сексуальности слегка даёт трещину, — теперь подразумевалось, что и муж должен хранить верность. Хоть мужская измена и по-прежнему встречает более снисходительную реакцию, всё же она уже получает и долю осуждения. Времена Древней Греции и даже Средневековья с их мужскими сексуальными свободами прошли. Вместе с этим во многих странах для женщин существенно облегчилась процедура развода — теперь она могла делать это с такой же лёгкостью, как и мужчина.
Часто можно слышать, что капитализм поработил женщину. Это действительно очень популярный взгляд. Но картина представляется совершенно обратной: капитализм освободил женщину. Ведь именно в условиях развитого капитализма и основательного разделения труда женщина получила возможность работать и полностью обеспечивать себя самостоятельно. Она стала свободной от мужчины, на котором в прежние эпохи сходились все экономические механизмы общества. Развитое производство XX века остро нуждалось в рабочей силе, а потому вовлечение женских рук было лишь вопросом времени. Женщина подвинула мужчину во многих отраслях экономики и смогла зарабатывать собственный хлеб. Именно капитализм сделал покушение на господство мужчины возможным, разрушив его монополию на владение ресурсами. "
В любом обществе, как только женщины начинают сами добывать свой хлеб, первое, что меняется, — природа брачных отношений. Эта тенденция типична для всех стран и всех людей. Чем более независимой становится женщина в финансовом плане, тем позднее она выходит замуж — если выходит вообще" (Гилберт, 2010). Именно "
увеличение числа работающих женщин спровоцировало рост числа разводов" во второй половине XX века (Хокшилд, 2020). Согласно исследованиям, работающая женщина действительно оказывается фактором дестабилизации брака (Карни, Бредбури, 2016, с. 69). То есть вся эта глобальная картина показывает, что как только из брака устранили основу в виде господства и подчинения, так брак «посыпался». Господство мужчины над женщиной исторически было тем единственным стержнем, который пронизывал их и удерживал вместе. Попытка же подменить основу брака идеей любви показала свою несостоятельность (число разводов стабильно велико) и только подтвердило, что брак исходно содержал в себе идею господства, без которой он просто перестаёт функционировать.
Но как возникла эта новая идея, будто брак — это о любви? В исследовательской литературе широко бытует взгляд, что всё дело во влиянии сентиментального романа, родившегося в Европе в конце XVIII века, где образ двух влюблённых так запал в души (читающих) масс, что отныне все решили строить свою жизнь по этому новому эмоциональному образцу. Хоть доля правды в этом и есть, в действительности всё куда сложнее и глубже.
Но начнём с описания ситуации с современным браком (как в нём себя чувствует мужчина, женщина, почему высок уровень разводов и кое-что ещё), а затем перейдём к изложению того, как такое положение сложилось в минувшие полтора столетия. Итак, современный брак. Почему люди так в него стремятся, и действительно ли он делает счастливее?
Глава 5. Его брак и Её брак
Так как брак и семья являются важнейшими столпами человеческой цивилизации, то они и непременно оказываются окутаны пеленой «священного»: критический взгляд на эти явления не столько запрещён, сколько немыслим самими индивидами, носителями общественного сознания, сформированного этой культурой. Выросший в окружении конкретно объявленных ценностей, человек просто не может поставить их под сомнение — они становятся его собственными ценностями (как минимум декларативно). Но, как было указано в первой главе, чтобы беспристрастно изучить явление, необходимо посмотреть на него со стороны, а для этого надо выйти за пределы собственной культуры и её ценностей. Именно категории «священного» оказываются наиболее подозрительными явлениями с точки зрения такого критического осмысления.
Что «священное» имеет какие-то отрицательные стороны, человека не убедят ни исследования, ни статистика. А надо сказать, насчёт брака и семьи и исследования, и статистика у нас есть.
Как и в прежние эпохи, мужское господство в семье и браке остаётся ощутимым. Как и в прежние эпохи, главным образом оно проявляется в насилии над женой. В криминологии даже возникло такое направление, как семейная криминология или криминофамилистика. "
Статистически подтверждающаяся закономерность, согласно которой из года в год любящие люди убивают друг друга: в городе — десятками, в стране — тысячами, в мире — сотнями тысяч. Разбросанные по планете, такие личные драмы как будто изолированы одна от другой. Но временами, начинает казаться, что в микрокосме супружеского убийства в концентрированном виде отражена трагедия человечества" (Шестаков, 2003, с. 13). Около 1/3 жертв всех убийств — это жертвы мужей, любовников или другой родни (с. 14), но главным образом именно первых двух. "
Если всех потерпевших от насильственных преступлений разделить на людей, совершенно посторонних преступнику, его знакомых и, наконец, членов семьи, то последняя группа окажется самой многочисленной" (Шестаков, 2003, с. 15). Самый свежий анализ от августа 2021 года, осуществлённый компьютерной программой "Алгоритм Света", даёт ещё более высокие цифры: аж 2/3 (66 %) всех убитых женщин в России были убиты дома, внутри семьи. То есть главной угрозой для человека оказываются именно супруги и родня. Это может звучать неожиданно и даже дико, но над этим стоит задуматься, и вспоминать каждый раз, когда кто-то говорит о «естественности» моногамии и нуклеарной семьи для человека. Нет, совсем не похоже.
Основная масса жертв внутрисемейных преступлений это, конечно, жёны (58 %), затем дети (20 %), и только потом уже и сами мужья (8 %). Парадоксально, но главным мотивом вступления в брак для мужей-убийц именно любовь встречается куда чаще, чем у мужей с нормальным поведением (там же, с. 57).
Если говорить не об убийствах, а о насилии вообще, то, по разным данным, оно встречается в 50 % брачных пар (Шестаков, с. 18) или даже в 60 % (Берковиц, 2001, с. 281). Специалист по агрессивному поведению Леонард Берковиц замечает: "
Нам хочется думать о своей семье как о надёжном убежище, в котором всегда можно укрыться от стрессов и перегрузок нашего беспокойного мира. Однако для многих людей желание обретения семейного покоя оказывается невыполнимым, так как их близкие являются скорее источником угрозы, чем надёжности и безопасности" (там же).
Берковиц разумно указывает, что не надо удивляться столь частым случаям проявления агрессии в семье, ведь люди, живущие в тесном взаимодействии, неизбежно хотя бы изредка входят в резкое противостояние друг с другом. Космонавтов тщательно отбирают, тестируя на стрессоустойчивость и психологическую совместимость, только для того, чтобы оставить их в замкнутом пространстве с другими всего на несколько недель. Мужа и жену же не тестирует никто, но это не мешает им с избыточным оптимизмом заключать союз аж на всю жизнь.
Известно, что в периоды, когда супружеская пара вынуждена проводить наедине слишком много времени, частота насилия ещё более возрастает. В ситуации с карантином из-за вируса COVID-19 был зафиксирован небывалый рост семейного насилия по всему миру, что даже было отражено в докладе ООН "Gender-based violence and COVID-2019" — в разных странах рост насилия колебался в пределах 25–33 %. То есть всё время быть вместе — это самая плохая идея, которая может прийти в голову. Надо полагать, если бы супруги не были вынуждены регулярно уходить друг от друга на работу, то уровень разводов был бы ещё выше. Разлука — спасает.
Исследователи отмечают, что раз семья полагается укрытием от внешнего мира, то и на внутрисемейное насилие общество привыкло больше смотреть сквозь пальцы, а в некоторых случаях и закон полагает менее суровое наказание за насилие в отношении членов своей семьи, чем против кого-то постороннего (Collier, Rosaldo, Yanagisako, 198, p. 78).
Приведённые данные со всей очевидностью говорят, что насилие в браке — системная проблема, а не что-то исключительное и случайное. Проблема не выглядит системной по уже упоминавшейся причине — доминирующее знание. Оно твердит, что семья и брак — это главные ценности человека, к которым тот должен стремиться. Этот идеологический фильтр, встроенный в нашу культуру, и мешает разглядеть систему там, где её быть не должно. Но она есть.
В СМИ порой проскакивают результаты исследований, где показано, что брак идёт людям на пользу — он делает счастливее, улучшает физическое и психологическое здоровье. Но на деле всё не так просто. Оказывается (и об этом в научно-популярных публикациях по понятным причинам упоминается куда реже), брачный статус по-разному влияет на мужчин и женщин. Если говорить коротко, то брак полезен мужчинам, а на женщин же влияет скорее даже отрицательно.
Ещё в 1972 году социолог Джесси Бернард наделала шуму, заявив, что есть «его» и «её» браки — и что «его» брак, как правило, лучше (Bernard, 1972). Мужской брак — это положение мужа, который считает, что на него возложены большие обязательства ("глава семьи", Мужчина) и некоторые ограничения, но при этом у него есть власть, независимость и право на сексуальное, эмоциональное и бытовое обслуживание со стороны жены. Женский брак — это обязанность предоставлять сексуальные, эмоциональные и бытовые услуги мужу, подчиняясь всем ограничениям, которые он помимо всего может наложить. Такая разница в Его и Её браках ведёт к повышенному стрессу у женщины, к снижению её психологического благополучия и физического здоровья, тогда как муж же во всех этих аспектах как раз выигрывает. Женатый мужчина благополучнее холостого, тогда как у женщин наоборот.
Как бы резко и даже возмутительно ни звучали эти определения, но в последующие полвека описанное Бернард положение вещей было неоднократно подтверждено исследованиями. Холостые мужчины по всем параметрам менее благополучны, чем холостые женщины — они менее бодры, менее счастливы, более одиноки и чаще ведут рискованный образ жизни (Гурко, 2018; Pinquart, 2003). В браке чувство одиночества мужчины ослабевает, тогда как у женщины же как раз возрастает (Tornstam, 1992). Женатые мужчины менее одиноки и более счастливы, чем замужние женщины (Wanic, Kulik, 2011) — вот в чём парадокс брака. Разве не удивительно?
Укладывающимся в русло этой логики выглядит и тот факт, что вдовцы-мужья умирают вскоре вслед за жёнами (Виткин, 1996): смертность пожилых мужчин после потери жены возрастает на 48 %, что гораздо больше числа смертных случаев среди женатых мужчин того же возраста. Но если вдруг вдовец женился повторно, то его шансы прожить долго возрастают.
Разведённые мужчины больше, чем разведённые женщины, страдают от эмоционального одиночества (Dykstra, Fokkema, 2007), да и в целом их физическое и психологическое здоровье после расставания ухудшается куда сильнее, чем у женщин (Robards, 2012). У вдовцов же эмоциональное состояние ещё хуже (Berardo, 1970). Главный нюанс в том, что на длительности жизни овдовевших женщин смерть мужей практически не сказывается. Мужчины чаще женщин решаются на самоубийство после расставания (Kolves et al., 2010). Забавно, но даже когда пары просят спать отдельно, в разных кроватях, качество сна женщин только улучшается, а вот у мужчин — снижается (Dittami et al., 2007). Проще говоря, даже в таких мелочах мужчина не может без женщины.
Исследование 3 тысяч женщин с раком груди показало (Kroenke et al., 2006), что отсутствие близких подруг в 2 раза увеличивало риск смерти, а у тех, кто имел десять и более подруг, шанс выжить оказывался аж в 4 раза выше. Дружеские связи оказались единственным важным фактором для этих женщин — даже важнее, чем наличие мужа. Таким образом, для здоровья женщин супружество не является столь весомым фактором, как для мужчин. Женщина и без мужчины живёт долго и комфортно.
Брак в целом очень своеобразно влияет на женщин. После обретения статуса жены индекс массы тела и артериальное давление женщин увеличиваются, а также увеличивается потребление алкоголя (Kutob et al., 2017). Исследование здоровья 10 тысяч человек показало, что отсутствие брака или даже сожительства на женщинах не сказывается так отрицательно, как на мужчинах. "
Брак более выгоден мужчинам, чем женщинам", резюмирует руководитель исследования (Ploubidis et al., 2015). И ровно к такому же выводу пришли авторы анализа более 130 исследований на тему влияния брака на здоровье: брак в особенности полезен мужчинам (Coombs, 1991).
Сходные выводы получены в ряде постсоветских стран (Россия, Грузия) и в Польше, где показано, что мужья "
статистически значимо чаще счастливы в браке в сравнении с жёнами" (Гурко, с. 75). В мусульманских странах жёны также в меньшей мере удовлетворены браком, нежели мужья (Sabour Esmaeili, Schoebi, 2017). Вообще, меньшая женская удовлетворённость браком — широко распространённое явление (Bradbury et al., 2000). Что интересно, даже если сравнивать пары лесбиянок и геев, то наибольшая удовлетворённость отношениями оказывается у лесбиянок. "
Это говорит о том, что относительно низкое качество отношений, о котором сообщают гетеросексуальные женщины, может быть обусловлено партнёрством с мужчиной, а не с женщиной" (Perales, Baxter, 2017). То есть женщина оказывается наиболее удовлетворённой брачными отношениями только в том случае, если из них вычеркнуть мужчину.
В чём причина наименьшей женской удовлетворённостью браком? Если даже не рассматривать возможность физического насилия со стороны мужа, то есть ещё одна причина для этой неудовлетворённости: на женщину в браке взваливается значительная нагрузка по уходу за домашним бытом. К примеру, объём работы, которую по дому делает мужчина, увеличивается на протяжении его жизни лишь дважды: когда мужчина съезжает от родителей и когда мужчина разводится. Появление ребёнка не увеличивает количество мужской работы по дому. Тогда как объём работ, выполняемых женщиной, уменьшается после развода на 6 часов в неделю. Даже если у женщины есть дети (Crabb, 2014). То есть в браке на женщину ложится не только весь уход за детьми, но и уход за мужем. Забота о детях и о поддержании быта в целом для замужней женщины выливается в десятки часов дополнительного труда в неделю, столько же занятой и на своей непосредственной работе (Шадрина, 2014, с. 30). То есть со вступлением в брак работа прибавляется для женщины, но не для мужчины. Но самое поразительное, социологи порой описывают и такую картину, "
когда она работает, а он нет, — даже тогда вы обнаружите, что жена выполняет большую часть работы по дому" (Fine, 2010, p. 80).
Такое положение вещей в социологии прозвано "
второй сменой" для женщины (Хокшилд, 2020): когда жена и муж равное время заняты на официальной работе, но большинство дел "по дому" всё равно лежат на её плечах. В итоге женщина отрабатывает одну смену в офисе и "вторую смену" дома. Ровно эту же картину мы видели при описании деревенского быта и быта современных охотников-собирателей: мужчина выполняет минимум работ. Всё лежит на женских плечах.
"
Женщины тратили на работу по дому в среднем 3 часа в день, тогда как мужчины — 17 минут. Женщины, отложив в сторону все дела, проводили со своими детьми 50 минут в день, мужчины — 12. С другой стороны, работающие отцы смотрели телевизор на час дольше, чем их жёны, и каждый день спали на полчаса дольше них" (Хокшилд, с. 24). За год жёны отрабатывают лишний месяц круглосуточной работы, а за 12 лет набегает уже лишний год (с. 26).
"
Даже когда пары более справедливо распределяют работу по дому, женщины выполняют две трети ежедневных дел, таких как готовка и уборка, то есть дел, которые встраивают их в жёсткую рутину. Большинство женщин готовит ужин, а большинство мужчин меняет масло в семейном автомобиле. Но, как заметила одна мать, ужин надо готовить каждый вечер около шести, тогда как менять масло — раз в полгода, в любой день, в любое удобное время. Женщины больше, чем мужчины, ухаживают за детьми, а мужчины больше чинят бытовую технику. Ребенком надо заниматься каждый день, а ремонт бытовой техники часто можно отложить до той поры, когда "у меня будет время" (Хокшилд, с. 32). Наверное, именно поэтому, вопреки стереотипам, желание иметь детей в России высказывает больше мужчин (62 %), чем женщин (49 %) (ВЦИОМ, обзор № 4287, 15.07.2020).
Всё это очень и очень напоминает жизнь некоторых описанных выше племён охотников-собирателей. Так выглядит брак, если его беспристрастно препарировать. Могут ли тысячи и даже миллионы людей стремиться к чему-то, что доставит им много хлопот и, возможно, совсем не принесёт пользы? Чтобы ответить на этот вопрос, можно вспомнить традицию субинцизии у некоторых племён, когда мужчины прорезают свой половой член у основания глубоко до уретры и проводят надрез до самой головки. Так юноши становятся мужчинами. Боятся ли они этой процедуры? Конечно. Желают ли её? Конечно. Это то, к чему все они непременно стремятся, — достичь определённого социального статуса. Это как в фильме «Остров» с Макгрегором и Йохансон: все хотели попасть на легендарный и таинственный остров, хотя в реальности их просто увозили и потрошили на органы для богатых. Вот и с браком картина примерно такая, только ещё приправленная мифологией счастья.
Тот факт, что брак оказывается непростой ношей, может подтверждаться явлением, которое в науке окрестили "
эффектом сожительства". Суть его в том, что пары, перед вступлением в официальный брак сначала решившие пожить вместе (чтобы познать бытовые привычки друг друга), после регистрации своих отношений в действительности имеют наивысший риск развода. Да, именно: вопреки стереотипу, что так наиболее разумно и оптимально, на деле это даёт обратный эффект. Те же пары, что не вступали во внебрачное сожительство перед регистрацией, а сразу начинали жить вместе именно в официальном браке, имеют меньше шансов на развод (Cohabitation, Marriage, Divorce, 2002; Marriage and Cohabitation in the United States, 2010). Клинический психолог Мэг Джей полагает, что суть "эффекта сожительства" кроется в том, что просто сожительствующие перед браком пары изначально живут в более расслабленном режиме: они изначально живут друг с другом в условиях меньшего числа обязательств, "
они не выплачивали ипотечный кредит, не пытались зачать ребенка, не вставали по ночам к детям, не проводили праздники с родственниками тогда, когда им этого не хотелось, не собирали деньги на обучение детей и на свою пенсию; они даже не видели зарплатные чеки друг друга и выписки о расходах по кредитным карточкам" (Джей, 2019, с. 144).

Некоторые исследования (Rosenfeld et al., 2015) косвенно подтверждают предположение Джей и показывают, что наиболее удовлетворительные отношения в паре складываются совсем не в браке, а как раз до него: то есть в условиях сожительства (так называемый "гражданский брак"), либо в условиях периодических встреч, когда пара даже не живёт вместе (здесь удовлетворённость даже максимальная).
В 69 % случаев разводы в официальном браке инициируют женщины. В то же время внебрачные отношения ("гражданский брак") почти одинаково часто распадались по инициативе как женщин, так и мужчин. То есть женщины чаще инициируют расставание именно в зарегистрированном браке. В чём соль? "
Я, как и многие мои коллеги, поначалу предполагал, что более частые расставания по инициативе женщин являются особенностью любых гетеросексуальных отношений", — говорит руководитель исследования Майкл Розенфельд,
"но похоже, что эта особенность проявляется только в ситуации брака" (Rosenfeld, 2018).
Женщина наиболее комфортно чувствует себя в таких отношениях, где нет необходимости разделять с партнёром быт (при такой организации отношений она реже выступает инициатором расставания). Дальше, если пара всё же начинает жить вместе (но ещё без регистрации брака), уровень женского недовольства возрастает, и уже на третьей стадии (когда оформляется официальный брак) недовольство женщины достигает пика, тогда она и выступает инициатором расставания. То есть чем больше сближение партнёрства в плане быта, тем сильнее это давит на женщину.
Внебрачное сожительство предполагает бо́льшую свободу в полоролевом поведении партнёров, такое партнёрство более вариативно и менее регламентировано культурными нормами. Но когда же оформляется официальный брак, то все культурные императивы начинают по-новому играть в отношениях партнёров, всё больше ограничивая свободы женской половины. Главный же вывод из исследований: брак — худшая альтернатива для женщины (в стремлении вырваться из которого она и проявляет особую прыть). Кстати, примерно 70 %-ая инициатива женщин в разводе характерна для многих стран мира. Большой обзор данных больше чем за сто лет показал, что женщины всегда были главными инициаторами развода. В 1867 году 62 % разводов были инициированы женщинами, с 1880 по 1922 год число «женских» разводов возросло уже до 67 %, и уже ближе к XXI веку цифры выросли до 70 % (Brinig, Allen, 2000).
Возможно, именно поэтому наученные опытом люди старше 50 лет всё меньше стремятся вступать в повторные браки и чаще склоняются либо к сожительству, либо просто к периодическим встречам (Гурко, 2018, с. 76) — так проще, свободнее. Но при этом, что ожидаемо, мужчины всё же лучше себя ощущают именно в сожительстве или в браке, а не в условиях регулярных встреч. То есть мужчине как раз важен совместный быт, ведь только так женщина может осуществлять уход за ним (там же, или Wright, Brown, 2017, p. 845). Давно и хорошо известен факт, что жёны прилагают много усилий по уходу за больным мужем, тогда как мужья же заботятся о больной жене куда меньше (Carr et al., 2014). Наверное, именно поэтому мужчины вступают в повторный брак почти в два раза чаще женщин — 40 мужчин из 1000 прежде разведённых и лишь 21 женщина (Payne, 2015). Большинство разведённых женщин "
начинают слишком высоко ценить обретённую свободу и независимость, чтобы снова пожертвовать ими ради мужчины" (Виткин, 1996).
Интересно, что исследования по России дают немного иную картину — женщинам в браке лучше, чем женщинам вне брака (Гурко, 2018, с. 79). И это действительно странно, если учесть, что уровень разводов в России как раз один из самых высоких в мире, причём российская женщина, как и женщины по всему миру, оказывается инициатором развода аж в 70 % случаев. То есть российские женщины разводятся так же охотно и часто, что и женщины во всём мире, но при этом в браке первые якобы чувствуют себя лучше, чем прочие. Это действительно выглядит парадоксально, но этому есть возможное объяснение: исследователи предполагают, всё дело в консервативной идеологии российского общества, которое никак не может уйти от советской модели "семьи как главной ячейки общества", активно разрабатывавшейся властями в послевоенные годы и внедрявшейся в головы людей. "Поскольку в современном российском обществе отчасти ещё продолжают действовать социальные нормы, обязывающие всех здоровых мужчин и женщин состоять в браке и иметь детей" (Семьецентризм: миф или реальность? 2016, с. 256), поэтому взрослые люди, остающиеся вне брака, просто могут полагать свою жизнь «неправильной», испытывать чувство вины, одиночества и больше идеализировать брак. "У женщин такие негативные ощущения проявляются сильнее, чем у мужчин" (там же, с. 262). Вместе с этим, российские женщины в публичном пространстве (в том числе и в опросах) изображают свой брак более идеализированным, чем он есть в реальности, что и отражается в одном из самых высоких уровней разводов в мире. Так можно видеть, как социально сконструированная реальность, представления о должном, влияют на ощущения и поведение.
В силу всего описанного не удивительно, что женщины всегда в целом менее довольны браком. Он создан не для них, а для мужчин. Не поэтому ли в некоторых странах депрессия в 2 раза чаще встречается у женщин (а в некоторых и почти в 3 раза чаще) (Nolen-Hoeksema, 1990; Piccinelli, Wilkinson, 2000)? По данным семейного психолога Майкла Япко, причиной 50 % случаев обращений женщины к психотерапевту является её семья (2013, с. 208). По его же словам, у других исследователей эта цифра ещё выше.
Поэтому так же не выглядит неожиданным тот факт, что в последние десятилетия именно женщины выступают наиболее активными инициаторами развода (Birditt et al., 2017) — брачная нагрузка не оправдывает их романтизированных ожиданий. Осмысляя полезность брака главным образом для мужчин, популярная писательница Элизабет Гилберт называет данное положение "
дисбалансом полезности брака" (marriage benefit imbalance). "
С принесением брачных обетов женщины по большей части проигрывают, в то время как мужчины срывают куш", пишет она (2010) и призывает женщин на секунду остановиться и подумать: зачем же они тогда так активно рвутся замуж?
Конечно же, дело в традициях, в их социальном давлении на женщину, а вместе с этим и в культурном ореоле романтики, который брак сопровождает.
О том, что брак женщинам объективно нужен меньше, чем мужчинам, косвенно говорит и сам тот факт, что в нашей культуре весьма открыто действует механизм общественного давления, принуждающий женщину к браку. Но в отношении мужчин такой механизм действует гораздо слабее. Как известно, принуждение особенно сильно к тому, кто меньше нуждается. По этой же логике, раз культурное принуждение к вступлению в брак в отношении мужчин выражено слабо, то, значит, у мужчин и без этого существует объективная мотивация для совершения этого акта — речь как раз о потребности в непрестижном женском труде, в мужском здоровье и в уровне его одиночества. Над холостяком могут лишь посмеяться, так как отказывается от положенной ему привилегии, тогда как холостую женщину открыто осуждают, — потому что не выполняет обязательств, наложенных культурой. Культурой, которую создали мужчины.
Как было сказано, перемены социально-экономических отношений за минувшие полторы сотни лет повлекли за собой и преобразования семьи и брака. Такие преобразования оказались очень существенными. И некоторые из них носили резко негативный характер.
Глава 6. Моногамная изоляция
В прежние эпохи моногамная идеология ограничивала только женщин. Но с развитием промышленности, с переходом к городскому образу жизни и с дроблением некогда большой семьи на малые ячейки всё большее развитие получали идеи равноправия между полами. Во многом эти идеи так идеями и остались, но всё же некоторые плоды принесли. Измена со стороны мужа стала более осуждаемой, чем когда бы то ни было в прошлом. Новые основы брака, сформулированные в терминах любви и верности, накладывали отпечаток и на поведение мужчины, сковывая его возможности. В отличие от прежних времён, зазвучали призывы проводить супругам как можно больше времени вместе, обмениваясь эмоциями и поддерживая друг друга в противостоянии внешнему миру. В отрыве от реалий сельской жизни, когда люди взаимодействовали с широким кругом других лиц, семьи в городах будто действительно стали изолированными от всех остальных. Семья из супругов и детей стала восприниматься чем-то капитально самодостаточным, будто этим ребятам больше никто и не нужен. Члены семьи образовали своё гетто, вход посторонним куда был закрыт. И ничего хорошего в этом не оказалось.
Такое положение вещей можно назвать
моногамной изоляцией — когда весь мир и супружеская пара будто отворачиваются друг от друга и начинают жить сами по себе. Отныне считается, что у супругов есть всё необходимое для создания собственного мира — они сами. И если что-то внутри пары происходит, то это уже сугубо их внутренняя проблема, их дело. Даже участковые очень сдержанно реагируют, если речь заходит о семейном насилии.
Концепция моногамной изоляции так плотно сидит в нашей культуре, что у женщины, прямо на улице получающей оплеухи от мужчины, велик шанс остаться без какой-либо помощи со стороны прохожих, поскольку у каждого проскакивает мысль: "это их личное дело — разберутся". Брачная пара, семья, словно образуют собой некую тотально замкнутую систему, вышвырнутую за пределы обычного человеческого бытия. В рамках современной семьи, без расширенных родственных и дружеских связей, люди становятся брошенными на произвол судьбы, ибо отныне это норма. Теперь каждый сам по себе.
Нуклеарная семья, как горящий дом за высоким забором, — если ты снаружи, просто стой и смотри
В 2006-ом и в 2012-ом были завершены два масштабных исследования (Gerstel, Sarkisian, 2006; Musick, Bumpass, 2012), анализирующих социальную активность людей, состоящих в браке (или же просто сожительствующих без регистрации) и одиночек, ни с кем в романтических отношениях не состоящих. Было установлено, что люди, вступающие в моногамное партнёрство, начинают меньше общаться с родственниками, друзьями и даже с соседями. То есть факт социальной изоляции при моногамном партнёрстве налицо.
Что важно, снижение социального взаимодействия не обусловлено, как можно предположить, рождением детей и вынужденной заботой о них. В первом исследовании отмечено, что "
различия между состоящими в браке и холостяками характерно как для тех пар, что имеют маленьких детей, так и для бездетных пар. Эти различия также существуют среди белых, афроамериканцев и латиноамериканцев. Эти различия характерны и для женщин, и для мужчин" (Gerstel, Sarkisian, p. 17–18). Иначе говоря, супруги пренебрегают своими родными и друзьями не потому, что у них есть дети. Они пренебрегают ими просто потому, что состоят в моногамном партнёрстве.
Во взрослом возрасте поддержание тесных связей с родными братьями, а также с племянницами и племянниками более характерно именно для тех, кто всегда оставался холостым (Connidis, 2001). Тогда как многие из состоящих в браке честно признаются, что их отношения с братьями и сёстрами были ослаблены именно в результате брака (Ross, Milgram, 1982). Что важно, даже в старости те, кто всегда оставался холостыми, продолжают активнее обзаводиться новыми друзьями и поддерживать все дружественные контакты на более качественном уровне, чем люди, которые состоят в браке или даже если состояли в нём в прошлом (Connidis, 2001).
Все мы знаем классическую присказку о детях и "стакане воды". Но вопреки ей, анализ 286 исследований показывает, что для пожилых людей время, проведённое с друзьями, больше влияет на благополучие, чем время, проведённое со своими домочадцами (Pinquart & Sorensen, 2000). Общение с друзьями в пожилом возрасте является лучшей профилактикой старческого слабоумия, и чем чаще человек встречается с друзьями, тем ниже риски. Правда, такого же благотворного влияния со стороны родни обнаружить не удалось (Sommerlad et al., 2019).
Российские исследования также показывают, что друзья удовлетворяют потребность в социальной поддержке больше, нежели семья (Дмитриева, 2019). Есть над чем задуматься, верно?
Несмотря на всю реальную пользу друзей, обнаруживаемую в исследованиях, брак и семья только снижают их число. Показано, что даже начало романтических отношений даётся человеку ценой утраты двух близких друзей. "
Заводя роман, он теряет одного близкого друга и утрачивает связь с одним членом семьи из ближнего круга. За любовь приходится расплачиваться", заключает психолог Робин Данбар (2016). Моногамная идеология так структурирует социальные контакты сложившейся пары, что она избавляется от давних друзей-холостяков и потихоньку переходит на общение только с другими же парами (Stadtfeld, Pentland, 2015). В объединениях таких пар две женщины дружат друг с другом, а двое мужчин дружат между собой, но обратного никогда не происходит: мужчина из одной пары не дружит с женщиной из другой и наоборот. Для 77,5 % молодых супругов именно изменение круга общения оказывается психологической трудностью, встречи со своими друзьями отдельно от супруга становятся редкими (Крюкова и др., 2005, с. 36).
Тенденция к моногамной изоляции даже активно пропагандируется некоторыми адептами, выставляясь необходимой во имя спасения брака. В книге двух популярных исполнителей рэп- и R'n'B-культуры одобрительно даются конкретные советы по добровольной социальной изоляции в случае моногамного выбора. Авторы дают рекомендации женщинам: "
Если вы хотите, чтобы ваш брак оставался счастливым, начните общаться с другими супружескими парами. Одиноким женщинам важно общаться с женщинами замужними, чтобы научиться быть женой. Но и замужним женщинам очень важно общаться друг с другом. Если вы общаетесь с одинокими женщинами, то, в лучшем случае, просто потеряете тот фокус, который необходим, чтобы быть хорошей женой и матерью. В худшем случае, вы начнёте обижаться на ту роль, которую играете в семье. Курицы должны общаться с курицами, утки — с утками, а орлы — с орлами. Если вы курица, но хотите плавать с утками, у вас возникнет серьёзная проблема. Но для семьи важно не только ваше общение с замужними женщинами. Важно, чтобы и ваш муж общался с женатыми мужчинами. Вы должны ограничить общение своего мужа с холостяками. Вы же не хотите, чтобы ваш муж постоянно выслушивал рассказы о романах своих неженатых друзей или рассматривал фотографии в Facebook, где его приятели сняты с девушками в бикини. Вы же не хотите, чтобы в душу вашего мужа запали семена неверности и неуважения к вам. Естественно, полностью изолировать мужа от мира невозможно, но можно последить за тем, с кем он общается особенно тесно" (Гибсон, Симмонс, 2018).
Так это работает — прямо и бесхитростно. Люди, с головой погрузившиеся в брачный союз, добровольно сжигают все мосты с внешним миром, в который в случае развода годы спустя они уже наверняка не смогут вернуться. Что происходит, когда после десятка-двух лет в браке, пара решает вдруг развестись? Они оказываются одинокими и никому не нужными старичками. Ни родных, ни друзей — никого. Причём мужчины оказываются более одинокими, так как женщины даже в браке умудряются лучше поддерживать контакты с подругами, чем мужчины с друзьями (Aukett et al., 1988). Это одна из причин, почему мужчины более тягостно переживают развод, который к тому же увеличивает риск их преждевременной смерти, потому что после двух десятков лет в браке у них почти не остаётся друзей. Мужчина и в целом куда сложнее обзаводится друзьями. При этом учёные подчёркивают: "
тот факт, что дружба мужчин с мужчинами менее близка и содержит в себе меньше поддержки, чем дружба женщин с женщинами, надёжно доказан и широко освещён" (Bank, Hansford, 2000). Это действительно известный феномен: мужская дружба оказывается более «инструментальной» (собираются вместе, чтобы поделать что-то), а женская же дружба более «поддерживающая» — женщины больше делятся своими переживаниями и оказывают друг другу эмоциональную помощь.
Специфика мужского гендера — ориентированность на достижения, сокрытие слабостей, демонстрацию превосходства — подталкивает всех мужчин к высоко конкурентному поведению между собой, а потому откровенные разговоры и признание каких-то проблем в кругу друзей-мужчин очень проблематичны, так как оголяют их слабые места и могут показать несоответствие установленному культурному образу Мужчины-победителя. Мужчины оказываются заложниками мужского гендера, его жертвами, и получение какой-либо эмоциональной поддержки для них оказывается затруднительным. Мужчина в любой ситуации вынужденно демонстрирует невозмутимость или же агрессию, но никак не слабость и беззащитность. Это его и убивает.
У мужчины есть единственный выход — Женщина. Только с ней мужчина может выговориться, и насколько это возможно раскрыться, не опасаясь удара. Поэтому не удивительно, что даже несмотря на то, что 2/3 интервьюируемых мужчин в США не смогли назвать близкого друга, у тех, кто всё же смог это сделать, другом с наибольшей вероятностью оказывалась женщина (Rubin, 1990). А вот 3/4 женщин смогли легко назвать одного и даже больше близких друзей, и для них это также почти всегда была другая женщина. У большинства как замужних, так и незамужних женщин наиболее глубокая эмоциональная связь была с женщиной, а не с мужчиной (The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality, 1976). Таким образом, всем известная "мужская дружба" — не что иное как миф (по крайней мере в части близости и откровенности), а всеми заклеймённая женская дружба оказывается самой настоящей силой. Не только женщины, но и мужчины, описывают свои дружеские отношения с женщинами как более близкие, приносящие радость и взаимную заботу, что и понятно, ведь в силу культурной обусловленности женщины больше способствуют качественному эмоциональному контакту.
В рамках сложившейся культуры для большинства мужчин единственно возможные доверительные отношения складываются с их жёнами (не обсуждаются лишь проблемы на работе, поскольку мужчина считается «добытчиком», и потому не хочет в глазах жены выглядеть слабым в этой сфере). Но при этом сами женщины не обсуждают с мужьями очень многие темы. Самые личные проблемы женщины обсуждают с подругами или родственницами, но только не с мужьями (Komarovsky, 1962). "
Вы полагаетесь на свою спутницу как на первую помощницу в случае нужды," иронизирует Джон Готтман, эксперт в области семейных отношений, "
а вот у неё, скорее всего, имеется разветвлённая социальная сеть, которая немедленно встанет на защиту. Женщины и их подруги — удивительное явление" (2017, с. 205). То есть женщина, даже находясь в браке, неосознанно держит дистанцию с мужем, которого попросту не считает по-настоящему близким человеком.
Обесценивание дружбы в угоду брачным отношениям сформировалось совсем недавно (Сваре, с. 101). Как говорилось, брак с древних времён и вплоть до XIX века заключался из практических соображений, а не по любви. Чаще всего мужей и жён для своих детей выбирали родители. Часто разница в возрасте супругов могла быть очень большой. В высшем обществе довольно широко были распространены браки между 12–18-летними девушками и мужчинами гораздо более старшего возраста: не зря на Руси пословица гласила "
Невеста родится — жених на конь садится" (Пушкарёва, 2011, с. 24). Супругам в таком браке были свойственны прохладные отношения. В высших слоях общества муж и жена часто подолгу не виделись; некоторые встречались лишь во время торжественных приёмов или когда семья должна была выходить в свет. Тогда это только способствовало укреплению дружбы между представителями одного пола: брак не давал душевной близости и тепла, их приходилось искать в другом месте, например, среди друзей или других домочадцев (которых, как указывалось выше, было немало) (Перель, 2015, с. 54). В обществах с традиционным образом жизни (американские индейцы и некоторые народы Азии) и по сей день важные эмоциональные контакты реализуются главным образом внутри однополых групп (то есть среди друзей и среди подруг), а не между супругами (Williams, 1992). Даже на Западе ещё в XIX веке жизнь мужа и жены в значительной степени протекала словно в параллельных вселенных: крепкие эмоциональные связи мужья формировали с их лучшими друзьями, а жёны, соответственно, формировали эмоциональные связи со своими подругами или родственницами. И по степени близости эти дружеские связи для обоих полов были куда интенсивнее и теплее, чем связь между мужем и женой. В 1890-е супруги больше времени проводили с друзьями, чем друг с другом (Gillis, 1996). Как в XIX, так даже и в начале XX века у мужчин были развиты различные мужские клубы, где они регулярно проводили время сообща, вне женского общества.
Но к концу XIX века на Западе картина всё же постепенно менялась, и все эмоциональные связи всё больше сосредотачивались внутри семьи, отключаясь от каких-либо внешних источников (от друзей). В США тенденция проведения досуга не коллективно, а романтическими парами начала усиливаться вовсе лишь в 1920-е (Lynd & Lynd, 1937). Именно с тех пор одинокие мужчина и женщина всё больше оказывались как бы вытесненными на периферию человеческих контактов. Дружба как таковая разрушалась.
"Дружба в более традиционном понимании стала отныне чем-то, что в основном относилось к юности и молодости, чем-то, к чему можно прислониться в ожидании начала настоящей жизни. Её продолжали высоко ценить, но, будучи связанной с юностью, дружба приобрела в людском восприятии некий оттенок незрелости. Так же как и сама юность, дружба стала чем-то, что нужно испытать и что является важным на пути к зрелой взрослой жизни, но что нужно пережить и впоследствии оставить позади" (Сваре, с. 124).
Старая добрая однополая дружба всё активнее вытеснялась концепцией романтической любви. Уже в 1970-е годы опрошенные мужчины твёрдо высказывались, что они хотят и чувствуют себя обязанными отдавать предпочтение жене и семье, а не друзьям (Сваре, с. 127). "
Всего за двести лет ситуация с мужской дружбой совершенно изменилась. Если раньше именно мужская дружба превозносилась в философии и поэзии, то сегодня дружба мужчин характеризуется как незначительная и поверхностная или же совсем отсутствует" (там же, с. 133).
Распространение городской семьи привело к замыканию психологического бытия человека. Когда человеку ближе к 30 годам становится одиноко, он непременно начинают думать о семье. Он не понимает, что причина именно в одиночестве как таковом. Одиночество он начинает озвучивать в рамках культурных шаблонов — в виде потребности в той самой семье. Когда до 18 лет человек одинок, корень проблемы традиционно видится в отсутствии друзей, но если же человек одинок ближе к 30 годам, то корень проблемы столь же традиционно вдруг начинает видеться в отсутствии семьи. Всё дело в устоявшихся культурных нормативах, которые за нас решают, когда мы уже должны вступить в брак и создать семью. То есть одно и то же переживание трактуется по-разному в зависимости от возраста — и всё это определяется именно культурой, а не самой реальной потребностью индивида. Всякая потребность индивида осмысляется исключительно в рамках сложившегося общественного инструментария и предписаний. Мало кто понимает этот трюк. Как уже сказано, мужчины почти в два раза чаще вступают в повторные браки, так вот особенно активны в этом плане как раз мужчины с малым числом друзей (Carr, 2004). Одиночество толкает искать не друзей, но супругу. Исследования показывают, что искромётные чувства в браке непременно угасают, но это по-прежнему никого не останавливает (Cowan & Cowan, 1989; Kurdek, 1993; VanLaningham et al., 2001; Rosenfeld, 2017). Факт прямой зависимости между длительностью брака и недовольством им хорошо известен в науке: у супругов со стажем 3–5 лет удовлетворённость браком ниже, чем у супругов со стажем 1–3 года (Ахмадеева, 2015). Наверное, сейчас почти каждый читающий это и состоящий в браке указанное число лет, готов подтвердить эту зависимость. Эйфория проходит очень быстро — год-два. Но в умах людей по-прежнему царит миф спасительного счастливого брака. Спасительная же дружба оставлена в прошлом.
В социальной психологии новомодный перекос в пользу романтических отношений также очевиден: такие значимые связи, как дружба или родственные отношения, исследованиями часто игнорируются, а вот романтические же или брачные отношения изучаются всегда (Fingerman & Hay, 2002). В народной среде этот тренд стал выражаться фразой "Больше, чем друзья" — хотя исторически всегда воспевалась именно дружба. Исследователи подчёркивают, что тенденция эта совпадает по времени с развитием такого направления в литературе, как сентиментальный любовный роман, именно в XVIII–XIX вв. всё больше охватывающего Европу. Как указывает всё тот же Хельге Сваре, "
под влиянием литературы всё больше укреплялось представление о том, что брак должен моделироваться по образу романтической любви, как это описано в романах. Мужу и жене не только надлежало быть партнёрами в практических делах, но и следовало любить друг друга больше всего на свете. Романтическая любовь стала религией современной жизни" (Сваре, с. 123). Тот факт, что именно возникшие литературные веяния романтизма в корне всё изменили, действительно имел место, но это не выглядит единственной и даже главной причиной последующих психологических метаморфоз западного человека. Сложно представить, как только одна повальная мода на художественную литературу в корне всё изменила. Здесь необходим определённый психологический «запрос» со стороны населения на подобного рода тенденции. Иначе говоря, данные семена должны были упасть на подготовленную почву. Конечно же, всё коренилось чуть глубже, чем образцовость одной только художественной литературы. Причина такого «запроса» действительно была и заключалась она вот в чём.
Глава 7. Как рождалась моногамная психология
Моногамная идеология — это древняя культурная схема передачи женщины во власть конкретного и единственного мужчины (то есть брак). Сейчас же речь пойдёт о рождении моногамной психологии — то есть о возникновении уже внутренней, психологической потребности в эмоциональной близости с кем-то единственным. Если идеологию можно рассматривать как некую внешнюю силу, то психология — это уже скорее сила внутренняя, побуждение, идущее от самого индивида. Будет показано, при каких условиях идеология, внедряемая в голову человека, становится его психологией. Будет продемонстрирована причинная связь между распространением нуклеарной семьи в конце XIX века и рождением моногамной психологии, носителями которой сегодня являются миллионы человек. Возможно, впервые речь пойдёт о патологической природе моногамной психологии как о следствии детской травмы.
Социолог и психоаналитик Нэнси Чодороу, описывая, как рост городов в XVIII–XIX вв. привёл к развалу большой крестьянской семьи и к формированию современной семьи, которую мы считаем «традиционной», делает акцент на психологических последствиях этих перемен. Если исторически ребёнок всегда рос в окружении многих взрослых (в лице разнообразных родственников отца и матери, да и просто в лице прочего деревенского люда, с которым он регулярно мог запросто контактировать на улице), то в новых городских условиях его окружение существенно сузилось и ограничилось лишь собственно отцом и матерью.
"
У людей, которые начинают жизнь, имея только один или два объекта эмоций, развивается охота сложить все свои эмоциональные яйца в одну символическую корзину", пишет Чодороу (2000, с. 48). Дети, растущие в нуклеарных семьях, обладают именно таким опытом, и они переносят его "
на свои склонности к моногамии и ревности". Чодороу поясняет, что раз отныне дети росли в условиях строго ограниченных контактов со взрослыми, то вместе с этим и их психологические структуры формировались так, что они был склонны представлять свой идеальный мир именно в этом узко ограниченном круге. "
Так как мать была для них источником большего удовольствия, чем кто-либо другой, и связь с ней была исключительной, маловероятно, чтобы они могли её повторить. Поскольку мать так важна, покидая её как объект зависимой привязанности и отрицая зависимость от неё, они сохраняют её в своих фантазиях как […] объект, который нужно покорить, обладая бессознательным чувством, что есть один приз, который доставит самое большое удовольствие" (с. 49).
Всего несколько коротких фраз, но ими Чодороу проделывает такую колоссальную работу, что не склониться перед её гением невозможно. Помимо этого, на примере Чодороу можно наблюдать и редкий в науке случай, когда психоаналитическая концепция послужила хорошим подспорьем в анализе сложной психо-социально-экономической ситуации на сломе эпох.
По сути, Чодороу говорит об интериоризации (интернализации): в психологии и социологии этим термином описывают формирование психики человека путём усвоения им изначально внешних социальных отношений, в ходе их перехода извне вовнутрь. Общество и культура формируют психику своих членов. Как хорошо известно психологам, "
всякая функция в культурном развитии ребёнка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, затем внутри ребенка. Все высшие психические функции суть интериоризованные отношения социального порядка" (Выготский, 1983, с. 145–146; см. также Бурдьё, 2007, с. 226).
Распад большой (разветвлённой) семьи привёл к выделению такого явления, которое в психологии получило название Значимого Другого. Термин, впервые сформулированный психиатром Гарри Салливаном (1999), обозначает человека, который играет главную роль в формировании у индивида представлений о социальных нормах, его ценностей и его личного образа Я. Как правило, Значимым Другим для ребёнка выступает кто-либо из родителей, так как именно с ним ребёнок проводит значительную часть начального этапа своей жизни. Обладая исключительной потребностью в принятии и самоидентификации, ребёнку критически важно получать от Значимого Другого положительные сигналы (улыбка, ласковые объятия, одобрение, поддержку и т. д.), свидетельствующие об успешности их взаимодействия и, следовательно, об успешном функционировании образа Я (самости) ребёнка. Именно за счёт взаимодействия со Значимыми Другими ребёнок вырабатывает определённое отношение к самому себе, начинает воспринимать себя именно таким, каким изначально был воспринят другими. Если его любили, то он понимает себя как любимого и потому хорошего, а если же не любили, то и воспринимает он себя как нелюбимого, нехорошего, теряя уверенность (Цветков, 2012, с. 18). Специфика первейших взаимоотношений со Значимыми Другими на долгие годы (как правило, на всю жизнь) определяет отношение человека к самому себе. Негативное взаимодействие со Значимыми Другими ведёт к развитию того, что принято называть базальной тревогой — непрекращающимся беспокойством по поводу своей личности и всего мира в целом (см. Хорни, 2008).
Нэнси Чодороу использует именно эти конструкции (хоть и не вдаваясь в терминологические уточнения), чтобы обозначить, как изменения в устройстве семьи в эпоху повального роста городов привело и к переменам в психике людей. Применяя инструментарий теории объектных отношений, Чодороу вскрывает проблему современного мифа моногамии: искреннюю убеждённость человека в том, что может существовать лишь один объект эмоциональной привязанности для удовлетворения его потребности в признании (принятии). Ведь помимо того, что на формирование эмоционального самоотношения человека влияет качество связи со Значимыми Другими, логично, что первостепенен вообще сам факт наличия Значимых Других. Они просто должны быть. Без них никак. Но дело в том, что нуклеарная семья в силу своего малого размера и глубокой изолированности сократила число Значимых Других для ребёнка фактически лишь до одной фигуры — материнской (поскольку отец почти всегда отсутствовал на работе, и потому эмоционально оставался скорее чужим; как указывалось выше, косвенно это подтверждается и тем, что степень одиночества подростков в полных и неполных семьях существенно не различается, то есть эмоционально отец отсутствует в обеих семьях). Это и породило у людей иллюзию, будто лишь один единственный человек был, есть и может быть исключительным объектом привязанности. Эта иллюзия питается ощущениями из детства, когда важным оказывалось внимание одного конкретного человека — матери. Но так как занятая и уставшая от домашних хлопот мать тоже далеко не всегда могла вовремя и адекватно реагировать на ребёнка, то Значимый Другой в его психике постепенно превращался в некий смутный, вечно далёкий идеал, в любви и признании которого он нуждается.
Таким образом, в популярности сентиментального романа (которая никуда не исчезла и по сей день) лишь нашёл своё отражение дефицит Значимых Других в «нуклеаризованном» обществе. Грёзы по "одному Единственному" есть не что иное, как выражение простой тоски по глубоким человеческим отношениям, в условиях индустриализации, урбанизации и «нуклеаризации» ставших редчайшей вещью на планете. Благодаря влиянию сентиментального романа, наслоившегося поверх сформированной в нуклеарной семье психике, избавление ото всякого одиночества отныне стало осмысливаться исключительно в терминах любви между мужчиной и женщиной (что важно, между
одним мужчиной и
одной женщиной), то есть Значимый Другой сексуализируется, то есть обличается в конкретные категории пола, что и вытеснило такой вековечный феномен, как дружба, на задворки бытия.
Всё замкнулось на романтическом партнёре, на супруге, от которого отныне принято ожидать исцеление душевных травм детства через демонстрацию того, что ты нужен хоть кому-то, что ты вообще имеешь смысл да и вообще существуешь. Хотя в прежние эпохи Значимым Другим мог быть (и был) родитель, кто-то из родственников или друзей — точнее говоря, до нуклеарной семьи Значимых Других было много. В условиях же современной социальной разобщённости даже один Значимый Другой стал большой редкостью. И потому признаком времени стало стремление запихнуть в одного человека все наши чаяния и потребности в любви и принятии, которые прежде люди получали от целой деревни (Джонсон, 2017). Потребность встретить
кого-нибудь значимого превращается в потребность встретить
только одного — именно так начинает озвучиваться данная глубинная потребность психики в рамках моногамной культуры. Так моногамный концепт окончательно воцаряется в умах людей. Феномен сентиментального романа лишь строго ограничил поиски Значимого Другого, направив его на пару «мужчина-женщина» и отвернув от всех других возможных вариантов. Человек по природе своей нуждается в ориентирах для направления своего движения, и сентиментальный роман как раз выступил таким ориентиром. Почву для поисков подготовила новоявленная нуклеарная семья, а направление задала литература. Но забавным образом всё это только ухудшило ситуацию, поскольку, как тонко заметила Чодороу, это оказалось равносильно складыванию всех эмоциональных яиц в одну корзину.
Психологи согласны с выводами Чодороу: "
в 21 веке любовные отношения стали центральными эмоциональными отношениями в жизни большинства людей. Одна из причин — это то, что мы живём во всё большей социальной изоляции" (Джонсон, 2017). "
Мы ожидаем, что один человек даст нам всё то, что раньше давала целая деревня, а живём вдвое дольше. Для союза двух человек это задача не из лёгких" (Перель, 2018, с. 32). Как показано, вступление в брак ведёт к резкому ограничению социальных контактов. Отдалившись от друзей и родных, отныне удовлетворения всех своих эмоциональных потребностей супруги ожидают исключительно из одного источника — от своего романтического партнёра. Но статистика последних десятилетий однозначно показывает, что число разводов по всему миру только растёт, а вместе с этим растёт и возраст первого вступления в брак. Всё это говорит о двух вещах:
1. Один человек попросту неспособен удовлетворить все эмоциональные потребности другого.
2. Люди в массе своей начинают это понимать.
Вот она, связь между «нуклеаризацией» и одновременным ростом разводов. Пропагандируемые современной культурой ожидания от супруга как единственного Значимого Другого в реальности оказываются гипертрофированными и не оправдываются. Идея о том, что пресловутый "один Единственный", как манна небесная, однажды возникший в нашей жизни, резко всё изменит, поможет излечить детские травмы и сделает счастливыми, уже много десятилетий показывает свою несостоятельность. Сформировавшаяся недавно моногамная психология вынуждает людей играть в русскую рулетку — пойти ва-банк и поставить всё на одного. И, как правило, ставка эта прогорает — около 50–60 % браков распадается (но из этого совершенно не следует, что из сохранившихся 40 % все браки можно считать удачными — многие просто бояться развода по целому ряду причин).
Психотерапевт Эстер Перель пишет: "
Человеческое воображение воздвигло новый Олимп. Наделяя своего партнёра божественными чертами, мы ожидаем, что он поможет нам возвыситься над мирской суетой" (Перель, 2018, с. 72). Гипертрофированные ожидания от брачного партнёра — совсем новое веяние, ему чуть больше века, но почти все сейчас безоговорочно верят, что это работает, что так и должно быть, и даже что "это естественно". Эти верования породили прибыльный институт семейной психотерапии и им же успешно поддерживаются, когда психотерапевт с серьёзной миной пытается «исправить» людей и научить их делать то, чего человек исторически никогда не делал — не образовывал пару.
Социолог Белла ДеПауло остроумно сравнивает современные представления о брачном партнёре со смартфоном, "
который фотографирует, отправляет электронные письма, записывает сообщения, получает факсы и, помимо прочего, функционирует и как собственно телефон. Когда он работает, это эффективно и удобно. Но когда он вдруг ломается, то владелец остаётся без фотокамеры, без электронной почты, без автоответчика, без факса и собственно без телефона" (DePaulo & Morris, 2005). Именно это подразумевала Чодороу, когда говорила о стремлении в браке сложить все свои эмоциональные яйца в одну символическую корзину. Это ва-банк и есть.
Исходя из всего, неудивительно, что по шкале жизненных стрессов (Holmes and Rahe stress scale) развод далеко обходит тюремное заключение и даже смерть родных или друга. Ведь в эту "символическую корзину" в виде брака на данный момент втиснуто столько "эмоциональных яиц", что просто так проститься с ней оказывается по-настоящему трудно. В моногамной культуре ценность брака возведена в ранг сакрального, и потому однажды оказывается непросто признаться себе и другим, что твоя священная корова оказалась простой бурёнкой, облепленной репейником и измазанной невесть чем. В современном культе брака сосредоточено столько чаяний, столько сокровенного, что объявить о разводе — равносильно признанию себя несостоявшимся как личность.
Мы вкладываем ядерный реактор наших потребностей в сердце одного человека и ждём, что он выдержит, не расплавится. Концепт любви напичкал брачный союз таким грузом ожиданий, что семьи стали взрываться одна за другой, как попкорн в микроволновке.
Моногамная психология как травма
Каждый из нас знает людей, которые буквально иссыхают, если не состоят в романтических отношениях, — они грустны, как Хатико на девятом году, их пульс еле прощупывается, глаза едва открываются, а страница в соцсети испещрена заметками в духе "Если любишь — отпусти" и прочими сентиментальными посланиями. Их дела не клеятся, кровь по жилам не бежит, а жизнь — боль. Они гребут на лодке по океану депрессии и только и смотрят по сторонам, кого бы возвести на алтарь их привязанности и в чью бы грудину вонзить ядерный реактор своих ожиданий. Попкорн непременно взорвётся, но перед этим в жизни Хатико будет период в полгода-год, когда и сердце забьётся, и глаза заблестят, и страница в соцсети перестанет быть похожей на пятна Роршаха. Всё это ненадолго. Потом колесо Сансары закрутится по новой.
Благодаря кино и романам представления об адекватности такого образа активно вбиваются в головы людей — отныне это выставляется здоровой нормой. Хотя с точки зрения психологии, это откровенная патология. Когда встречаешь такого человека, он будто вываливает тебе на коленки свою разросшуюся опухоль и ждёт избавительной операции. Но кто будет держать зажим? Кто промокнёт лоб ватным тампоном? Такие операции в одиночку не делаются. Одного — недостаточно.
Несмотря на саркастичность приведённых метафор, всё это действительно реальная и большая трагедия, поскольку касается совсем не единиц, а в той или иной степени почти всего современного западного общества. Психоаналитик Карен Хорни давно указала, что ненасытная потребность в любви — чёткий признак невротической личности. Все эти люди, недолюбленные родителями в детстве, страдают без любви и принятия, без Значимого Другого. Они рьяно ищут того, кто возместил бы им весь дефицит родительского признания в раннем детстве.
"
Жажда любви столь часто встречается в неврозах и столь легко распознаётся подготовленным наблюдателем, что её можно считать одним из вернейших признаков существования тревоги и приблизительной мерой её интенсивности. В самом деле, если человек ощущает себя изначально беспомощным по отношению к неизменно угрожающему и враждебному миру, то его поиски любви могут показаться самым логичным и прямым способом достигнуть какого-нибудь расположения, помощи и понимания" (Хорни, 2016, с. 68). "
Для невротика обретение любви — это не роскошь, не просто источник добавочной силы и удовольствия, а жизненная необходимость" (с. 75). То есть эта моногамная психология, возникшая в городской семье чуть более ста лет назад, в качестве фундамента содержит патологию — жёсткую нехватку позитивного внимания в раннем детстве. Долгое время лишённые тёплого эмоционального контакта с другими, люди охотно поверили, что когда-то ими непременно будет встречен Тот Самый, кто всё исправит.
Другой показательной чертой современного "моногамного невротика" оказывается его неспособность оставаться наедине с собой — он ждёт наступающего вечера, когда предстоит вернуться с работы домой, как смертной казни, потому что там ему предстоит остаться одному. Его пугает одиночество — всегда и везде. Потому такие люди (которые во множестве известны каждому из нас — их невероятно много) всегда с радостью принимают спонтанные предложения "встретиться прямо сейчас", так как только и ищут возможности покинуть дом. Они всегда тяготеют к человеческому обществу. Даже род деятельности стараются выбрать такой, чтобы всегда быть в коллективе. Без людей рядом у них возникает ощущение собственной незначительности, пустоты внутри, они словно боятся исчезнуть. "
У такого человека бывает ощущение затерянности в бесконечной вселенной, и любое человеческое общество доставляет ему облегчение" (Хорни, 2016, с. 76).
Любопытно, что сам феномен Значимого Другого никогда и не был бы открыт, если бы не нуклеарная семья — только в её узких рамках мог зародиться дефицит любящих людей. Этот масштабный эксперимент по социальной депривации на миллионах людей позволил открыть важность привязанности и исследовать феномен детской травмы (см. Перри, Салавиц, 2015). В прошлые эпохи представить такие открытия куда труднее, чем в эпоху современной нуклеарной семьи. Психотерапевты отмечают, что близость воспринимается как потребность, только если её сложно достичь (Перель, 2015, с. 55). Осознать важность кислорода можно только с петлёй на шее. Такую роль в деле познания человека и сыграла нуклеарная семья — затянувшийся эксперимент по изоляции живых людей. Ребёнок, растущий в окружении только двух родителей, доступным для эмоционального контакта из которых оказывается вовсе лишь один, да и то далеко не всегда гарантирующий адекватную чуткость и заботу, вырастает с единственной грёзой — встретить
хоть кого-нибудь, кто беспрекословно примет его, окружит вниманием и заботой и даст почувствовать себя нужным. Поэтому в рамках современной семьи "
близость стала последней защитой от жизни в изоляции. Наша решимость протянуть руку и коснуться кого-то достигла пика и сравнима с религиозным экстазом" (там же).
Ярким примером того, как принудительная изоляция может приводить к развитию повышенной чувствительности, стал случай с органгутанами в одном из зоопарков. В природе самцы и самки орангутанов ведут одиночный образ жизни, никаких пар не образуют, а лишь изредка пересекаются для совокупления. Когда же самец и самка оказались вынуждены несколько лет прожить бок о бок в клетке зоопарка, то после смерти одного из них оставшийся ещё долгое время демонстрировал чёткие признаки горя (Пейн, Пруденте, 2009, с. 114). Или космонавты, экспериментировавшие с мухой-дрозофилой на орбитальной станции: все мухи очень скоро передохли, и осталась лишь одна, к которой космонавты в итоге привязались и даже окрестили Нюркой. Когда к концу полёта и эта муха сдохла, один космонавт прослезился, а второй — разрыдался. "
Это были явно неадекватные реакции, вызванные астенизацией нервной системы", резюмируют специалисты (Лебедев, 2002). Как тут не вспомнить и убитого горем персонажа Тома Хэнкса в «Изгое», когда его единственного друга — волейбольный мяч «Wilson» — унесло в море? Моногамная психология так и работает. Вся эта повышенная чувствительность рождается именно в условиях изоляции. Что это как не травма?
Потребность в ком-то, кто поймёт тебя, полюбит и примет таким, могла зародиться только в дефицитарных условиях нуклеарной семьи. И это же привело к тенденции возложить все свои ожидания только на одного человека, который просто не способен выдержать такого напряжения, что ещё больше травмирует и без того невротизированного человека. Ситуация просто тупиковая.
Вероятно, и такой феномен XX века, как фанаты поп-звёзд — также детище нуклеарной семьи и проявление недоформированной самости индивида (его образа Я) вследствие недостаточного контакта со Значимыми Другими в детстве. Проще говоря, все эти плакаты на стенах, воздыхания о далёком кумире и его идеализация являются индикатором недолюбленности родителями в детстве, из-за чего и возникает этот пресловутый "невидимый друг", который по умолчанию разделяет все жизненные ценности фаната, безусловно любит его и всегда на его стороне (структурно данное явление, как можно видеть, идентично феномену романтической любви).
А в не нуклеарной семье?
Выращенные в рамках нуклеарной семьи люди стали воспринимать весь внешний мир как чужой и всех людей в нём — как чужих. Формирующиеся в семье психологические структуры оказались рассчитаны на «вмещение» только очень ограниченного числа близких — как правило, всего лишь одного. Человеку из нуклеарной семьи сложно «открываться», сложно начинать доверительные, эмоциональные отношения с другими. Они для него — чужие. Как снова ловко подмечает Нэнси Чодороу, "
эта ситуация противоположна той, в которой оказываются люди, имевшие в младенчестве большое количество приятных связей. Они более склонны поддерживать привязанности к большому числу людей" (с. 49). Вот он — нелицеприятный секрет моногамной психологии: малое число Значимых Других в детстве ведёт к зацикливанию на каком-то одном человеке и в будущем, тогда как большое число Значимых Других в детстве ведёт к рассредоточению эмоциональных контактов среди множества людей. То есть даже сам термин "Значимый Другой" в таких условиях теряет свой смысл, поскольку значимыми становятся почти все, просто каждый по-своему. В такой ситуации человек всегда чувствует себя защищённым, а его "эмоциональные ставки" на кого-то конкретного не оказываются слишком высоки. Он любит всех. Чем больше Значимых Других, тем менее значим каждый из них в отдельности, в этом весь трюк. А вместе с этим и наша психика менее зависима от каждого из них.
Если посмотреть на общества современных охотников-собирателей, то можно увидеть, что связь родителей с ребёнком устроена принципиально иначе, чем в западных обществах. Родительство там оказывается распределённым между куда большим числом людей, чем в обществе, где царит нуклеарная семья. Дети свободно перемещаются по деревне, взаимодействую со многими взрослыми и ровесниками, формируя чувства привязанности не только к своим непосредственным родителям. Маргарет Мид называла это деперсонализацией чувств (1988, с. 160). Наблюдая за жизнью полинезийских племён, она подчёркивала: "
На Самоа ребёнок не питает эмоциональной привязанности ни к своему отцу, ни к своей матери. Их личности поглощены большой семейной группой, воспитывающей ребёнка. Ребёнок, не скованный эмоциональными связями с ними, находит достаточное удовлетворение в спокойном тепле, являющемся эмоциональной тональностью возрастной группы" (с. 224). У полинезийцев отсутствовали тесные связи между детьми и родителями. "
Дети воспитываются в доме, где всегда есть пять-шесть взрослых женщин, чтобы позаботиться о них, вытереть их слезы, и пять-шесть взрослых мужчин, каждый из которых — авторитет для ребёнка. Всё это не позволяет ему так резко различать между своими родителями и остальными взрослыми, как это делают наши дети. Образ заботливой, нежной матери или вызывающего восхищение отца, столь важный фактор в определении аффективной жизни человека в последующие годы, у самоанского ребенка сложен — он составлен из представлений о нескольких тётках, кузинах, старших сёстрах, бабушках, из представлений о вожде, дядях, братьях и кузенах. Если наш ребенок прежде всего усваивает, что у него есть нежная мать, особая и главная задача которой в жизни — забота о его благоденствии, и отец, на авторитет которого надо полагаться, то самоанский ребенок узнаёт в самом начале жизни, что его мир состоит из иерархии взрослых мужчин и женщин, иерархии, где он может рассчитывать на заботу каждого и должен считаться с авторитетом каждого" (с. 156).
Несмотря на критику некоторых антропологов в адрес Мид (см. Кон, 1988; Райан, Жета, с. 476), её мысли об эмоциональных связях внутри групп охотников-собирателей выглядят весьма резонными в свете всего, что мы знаем об этом сейчас. В давние времена ребёнок всегда имел возможность "исцелиться" за счёт других людей своего большого окружения. Но именно с развитием нуклеарной семьи он оказывается изолированным в очень узких рамках — отныне его ближайшее окружение составляли только мать и отец, те самые люди, которые с большой вероятностью и могли стать главным его стрессирующим фактором.
Сходные соображения высказывают многие антропологи. Пприматолог Сара Блаффер Хрди говорит: "
Политики воображают, что нуклеарные семьи олицетворяют "золотой век" периода человеческой семьи, но для детей неестественно, чтобы за ними присматривали только их матери и отцы. Дети исторически привыкли, что их растит их социальный мир". В своей книге (Hrdy, 2000) Хрди развивает концепцию значимости широких социальных связей для психики ребёнка (всю совокупность взрослых, которые способны взаимодействовать с ребёнком, она называет "аллородителями": от греч. "allos" — "другой, иной", то есть альтернативными родителями). Она отмечает, что даже наличие одной лишь бабушки может в корне изменить жизненные перспективы ребёнка. В этом же ключе и российские антропологи подчёркивают, что исторически в русских селениях фактически именно бабушки растили детей (то есть собственных внуков), а не непосредственные мамы, которые занимались хозяйством. "
Бабушка есть и остаётся представителем образа матери периода младенчества", писал Эрик Эриксон, работая над своей психологией детства (2019, с. 388). Как и Маргарет Мид, Эриксон приходил к выводу, что разделение и "размывание материнства" между несколькими взрослыми (няни, бабушки, тётки, соседки и т. д.) делало мир ребёнка более надёжным, заслуживающим доверия, поскольку материнское отношение не зависело от одной хрупкой связи, а было разлито по всей атмосфере (с. 389).
Фундаментальная роль широких социальных связей в деле оптимального развития психики ребёнка современной наукой признаётся настолько широко, что даже в работах по генетике стали появляться упоминания об этом (Боринская, Янковский, 2005). "
Большую часть человеческой истории родовые или племенные группы играли огромную роль. Утрата поддержки родовой группы в ориентированных на индивидуальный успех индустриализованных обществах считается одним из факторов, порождающих депрессию".
Привычная нам городская семья — это колоссальный удар по психике ребёнка. В сельских районах Африки маленькие дети и по сей день имеют возможность свободно перемещаться по посёлку, посещать дома соседей и общаться не только с другими детьми, но и со взрослыми. Уроженка народности дагара из Буркина-Фасо лаконично описывает эмоциональную атмосферу своего детства: "
Редко когда ребёнок чувствует себя одиноким или имеет психологические проблемы. Каждый или каждая прекрасно осознают свою принадлежность" (цит. по Райан, Жета, с. 155). В условиях первобытности дети, несомненно, принадлежали всему племени, и родительские обязательства в целом были разделены между всеми членами общины (Бутовская, Файнберг, с. 83; Leibowitz, 1978, p. 183; Kinzey, 1987).
"
У аборигенов я никогда не видел детей, оставшихся без присмотра, хотя видел много сирот," писал путешественник Алан Маршалл. "
По обычаям аборигенов ребёнок может иметь несколько "матерей", и в случае смерти родной матери заботы о нём принимает на себя другая "мать" (Маршалл,1989). Австралийский абориген вспоминал своё детство: "
Я сосал грудь значительно дольше, чем любой белый ребенок. Дети аборигенов, особенно мальчики, избалованны: они сосут грудь сколько им хочется, и не только материнскую. Каждая аборигенка, которая брала меня на руки, считала своим долгом сунуть мне в рот свой набухший сосок, и я с удовольствием долго тянул молоко, может, даже слишком долго" (Локвуд, 1971).
Исследователи дают даже конкретные цифры на примере поселений пигмеев: "
в заботе о потомстве, действительно, участвуют, в той или иной степени, все жители деревни, вне зависимости от пола и возраста. На долю родителей приходится только 12,5 % затрат на уход за детьми, то есть почти вдвое меньше, чем вклад со стороны прочих взрослых жителей деревни" (Панов, 2017, с. 347). А 27 % детей вообще воспитываются без родителей (с. 346) —
опеку над ними устанавливают другие члены коллектива.
Идиллия? Очень похоже. Но ведь даже если касаться не столь отдалённого прошлого, то ещё в начале XX века, когда большинство населения жило в деревнях или маленьких городках, значимое взаимодействие между людьми было куда более обширным, чем в больших городах. Легенда психологии Ури Бронфенбреннер, ностальгируя, описывает, что "
раньше семьи, как правило, были более многочисленными. И скорее даже не за счет детей, а за счет взрослых, таких, как бабушки, дедушки, дяди и тети. Те родственники, которые не жили вместе с вами, жили по соседству. Вы часто бывали у них в доме, да и они часто приходили к вам и без особых церемоний оставались обедать. Вы хорошо знали их всех, и все они тоже хорошо знали вас" (1976, с. 60). Бронфенбреннер указывает, что дело не ограничивалось только родственниками, но и все жители маленького городка знали друг друга и детей друг друга, и всегда были готовы прийти на помощь.
Знаменитый историк семьи и детства Филипп Арьес и психоаналитик Франсуаза Дольто пришли к выводу, что рождение психоанализа как учения о неврозах по времени совпадает с распространением малой городской семьи. Как отмечает Дольто, вероятно, и неврозы как таковые стали известны лишь с 1860-х годов. Причину учёные видят именно в нуклеарной семье.
"
Сегодня дети развиваются в очень узком окружении, в окружении своей семьи", говорит Арьес,
"которая, впрочем, с начала XIX века стал очень маленькой. И если отец или мать не могут играть свою роль в этом психологически нормальном цикле развития, появляются очень серьёзные проблемы, которые могут сильно навредить. Между тем, как в то время, о котором мы говорим — к XVI веку — было совершенно неважно, исполняют ли отец и мать свои роли, так как всегда рядом находились те, кто заменял их в этом. Ребёнок и семья находились в намного более душевном, намного более тёплом окружении, на фоне которого семья не выделялась так сильно, как это происходит сегодня. И вот что мне интересно — не обнаружили ли мы чего-то исключительно важного для разрешения нашей проблемы? Не объясняет ли эта изолированность семьи и ребёнка от остального общества всех тех психологических проблем, трудностей, даже самых серьёзных, которые, кроме всего прочего, спровоцировали рождение, так сказать, психоаналитической мысли. Потому что психоанализ занимается такими проблемами, которые не возникали в доиндустриальных обществах. Современные дети намного уязвимее, чем они были в доиндустриальном обществе. Возможно, это объясняется тем, что общество, в котором жили дети, в XVI, XVII, XVIII и, среди простого народа, вплоть до XX века, это общество было очень насыщенным. Оно предоставляло ребёнку множество "заместителей" мамы и папы". "Урезанная" семья становится единственной социальной структурой, в которой существуют человеческие, социальные, эмоциональные контакты… Семья приобрела монополию на эмоциональность" (Дольто, 2012).
Арьес прав, указывая, что вплоть до XIX века дети всегда находились в окружении более чем двух взрослых: помимо отца и матери рядом всегда были многие другие родственники или же просто близкие друзья семьи, соседи. Но даже и ближе к концу XIX века уже в городской семье часто присутствовали другие люди — к примеру, слуги, которые также играли большую роль во внутрисемейных отношениях. Про XIX век даже можно сказать, "
это был век прислуги. Она имелась в каждом доме — как сейчас в каждом доме имеется бытовая техника. Слуги были даже у простых рабочих (а иногда и у самих слуг). К 1851 году каждая третья жительница Лондона в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет была служанкой" (Брайсон, 2014, с. 135). Поместье аристократа могли обслуживать двадцать — двадцать пять слуг, а зажиточная горожанка могла иметь в своём распоряжении до пяти слуг (Ялом, с. 222). "
Материнский труд, часто неравномерно, разделялся с прислугой, чья роль в поддержании семейной структуры традиционно недооценивается" (Шадрина, 2017, с. 254).
Роль прислуги для ребёнка позапрошлого века была просто спасительной. В США был так широко распространён уход за детьми белых господ чёрными рабынями, что общенациональное прозвище нянь-негритянок даже стало «mammy» — мамочка, а в 1927 борец за гражданские права даже сказал: "
белые дети были вскормлены грудями чёрных женщин" (цит. по Мур, Эткинд, 2004, с. 55). Отношения между "чёрной mammy" и детьми её владельца были самыми интимными из всех её личных связей. В детстве маленькие хозяин и хозяйка формировали привязанность к своей "чёрной mammy", которую они сохраняли в течение всей жизни. Няня любила детей своих хозяев даже больше, чем собственных, и дети хозяев в свои ранние годы едва ли знали разницу между няней и матерью. Со своей стороны, подросшие дети часто заботились о «mammy» больше, чем о собственной матери (там же, с. 56).
Поздние психоаналитики пришли к выводу, что в распространявшейся в XIX веке городской семье присутствие прислуги в доме "
противодействовало недостаточной стимуляции и эмоциональной изоляции детей" (Кохут, 2002, с. 259). Патогенное влияние родителей компенсировалась общением с прислугой, которая фактически составляла часть семьи. То есть резкое уменьшение семьи изначально было хотя бы частично компенсировано наличием прислуги.
В позднем психоанализе также было отмечено, что жалобы пациентов середины XX века стали сильно отличаться от жалоб пациентов конца XIX века, на базе которых и разрабатывал свои гипотезы о неврозах Зигмунд Фрейд. Если в 1890–1900-е больше жаловались на разные фобии, одержимости и навязчивые состояния, то уже к 1940–50-м значительная часть жалоб была на ощущение пустоты, бессмысленности собственной жизни и на ощущение ненужности — это было названо патологией самости (Кохут, с. 260). Возможным объяснением этой масштабной трансформации в психологии и могла быть прислуга, которая в жизни горожан ещё присутствовала в конце XIX века и фактически исчезла полвека спустя. Если раньше ребёнок ещё мог укрыться от напряжённых отношений с родителями и получить эмоциональную поддержку от кого-нибудь из прислуги, то позже это оказалось невозможным. Ребёнок остался с родителями один на один.
Гипотезы Фрейда оказались, таким образом, описанием некоторого «местечкового» эффекта, характерного лишь для верхних слоёв горожан конца XIX века, и распространять их на психику человека как такового, человека вообще, было поспешно (см. Плампер, 2010, с. 18). Антропологи, изучавшие культуры, живущие в совершенно иных условиях, уже в начале XX века критиковали Фрейда за эту оплошность. "
Очевидно, что детские конфликты в покоях обеспеченных буржуа и в крестьянской хижине или в однокомнатной «клетушке» бедного рабочего совершенно различны", ещё в 1927-ом писал Бронислав Малиновский и подчёркивал, что жизнь многих людей совершенно не походит на "
жизненные условия раскормленных нервических жителей Вены, Лондона или Нью-Йорка" (2011, с. 25). При этом Малиновский, некогда сам увлекавшийся психоанализом, изучил племя полинезийцев с позиций этого учения и действительно обнаружил, что в этих иных условиях жизни психоаналитические концепции не получают подтверждения (см. так же Шадрина, 2017, с. 254). Поэтому гипотезы Фрейда — пример пресловутой наивности, когда условия собственной жизни мы полагаем "естественными" и существующими от начала времён. Но раньше было иначе, это важно помнить.
На основании всех выше приведённых данных авторы нашумевшей книги "Секс на заре цивилизации" Райан и Жета задаются вопросом:
"Обычная семья". А может, такие лёгкие отношения между взрослыми и чужими детьми, распределённые родительские обязанности, где дети считают всех мужчин «папами», всех женщин «мамами», в маленьких сообществах, где на чужих смотрят без боязни, а перекрывающиеся сексуальные контакты делают отцовство неразличимым и вообще ничего не значащим понятием — может, эта структура и есть обычная семья для нашего вида? Может, нуклеарная изоляция в такие ячейки-ядра: муж — жена с ребёнком-двумя в виде электронов на орбите есть на самом деле навязанное культурой отклонение от наших эволюционных потребностей, такое же неудобное и малоподходящее, как корсеты, пояса целомудрия и рыцарские доспехи? Может, матери, отцы и дети насильно впихнуты в семейную структуру, отлитую по единой форме, не подходящей никому? Может, современная пандемия распада семей, мучения родителей и сбитых с толку обиженных детей — это предсказуемые последствия искалеченной и калечащей семейной структуры, не подходящей нашему виду?" (с. 159).
"Наши семьи настолько же не вечный институт в эволюции человечества, как и эксклюзивная материнская забота" (Zerzan, 2010).
Человеческое общество исторически только распадалось на всё меньшие функциональные ячейки, пока в наши дни моногамная нуклеарная семья не стала финальным аккордом в деле этого разобщения: теперь муж, жена и их дети оказались брошенными на произвол судьбы, не имея никакой возможности получить поддержки извне.
В действительности критика «малой» семьи была слышна уже в конце XIX века, когда в 1871-м Фредерик Ле Плэ опубликовал книгу "Организация семьи", где объявлял её рассадником многих пороков и призывал вернуться к семье расширенной (см. Гис и Гис, с. 11). Уже в XX веке сходные позиции формулировали и другие авторы (см. Тартаковская, 2005, с. 191), среди которых и всемирно известный историк семьи Филипп Арьес (1999). В 1982-ом феминистские авторы Барретт и Макинтош в своей работе "Антисоциальная семья" приходят к выводу, что "
семья заключает в себе принципы эгоизма, изолированности и стремления к частным интересам и идёт вразрез с альтруизмом, общностью и стремлением к интересам коллективным" (Barrett, Macintosh, 1982, р. 47).
Глава 8. Семья и дети
В последние годы даже нейробиологи и психофизиологи стали обращать внимание на отрицательные стороны современной семьи. Психиатр и нейробиолог Брюс Перри, работающий с психологическими травмами детей, предполагает, что именно распад большой крестьянской семьи и возникновение городской нуклеарной в минувшем веке привёл к росту уровня депрессии во всём Западном мире.
"
Очень много уделяется внимания развалу «нуклеарной» семьи", пишет Перри, "
но я считаю, что большая, разветвлённая семья, исчезновение которой гораздо меньше обсуждается, по крайней мере так же важна. На протяжении бесчисленных поколений люди жили общинами — небольшими группами, от 40 до 150 человек, большая часть которых были связаны друг с другом родственными узами. Примерно к 1500 году средняя семейная группа в Европе состояла, по грубому подсчету, из двадцати человек, которые, так или иначе, ежедневно взаимодействовали между собой. Но около 1850 года это число уменьшилось до десяти человек, живущих поблизости друг от друга, а в 1960 году их «осталось» всего пять. В 2000 году средняя семья состояла меньше чем из четырех человек" (Перри, с. 308). Нейробиолог указывает, что
"человек, родившийся в 1905 году, имел только один шанс начать страдать от депрессии за 75 лет жизни, но 6 % людей, родившихся в 1955 году к своему 25-му дню рождения, имели хотя бы один эпизод серьёзной депрессии. Другие исследования показывают, что количество случаев депрессии у подростков увеличилось в 10 раз за последние десятилетия" (с. 309).
Перри знает, о чём говорит, так как на практике сталкивался с детьми, в самом раннем возрасте оставшимися без родительской заботы и росшими в условиях тотальной заброшенности. Нехватка родительского внимания и ласки ведёт не просто к трудностям в развитии эмоциональной сферы, но и к недоразвитию рано созревающих мозговых структур (ствол мозга, подкорковые образования) (см. Герхардт, 2012).
Когда-то сложно было и подумать, что критика нуклеарной семьи придёт со стороны такой науки, как нейробиология, которая изучает развитие мозговых структур, но Перри совсем не одинок в своих претензиях. Ровно об этом говорит и нейробиолог Джон Медина (2013). Он делает акцент на том, как дети, растущие в семьях с высоко конфликтными родителями, оказываются в стрессирующей обстановке, поскольку именно гармоничное взаимодействие с близкими в ранний период развития оказывается критически важным для целого ряда «ранних» мозговых структур. Но в условиях родительских конфликтов ни о каком чутком контакте с ребёнком и речи быть не может — младенец «считывает» всю напряжённость между родителями, поскольку это непременно проявляется и в специфике их взаимодействия с ним самим (Shred, 1991). Состояние стресса у окружающих взрослых оказывает влияние на формирование стресс-реакции и у ребёнка (Essex, 2002). Часто говорят о родительском разводе как большом стрессе для ребёнка, но всё же родительский конфликт оказывает на ребёнка более негативный результат, чем развод (Kelly, 2000; Rutter, 1971; Grych, 2001). В итоге это приводит к тому, что и у ребёнка оказывается чрезвычайно высоким уровень стрессовых гормонов (Nachmias, 1996). Медина описывает, что у детей из конфликтных семей уровень таких гормонов уже в раннем детстве в 2 раза выше, чем у детей из неконфликтных семей. Таким образом, стрессирование ребёнка эмоционально нестабильными родителями ведёт к гиперкортизолизму — переизбытку гормона стресса кортизола; в свою очередь, повышенный уровень кортизола ведёт к аномальному развитию целого ряда более поздних мозговых структур, что в дальнейшем непременно сказывается и на поведении уже взрослого человека.
1. Как дети влияют на родителей?
Важен ещё один момент, который в современном обществе принято замалчивать: рождение ребёнка в большинстве случаев отрицательно сказывается на отношениях между матерью и отцом и снижает уровень их счастья. Юмор и одновременно трагизм ситуации в том, что науке факт такого влияния известен давно и в целом довольно хорошо изучен (см. Крюкова и др., 2005, с. 21), но вот в умах народных масс на эту тему по-прежнему царит единая блаженная иллюзия. Несмотря на все реалии, люди фактически всего мира верят, что дети — величайшая радость на земле (Hansen, 2012).
Вопреки этой мифологии, больше 70 % респондентов родителей со стажем говорят, что не хотели бы проживать вместе со своими взрослыми детьми (Игебаева, 2013). В полном согласии с этим 74 % взрослых американок после ухода детей из семьи также чувствуют облегчение, удовлетворение и даже радость (Виткин, 1996). Не зря в народе присутствует поговорка, что в родительстве два приятных момента: когда ребёнок рождается и когда уже совершеннолетний уходит из дома.
Выше говорилось, удовлетворённость браком стремительно падает в первые же годы совместной жизни, и этот факт широко изучен. Так вот снижение удовлетворённости браком достигает максимума к тому времени, когда ребёнку исполняется 3–4 года (Крюкова и др., с. 26; McCubbin, Figley, 1983).
Анализ запросов в Google показывает, что люди часто не хотят рожать детей, но делают это через "не хочу", боясь упустить что-то важное, как это транслирует культура (доминирующее знание). Но уже после родов люди с детьми в 3,6 раза чаще сообщают Google, что жалеют о своём решении, чем взрослые, решившие не заводить детей. Тогда родители просто делятся с поисковой системой сокровенной фразой: "Google, я жалею, что завёл детей"(Стивенс-Давидовиц, с. 140).
Почему люди делятся этим с поисковиком, а не с другими людьми? Потому что это доминируемое знание — о нём положено молчать, его положено стыдиться, поскольку оно дисквалифицировано, признано неким "отклонением" от культурного вектора, а значит, и порочащим самих людей.
Одна молоденькая мама рассказывала, как однажды, наглотавшись отчаяния со своим дитём, не выдержала и поделилась горем с подругами, у которых дети появились ещё раньше.
— А ты как думала?! — всплеснули руками они. — У всех так….
— Но почему вы не говорили этого раньше? — замерла девчонка в растерянности. Подруги только неоднозначно улыбнулись в ответ.
"
Наша культура постоянно заваливает нас изображениями прекрасных, счастливых семей", пишет бывший аналитик "Google" Сет Стивенс-Давидовиц, описывая механизмы доминирующего знания. "
Большинство людей никогда даже не предполагали, что могут пожалеть о наличии детей. Но некоторые жалеют. И они не могут признаться в этом никому — кроме "Google".
Иными словами, в нашей культуре есть явления, очень напоминающие покойников, — о них либо хорошо, либо ничего. Так и проявляется работа доминирующего знания над доминируемым.
Когда в 1957 году вывод о негативном влиянии детей на отношения между супругами впервые был изложен в статье с говорящим названием "Родительство как кризис" (LeMasters, 1957), научное сообщество не приняло эти данные — ведь там говорилось, что после рождения первого ребёнка отношения 83 % родителей входят в полосу кризиса. Такие цифры сильно нарушали идиллические представления об институте семьи и родительства в 1950-е. Но множество исследований в последующие десятилетия только подтверждали выводы исходного исследования: рождение детей не только губительно сказывается на отношениях между родителями, но и, вопреки культурному мифу, в целом снижает их уровень счастья (см. Карни, Бредбури, 2016, с. 70; McLanahan, Adams, 1989; Belsky, 1990; Belsky, 1994; Cowan et al., 1991; Di Tella et al., 2003; Alesina et al., 2004), а также снижает психическое и физическое здоровье родителей (Clark, Oswald, 2002). Существует даже прямая связь между числом детей и риском сердечных приступов у матери в дальнейшем (Oliver-Williams, 2018). И чем больше детей, тем уровень счастья родителей ниже (Myrskyla, Margolis, 2014; Twenge, 2003). Согласно одним исследованиям, качество супружеской жизни снижается на 40–67 % уже в первый год после родов (Shapiro, 2000), а согласно другим — доходит аж до 90 % (Doss, 2009). Если в супружеской паре были изначально хорошие отношения, то появление даже запланированного ребёнка всё равно ведёт к снижению их качества; а если же ребёнок вовсе оказывается незапланированным, то снижение качества отношений происходит ещё в два раза быстрее (Lawrence et al., 2008). У стрессированных рождением ребёнка родителей возрастает вероятность развития депрессии (Twenge, 2003).
Видимо, законодатель о чём-то таком знает, и потому в России многодетным матерям дозволен досрочный выход на пенсию (Федеральный закон № 350-ФЗ от 03.10.2018) — тем самым депутаты невольно уравнивают влияние детей с вредным производством, где также есть досрочная пенсия.
Исследования показывают, что снижение качества брака характерно для всех социальных классов, и особую роль в этом играет именно рождение ребёнка (Belsky, Lang, Rovine, 1985). Впрочем, иногда ещё можно найти исследования, где показывается, что уровень счастья родителей и бездетных в целом одинаков, то есть рождение детей просто не делает счастливее (Powdthavee, Vignoles, 2008), и уж куда сложнее найти данные о том, что дети приносят счастье. Авторы одного исследования (O'Brien, Peyton, 2002) даже призывают семейных психологов, работающих с парами, быть аккуратнее: если им известно о каких-то редких случаях, когда отношения супругов с рождением ребёнка даже улучшаются, то не стоит эти данные переносить на все пары без исключения, ведь реальная тенденция как раз обратная.
Основоположник семейной психотерапии в Великобритании Роберт Скиннер в книге с говорящим названием "
Семья и как в ней уцелеть" (в действительности книга очень светлая) делится наблюдениями:
—
Моя жена, Пру, ведёт группу матерей, родивших первого ребенка, и почти все они жалуются: и почему никто их не подготовил к этому потрясению.
— Значит, появление первого ребенка, так сказать, счастье условное.
— Да, трудно отделаться от ощущения, что общество не без злого умысла романтизировало это событие (Скиннер, Клииз, 1994).
Среди матерей в целом действительно распространён "заговор молчания" вокруг этой темы, и в Интернете можно наткнуться на множество статей, суть которых сводится к отчаянному "Почему меня никто не предупреждал?!" И особенно часто женщины умалчивают о таком явлении, которое в науке известно как послеродовая (постнатальная) депрессия — когда вскоре после родов женщина впадает в депрессивное состояние, находиться в котором может от полугода до двух лет (Mercer, Ferketich, 1988; Mercer et al., 1988; Wisner et al., 2013). Распространённость явления по разным данным варьирует от 10 до 65 % (Abdollahi et al., 2011). Ситуация эта может усугубляться чувством вины, ведь доминирующее знание гласит, что дети — это счастье, а если мать не испытывает волны нежности к новорожденному, значит, она плохая мать, за что себя и корит. Но если родившая женщина и не погрузилась в пучину послеродовой депрессии, то есть и лёгкая её форма под названием "детский блюз" ("baby blues", от англ. «blues» — тоска и одновременно жанр музыки), и в таком виде он встречается даже у 70–80 % матерей, у большинства из которых проходит уже через 4–5 дней после родов.
Но обо всём этом не принято говорить. Порой мамы не делятся этим даже с близкими подругами — культура требует, чтобы они были "правильными матерями", а потому они стараются хотя бы казаться такими. Так миф поддерживает собственное существование.
Анализ запросов в Google показывает, что, принимая решение заводить или не заводить детей, пары почти всегда ставят вопрос именно так: будут ли они жалеть, что у них нет детей? Люди в семь раз чаще спрашивают у Google, будут ли они жалеть об отсутствии детей, чем о наличии. О чём это говорит? Да, вероятно, о том, что многие люди не хотят детей, но опасаются, что могут упустить что-то важное и потому рожают через "не хочу". Но это ещё не всё. После принятия решения в пользу рождения цифры меняются местами: взрослые с детьми в 3,6 раза чаще сообщают Google, что жалеют о своём решении, чем взрослые без детей.
"
Иногда мы печатаем в Google свои мысли без оглядки на цензуру, без особой надежды на то, что эта система даст нам прямой ответ", пишет аналитик Google Стивенс-Давидовиц. "
В этом случае поисковое окно служит своего рода исповедником. Ежегодно фиксируются тысячи поисковых запросов вроде "Я ненавижу холодную погоду", "Меня раздражают люди" и "Мне грустно". Конечно, эти тысячи "мне грустно" представляют собой лишь малую часть из сотен миллионов людей, которым в этом году было тоскливо. Мои исследования показали: запросы, выражающие мысли вместо поиска определенной информации, принадлежат лишь небольшой части тех, кому эти идеи приходят на ум. Аналогично мои исследования показывают, что тысячи американцев, ежегодно вводящих в поисковик фразу "Я сожалею, что у меня есть дети", представляют собой лишь небольшую выборку из тех, кому в голову пришла эта мысль" (2018, с. 140).
Описанная ситуация подтверждается на примере абортов. Несмотря на то, что решение об аборте части женщин даётся нелегко, пять лет спустя после проведённой процедуры до 95 % женщин не жалеют о сделанном выборе и главной эмоцией называют даже облегчение (Rocca et al., 2020).
Но сколь многие матери, в действительности расстроенные фактом рождения ребёнка, скрывают это? Вряд ли кто точно ответит. Некоторые исследования показывают, что прямые ответы на вопрос "Нравится ли вам заниматься детьми?" всегда единогласно положительны, но дальнейшие комментарии и ответы на другие вопросы проявляют, что на самом деле всё не так однозначно, и многие матери в действительности испытывают сильнейшую фрустрацию (Тартаковская, 2005, с. 197). Психоаналитики считают, что желание матерью смерти своего ребёнка распространено очень широко, гораздо шире, чем можно представить. "
Детоубийственные порывы современных матерей — чрезвычайно частое явление", пишет Ллойд Демоз, "
и фантазии закалывания, изнасилования, обезглавливания, удушения постоянно обнаруживаются психоаналитиками у матерей" (Демоз, с. 43).
Согласно описанной картине, в современной семье возникает замкнутый круг: рождение ребёнка стрессирует родителей, нарушает их сложившееся за романтический период привычное общение, отношения между отцом и матерью портятся, и, в свою очередь, уже именно это оказывает стрессирующее воздействие на самого растущего ребёнка.
Почему же тогда люди так активно пытаются обзавестись детьми? Как было указано, причинами, конечно, являются культурная проработка да и специфика самой человеческой психики, превращающей описания (люди заводят детей) в предписания (люди должны заводить детей), так образуя ориентиры и жизненные смыслы. Другой причиной может быть стремление спастись от гнетущего одиночества, и когда в мире с семью миллиардами человек индивид, потерпев своеобразное личностное фиаско, так и не смог найти ни одного близкого, он решает создать его сам: жизненная пустота подлежит заполнению ребёнком, которым становится смыслообразующим элементом. Как писал психотерапевт Ирвин Ялом, "
чтобы вырастить детей, вы должны вырасти сами. Иначе вы будете заводить детей от одиночества, под влиянием животных инстинктов или чтобы законопатить дыры в себе" (2001, с. 123). Ещё одной причиной стремления к детям может быть банальное стремление к повышению социального статуса: родив ребёнка, отныне ты никогда не будешь считаться ребёнком сам.
2. Как родители влияют на детей?
68 % подростков считают, что семья — обязательное условие счастья. При этом 34 % не хотели бы, что их будущая семья была похожа на ту, в которой они выросли (Реан, 2017). То есть личный опыт немалого числа подростков говорит, что семья оказалась чем-то отрицательным, но это не уменьшает их желания самим создать семью в дальнейшем. Объяснить такое расхождение можно лишь влиянием идеологии, распространяемой многими трансляторами культуры, где семья почти всегда показана в самом лучшем свете: это островок любви, принятия и поддержки. Особую роль в трансляции такой идеологии, конечно, играет реклама, где потребление какого-либо продукта непременно увязывается со счастливыми лицами детей и родителей. Только реклама презервативов может позволить себе образ орущего ребёнка и раздражённого отца.
Почему маркетологи делают ставку на образ счастливой семьи? Очевидно, потому, что именно этого людям и не хватает. И всегда не хватало. Образ счастливой семьи оказывается манящим миражом на горизонте. Этим объясняется популярность различных религиозных сект: в них активно используется атрибутика родо-семейных отношений — обращение "сестра", "брат", "отец", — создавая иллюзию семьи (Наговицын, 2015, с. 40). Влияние доминирующего знания вынуждает многих людей считать собственный негативный внутрисемейный опыт чем-то случайным, исключительным, ведь все трансляторы культуры единогласно твердят, что семья — это счастье. Значит, наш личный опыт ставится под сомнение и перемещается в разряд знания доминируемого.
В действительности представления о семье как об островке безопасности в бушующем и враждебном мире оказываются очередным мифом, в котором всё перевёрнуто с ног на голову. Уже знакомый нам аналитик Google Сет Стивенс-Давидовиц, анализируя данные миллионов запросов пользователей, пишет: "
Если ввести в поисковую строку "Нормально ли — хотеть…", первое предложение автозаполнения — «убить». Если вы введёте: "Нормально ли — хотеть убить…", то первый вариант автозаполнения — "мою семью" (2018, с. 139). То есть такой запрос оказывается очень распространённым, и поисковая система отражает этот факт.
Такая грустная вещь, как семейное насилие над детьми, в реальности распространена гораздо шире, чем многие думают. Вопреки общественному мифу семья не оказывается для ребёнка защитной стеной от невзгод внешнего мира: в большинстве случаев — от 54 % (Волкова и др., 2016) до 60 % (Берковиц, 2001, с. 281; Крюкова и др., 2005, с. 188) — насилие над детьми в различных его вариациях совершается как раз родителями. Если учесть, что какие-то дети склонны не сообщать о насилии в семье, то эти цифры должны быть ещё выше. Анализ более 400 судебных решений об истязании, побоях и убийствах показывает, что даже более 80 % преступлений против детей в России совершаются родственниками и близкими людьми ("Я тебя и убью": как в России смягчают наказания за истязания и убийства детей в семьях и почему виновных нередко просто отпускают" — "Новая газета", № 106, 23.09.2019). "
В результате агрессивных действий родителей избиению подвергается такое количество детей, что по крайней мере в одном правительственном исследовании, посвященном жестокому обращению с несовершеннолетними членами семьи, определение физического насилия пришлось ограничить лишь теми случаями, в которых "травма или повреждение были настолько серьезными, что проявляли свои последствия минимум в течение 48 часов" (Берковиц, 2001, с. 292). Даже в учебниках по семейной психологии прямо указывается, что "
привычным является представление, что опасность может подстерегать человека только на улице. Реалии современной жизни таковы, что огромное количество правонарушений происходит именно в семье, когда насилие осуществляют родители над детьми, дети над родителями и родители друг над другом" (Николаева, 2017, с. 8). Если около 60 % насилия сосредоточено в семье, то, к примеру, в школах случается всего 30 % инцидентов (Кон, 2011). Но, видимо, по причине укоренившейся мифологии эти данные редко доходят до человеческого сознания. Миф об опасности внешнего мира по сравнению с защищённым мирком родной семьи хорошо выражен в ироничной грузинской пословице "
Всю жизнь овца волков боялась, ну а съел её пастух
Принято считать, что семья является первичной ячейкой в подготовке ребёнка ко взрослой жизни. Если это так, то ситуация с внутрисемейным насилием вызывает тревогу. Исследования показывают, что родители, применяющие насилие против детей, в детстве сами были жертвами насилия со стороны родителей: "
если отец и мать сообщали, что их избивали в детстве, то с вероятностью 50 % они сами жестоко обращались со своими детьми. В то же время если в детстве телесным наказаниям подвергался только один из родителей, то вероятность применения насилия против детей снижалась до 32 %. Если же родители не подвергались в детстве мерам физического воздействия вовсе, то вероятность применения насилия к детям составляла 17 %" (Берковиц, 2001, с. 302). "
Каждое поколение знакомится с насилием, сталкиваясь с ним в своей семье", приходят к выводу психологи (цит. по Берковиц, с. 303). Здесь возникает резонный вопрос: семья подготавливает ребёнка к насилию во взрослой жизни или же она как раз и является его главным источником?
Важно, что насилие над детьми касается не только так называемых «плохих» семей (где родители пьют и т. д.), а даже семей внешне вполне удачных, «хороших». С точки зрения общества, это совершенно замечательные семьи, с хорошим доходом, с высоким образовательным уровнем, где детям даётся все. И где при этом детей бьют.
"
Судьба маленького ребёнка, подвергшегося насилию, возможно, ещё более трагична, чем судьба взрослого, брошенного в концлагерь", писала психоаналитик Алис Миллер и поясняла, что, в отличие от ребёнка, узник лагеря, сталкиваясь с насилием и равнодушием, "
никогда не будет воспринимать причинённые ему страдания как своего рода благодеяния или необходимые воспитательные меры и не будет пытаться проникнуть во внутренний мир своих палачей с целью разобраться в мотивах их поведения. У подвергшегося насилию ребёнка нет таких возможностей. Он чувствует себя чужим не только в своей семье, но и внутри своего собственного Я. И так как ему не с кем разделить свою боль, то он никогда не будет плакаться даже себе самому. Даже глубоко в душе он себя никогда не пожалеет" (2003, с. 211). "
Заключённый не может сопротивляться, он вынужден безропотно сносить самые страшные унижения, но зато он внутренне свободен и никто не препятствует ему в душе ненавидеть своих мучителей. Возможность осознанно переживать свои чувства, поделиться своими чувствами с товарищами по несчастью помогает ему сохранить своё подлинное Я. Такого шанса у ребёнка нет. Он не вправе ненавидеть отца не только потому, что это запрещает библейская заповедь и потому, что так его с детства воспитывали; он не может ненавидеть его, поскольку боится навсегда утратить его любовь и не хочет его ненавидеть, потому что любит его. В отличие от узников концлагерей ребёнок в своём мучителе видит не ненавистного, а любимого человека, и данное обстоятельство сильнейшим образом влияет на всю его последующую жизнь" (с. 212).
В разделе "
Детско-родительские отношения прошлого" было подробно описано, как люди прежних эпох в целом довольно халатно относились к детям, игнорируя их, истязая и просто убивая. Но историк Альбрехт Классен справедливо подмечает, что эти знания о "тёмном Средневековье" оказались нам очень удобны, так как позволили противопоставить тогдашние нравы нравам современным: осуждающе указывая в далёкое прошлое, мы получили возможность говорить "Смотрите, как плохо было тогда", и тем самым подразумевая, что сейчас у нас всё иначе, хотя в действительности это может совсем не быть таковым (Классен, 2012, с. 167).
"Я знаю, что во всех европейских странах с детьми обращаются одинаково жестоко. Иногда нам невыносимо трудно признать горькую истину, и поэтому мы предпочитаем тешить себя иллюзиями. Наиболее распространённый защитный механизм — перенос во времени и пространстве. Так, например, мы готовы признать факты жестокого обращения с детьми в прошлом столетии или в каких-нибудь далёких странах и как-то не замечаем, что то же самое происходит у нас, здесь и сейчас" (Миллер, 2003, с. 398).
И, по видимому, настоящее действительно может не так сильно отличаться от глубокой древности. В реальности до 93 % современных питерских детей обладают небезопасной привязанностью к родителям (Pleshkova, Muhamedrahimov, 2010) — такой тип привязанности формируется при отсутствии чуткого контакта с родителями, систематически игнорирующими потребности ребёнка. Это огромный показатель, и его влияние будет сказываться всю взрослую жизнь этих пока ещё маленьких ребят.
Уже было сказано, что у немалого числа матерей рождение ребёнка вызывает депрессию. Так вот есть данные, указывающие на связь между материнской депрессией и развитием некоторых неврологических заболеваний у детей — в том числе СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) (Cho et al., 2018). Матери 40 % детей с СДВГ имели большую депрессию (Chronis et al., 2006). Обзор множества исследований о связи материнской депрессии и дальнейшего детского развития показал, что такая связь совсем не умозрительна и приводит к самому разному спектру последствий для растущего ребёнка (Maternal depression and child development, 2004). Некоторые исследования напрямую связывают жестокость по отношению к грудным младенцам с материнской депрессией (Kim et al., 2014). СДВГ, безусловно, является комплексным результатом нарушений подкорковых и стволовых структур мозга, в том числе и органической природы, но накапливается всё больше свидетельств и социально-психологических причин такого развития мозга (см. Mate, 1999; Ньюфелд, Матэ, 2018). Эти данные дополняют и наблюдения отечественных нейропсихологов. У детей, родившихся в середине 1980-х, в 1990-е широко распространился так называемый дисгенетический синдром — дисфункция стволовых и подкорковых образований мозга, одним из проявлений которого как раз является СДВГ (Семенович, 2010, с. 384; Безруких и др., 2009, с. 22; Мачинская и др., 2013). Важно, что среди причин развития этого синдрома являются ссоры в семье и репрессивные виды воспитания (лишения, физические наказания) (Безруких и др., 2009, с. 15; Крюкова и др., 2005, с. 192). Что интересно, хронологически 1985-й год в СССР связан с легендарной горбачёвской Перестройкой, и это наводит на мысль, что в условиях глобальных социальных стрессов родители невольно несут всю возникшую напряжённость в семью, что не может не отразиться на заботе о детях и, следовательно, на их развитии. Вероятно, глобальные социальные стрессы наиболее сильно бьют именно по нуклеарной семье, ведь эмоциональная ёмкость её сильно ограничена, и привносимое извне напряжение сразу плещет через край, затопляя всех её членов. В этом же ключе отмечается влияние депрессии на функционирование лимбической системы мозга и дальнейшее развитие психосоматических расстройств (Зотова и др., 2018, с. 30), и потому не оказывается удивительным, что если в 1980–1983 гг. среди младших школьников обладателями тревожно-депрессивной симптоматики были лишь 12–16 %, то уже в 1990–1993 гг. (самый пик социальных катаклизмов на постсоветском пространстве при распаде СССР) таковых стало аж 72–75 % (Счастный, Горбацевич, 2012). В период 1991–1995 гг. заболеваемость психическими расстройствами выросла на 23,6 %, а до конца 1990-х выросла ещё на 17,3 % (Дмитриева, Положий, 2009, с. 145). Число пациентов с шизофренией с 1991-го по 2000-й годы выросло на 25,5 % (там же, с. 151).
Если ещё можно предположить, что взрослые "сходили с ума" по причине социальных трагедий, то объяснить причину точного совпадения с этим по времени и глобальной «эпидемии» дисфункции стволовых и подкорковых структур мозга среди детей можно уже только тем, что именно родители несли в семью все свои стрессы. Всё это происходило опосредовано — через родителей. Которые купались в стрессе, как дельфины в море. Дети оказывались запертыми в глубоководном батискафе под названием «семья» вместе с родителями, и никакой альтернативной поддержки у них не было. Могло ли подобное произойти в условиях «большой» семьи, где эмоциональное пристанище найти было куда проще?
Кто-то может поспорить с ролью именно нуклеарной семьи в распространении дисфункций детского развития, сославшись на факт, что в последние годы дети даже самых малых возрастов всё больше времени проводят перед экраном телевизора, компьютера или смартфона, что не может не сказываться на формировании мозговых структур. Психологи и нейробиологи действительно всё активнее бьют тревогу по этому поводу, поскольку влияние "экранных устройств" на развитие ребёнка оказывается далеко не позитивным (Медина, 2013; Пацлаф, 2011). Наверное, каждый из нас знает семьи, где ребёнок часто остаётся один на один с экраном, пока родители заняты чем-то более важным. Но если вдуматься, то могло ли произойти подобное, если бы рядом с ребёнком были другие взрослые? Конечно, нет. Ребёнок всегда предпочтёт взаимодействие с взрослым, а не с мерцающим экраном. Так что да, дело всё же в глубоко изолированной нуклеарной семье, в рамках которой только и могли возникнуть «экранозаменители» родителей.
Известно, что темпы урбанизации сопряжены с ростом и психосоматических заболеваний (Зотова и др., 2018, с. 9), и обычно в этом вопросе принято заострять внимание на городе как на скученном анонимном сообществе, которое и стрессирует людей. Но если посмотреть на город в первую очередь как на оплот нуклеарных семей? Может, причина именно в этом, а не в большой анонимной скученности?
3. Семья как источник психозов
Ещё в конце XIX века учёные заговорили о связи между отношениями в семье и развитием шизофрении (Эйдемиллер, Юстицкис, 2008, с. 325). Вскоре даже возник термин "
семейный удар", которым описывали ситуацию возвращения психотического больного после лечения в семью, где он вновь оказывался погруженным в прежние отношения, что увеличивало риск обострения заболевания. Но куда больше внимания семье в развитии шизофрении стало уделяться только в середине XX века. В 1960-е годы в психиатрии, склонной искать причины аномального поведения и мышления людей в «неправильной» работе мозга, в его биологии, возникло такое течение, как антипсихиатрия, в рамках которого считалось, что к сбоям в работе психики непосредственное и важнейшее влияние оказывал жизненный опыт пациентов. Чем больше стрессовых воздействий в раннем детстве, тем больше вероятность, что впоследствии такие люди обретут диагноз шизофрении. Ключевую роль в данном направлении получила пресловутая нуклеарная семья.
Вышедшая в 1955 году масштабная работа психиатра Сильвано Ариети "
Интерпретация шизофрении", наделавшая много шума (и в 1975-ом даже получившая Национальную Книжную Премию США), сразу обозначила, что одной из причин данного диагноза оказываются внутрисемейные отношения. Именно нуклеарная семья высвечивалась главным фактором нарушения психики человека. Долгая зависимость ребёнка от взрослых вследствие масштабных социальных перемен последнего времени оказывается базисом для развития шизофрении. Ариети указывал, что только в меньшинстве случаев шизофрении ребёнок в состоянии сохранить хороший образ матери. Чуть раньше этого Фрида Фромм-Райхман ввела в обиход термин "шизофреногенная мать", описывающий особый тип матерей с таким поведенческим комплексом, который и порождает в психике развивающегося ребёнка шизофренические тенденции (Fromm-Reichman, 1948). Для описания "шизофреногенной матери" даже возникла метафора "refrigerator mother" или «мать-холодильник», подчёркивающая её эмоциональную отстранённость от своего ребёнка. Позже Теодор Лидз c коллегами развили концепцию до более расширенного варианта — до "шизофреногенных родителей" (Lidz et al., 1965).
В ряду «антипсихиатров» себя проявили такие легендарные исследователи, как Гарри Стэк Салливан, Рональд Лэйнг, Грегори Бейтсон, Лорен Мошер, Томас Сас, Теодор Лидз, Алис Миллер, Фрида Фромм-Райхман и многие другие. Самым же радикальным сторонником движения выступил Дэвид Купер, автор работы "
Смерть семьи" (1971), где он прямо указывал на те травмирующие воздействия, которые современная семья наносит личности человека, стандартизируя её для жизни в современном обществе. Семья, в понимании Купера, является посредником в осуществлении власти политического правящего класса и путём социализации задаёт для человека принимаемую им роль, которая отвечает господствующей системе.
"Из-за отсутствия богов мы должны были создать могущественные абстракции, ни одна из которых не обладает такой деструктивной силой, как семья" (Cooper, Lane, 1971, p. 4).
Купер срывал с семьи
"маску радушия, любви и поддержки, маску теплоты, и обнаруживает за ней пустоту, одиночество и утрату автономности, необходимые для поддержания власти общества. Так называемая счастливая семья, на его взгляд, является жёсткой институцией, делающей несчастными и убивающей своих членов" (Власова, 2014, с. 99).
На данный момент на русском языке одним из наиболее полных обзоров «антипсихиатрических» исследований является книга Джона Рида с коллективом авторов "
Модели безумия: психологические, социальные и биологические подходы к пониманию шизофрении" (Рид и др., 2008). В данном труде прослежена связь между детской травмой внутри семьи и симптомами шизофрении.
"
Среди пациентов психиатрических больниц вероятность подверженности насилию в детском возрасте как минимум в два раза выше, чем у населения в среднем". Среди пациентов-женщин, вернувшихся к
нормальной жизни в сообществе, 85 % рассказали о перенесённом насилии в детстве. В большинстве случаев физическое насилие совершается членами семьи (Рид и др., с. 261). Среди пациентов психиатрических клиник 22–62 % в детстве претерпели заброшенность со стороны родителей, 35 % из них подвергались эмоциональному насилию, а 42 % — неадекватному физическому обращению (с. 262). Галлюцинации зафиксированы лишь у 19 % пациентов, в детстве не подвергавшихся насилию, но у 47 % жертв физического насилия и у 55 % жертв сексуального насилия, у 71 % подвергшихся обоим видам насилия (Read, Ross, 2003). Испытывавшие в детстве сексуальное насилие в семье с возрастом испытывают психотический опыт (комментирующие голоса, зрительные галлюцинации, бред) примерно в 4 раза чаще, чем не испытавшие такого насилия (Bell et al., 2018).
В "Моделях безумия" Рида и соавторов имеется такой говорящий раздел, как "Несчастливые семьи". Авторы прямо пишут: "
многие семьи действительно являются неотъемлемой частью полной картины, когда дело касается понимания причин "шизофрении" (Рид и др., с. 292). "
Все структурные и функциональные различия между мозгом «шизофреника» и «нормального» взрослого человека совпадают с различиями между мозгом травмированных детей и не травмированных. Они (изменения) включают: сверхактивность гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси; дофаминовую, серотониновую и норэпинефриновую аномалии, а также структурные различия, такие как повреждение гиппокампа, церебральную атрофию, увеличение желудочков и реверсивную церебральную асимметрию" (с. 278).
Что характерно в русле развиваемых здесь соображений, связь между агрессивными отношениями в семье и шизофренией кого-либо из её членов в индустриально развитых странах оказывается гораздо выше (54 %), чем в странах развивающихся: так, среди сельских семей индийских шизофреников высокая степень внутрисемейной враждебности была выявлена лишь в 8 % случаев (что наталкивает на мысль, что в условиях сельской местности ребёнку куда проще найти психологические пристанище во взаимодействии с другими членами общины, нежели в условиях больших городов с их многоквартирными домами). Предсказуемым выглядит и тот факт, что распространение депрессии ниже всего среди сельских нигерийцев и самое высокое среди городских жителей США. И что ещё интереснее, наиболее ярко депрессия выражена у городских женщин с детьми (Colla et al., 2006). В России данная тенденция схожа, и в 1996 году шизофреников среди городских жителей было 20 человек на 100 тысяч, тогда как на селе этот показатель был ниже в 1,5 раза — 13,3 человека на 100 тысяч селян. К тому же темпы роста показателей заболеваемости в городах в 1,7 раза выше, чем в сельской местности (Чуркин, 1999).
В развивающихся странах в целом шизофрения распространена гораздо меньше, чем в странах развитых (Torrey, 1980). Поэтому в "Моделях безумия" так же чётко, как и "несчастливые семьи", жёстким фактором развития психотических отклонений выделен раздел «Урбанизированность». Связь между проживанием в городах и шизофренией была установлена со всей чёткостью (Peen, Decker, 1997), и мало того, показано, что "
чем больше человек прожил в городской местности до развития у него шизофрении, тем выше риск развития у него этого заболевания" (Pedersen, Mortensen, 2001). Существует чёткая зависимость между фактом рождения и воспитанием в городской местности и психотическими переживаниями, а также психотическими расстройствами (van Os и др., 2001). Вопреки всем «биологизаторским» взглядам традиционной психиатрии, риск возникновения шизофрении у ребёнка, рождённого в городской местности, в 4 раза превышает риск развития того же заболевания у ребёнка, чья мать сама страдает шизофренией (Рид и др., с. 196).
В этом же ключе можно рассматривать и тот факт, что среди католического населения Канады шизофреников 11 человек на 1000, тогда как среди анабаптистов гуттеритов США всего лишь 1,1 на 1000 — то есть в десять раз меньше (суть в том, что гуттериты живут небольшими сплочёнными общинами около 80 человек и промышляют сельским хозяйством, то есть ведут вполне себе неизолированный сельский образ жизни). Иными словами, именно большой город с его многоэтажными жилыми зданиями и маленькими квартирами стал лучшим оплотом изоляции для современной семьи, что и стало чётким индикатором психических заболеваний.
Западный «антипсихиатрический» подход с его упором на роль семьи в развитии шизофрении отображён и в российской психиатрии. "
Семейные отношения, как правило, выступают в роли наиболее важных, значимых для индивида, чем объясняется их ведущая роль в формировании патогенных ситуаций и психических нарушений. Сама длительность семейных отношений создаёт особенно благоприятные предпосылки для длительно действующих, закономерно и часто повторяющихся психических травм" (Эйдемиллер, Юстицкис, 2008, с. 52). В отечественной психиатрии есть такое направление, как социальная психиатрия, которая как раз изучает роль социальных факторов и общения в развитии психотических заболеваний, именно в рамках этого направления и отмечается возможная патогенная роль семьи для психики человека (Дмитриева, Воложин, 2001, с. 189). Благодаря этому уже даже внутри данного направления возникает обособленное направление социальной психиатрии детства. Правда, когда в середине XX века в западной психиатрии уже вовсю ломали копья по поводу роли семьи в психотизации детей, "
в России проблема насилия над детьми длительное время исключалась из сферы научного анализа" (Гурьева и др., 2009, с. 161). То есть у нас эта концепция возникла с запозданием. Правда, и при этом есть одно ощутимое «но»: как указывают российские психиатры, "
семья рассматривается и как базовая ячейка общества, и как естественная среда оптимального развития и благополучия детей" (Гурьева и др., с. 163). То есть, в отличие от западных психиатров и даже нейробиологов, российская психиатрия, похоже, не совсем понимает, что пресловутая «семья» (а речь здесь явно идёт именно о современной нуклеарной семье) является никак не "естественной средой" развития ребёнка, а конструктом довольно новым, тогда как естественной средой в этом деле была как раз семья «расширенная» или даже целая община. Российской психиатрии категорически необходимо сотрудничество с антропологией.
В рамках «антипсихиатрического» движения были опробованы собственные подходы по реабилитации шизофренических пациентов посредством создания терапевтических общин, в которых пациенты могли бы общаться на равных и самостоятельно организовать свой жизненный распорядок (проекты "Вилла 21", "Кингсли-холл", "Уиндхос", "Сотерия" и др.). Одним из главных факторов этих общин был принцип устранения иерархии (которая, по Куперу, как раз лежит в основе семьи, направленной на взращивание конформизма ёё членов) за счёт стирания ролевых различий (Власова, 2014, с. 292–295) и не подавлении инициативы пациентов, а как раз её поощрении. Никто никому не подчиняется, но каждый волен проявлять инициативу. И удивительным образом это сработало. Шизофренические пациенты активно включались в функционирование общины и, находя "общий язык" со своим психозом (зачастую улучшения происходили уже спустя несколько недель), впоследствии брали шефство над новыми членами общины.
Хоть в 1970-е классической психиатрией семья как причина шизофрении была преимущественно отброшена и "
возможная роль семьи в развитии шизофрении стала запретной темой" (Рид и др., с. 291), тем не менее, это не помешало учёным для предотвращения рецидивов сделать упор на налаживание "эмоционального климата в семье" (Рид и др., с. 382). То есть влияние семьи в развитии психозов косвенно всё же было учтено на вполне официальном уровне (см. также Власова, 2014, с. 302).
Глава 9. Семейная психотерапия как транслятор моногамной идеологии
К середине XX века случился буйный рост семейной психотерапии. Психологи принялись учить супружеские пары жить, некритично исходя из того, что нуклеарная семья — нечто естественное, и люди всегда так жили. И эта терапия оказалась прибыльным и популярным делом. Но почему никакой семейной психотерапии не было в том же XIX веке? Почему она родилась только в XX-ом? Просто именно в начале XX века в развитых странах процедура развода сильно упростилась, но главное, теперь право расторжения брака получила и женщина, а как уже говорилось, именно женщина всегда и была главным инициатором развода, как только получила такое право. То есть прежде женщина просто была вынуждена терпеть свой брак до самого конца жизни, а когда же получила возможность избавляться от этой ноши, тут же появилась семейная психотерапия, призванная убедить женщину как-то потерпеть и дальше.
Главный подвох состоял (и состоит) в том, что семейных психотерапевтов обучают различным методам, но никто не учит их истории семьи, брака и детства, что позволило бы им увидеть картину под другим углом, в более критическом ракурсе. Как отмечают специалисты, "
профессиональные психологи в значительной степени опираются на те же интуитивные теории, что и обычные люди, — теории, отражающие, в сущности, всё тот же повседневный социальный опыт. Однако теории бывают ошибочны, а повседневный опыт вводит людей в заблуждение в некоторых весьма важных отношениях" (Росс, Нисбетт, 1999, с. 88).
Для многих психологов брак и семья — это действительно некая застывшая трансцендентная глыба, предшествовавшая Большому взрыву. Им и в голову не может прийти, что когда-то «семья» была совсем иной, да и брак базировался на совершенно других механизмах. При этом "
невозможно адекватно понять институт, не понимая исторического процесса, в ходе которого он был создан" (Бергер, Лукман, с. 92). В итоге психотерапевты просто пользуются заученными методами, прикладывают заученные схемы и высказывают заученные мысли, не подвергая этот инструментарий никакой критичности.
Психотерапевт Майкл Япко описывает, как в начале 1990-х в западной психотерапии распространилось убеждение, что тревожность многих пациентов обусловлена сексуальным насилием в детстве, и специалисты стали предлагать такие интерпретации своим клиентам. Если же кто-то отрицал такой инцидент в своём прошлом, то "
эксперты утверждали, что он лишь подавляет воспоминания, которые должны были быть настолько ужасными, что были «вытеснены» из сознания и «похоронены» где-то в подсознании" (2013, с. 162). Психотерапевты не подозревали, что своими очень настойчивыми убеждениями сеяли в клиентах семена неуверенности, а затем и вовсе заставляли некоторых из них поверить в предлагаемую версию. В итоге многие тысячи человек подавали иски на своих родных, якобы вдруг «вспомнив» о сексуальном насилии с их стороны. В психологии этот феномен называется ложными воспоминаниями, которые можно породить, если очень настойчиво предлагать человеку свою версию событий.
Наверное, у каждого из нас есть знакомый, который всю жизнь был обычным человеком, а однажды вдруг — раз — и стал психологом. И не просто психологом, но и практикующим. Сейчас это очень популярно. Однажды такая моя знакомая в своём Instagram опубликовала фрагмент переписки в стиле «вопрос-ответ». Человек писал ей: "отец ушёл из семьи, когда мне было 3 года. Воспитывал отчим. Недавно отец умер. Но я ничего не чувствую". Подруга-терапевт отвечает: "тебе кажется, что ничего не чувствуешь". Честно говоря, просто невозможно читать такое без улыбки. Психолога научили, что человек обязательно что-то должен чувствовать в отношении отца, которого даже не помнит, и он начинает внушать эту мысль самому клиенту. Главное, как
должно быть, а как оно там на самом деле, не так и важно.
В лучших традициях этой стратегии даже защищают магистерские диссертации. К примеру, исследуется связь между качеством отношений с родителями в детстве и формированием партнёрских отношений в зрелом возрасте (Барышнева, 2016). Главной гипотезой становится предположение, что "хорошие родители" воспитывают таких детей, которые впоследствии формируют пресловутую крепкую-и-навсегда-пару, а дети же "плохих родителей" склонны к частой смене партнёров. Каково же оказывается удивление будущего магистра, когда в ходе исследования обнаруживается совсем иное: "
чем положительнее молодые люди оценивали своё раннее детское воспоминание, тем больше романтических партнёров они имели в жизни". То есть исходное предположение автора опровергается. Но это не мешает ему остаться при своём, и в финале просто заявить: "
Большое количество партнёров при привлекательности раннего детского воспоминания также можно объяснить механизмом психологической защиты". И всё. Какой филигранный штрих. Автор просто предполагает, что все эти молодые люди, склонные к сексуальному разнообразию и непостоянству, попросту «ошибаются», оценивая своё детство как счастливое. Как доказать, что здесь имела место какая-то "психологическая защита"? А никак. Само предположение кажется автору уже вполне себе чётким доказательством. И всё, новый магистр психологии готов.
Анна Варга, психолог, приложивший много усилий для развития семейной психотерапии в России, говорит об этой проблеме: "
Создать патологизирующий дискурс очень легко — у тебя комплексы, у тебя проблемы, ты просто не осознаёшь. А поскольку довольно много плохо обученных психотерапевтов, помогают они (если вообще) медленно и вяло. Вот и ходят люди годами. Как в том анекдоте, когда умирает психоаналитик и сообщает последнюю волю сыновьям: тебе, старший сын, я отдаю дом, тебе, средний, счет в банке, а тебе, младший, моего клиента". В другом интервью Варга подчёркивает, что раньше действительно "
считалось, что психотерапевт знает, как устроена семья, что можно сделать с клиентами, чтобы они решили свои проблемы. А теперь директивность и экспертность уходят в прошлое. И сегодня мы далеко не уверены, что всё знаем, как это было ещё 20 лет назад
В одном исследовании (Shachar et al., 2013) после некоторой работы над неосознаваемыми установками часть психотерапевтов признавалась, что пыталась влиять на людей, подвигая их в сторону определённых культурных нормативов. Они делали это совершенно неосознанно, находясь под влиянием собственных обывательских представлений о «норме». Психотерапевт, вспоминая работу с незамужними женщинами, с удивлением осознавал: "
Я думал, моя скрытая обязанность — заставить женщину выйти замуж, хотя я знал, что это не моя задача как терапевта". Другой созвучно признавал, что ключевым вопросом для него всегда являлось, выйдет ли одинокая женщина замуж. Помимо этого ожидаемо выяснилось, что к незамужним женщинам с детьми психотерапевты относились позитивнее, чем к женщинам без детей.
Как-то на открытой лекции от учащихся психфака одна из студенток-лекторов поведала, как к психотерапевтам приходят женщины, признающиеся в нежелании иметь детей, и как психотерапевты с этим «работают». И там тоже прозвучала фраза в духе "
Вам только кажется, что Вы не хотите детей. Надо лишь понять, что Вас останавливает". И начинаются разборы возможных "травм детства" и т. д. Я не смог сдержаться, спросил:
— А как психолог так легко понимает, чего действительно хочет человек? У него какой-то прибор со шкалой там к пациенту подключен, и стрелочка бегает, показывает, хочет человек или нет? Вот как это происходит?
Будущая психолог посмотрела на меня с растерянной улыбкой и смогла ответить только:
— Ну как…
И пауза очень затянулась. Тот самый момент, когда психолог, родившийся и выросший в своей культуре, впитавший в себя её ценности и нормы, смотрит на мир исключительно через эту призму и не может помыслить, что у кого-то может сложиться иначе. Все ведь рожают? Значит, хотят этого? Значит, есть в этом смысл? Так как тогда можно этого не хотеть?
Достаточно просто вспомнить робота Софию, начитавшуюся человеческих текстов и захотевшую детей.
"Практикующие врачи обычно видели свою миссию в коррекции отклонения человека от его «биологической» цели. В этом смысле психоанализ часто является не просто теорией механизмов воспроизводства отношений между полами — он представляет собой один из таких механизмов" (Рубин, 2000, с. 113).
На другой лекции по зависимости и контрзависимости вдруг речь зашла о моногамной психологии. Очень шустро молодая лектор выдаёт: контрзависимые люди склонны к измене или созданию полигамных отношений. "
Ведь в разветвлённой сети контактов невозможно воссоздать той глубины отношений, какие могут быть лишь с одним партнёром, таким образом контрзависимый субъект стремится к поддержанию дистанции с другими
Логично, подумал я. С точки зрения сложившейся мифологии семьи, мы способны создать глубокие отношения с матерью? Легко. С отцом? Тоже можно. С братьями и сёстрами? Тоже. Да плюс ещё и с несколькими друзьями… Но как только речь заходит о сексуальных партнёрах, так всё — сразу "возможно только с одним".
Эта молодая психотерапевт только недавно вышла замуж, и ход её мысли и ожидания вполне понятны. Являясь носителем моногамной идеологии, люди становятся и её распространителями. Они просто не замечают, как становятся трансляторами сложившихся культурных норм, склоняясь к описанию их как некоего естественного порядка вещей. Ну и конечно, потом они консультируют разваливающиеся семейные пары, внедряя мысль, "как всё должно быть на самом деле".
По мнению некоторых учёных, специалисты, утверждающие, будто в большинстве случаев могут спасти супружеские отношения, в реальности не утруждают себя строгой оценкой результатов своей деятельности и вводят в заблуждение как себя, так и обратившихся к ним людей. "
Это большой бизнес: книги, мастер-классы. Вы можете каждый год писать по книге, полной обещаний, и каждый год она будет бестселлером" (цит. по Бергнер, 2016, с. 135). Что уж говорить о том, что доход приносит и каждая консультация.
Самый перл как-то выдала подруга, уже несколько лет работавшая семейным психологом и помогающая людям "налаживать отношения". Трюк в том, что сама она много лет живёт с постоянно изменяющим ей мужчиной, из-за чего истерики её регулярнее месячных. Не один раз на свиданиях со мной она впадала в слёзы, рассказывая об этом. Однажды я спросил, почему она не применит к себе все те методики, которые советует другим семьям? Если у них работает, то и у неё должно сработать. На что подруга через слёзы взмахнула руками и почти выкрикнула:
— Со мной это не работает! Я — другая!
Кстати, нигде кризис семейной психотерапии не ощущается так остро, как на свиданиях с замужним семейным терапевтом.
Семейная психотерапия зиждется на мифе, что мужчина и женщина всегда образовывали эмоционально связанную пару, и на фрагменте древней идеологии, по которой сексуальность также должна быть ограничена только супругом. Некритичная трансляция этих установок видна уже в формулировках психотерапевтов.
"Почему некоторые люди не могут оставаться в браке?" задаётся вопросом мастодонт семейной терапии (Витакер, 1998), подспудно подразумевая это неким отклонением от нормы и не удосуживаясь задуматься об обратном: зачем людям быть в браке? Многочисленные статьи с названиями в духе "Что мне мешает выйти замуж?" транслируют важность этой цели. Заголовки вроде "В чём причина промискуитета?" или "Как предотвратить измену" также содержат в себе вполне конкретный посыл. Никто не задастся вопросом "В чём причина супружеской верности?", ведь в контексте сложившихся культурных норм звучать он будет странно. Какая может быть причина у нормального? «Нормальное» естественно, ему не нужны причины. Причины могут быть только у ненормального.
С промискуитетом (неупорядоченными сексуальными отношениями) вообще забавно: его активно исследуют во множестве работ, при этом почти всегда исходной гипотезой авторов являются представления о ненормальности, патологии сексуальной свободы. Психологи то исходят из положения, что разнообразные сексуальные связи движимы "нелюбовью к себе", то из положения, что причиной этого может быть олигофрения и другие дефекты психики, и читать такие исследования весьма забавно. Все наши братья-приматы и часть нынешних племён, практикующих сексуальные свободы, были бы в культурном шоке, прочитай такое.
Психотерапевт становится жертвой собственной некритичности: видя, как всё происходит, он делает ошибку и начинает считать, что так
должно происходить. Описание подменяется предписанием. Люди вступают в брак? Значит, люди
должны вступать в брак. Люди рожают детей? Значит, люди
должны рожать, и т. д. То есть существующий мир становится единственно возможным. Любые альтернативы воспринимаются как отклонение.
Кажется, родись психотерапевт в концлагере, то непременно бы учил, что ходить строем в пределах забора и сильно недоедать, — то, что люди должны.
Наблюдая, как в определённом возрасте мальчик начинает отдаляться от матери и перенимать всё больше повадок у отца, психотерапевт скажет, что мальчик, чтобы "
развиться в мужчину, должен присоединиться к отцу". Будет объявлено, что это "
сверхзадача, предназначенная мальчику" (Скиннер, Клииз, 1994). "
Задача в том, чтобы одолеть сильнейшее материнское притяжение". При этом психотерапевт ни на секунду не задастся вопросом, зачем это нужно? Зачем мальчику впитывать все эти гендерные нормы и становиться Мужчиной, если прекрасно известно, что именно Мужчина склонен вести рискованный образ жизни (Тартаковская, 2010), плохо следить за здоровьем, не жаловаться на одиночество и страхи и плохо разбираться в собственных эмоциональных состояниях, что в итоге, среди прочего, приводит к более ранней смерти по сравнению с женщинами? В то же время люди с андрогинным складом характера по многим аспектам превосходят мужчин, держащихся за мужественность, как за святыню, в итоге испытывая больше субъективного благополучия. Как было указано в разделе о рождении мужского господства, весь прошлый век одним из основных направлений культурных трансформаций стала борьба с мужским гендером, с ограничением его пагубных влияний на всё общество (и на самих мужчин в том числе). Но нет, по мнению психотерапевта, раз мальчик делает нечто, значит, он
должен это сделать, это его «сверхзадача». В этом и есть беда семейной психотерапии — она превращает банальные
описания в глубокомысленные
предписания. Происходит всё это совершенно некритично.
Другой пример — тема сепарации ребёнка от родителей. Психологическое отделение ребёнка от матери и от отца в психотерапии выставляется неким базисом развития личности, без которого невозможна дальнейшая «нормальная» жизнь ребёнка. Якобы ребёнок
должен отдалиться от родителей, чтобы научиться самостоятельному принятию решений, что, в свою очередь, затем позволит ему вовсе покинуть родительский дом и начать самостоятельную жизнь, создать новую семью. Но нюанс в том, что психологическое и пространственное обособление даже взрослого ребёнка от родителей — опять же явление новомодное, оно получило широкое распространение именно в городах и всё те же 150–100 лет назад. В условиях тысячелетиями существовавшего крестьянского хозяйства взрослый сын никуда от родителей не уходил, и даже наоборот — приводил жену в дом, где она рожала детей, и весь этот коллектив существовал под одной крышей, занимаясь одним общим делом. Каким бы взрослым ни был сын, а он подчинялся отцу и матери, которые были главными в доме до тех пор, пока в силу старости не слагали с себя полномочия. Мужчина легко мог стать главой дома в 40, а то и в 50 лет. Хотя, конечно, и тогда продолжал слушаться наставлений матери. Какая-либо сепарация от родителей — это городское явление, возникшее с развитием малой нуклеарной семьи, то есть недавно. Вместе с этим же возникла и эпидемия депрессии, о чём подробно написано выше. То есть вот этот семейный распад — это явно негативное явление для психики человека, но это не мешает психотерапевтам выдавать его за нечто естественное и даже полезное, необходимое, через что нужно пройти.
В последние десятилетия в мире широко распространился феномен полиамории — организация сексуально-эмоциональных союзов из более чем двух человек, где за каждым признаётся право испытывать романтические чувства не к кому-то одному, а к нескольким одновременно. Полиаморию часто называют договорной немоногамией. Как и следовало ожидать, полиамория также натолкнулась на сопротивление со стороны психотерапевтов, некритичных носителей моногамной идеологии. Одна из полиаморок жаловалась:
— Когда я влюбляюсь в кого-то нового, становлюсь более счастливой, более ласковой со всеми. Как-то я ходила на сеансы к психотерапевту, и она сразу сказала: "Я не поощряю такого образа жизни". А через полгода призналась мне: "Женщину это должно опустошать, а тебя, наоборот, наполняет".
Вот самое интересное здесь — это то самое «должно». "Должно опустошать". Психотерапевт вооружён канонами своей культуры, но не осознаёт этого, а полагает, что говорит о каком-то естественном порядке вещей. Культура научила его думать, что более чем один сексуально-эмоциональный партнёр — это плохо и "должно опустошать", и терапевт некритично стремится внедрить эту мысль в голову клиента.
"
Несмотря на демографическую распространённость полиамории, терапевты малообразованны о жизнях и потребностях полиаморных людей, а большинство учебников и брошюр по психологии и психотерапии не упоминают данную форму отношений" (Карлин, 2017), а если терапевт о полиамории и слышал, то воспринимает её как патологию. Давнее исследование установок психотерапевтов показало, что 33 % полагали, что людям, состоящих в полиаморных отношениях, характерны личностные расстройства или невротические тенденции, 9–17 % из них заявили, что попытались бы вернуть таких клиентов к моногамному образу жизни (Knapp, 1975). Что же и вовсе граничит с сатирой, так это то, что психотерапевты склонны воспринимать полиаморов более патологичными, чем тех моногамных людей, которые изменяют своим супругам. То есть люди, честно и открыто состоящие в нескольких сексуально-эмоциональных связях, считаются бо́льшим отклонением, чем люди, делающие это же, но скрытно и с обманом.
В некоторых случаях психотерапевты начинают прямо подшучивать над полиаморами или даже откровенно подкалывать, не скрывая неприязни. Не удивительно, что в подобной атмосфере полиаморы испытывают затруднения с поиском адекватного специалиста.
В июне 2020-го в США в городке Сомервилл, штат Массачусетс полиаморные союзы были узаконены. А ещё раньше, в 2018-ом, полиамория фактически была признана нормальным состоянием психики, когда Американская психологическая ассоциация (APA) рекомендовала психотерапевтам изменить подходы к консультированию полиаморных клиентов и перестать их дискриминировать. Очевидно, в итоге придётся существенно менять и многие концепции семейной психотерапии, ведь отныне терапевт сможет не ходить вокруг да около, а прямо сказать супругам, что они просто устали друг от друга и им наконец-то пора найти себе кого-то ещё. Хотя для чего ещё нужна семейная психотерапия, как не для удержания моногамной идеологии?
Культурно обусловленная предвзятость психотерапевтов проявляется и в борьбе за «традиционные» гендерные роли: глава семьи мужчина расценивается ими как норма, а если же лидер в семье женщина, то и расценивается она как патология (Ivey, Conoley, 1994). Таким образом, психотерапия нередко (или даже часто) оказывается не чем иным, как институтом отстаивания сложившихся культурных норм и в первую очередь — транслятором моногамной идеологии и мужского господства. Культурный критик Лора Кипнис (Laura Kipnis) солидарна, что "
ложь о реальном положении дел заложена в институте моногамии. Правда угрожает существованию общественных институтов. Именно поэтому идея верности преподносится не только как «норма», но и как сокровенное желание всех людей. Общественно значимый труд по поддержанию моногамного идеала охраняется институтом семейной психотерапии. При этом традиционная фрейдовская парадигма психологического консультирования объясняет, что причина моральных страданий и неудач коренится в самом человеке и его детских травмах, а не в паталогической организации общественной структуры" (цит. по Шадрина, 2014, с. 129).
Исследователи давно отметили, что главная (и при этом незаметная) роль психотерапии — это социальный контроль, удержание всякого человека в рамках сложившегося культурного порядка (Бергер, Лукман, с. 184–188), каким бы новым он ни был. Учитывая, что сами психотерапевты в массе своей являются носителями вполне себе обыденного сознания и потому верят в незыблемость и вечность существующих в обществе ценностей и институтов, то им не составляет труда убеждать в этом и других, работая с их «проблемой». Проще говоря, психотерапевт исходит из наивной позиции, что "так было всегда" и это «естественно» и пытается работать с клиентом в рамках этой иллюзорной нормы, как бы тот от неё ни страдал.
Бертран Рассел в своей знаменитой нобелевской работе "
Брак и мораль" ещё в 1929-ом дал верный расклад по теме: "
Первый вопрос, который следует задать, обдумывая новую мораль отношений между полами, не "Как гармонизировать отношения между мужчинами и женщинами?", а "Что хорошего в том, что мужчины, женщины и дети искусственно удерживаются в состоянии невежественности относительно сексуальной стороны отношений между полами?" (2004, с. 94). Рассел рассуждает, как сокрытие информации одной группой людей от другой способствует удержанию власти господствующими группами, будь то правящая партия или же мужчины в целом. "
Замалчивание фактов о сексуальной стороне отношений между полами, хотя и относится к другой области, в своей основе имеет схожий мотив. Ведь удерживать женщин в невежественном состоянии было с самого начала весьма желательно, для того чтобы сохранить мужское господство. Постепенно женщины согласились с тем, что такое состояние существенно важно для сохранения ими верности, и под влиянием этого мнения детей и молодых людей стали также держать в невежественном состоянии в половых вопросах. Когда это произошло, то в качестве мотива было уже не господство мужчин, а некое иррациональное табу. Вопрос о том, почему невежественное состояние желательно, уже никогда не поднимался, и было признано незаконным приводить доказательства того, что состояние невежественности наносит вред" (там же).
Если вдуматься, а действительно, что бы стало, если бы все семейные психологи, вдруг разом прозрев, стали бы говорить клиентам правду: "Брак своё отжил и исчезает. Моногамия — инструмент подчинения женщины. Нуклеарная семья вредит здоровью". Что бы тогда стало?
Всем известна спортивная гимнастика: завораживающая дисциплина, где атлеты на пределе человеческих возможностей вытворяют невероятное, с умопомрачительной скоростью вращаясь вокруг своей оси, взмывая выше головы, стоя на руках или паря над полом. Специалисты определяют гимнастику как "двигательную деятельность, развивающую резервные двигательные возможности человека, не занятые в бытовых, трудовых двигательных действиях и носящие как бы искусственный характер". Чтобы освоить все эти движения "искусственного характера", нужны годы и годы изнурительных тренировок, и начинать лучше с детства. Что интересно, наиболее откровенные психологи дают браку определение, очень близкое к спортивной гимнастике: "
брак — адаптация человека к непривычным условиям существования" (Курпатов, 2013, с. 82). Но видел ли кто-нибудь массовые тренировочные базы для желающих вступить в брак? Нет, люди, как и большинство психотерапевтов, считают брак чем-то естественным, к чему готовиться совсем не обязательно: однажды он случится, и всё получится. Потому и уровень разводов так высок.
Брак — способ организации жизни двух людей, носящий не просто искусственный характер, но во многом и принудительный. Об этом надо помнить.
Глава 10. Чем спасается моногамия?
Неработоспособность моногамной идеологии в рамках нуклеарной семьи косвенно и даже курьёзно подтверждается распространённой манерой людей заводить домашних животных. Стереотипно считается, что именно одинокие люди склонны обзаводиться питомцами, но это миф, и в семьях (с детьми или без) домашние животные встречаются куда чаще (Кляйненберг, 2014, с. 86). Возможно, таким способом супружеская пара демонстрирует, что отношения их «выработаны», исчерпаны, и начинается то самое "одиночество вдвоём"? Паре нужен третий — в качестве буфера, для разрядки?
Исследования действительно показывают, что домашние питомцы могут появляться в семьях для понижения тревоги, связанной с кризисами самой семейной системы (Варга, Федорович, 2009; Федорович, Емельянова, 2014). Начиная с середины XX века рост числа домашних животных по всему миру был просто взрывным и главным образом происходил именно в городах, которые и являются оплотом нуклеарных семей, эмоционально изолированных от остального общества. Удивительно, но животные в доме позволяют людям выражать глубокие чувства, которые выразить в самой семей не всегда оказывается возможным. И эта возможность наиболее значима для женщин, которые на вопрос о гипотетической ситуации катастрофы отвечают, что первыми будут спасать именно своих зверушек, а не членов семьи (Cohen, 2002).
В первой главе говорилось, что в реальности отношения между братьями и сёстрами не являются такими тёплыми, как транслирует культурный миф (лучше друзей здесь никто ничего не придумал). И это подтверждается признаниями подростков, что к домашним питомцам они чувствуют бо́льшую привязанность, чем к своим братьям и сёстрам. Они даже секретами больше делятся с первыми (Cassels et al., 2017).
Тот факт, что люди, вынужденные долгое время находиться в сильно ограниченном кругу лиц, стремятся найти какую-то возможность раскрыть свои эмоции "на стороне", говорит о многом. Вспомните это, когда кто-то снова будет убеждать вас в "естественности" моногамии и семьи. Но, конечно, домашние животные — не единственное спасение.
Для всякого думающего человека всегда было загадкой: вот любят мужчина и женщина друг друга, живут парой, всё у них хорошо, но с чего вдруг им тогда в голову приходит завести ребёнка? Ведь всё и так хорошо, они счастливы — но откуда вдруг тогда желание внести некоторые изменения? Разве всякое новшество не рискует поставить под угрозу сложный баланс между счастьем и бытием? Чтобы найти ответ, надо обратить внимание на тот любопытный факт, что именно на пике «нуклеаризации» семьи в середине XX века зарождается культ детоцентризма — концепция усиленного родительствования, выраженная в гипертрофированном внимании к детям и их потребностям, которые ставятся во главу угла всей семьи (Шадрина, 2017, с. 10); в прежние же века, как было показано, к детям относились куда проще, чем сейчас. Вряд ли можно считать совпадением переплетение двух этих явлений по времени, но здесь можно усмотреть прямую причинную связь: детоцентризм был вызван к жизни самой дисфункциональностью моногамных отношений в нуклеарной семье. Данное предположение находит поддержку со стороны теории семейных систем Мюррея Боуэна, в которой одним из ключевых понятий является «триангуляция» — вовлечение в дисфункциональные отношения супругов третьего лица (Боуэн, 2005, с. 310). Диада (парная супружеская связь) не является устойчивой, и рано или поздно супругов захлёстывает волна недовольства, уровень тревоги возрастает. Триада же представляет собой более устойчивую систему, так как в ней между конфликтующими двумя возможна разрядка напряжения с помощью переключения внимания на третьего. Конечно же, чаще всего этим третьим становится ребёнок. Именно ребёнок на определённом этапе и призван спасти нуклеарную семью от разъедающих внутренних противоречий.
Но вместе с тем, дети — плохие стабилизаторы семьи, потому что "
они растут, меняются, поэтому функциональным стабилизатором быть не могут" (Варга, Драбкина, 2001). Поэтому, если уже в триаде уровень тревоги становится чрезмерным, в систему вовлекается следующий, уже четвёртый член, потом пятый и т. д. Косвенно этот механизм подтверждается и статистикой, которая показывает, что рождение первого ребёнка снижает вероятность развода, а рождение второго и третьего снижает ещё больше, в некоторых случаях число разводов при наличии трёх детей достигает всего лишь 5,6 % от всех разводов (Игебаева, 2017).
При этом не надо думать, что дети спасают отношения супругов: они спасают брак — а это не одно и то же. Уровень счастья супругов в любом случае снижается — его ценой спасается брак. Как иронизирует в своей книге профессор психологии Мэттью Д. Джонсон, после рождения детей вы станете несчастнее, но зато несчастными вы будете вместе (Johnson, 2016, p. 121). Исследователи подчёркивают, что хотя удовлетворённость браком и его стабильность и кажутся нам чем-то очень сходным, в действительности это не так (Карни, Бредбури, 2016, с. 68): как говорилось выше, большой массив исследований показывает, что дети снижают удовлетворённость браком, но при этом они и снижают вероятность его распада (Heaton, 1990). Кстати, помимо детей, эту же функцию выполняет совместная ипотека.
Таким образом, и дети, и домашние животные в известной степени могут быть индикаторами неудовлетворённости отношениями в паре. Они выступают буфером внутри нуклеарной семьи, создают спасительную дистанцию между супругами, оказываясь теми, на кого можно отвлечься. Всё это вскрывает миф современной моногамии во всей красоте. Будучи искусственной концепцией, моногамия создаёт искусственные же условия, в рамках которых человеческая психика нормально существовать не может.
Занятно, но ещё одним стабилизатором семьи, согласно положениям системной семейной психотерапии, считается… супружеская измена (Варга, Драбкина, 2001; см. Перель, 2015, 2018). И это тоже есть не что иное, как вовлечение в диаду третьего. Потому что диада попросту не работает. Моногамия не работает. Ей нужны сторонние лекари.
В этом же ключе нужно смотреть и на феномен проституции, который исторически сопровождает моногамию, что отмечал ещё Шопенгауэр. "
В одном Лондоне проституток насчитывается 80 тысяч", писал он. "
Что же представляют они собою, как не […] истинные жертвы, принесённые на алтарь моногамии?" Аналогичные наблюдения содержатся и в остротах Энгельса, который подмечал, что "
по пятам моногамии следуют гетеризм и проституция" (Энгельс, 1961, с. 167). В начале XX века в своей "Истории проституции" немецкий венеролог Иван Блох (Iwan Bloch) также указывал, что проституция порождена "ригоризмом принудительного брака", который ограничивал и подавлял свободу половых отношений (Блох, 1994).
Чтобы понять суть этих замечаний, надо знать, что, вопреки расхожим стереотипам, главный клиент современной проститутки — не холостяк, не прыщавый студент-неудачник, а как раз мужчина женатый, ближе к 40 годам, часто имеющий детей. "
Эти мужчины пользуются услугами проституток в обеденный перерыв или сразу же после окончания работы, рассчитывая время таким образом, чтобы семейная жизнь и близкие отношения оставались неприкосновенными" (Келли, 2000, с. 596). Мало кто задумывается, но своим существованием проституция обязана именно моногамии: когда уставший от супружеских отношений семейный мужчина не может позволить себе полноценного романа "на стороне", вследствие чего вынужден ограничиваться лишь короткими визитами к жрицам любви.
Немного иной, но в целом схожий взгляд бытовал в Древнем Риме, где проституция считалась средством защиты благочестивых замужних женщин от посягательств посторонних мужчин (Montalban Lopez, 2016). Катон Старший (234–149 до н. э.) говорил о проституции как о полезном явлении, позволявшим молодёжи предаваться своим низменным устремлениям, "
не приставая к жёнам других мужчин". С этой точки зрения, проституция рождается в условиях нехватки женщин, так как многие из них уже распределены и попадают под строгий надзор общественной морали, становясь неприкосновенными для всякого другого мужчины, кроме мужа. Так возникает потребность в публичных женщинах, которые доступны всем, включая тех, у кого нет своей жены.
Какой бы подход ни был верным — современный, «психологический», или древний, «популяционный», — так и так проституция оказывается побочным продуктом моногамии, который к тому же призван поддержать её существование.
Домашние животные, дети, проститутки и измены — вот четыре кита моногамии, её спасательные круги.
Глава 11. Будущее, которое будет?
Во времена седой древности охота на мегафауну привела к рождению гендера. Обслуживание мужского гендера потребовало женщину для всей непрестижной работы, так родился брак — подчинение женщины конкретному мужчине. На базе брака стали складываться «семьи» самых разных типов и развиваться многочисленные системы родства. С дальнейшим развитием цивилизации и промышленности «семья» становилась всё меньше и достигла численного минимума в городах XIX–XX вв. При этом благодаря всё той же развитой промышленности и растущему рынку женщина оказалась вовлечена в работу вне дома, где стала составлять конкуренцию мужчине. Начав самостоятельно добывать средства для существования, женщина стала свободнее, что и повлекло за собой вал разводов, не прекращающийся по сей день. Осознают это женщины или нет, но брак им не по душе, и их поведение это показывает. Рост разводов и вообще отказ вступать в брак трансформирует институт семьи, который несколько десятилетий всё хуже описывается одним определением. Варианты семей становятся разнообразными.
Вместе с браком всё громче трещат и швы самой моногамии, которая и лежит в основе нуклеарной семьи. Многие современные люди смотрят на брак уже не как на вечный союз, а именно как на временный. Всё отчётливее слышны призывы и вообще к отказу от моногамии — активное шествие полиамории по планете возникло не на пустом месте и вряд ли пройдёт бесследно. Некоторые психотерапевты полагают, что именно за полиаморией будущее: "
Фактически она представляет собой новый тип организации общества. Её гибкая сеть привязанностей, в которой есть несколько родительских фигур, создается в попытке компенсировать изоляцию, ощущаемую многими современными парами, оказавшимися в ловушке нуклеарной модели. Эти разносторонние любовники ищут новый смысл коллективизма, общности и идентичности" (Перель, 2018). И с такой оценкой трудно не согласиться. В условиях тотальной изоляции, которой достигло человечество сегодня, непременно должен последовать «отскок» от этого холодного дна, и
признание за индивидом права испытывать эмоциональную привязанность не к одному исключительному объекту, а ко многим другим, сыграет в этом деле важную роль. Потому полиамория действительно выглядит авангардом данного движения.
В работах социологов уже показано, что в полиаморных семьях дети получают больше внимания и заботы, поскольку имеют сразу нескольких отцов и матерей (Sheff, 2014). К тому же женщины в таких союзах считают сексуальное разнообразие особенно полезным компонентом (Sheff, 2005). Всё это очень похоже на возвращение к доисторическим формам объединения людей. В этом же ключе Белла ДеПауло задаётся вопросом: раз принято считать, что два родителя — лучше, чем один, то почему трое родителей не лучше, чем два, и т. д.? (DePaulo, Morris, 2005. p. 74). Результаты исследования в 39 странах, показывают, что в случае распада брака как сами разведённые взрослые, так и их дети, ощущают себя более благополучно в коллективистских культурах, а не в индивидуалистических, поскольку там сильнее развиты родственные связи (Gohm et al., 1998).
Другим важным следствием таких расширенных союзов может оказаться всё большее исчезновение гендерных норм, поскольку они воспроизводятся именно внутри моногамной культуры и с трудом «втискиваются» в полиаморные отношения (Ziegler et al., 2014, p. 10). Это вполне логично, если учесть, что моногамия была создана именно для поддержания гендерного неравенства: если так, то разрушение моногамии приведёт к разрушению гендера.
Но полиамория — не единственно возможная форма организации общества в будущем. Возможна и другая форма, которая, честно говоря, кажется даже более вероятной. При такой форме сексуальность вообще будет исключена из числа оснований для создания союза людей. В полиамории сексуальность не оказывается тотально свободной, а в некотором роде продолжает моногамную линию, только расширяя её до нескольких чётко обозначенных человек.
Чтобы понять суть этой альтернативной формы, давайте просто зададимся вопросом: обязательно ли нам жить с теми, с кем мы занимаемся сексом? В современности единственным реально значимым фундаментом для образования союза людей служит только эмоциональная привязанность, уважение, интерес друг к другу. Люди могут жить вместе, просто потому что им друг с другом хорошо.
В старших классах школы и на первых курсах института мы с друзьями, как и сотни тысяч других, устраивали весёлые вечеринки: музыка, игры, вино. Было весело и комфортно. Все свои. Но в какой-то час непременно наступал тот момент, когда веселье подходило к концу, и надо было расходиться. Не знаю, как у других, но у меня часто возникала неудовлетворённость: зачем мы расходимся, если так всё хорошо? Это не было осознанно сформулированной мыслью, а именно чувство. Зачем заканчивать что-то, если задор ещё есть?
Здорово было, когда не приходилось именно расходиться, а мы просто выключали всё и укладывались спать на всех доступных поверхностях в разных комнатах большой когортой друзей. Конечно, потом ещё долгое время мы не могли уснуть, а перекрикивались между собой разными похабными шутками, громко смеясь. Это были замечательные моменты нашей юности. Они были у каждого, кто был молод и у кого были друзья.
Но прошли школа и институт, а с ними пришли брак и семьи. И больше так мы не собирались никогда. Но и годы спустя вопрос, терзавший когда-то в виде смутного чувства, навещает меня: а можно ли было всё устроить как-то иначе? Чтобы не прекращать всю эту уютную до чёртиков тусовку?
Почему люди, которые любят друг друга, в итоге непременно должны расходиться? Неужто нельзя по-другому? Ответом на всё — семья. Точнее, моногамная нуклеарная семья. Всё однажды упирается в семью. Все рано или поздно разбредаются по своим углам, чтобы заняться своей частной жизнью.
Как-то в свои 34 посмотрел "Джек Ричер 2", где герой Тома Круза вдруг обнаруживает девочку, которая, по всем данным, является его случайной дочерью. У них начинаются погони, перестрелки и прочие зубодробительные приключения в поисках правды. Они плюс симпатичная сослуживица героя кочуют по стране из отеля в отель, поддерживая друг друга, и всё начинает выглядеть просто идиллически: у этой случайной троицы складываются замечательные отношения, теплота друг к другу, нежность. Они становятся настоящими друзьями.
Но в финале (пардон, спойлер) выясняется, что девочка герою Круза — совсем не дочь. И они вынуждены расстаться — люди, которые прониклись глубокой симпатией, проверенной самыми суровыми передрягами, они вынуждены расстаться. Он отвозит её в училище, где они и расстаются. В итоге они лишь бросаются в объятия друг друга и крепко обнимаются напоследок, переживая груз грядущего расставания.
Я смотрел это в свои далеко уже не детские 34 года, и у меня возник лишь один вопрос:
зачем? Зачем они расстаются, если эта их троица выстроила такие тёплые отношения между собой? Это же безумно ценно. Большинство людей ищут это всю жизнь, а эти вдруг берут и расстаются.
Зачем? Зачем расстаются любимые люди?
Конечно же, потому что
такая любовь — это ненормально. Любовь между людьми должна быть только в семье — в этом суть сложившейся моногамной парадигмы. Забавно, но, видимо, весь нюанс в том, что герой с сослуживицей так и не вступили в сексуальную связь, а девочка и вовсе ни с кем из них ни в какой формальной связи не состояла. А формальные связи — это то самое, что современную семью и образует. Раз нет формальных связей, то нет и права на нежность. Нежность у нас дозволена только в рамках семьи, монополизирована ею.
В действительности мы по-прежнему дикари со всеми их обрядами инициации — мы нуждаемся в формализующих ритуалах: герой Тома Круза должен был вступить с коллегой в сексуальную связь и удочерить девочку, тогда всё нормально, тогда они могли бы остаться вместе. Только так, с точки зрения общественного сознания, любящим людям дозволено быть вместе. Только с помощью принятых в обществе ритуалов, с помощью своеобразных современных обрядов инициации (переспать с одной и удочерить другую), человек может вступить в признаваемый обществом союз. Всё дело в общественном признании. Общество довольно жёстко регламентирует отношения между людьми, и если те или иные отношения не укладываются в рамки этого регламента, то они и не принимаются, не понимаются. Самое главное, что в таком случае они не признаются и не понимаются даже носителями самого этого желания быть вместе, поскольку они же одновременно и являются носителями общественного сознания. Людям очень трудно выйти за пределы собственных социальных установок, традиционного мышления, и посмотреть на свои отношения под другим углом, закрыв глаза на регламент. Роль общественных регламентов хорошо показана в эпизоде фильма «Красные» (1981), где герой Уоррена Битти собирается ехать в Нью-Йорк и зовёт с собой девушку, с которой возникла романтическая связь.
— В качестве кого я туда поеду? — спрашивает она, исподволь требуя расставить точки над «i». — В качестве твоей подружки?
— Что? Я не понимаю.
— Твоей подружки, любовницы, сожительницы, наложницы?! Кого?! — гневно выпаливает она.
— Зачем так ставить вопрос? — теряется герой.
— Потому что! — кипит она. — Прежде чем отправляться в романтическое путешествие, я должна уяснить свой статус. Кем я там буду?
— Скоро День благодарения… Роль индейки тебя устроит? — немного подумав, отрезает герой.
Социология показывает, что современные формы объединения людей действительно становятся всё более разнообразными, сильно отходя от «общепринятых». Исследователи всё чаще описывают союзы, где друзья живут под одной крышей, могут даже иметь общий бизнес и счета в банке. При этом отношения их не носят сексуального характера, это именно друзья в самом привычном понимании, и все их сексуально-романтические отношения разворачиваются за пределами их союза.
Совместное владение или аренда жилья становится хорошим решением жилищной проблемы в мегаполисах, и, оказывается, для этого совсем не обязательно вступать в брак. Социолог Анна Шадрина пишет об этой тенденции: "
Альтернативные жизненные уклады становятся объектами не только научных исследований и публицистических выступлений на Западе, но и начинают получать отражение в культуре и искусстве. Для обозначения не романтической, но значимой связи героев у современного кино и телевидения появился отдельный термин — «броманс» ("bromance", от «brother» — англ. «брат» — и «romance» — англ. "роман"). «Броманс», или "семья по выбору", узнаваем в популярных телесериалах, таких как: «Друзья», "Сайнфилд", "Доктор Хаус", «Шерлок», "Калифорникейшн", «Окружение», "Книжный магазин Блэка", "Разделяя пространство". Распространение различных форм романтического и неромантического сожительства свидетельствует о том, что в наше время людям важно жить не столько в признанных институциях, сколько в удовлетворяющих отношениях" (2014, с. 39).
Шадрина ссылается на фильм "Отель Мэриголд", вышедший в 2011 году и повествующий о группе британских пенсионеров, решивших удалиться на покой в менее затратную и экзотическую Индию, в отель для пожилых, и подчёркивает, что "
сообщество по интересам, компания для общения и взаимной поддержки нужны в течение всей жизни, но особенно важны для людей пожилого возраста, живущих за пределами традиционной семьи" (с. 189).
Главное же, что такие сюжеты — не вымысел голливудских сценаристов, а происходят и в реальной жизни. В 2019-ом мир облетела новость о семерых китайских пенсионерках, вскладчину купивших шикарный дом в пригороде Гуанчжоу. Женщины знакомы больше двадцати лет, стали ближе, чем сёстры, и всегда мечтали жить рядом. В трёхэтажном белом особняке у каждой есть своя большая спальня, внизу разместилось огромное общее пространство с кухней и гостиной, а на улице — бассейн.
Вот одна из возможных форм организации людей, которая в будущем может оказаться очень востребованной в связи с «разрыхлением» институтов семьи и брака. Хотя такая форма организации почти наверняка будет называться всё так же "семьёй".
Вынесение сексуальных отношений за пределы семьи открывает широкий горизонт возможностей: от формирования многочисленных, но кратковременных «моногамных» союзов, до полностью неупорядоченных сексуальных отношений с неограниченным числом интересующих людей. В нынешний век интернет-технологий расширение социальных связей становится очень простым делом, надо лишь приноровиться. При этом, как отмечают социологи и психологи, процесс образования пары так же существенно упрощается, а вместе с этим и жизнь пары становится более кратковременной. Возможность регулярного выбора дискредитирует саму необходимость выбора — в этом весь нюанс влияния соцсетей на моногамию и нуклеарную семью. Надо ли этого бояться? Бояться надо того, что старые часы не показывают нового времени. Девушке из глухой деревеньки XIX века сделать выбор на всю жизнь было очень просто. Девушке того же XIX века, но уже из Петербурга, предстоял выбор чуть сложнее. И совсем невозможным этот выбор делается в век Интернета и безграничных социальных связей. Выбор хорошей шубы принципиален в условиях дикой тайги, но если на каждом шагу тёплые магазины и кафе, то выбор этот перестаёт быть таким принципиальным. Говоря словами социологов, в современных реалиях "
у нас беспрецедентно большой выбор потенциальных романтических партнеров и инструментов для общения с ними" (Ансари, Клиненберг, 2016, с. 32).
Об этом же пишет и Андрей Курпатов: "
Теперь Вы в любой момент можете открыть социальную сеть или специальное мобильное приложение и с кем-нибудь сойтись, чтобы в очередной раз "попробовать образовать пару". Но если партнёра всегда можно поменять, то зачем терпеть какие-то придирки с его стороны? Зачем вообще вникать в какие-то нюансы, напрягаться? Очевидно, что брак уже в скором времени претерпит существенную трансформацию. Но готовы ли мы к новой форме партнёрства, основанной на рациональной выгоде и эмоциональной привязанности? Это большой вопрос. Новые, адекватные реалиям культурные нормы пока в обществе не сформированы, а наше внутреннее ощущение "добра и зла" всё ещё принадлежит прошлому. То есть очевидно, что мы должны по-новому строить свои отношения с партнёром, но пока мы даже не знаем, с какой стороны нам за это дело взяться" (Курпатов, 2018).
Всё именно так. В современных условиях человеку просто необходимо пересмотреть свои взгляды на сексуальность и эмоциональные связи, другого пути больше нет. Или же есть — но это путь стабильной депрессии и жизненных драм. Социологи, отмечая, что у современного человека беспрецедентная возможность выбора романтического партнёра, задаются вопросом: "почему же тогда так много несчастных людей?". И ответ именно этот: несмотря на всё свалившееся вдруг изобилие выбора, выбора регулярного, неостановимого, ценностные установки людей по-прежнему «заточены» под старый моногамный канон, согласно которому партнёр должен быть Один Единственный и Навсегда. И в условиях современного изобилия выбора этот канон не даёт людям покоя, потому они обречены на вечное переживание трагедий и ощущение жизненной пустоты. Им необходима смена ценностных ориентиров. Моногамный канон больше не работает. Как бы и кто бы этого ни хотел. Нынешнее изобилие выбора необратимо. А потому выход лишь один: отказаться от самой идеи какого бы то ни было выбора. Этого больше никогда не будет.
Исследователи отмечают, что если мы прекратим считать существенными только романтические или сексуальные отношения, если мы расширим наш эмоциональный круг от человека, "
с которым мы обмениваемся жидкостями, до круга друзей, знакомых и коллег, наши сообщества станут более сильными" (цит. по Шадрина, 2014, с. 114). И социальный запрос на подобного рода трансформации сейчас действительно силён как никогда. Чтобы понять это, достаточно вспомнить замечательный сериал «Друзья», просуществовавший на телевидении аж целых десять лет (с 1994-го по 2004-й) с самыми космическими рейтингами (неслыханные 8.90 по IMDb!). Жизнь шестерых друзей, живущих под одной крышей, приковывала к себе внимание миллионов людей по всей планете (финальный эпизод только в США посмотрели 51,1 млн зрителей) — не это ли знак того, что люди хотели бы жить немного не так, как им приходится, укладываясь в прокрустово ложе культурных норм?
Но чем закончился сериал? Да конечно же, всё той же пресловутой моногамной изоляцией: герои вступили в моногамные отношения, родили детей и в итоге разъехались из любимой квартиры кто куда. В опросе, проведённом среди аудитории крупнейших британских каналов, последняя сцена «Друзей» была признана самым волнующим и печальным моментом в истории телевидения. Но почему печальным? Всё верно, ответ понятен: то самое чувство из юности, когда вечеринка заканчивалась, хотя силы и желание ещё оставались.
Финал «Друзей» — яркое воплощение работы моногамной парадигмы. Вот если бы Фиби, Рэйчел и Моника родили от Джоуи, Чэндлера и Росса, то и разъезжаться бы не пришлось, в этом изюминка нашей действительности. Только так их дальнейшее сожительство стало бы более-менее понятным. Как взрослые люди, не состоящие в браке (друзья), могут жить вместе? Это неправильно, это инфантилизм. Этим термином клеймят всякое отступление от культурных норм. "Быть взрослым" значит делать, "как положено", быть послушным. Только «взрослые» редко улавливают это культурную манипуляцию в собственной биографии.
Кинематограф последних десятилетий активно отражает социальный запрос на альтернативы нуклеарной семье. "Мы — Миллеры" и банда Торетто в «Форсаже» — все эти ребята показывают иные возможности в организации собственной жизни. Ни брак, ни кровное родство не обязательны, чтобы быть вместе и создать семью. А вспомним "Трое мужчин и младенец" (1987) — как же здорово жили вместе три совершенно взрослых друга. Таких сюжетов полно, просто мало кто способен рассматривать такие сценарии как нечто реально возможное. Так "не принято".
Во времена войн распространённым явлением оказываются так называемые "сыны полка" — беспризорные дети, которых военнослужащие принимают в свои ряды и оберегают. Это ещё один пример отхода от строгих культурных регламентов в человеческих отношениях. Но неужто нам каждый раз необходима война, чтобы отходить от этих неудобных регламентов? Если люди нуждаются в нежности и заботе (и витиеватым путём находят их!), какие ещё регламенты? Зачем? Что может быть важнее, чем реализация потребности человека в любви и принятии? Неужто те самые "культурные нормы"? А это ведь именно они загнали современного человека в душную клетку нуклеарной семьи, из которой он хочет уже поскорее вырваться. Человек имеет право на любовь и ласку независимо от общественно-правовых регламентов, зафиксированных на безжизненной бумаге или же запечатанных в окостеневшей и умирающей традиции. В этом вся суть.
Заключение
Брак и семья — иррациональны. Поэтому антропология в целом потерпела неудачу в поисках каких-то их объяснений. Чтобы понять природу этих институтов, необходимо занять критическую к ним позицию, выйдя за пределы норм и ценностей собственной культуры. Мир, каким мы его представляем, в действительности совершенно иной. Наши представления о мире — это мир, перевёрнутый вверх ногами. Как было показано, моногамия — миф, идеологическая конструкция, обеспечивающая выгоды конкретной половине человечества. И «семья» — миф, за которым в реальности стоит что угодно, и благодаря чему, правда, у нас открывается возможность «формовать» её сугубо по нашему усмотрению.
Мужчина — ещё один миф и, пожалуй, самый главный, лежащий в основе всей это обширной мифологии и мифотворчества. Мужчина — благодаря случайности возникший элемент культуры, которому в действительности не было в ней места, но он изловчился так изменить саму культуру, что занял в ней главенствующее положение, выпихнув женщин на периферию.
"
Всё, что ты знаешь — ложь" заявил однажды радикальный поэт Илья Кормильцев, а "
все открытые двери ведут в тупик". Исходя из того, что нам теперь известно о таких базовых институтах человечества, как брак и семья, так оно и есть, и чтобы пазл сложился, надо лишь перевернуть нашу картину мира ровно вверх ногами. Даже те, кого у нас принято считать «взрослыми», в реальности оказываются несмышлёными детьми, некритично делающими всё, как им сказали. Именно поэтому самой культурой «взрослость» была маркирована ценностью, к которой нужно стремиться, а «детство» было ввергнуто в презрение, из которого надо поскорее выбраться, — потому что «взрослый» угоден этой древней идеологии, она ему рукоплещет, ведь он тот, кто всё послушно исполняет.
И вправду, чтобы понять этот мир, его надо перевернуть вверх ногами.
Когда делишься с людьми мыслью, что семью можно создать в любом варианте, а не обязательно "как принято", в их лицах видны восторг и растерянность одновременно: восторг — потому что идея захватывает, а растерянность — потому что всё так просто, но они никогда об этом даже не думали. Отсутствие инстинктов у человека с лихвой компенсируется перениманием культурных шаблонов и восприятием мира только через них. При этом за пределами шаблонов остаётся неувиденным миллион иных возможностей. Мы привыкли ходить по натоптанному, и это большая наша беда.
Немецкий философ XVIII века Георг Кристоф Лихтенберг говорил: "
Заурядный человек всегда приспособляется к господствующему мнению и господствующей моде, он считает современное состояние вещей единственно возможным и относится ко всему пассивно. Ему не приходит в голову, что всё — от формы мебели до тончайшей гипотезы — решается в великом совете человечества, членом которого он является. Он носит обувь с тонкими подошвами, хотя острые камни мостовой и режут ему ноги; пряжки у него сдвинуты к самым пальцам и поэтому часто за всё зацепляются. Он не думает о том, что форма обуви так же зависит от него, как и от того дурака, который первым начал носить тонкие подошвы на плохой мостовой. Великий же гений всегда задаёт вопрос: а может быть, это неправильно?.. Поблагодарим же этих людей за то, что они порой хоть однажды встряхивают то, что стремится осесть" (Лихтенберг, 1964, с. 84).
"
Наличие собственного взгляда — это очень серьёзное завоевание", говорит антрополог Светлана Адоньева. "
Потому что, на самом деле, мы смотрим на мир не своими глазами, в этом проблема. Мы смотрим теми глазами, которые нам «вставили» по мере нашего воспитания, образования и взращивания. Эти глаза вставлены, мы ими смотрим, мы ими оцениваем, мы дальше воспроизводим ту реальность, в которую нас поместили". Таким образом сложившаяся культура снабжает нас сильно ограниченным перечнем сценариев жизни. Причём с развитием технологий в XX веке культура эта потерпела сокрушительный удар, по сути, была разрушена. Старые нормы и культурные сценарии больше неактуальны и не работают. Их воспроизведение в новых условиях не даёт былых результатов. И чтобы возникли новые сценарии, надо создать новую культуру. "
Её нужно именно создать каким-то образом, её пока нет. Сейчас интересное время. Время для создания реальностей" (Адоньева, 2014).
"Теряя в кризисе мир, человеку надлежит, исходя из имеющихся у него предпосылок, вновь создать свой мир из первоначала… Он должен подойти к границе, чтобы ощутить свою трансцендентность" (Ясперс, 2008, с. 158).
Наша социальная реальность полностью нами же сконструирована, все эти "
нации, общества, идеологии, замкнутые системы — ничто из этого в реальности не существует. Действительность всегда невообразимо более беспорядочна, даже если вера в их существование основана на неоспоримой общественной силе" (Грэбер, 2014, с. 37). Даже современный человек, его эмоции и психология, в значительной степени был создан глобальными культурными сдвигами XIX века. Не зря философ заметил: "
человек — всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму" (Фуко, 1994, с. 36).
Мир существенно меняется каждое столетие или даже десятилетие, нам просто сложно это признать. Человеку страшно без опоры, без веры во что-то незыблемое, он не может существовать без ориентиров, а если ориентир был утверждён совсем недавно, и человек об этом знает, у него автоматически возникает право усомниться в его действенности. Потому в условиях современных глобальных перемен люди с таким усердием и держатся за «традиционные» роли мужчины и женщины, за «традиционный» институт семьи и брака — им просто страшно, и не даёт покоя мысль: а как тогда жить, если всё это условность? Для человека нет задачи сложнее, чем генерировать собственные смыслы. Куда проще заимствовать смыслы уже существующие, созданные совсем не им и до него, и жить по их канонам, веря в их «традиционность» и даже в «естественность». "Таков порядок вещей", любит сказать человек, лишь бы избавить себя от мук рождения собственных смыслов. И его ничто не страшит больше мысли, что в действительности никакого "порядка вещей" нет вообще, а это лишь наш способ описания хаотической реальности, которую так проще воспринимать. Как говорил философ, сам себя провозглашающий порядок является только прикрытием хаоса. Потому человек готов в припадке паники держаться за любой иллюзорный порядок, даже самый жестокий и несправедливый. Ему так спокойнее.
Чтобы прожить иную жизнь, отличную от жизни других, её придётся строить. Старые ориентиры больше не работают. Их надо создавать самим, своими руками.
В наше время стало много молодёжи с волосами самых невообразимых цветов — синие, зелёные, розовые, платиновые. Настоящая радуга вокруг. Это очень радостно видеть, ведь это говорит о свободе, всё больше проникающей в головы людей. Если задуматься, ещё в не такие далёкие советские времена человека, решившего окрасить волосы в некий необщепринятый цвет, мало того что осмеяли бы, так и непременно поместили бы в некоторую условную категорию типа «панк» или «хиппи». Да даже лет десять назад, если твои волосы были глубоко чёрными и на тебе была определённая одежда, то тебя автоматически относили к категории либо «гот», либо «эмо». Сейчас же такого нет. Сейчас красить волосы в любой цвет — это норма, а потому не придумывают никаких отдельных словарных категорий для людей с самым невообразимым цветом волос. Теперь это просто человек с синими волосами. Или с зелёными. Это наводит на мысль, что особые «отличительные» термины придумываются лишь тогда, когда требуется подчеркнуть их «ненормальность», необщепринятость. Когда какая-либо социальная характеристика получает широкое распространение, отдельное название для неё исчезает.
Отношение людей к браку во второй половине XX века сильно изменилось: если в 1957 году более половины американцев назвали неженатых или незамужних людей «больными», "аморальными" или «невротиками», и только треть опрошенных воспринимала таких людей нейтрально, то уже в 1976 г. выяснилось, что негативно к одиноким людям относится только треть американцев, а половина нейтрально. Каждый седьмой опрошенный даже поддерживал тех, кто не связан узами брака. "
В наши дни, когда одиноких взрослых людей стало больше, чем состоящих в браке, вопроса о том, одобряют американцы одинокий образ жизни или нет, вообще никто не задает", пишет социолог Эрик Кляйненберг (2014).
Суть в том, что образцов должно быть много, чтобы ни один не стал обязательным. Иначе будет калечащий диктат "нормы".
"
С появлением альтернативного символического универсума возникает угроза, так как одним своим существованием он наглядно демонстрирует, что наш собственный универсум не столь уж неизбежен; что можно жить в этом мире без института двоюродного родства; что можно отвергать и даже насмехаться над божествами двоюродного родства — и небеса не обрушатся на нас" (Бергер, Лукман, с. 177). Именно поэтому "
поведение девианта бросает вызов социальной реальности как таковой" (там же, с. 185). В знаменитых исследованиях Стэнли Милгрэма, где испытуемых вынуждали подвергать неповинных людей ударам тока, грозящих им даже смертью, 2/3 подчинялись требованиям руководителя и нажимали кнопку. Но если испытуемым доводилось увидеть, как кто-то из участников отказывался это делать, в 90 % случаев они следовали его примеру. Девиант создаёт новый образец, за которым другие могут последовать.
Ну а пока же всё пространство вокруг нас наполнено древней идеологией, ею пропитаны все поры нашей культуры, она тихо нашёптывает нам наши ценности и ориентирует поведение, чтобы древние схемы воспроизводились вновь и вновь. Неосознанно воплощая эти древние сценарии, люди обречены страдать и ломать голову над "несправедливостью мира". Чтобы изменить ситуацию, надо понять, что никакой неизбежности нет, и для собственной жизни можно создавать свои сценарии, потому что никаких «правильных» или «естественных» сценариев у человека нет.
Философы подчёркивали, что знание истинных причин нашей социальной реальности помогает преодолеть её, переделать, как нам угодно. "
Вот почему нет более мощного инструмента разрыва, чем реконструкция формирования: заново раскрывая конфликты и конфронтации, существовавшие в самом начале, и в то же время показывая упущенные возможности, такая реконструкция актуализирует существовавшую (или которая могла бы существовать) возможность другого пути и с помощью такой практической утопии ещё раз ставит под вопрос одну из тех многих возможностей, которая оказалась реализованной" (Бурдьё, 2007, с. 226). Понимание всей цепочки процессов, ведущих к нынешней ситуации, позволяет переделать её или же просто от неё отказаться. Или, как просто сказал Мишель Фуко, "
поскольку вещи эти были сделаны, они могут — если знать, как они были сделаны, — быть и переделаны" (Фуко, 1996, с. 441).
Важно помнить главное: наш социальный мир — башня из конструктора. И каждый из нас может быть не только её деталью, но и её инженером.
П. Ю. Соболев
6 августа 2020 г. (tyfoon@inbox.ru)
Список литературы
Абдуллабеков В. О. Представления о браке и брачности в Пизе начала XV в. // Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. — М.: Наука, 1993.
Абраменкова В. В. Социальная психология детства: Учебное пособие. — М.: ПЕР СЭ, 2008.
Абрамсон М. Л. К проблеме типологии южноитальянского города (XII–XIII вв.) // Средние века. М.: «Наука», 1988. Вып. 51.
Абрамсон М. Л. Семья в реальной жизни и в системе ценностных ориентаций в южноитальянском обществе X–XIII вв. // Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. — М.: Наука, 1993.
Абрамсон М. Л. Супруги, их родные и близкие в южноитальянском городе высокого средневековья (X–XIII вв.) // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996.
Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. — Ереван, изд-во АН Армянской ССР, 1983.
Абрамян Л. А. Мир мужчин и мир женщин: расхождение и встреча // Этнические стереотипы мужского и женского поведения: сборник статей. — СПб.: Наука, 1991, с. 109–132.
Адоньева С. Б. Дух народа и другие духи — СПб: Амфора, 2009.
Адоньева С. Б. Об обрядах перехода, высших потребностях и реальности, которую нужно создать // Лекционный курс Мифология повседневности / Сине Фантом, 2014, № 5 и № 7.
Адоньева С. Б. Семья: собственность и иерархия // Журнал Сеанс, № 66, 2018.
Адоньева С. Б. Российская наука о народе: от эволюционизма к феноменологии // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 4, с. 159–172.
Адоньева С. Б., Олсон-Остерман Л. Материнство: интимные практики женской иерархии / "Уведи меня, дорога": сборник статей памяти Т. А. Бернштам, 2010.
Адоньева С. Б., Олсон Л. Традиция, трансгрессия, компромисс: Миры русской деревенской женщины. — М.: Новое литературное обозрение, 2016.
Алаев Л. Б. Чем была "русская община" и что такое "русская общинность" // История и современность, № 2, сентябрь, 2014, с. 46–72.
Алаев Л. Б. Сельская община. "Роман, вставленный в историю". Критический анализ теорий общины, исторических свидетельств ее развития и роли в стратифицированном обществе. М.: ЛЕНАНД, 2016.
Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. — М. Высшая школа, 1990.
Алексеева Л. В. Полицикличность размножения у приматов и антропогенез. — М.: Наука, 1977.
Алексеева Л. В. Приматоведение и предыстория человеческого общества // Вопросы антропологии, 1978. Вып. 59.
Альбедиль М. Ф. Модель брачного поведения в южноиндийской мифологии // Этнические стереотипы мужского и женского поведения: сборник статей. — СПб.: Наука, 1991, с. 92–108.
Альбедиль М.Ф. "Ты держишь мир в простертой длани": символика руки // Теория моды, № 27, 2013. С. 155–172.
Амфитеатров А. О ревности // Женское нестроение. 3-е доп. изд. — Типография т-ва "Общественная Польза", 1908.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. — М.: Кучково поле, 2016.
Андреев И. Л. Тамтам сзывает посвященных. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.
Ансари А., Клиненберг Э. В активном поиске. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
Антропология и этнология / под ред. В.А.Тишкова. — М.: Университетская книга, 2018.
Арсеньев В. Р. Охотничий обряд и ранние формы театра: (на материале охотничьих союзов бамбара) // Пути развития театрального искусства Африки. М., 1981. с. 39–54.
Арсеньев В.Р. Звери = боги = люди. — М.: Политиздат, 1991a.
Арсеньев В.Р. О воспроизводстве стереотипов полоролевого поведения бамбара // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. — М.: Наука, 1991b, с. 29–39.
Арсеньев В.Р. Охотник бамбара как социальный лидер (методологические заметки) // Теория и методология архаики. Лидерство в архаике: условия и формы проявления — СПб.: МАЭ РАН, 2011, с. 50–61.
Артёмова О. Ю. Колено Исава. Охотники, собиратели, рыболовы. — М.: Смысл, 2009.
Артёмова О. Ю. Изобретение равенства: мини-симпозиум // Антропологический форум, 2019, № 43, с. 213–222.
Архипова А. С. Как убить шамана, или Зачем женщине штаны? // ВЕСТНИК РГГУ. Серия "Литературоведение. Языкознание. Культурология". 2016, (12):49–64.
Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.
Асоян Б.Р. Всё ещё удивительная Африка. — М.: Мысль, 1987.
Ахмадеева Е. В. Понимание одиночества как угрозы психологической безопасности семьи // VI-ая Международная научная конференция "Психологические проблемы современной семьи": сборник тезисов — Москва — Звенигород, 30 сентября — 4 октября 2015.
Бадентэр Э. Мужская сущность. — М.: АО Изд-во «Новости», 1995.
Байбурин А. К. Причитания: текст и контекст // Artes Populares, 14, 1985.
Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. — СПб.: Наука, 1993.
Бакли У. Австралийский робинзон. — М.: Наука, 1966.
Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.
Барышнева С. В. Взаимосвязь представлений о детском опыте и характеристик партнерских отношений у молодых взрослых. — СПБГУ, 2016.
Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. — М.: "Художественная литература", 1986.
Безруких М. и др. Дети с СДВГ: причины, диагностика, комплексная помощь / Под ред. М. М. Безруких. — М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2009.
Белков П.Л. Этнос и мифология. Элементарные структуры этногра фии. — СПб.: Наука, 2009.
Белова О. В. Сексуальные мотивы в древнерусских сказаниях о животных // Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей. Сост. А. Л. Топорков. — М.: Ладомир, 1996.
Белякова Е. В. Брак и развод в России XIX в. // История (еженедельное приложение к газете "Первое сентября"). 2001. № 15(16–22 апреля), с. 1–7.
Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Женщина в православии: церковное право и российская практика. — М.: Кучково поле, 2011.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — М.: Academia-Центр; Медиум, 1995.
Бергнер Д. Чего хотят женщины. Наука о природе женской сексуальности. — М.: Издательство «Э», 2015.
Бердяев Н. А. Размышления об Эросе // Русский Эрос или философия любви в России / сост. В. П. Шестаков. — М., Прогресс, 1991.
Бергсон Г. Смех в жизни и на сцене. (Пер. под ред. А. Е. Яновского). — СПб., 1900.
Берёзкин Ю.Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей: Истоки древней религии. — Л.: Лениздат, 1987.
Берёзкин Ю. Е. Южноамериканский миф о свержении власти женщин. (Условия формирования сюжета и его ареала) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. — СПб.: Наука, 1991.
Березкин Ю. Е. О структуре истории // Лидерство в архаике: условия и формы проявления, отв. ред. М. Ф. Альбедиль, Д. Г. Савинов. СПб: МАЭ РАН, 2011, с. 87–97.
Берёзкин Ю. Е. Африка, миграции, мифология. Ареалы распространения фольклорных мотивов в исторической перспективе. — СПб.: Наука, 2013.
Берёзкин Ю. Е. Между общиной и государством. Среднемасштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. — СПб.: МАЭ РАН, 2013b.
Берёзкин Ю. Е. Циркумтихоокеанское искусство в палеолите // Stratum plus: Археология и культурная антропология, № 1. — СПб, Кишинев, Одесса, Бухарест, 2015.
Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.
Бернстайн Р. Восток, Запад и секс. История опасных связей — М.: ACT: CORPUS, 2014.
Бернштам Т.А. Герой и его женщины: образы предков в мифологии восточных славян. — СПб.: МАЭ РАН, 2011.
"Беседа отца с сыном о женской злобе", XVII в. // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. — М., 1988. Кн. 1.
Бессмертный Ю. Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории Франции. М., 1991.
Бессмертный Ю. Л. Частная жизнь и индивид // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996.
Бёрн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения. — М.: Прайм-Еврознак, 2008.
Блонин В. А. История семьи (Обзор новых концепций) // Культура и общество в Средние века в зарубежных исследованиях (реферативный сборник) — М.: ИНИОН АН СССР, 1990.
Блонин В. А. Любовные связи и их литературное преломление во Франции XII века // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996.
Блох И. История проституции. — СПб. Аст-Пресс; Фирма Рид, 1994.
Богораз В. Г. Чукчи. Ч.1. — Ленинград: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР, 1934.
Богораз-Тан В. Г. Распространение культуры на Земле. Основы этногеографии — Ленинград: гос. издат. «Москва», 1928.
Бойцов М. А. Германская знать XIV–XV вв.: приватное и публичное, отцы и дети // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996.
Боринская С. Б., Янковский Н. А. Нити судьбы: люди и их гены. — Фрязино: "Век 2", 2005. С. 55.
Боуэн М. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: Основные понятия, методы и клиническая практика // Под ред. Бейкер К. и Варги А. Я. — М.: Когито-Центр, 2005.
Бочаров В. В. Женщина как ресурс мужской власти // Теория и методология архаики. Лидерство в архаике: условия и формы проявления. — СПб.: МАЭ РАН, 2011.
Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни — М.: АСТ, 2014.
Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. — М.: Идея-Пресс, 2001.
Бромлей Ю. В., Першиц А. И., Семёнов Ю. И. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. — М.: Наука, 1983.
Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и СССР. — М.: Прогресс, 1976.
Брыкова Т. Ю. Возможно ли счастливое супружество в эпоху сексуальной революции? // журнал "Социологические исследования", 2011, № 11, с. 145.
Бужилова А. П. Homo sapiens. История болезни. — М.: Языки славянской культуры, 2005.
Бурдьё П. Социология политики. — М.: Socio-Logos, 1993.
Бурдьё П. Практический смысл. — СПб.: Алетейя, 2001.
Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.
Бурдьё П. Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
Буровский А. М. Предки ариев. — М: Яуза, Эксмо, 2008.
Буровский А. М. Первая антропогенная перестройка биосферы // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера», 2010, т.2, № 1.
Бутинов Н. А. Народы Папуа Новой Гвинеи: (От племенного строя к независимому государству). — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000.
Бутовская М. Л. Половые различия в поведении приматов и проблема диалектики пола в человеческих обществах // Советская этнография, 1990, № 6.
Бутовская М. Л. Эволюция человека и его социальной структуры // Природа, 1998, № 9. С. 87–99.
Бутовская М. Л. Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. — М.: Век-2, 2004.
Бушнелл Дж. Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок: Спасовки в XVIII–XIX веках. — М.: Новое Литературное Обозрение, 2020.
Бьерре Й. Затерянный мир Калахари — М.: Мысль, 1964.
Бьерре Й. Встреча с каменным веком — М.: Мысль, 1967.
Бэйкер Р. Постельные войны. Неверность, сексуальные конфликты и эволюция отношений. — М.: Альпина нон-фикшн, 2013.
ван Гулик Р. Сексуальная жизнь в древнем Китае. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000.
Варга А. Я., Драбкина Т. С. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. СПб.: Речь, 2001.
Варга А. Я., Федорович Е. Ю. О психологической роли домашних питомцев в семье // Вестник Московского государственного областного ун-та, 2009, № 3, сс. 22–34.
Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае, 2-е изд. — М.: "Восточная литература" РАН, 2001.
Васильев Л. С. История Востока, Т.1 — М.: Юрайт, 2013.
Васильев С. А., Берёзкин Ю. Е., Козинцев А. Г. Сибирь и первые американцы, 2-е изд. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011.
Васильев С. А., Березкин Ю. Е., Козинцев А. Г., Пейрос, И. И., Слободин С. Б., Табарев А. В. Заселение человеком Нового Света: опыт комплексного исследования. — СПб.: Нестор-История, 2015.
Васильченко Г. С., Агаркова Т. Е., Агарков С. Т. и др. Сексопатология: Справочник / под ред. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 1990.
Веселова И. Повседневные и символические практики: правила метафорического переноса. Охотники и добыча // Коммуникативные конвенции и социальные сценарии. — С-Пб., 2014. С. 31–56.
Вейн П. История частной жизни. Том 1. От Римской империи до начала второго тысячелетия. 3-е издание. — М.: НЛО, 2017.
Вербер Б. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. — Изд-ва: Гелеос, Рипол Классик, 2007.
Верещака Е. А. Обмен женами в традиционной культуре чукчей // Алгебра родства. Родство. Системы родства. Системы терминов родства. — СПб.: МАЭ РАН, 2013. Вып. 14. С. 233–239.
Витакер К. А. Полночные размышления семейного терапевта. — М.: Класс, 1998.
Виткин Дж. Правда о женщинах. 14 мифов, сочиненных мужчинами. — СПб.: Питер Пресс, 1996.
Вишневский А. Г., Кон И. С. Брачность, рождаемость, семья за три века: Сб. статей / Под ред. А. Г. Вишневского и И. С. Кона, — М.: Статистика, 1979.
Власова О. В. Антипсихиатрия: социальная теория и социальная практика. — Москва; Высшая Школа Экономики, 2014.
Волкова Е. Н., Волкова И. В., Исаева О. М. Оценка распространенности насилия над детьми // Социальная психология и общество. 2016. Т.7. № 2. С. 19–34.
Воронов Н. И. Из путешествия по Дагестану // Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. — Ставрополь: изд-во СГУ, 2011, Т. 2.
"Вся история наполнена детством": наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства: [Сб. статей] / Сост. В. Г. Безрогов, М. В. Тендрякова: В 4 ч. Ч. 1. М.: РГГУ, 2012. 472 с.
Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений: в 6 т. Том 3: Проблемы развития психики. — М.: Педагогика, 1983.
Габдрахманов П. Ш. Брачная политика сеньоров и брачное поведение сервов в средневековой Франции // Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. — М.: Наука, 1993.
Габдрахманов П. Ш. Средневековые крестьяне и их семьи: демографическое исследование французской деревни VIII–XI вв. (по данным грамот). — М.: "Памятники исторической мысли", 1996.
Гапова Е. Гендерная проблематика в антропологии // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие/ Под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001.
Геннеп А., ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов — М: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1999.
Герберштейн С. Записки о Московии: В 2 т. — М.: Памятники исторической мысли, 2008, Том I.
Герхардт С. Как любовь формирует мозг
ребёнка. — М.: Этерна, 2012.
Гибсон Т., Симмонс Дж. Мужчины как они есть. — Изд-во «ОДРИ», 2018.
Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал УРСС, 1999.
Гидденс Э. Социология. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. — М.: Эдиториал УРСС, 2005.
Гижицкий К. Письма с Соломоновых островов. — М.: Наука, 1974.
Гилберт Э. Законный брак. — М.: Рипол Классик, 2010.
Гилмор Д. Загадка мужественности // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001.
Гилмор Д. Становление мужественности: Культурные концепты маскулинности. — М.: Росспэн, 2005.
Гис Ф., Гис Дж. Брак и семья в Средние века / Пер. с англ. — М.: РОССПЭН, 2002.
Гласснер Ж. Месопотамия. — М.: Вече, 2012.
Головнёв А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). — Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009.
Готтман Дж. Женщина. Руководство для мужчин — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
Грэбер Д. Фрагменты Анархистской Антропологии — М.: Радикальная Теория и Практика, 2014.
Грэбер Д., Уэнгроу Д. Как изменить ход истории человечества // СТАДИС. 1(1). 2019. С. 18–36.
Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. — М.: Мир, 1992.
Гулик З. Н. Жестокое отношение к детям в эпоху Средневековья // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 350.
Гура А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. — М.: Индрик, 2012.
Гуревич А. Я. Хёрлихи Д. Средневековые дети // Культура и общество в Средние века: методология и методика зарубежных исследований: реферативный сборник. — М. 1982.
Гуревич А. Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.
Гуревич А. Я., Бессмертный Ю. Л. Некоторые проблемы изучения общественного сознания Средневековья в современной зарубежной медиевистике. (Предисловие) // Культура и общество в Средние века: методология и методика зарубежных исследований: реферативный сборник. — М. 1982.
Гурко Т. А. Благополучие мужчин и женщин различного брачного статуса: Россия в международном контексте // Социологический журнал. 2018. Том 24. № 1. С. 73–94.
Гурьева и др. Социальные факторы и психические расстройства у детей и подростков // Руководство по социальной психиатрии / Под ред. Т. Б. Дмитриевой, Б. С. Положего. — 2-е изд. — М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2009.
Давлетова А. Д. Развитие личности в этнически разных семьях // Психология семейных отношений: монография. — М.: Флинта: Наука, 2015, с. 133.
Давлетова А. Д., Шабельников В. К. Ориентировка личности в психологическом пространстве родительской семьи (на материале исследования казахской семьи) // Психология семейных отношений: монография. — М.: Флинта: Наука, 2015.
Давыдова Е. А. Властные отношения в семейно-родственных коллективах олениых чукчей (по материалам XIX — первой половины XX в.). — СПб, 2015.
Даймонд Дж. Почему нам так нравится секс. Эволюция человеческой сексуальности. — М.: АСТ, 2013.
Данбар Р. Наука любви и измены. — М.: Синдбад, 2016.
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). — М.: Аспект-Пресс, 1998.
Дворкин А. Гиноцид, или китайское бинтование ног // Антология гендерной теории. Сост. Гапова Е. И., Усманова А. Р. — Минск: Пропилеи, 2000, с. 12–28.
де Вааль Ф. Истоки морали: в поисках человеческого у приматов — М.: Альпина нон-фикшн, 2014.
де Вааль Ф. Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов — Издательский дом ВШЭ, 2019.
Демоз Л. Психоистория. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.
Дерягин Г. Б. Инцест как вариант сексуального насилия // Сексология и сексопатология, 2005, № 1, с. 38–42.
Джей М. Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом; 6-е изд. — М.: МИФ, 2019.
Джонсон С. Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.
Дмитриева М. С. Социальная поддержка и ее взаимосвязь с профессиональным выгоранием (на примере психологов-практиков): магистерская диссертация — М., 2019.
Дмитриева Т. Б., Воложин А. И. Социальный стресс и психическое здоровье — М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.
Дмитриева Т. Б., Положий Б. С. Социальная психиатрия // Психиатрия: национальное руководство / под редакцией Т. Б. Дмитриевой — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
Добровольская М. В. Человек и его пища. Пищевые специализации и проблемы антропогенеза. — М: Научный Мир, 2005.
Добровольская М. В. Эволюция питания Homo (основные направления исследований) // Антропология, 2009, № 4, с. 57–63.
Дольто Ф. Разговор с Филиппом Арьесом // "Вся история наполнена детством". Наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства. — М.: РГГУ, 2012. С. 20–25.
Дробышевский С. Достающее звено. Книга вторая. Люди — М.: АСТ, 2017.
Дроздова М. А. "Злая жена" в древнерусской словесности // Русская речь, 2016, № 4, с. 67–74.
Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу — М.: «КАНОН-пресс-Ц», "Кучково поле", 2000.
Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщин во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. 1990. — М.: Наука, 1990.
Дюби Ж. Европа в средние века. — Полиграмма, 1994.
Ершова Г. Г. Система родства майя. Опыт реконструкции. — М.: Космополис, 1997.
Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира. — М.: Издательство ББИ, 2016.
Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. — М.: Наука, 1977.
Забелин И. Е. Женщина по понятиям старинных книжников // "А се грехи злые, смертные…": Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала XX века. В 3 кн. Кн. 1. — М.: Ладомир, 2004.
Зайцева О. В., Малахова Ю. А., Борзилова Н. С. Особенности переживания одиночества подростками из полных и неполных семей // Молодой ученый. — 2017. — № 3, с. 413–415.
Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. 12 лекций по гендерной социологии. — СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.
Зидер Р. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении «социального» // THESIS, 1993, вып. 1, с. 163–178.
Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVII–XX вв.) — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.
Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря идентичности. — М.: Альпина Паблишер, 2017.
Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии. — М.: Речь, 2006.
Зойя Л. Отец: Исторический, психологический и культурологический анализ. — М.: Класс, 2017.
Зотова Р. А., Цветкова Н. А., Цветков А. В. Социальная психосоматика: как общество управляет нашим телом. — М.: Издательство "Спорт и Культура — 2000", 2018.
Зубец О. П. Дискуссия о даре: о возможности аристократического в морали // Этическая мысль, 2008, № 8, с. 128–154.
Иванов Вяч. Об одном типе архаичных знаков искусства и пиктографии // Ранние формы искусства. — М., 1972.
Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.: Наука, 1974.
Игебаева Ф. А. Образ жизни городской семьи и факторы её дестабилизации // Социально-политические науки, 2013, № 1, с. 140–142.
Игебаева Ф. А. Влияние состояния брачно-семейных отношений на демографическое развитие города // Молодой ученый. — 2017. — № 3. — С. 516–519.
Иорданский В.Б. Хаос и гармония. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1982.
Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.
Исаев Д. Сексуальная привлекательность глазами мужчины и женщины. — СПб.: "Продолжение Жизни", 2003.
Кабакова Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. — М.: Ладомир, 2001.
Кабо В. Первобытная доземледельческая община — Москва: Наука, 1986.
Казанков А.А. Агрессия в архаических обществах (на примере охотников-собирателей полупустынь) — М.: Институт Африки РАН, 2002.
Казанков А. А. Тысячеликая мать. Этюды о матрилинейности и женских образах в мифологии. — СПб.: Нестор-История, 2017.
Калинина И.В. Отношение к мужской и женской вещи в традиционных обществах // Мужская и женская субкультуры в архаике: мифологемы, системы обозначения, функции. — СПб.: МАЭ РАН, 2019, с. 55–65.
Каннингем Х. Истории детства: Обзорное историографическое эссе // "Вся история наполнена детством": наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства: [Сб. статей] / Сост. В. Г. Безрогов, М. В. Тендрякова: В 4 ч. Ч. 1. М.: РГГУ, 2012.
Карлин Е. А. Полиамория как форма отношений. Размышления в контексте психотерапии // Журнал Практической Психологии и Психоанализа, 2017, № 2.
Карни Б. Р., Бредбури Т. Н. Лонгитюдные изменения качества и стабильности брака: обзор теорий, методов и исследований // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 1, с. 21–99.
Кассал Б. Ю. Практика загонных групповых охот на берегах сибирских рек в плейстоцене // Омский научный вестник. Серия "Общество. История. Современность", 2016, № 1, с. 38–48.
Кащенко Е. Основы социокультурной сексологии. Изд. 2-е, испр. и доп. — М: ЛИБРОКОМ, 2011.
Келли Г. Основы современной сексологии. — СПб: «Питер», 2000.
Кил К. Психопаты. Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести, без раскаяния. — М.: Центрполиграф, 2015.
Киммел М. Гендерное общество — М.: Российская политическая энциклопедия, 2006.
Классен А. Филипп Арьес и его последователи. История детства, семейные отношения и эмоциональная жизнь. Где мы находимся сегодня? // "Вся история наполнена детством": наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства, ч. 1 — М.: РГГУ, 2012.
Кластр П. Общество против государства // СТАДИС. 1(1). 2019, с. 38–54.
Клейн Л. С. История антропологических учений / под ред. Л. Б. Вишняцкого. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014.
Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в 2-х книгах. Книга 1. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
Кляйненберг Э. Жизнь соло. Новая социальная реальность. — Изд-во: Альпина нон-фикшн, 2014.
Козлов В. В., Шухова Н. А. Гендерная психология. — СПб.: Речь, 2010.
Коллинз Р. Социологическая интуиция: Введение в неочевидную социологию // Личностно-ориентированная социология. — М.: Академический проект, 2004.
Комарова Г. А. Нет «женских» проблем без «мужских» // Советская этнография, 1990, № 6.
Кон И. Маргарет Мид и этнография детства // Культура и мир детства. — Москва: Наука, 1988, с. 414.
Кон И. Введение в сексологию. — М.: Медицина, 1989.
Кон И. Сексология. — М.: Издательский центр «Академия», 2004.
Кон И. Дружба. 4-е изд., доп. — СПб.: Питер, 2005a.
Кон И. Отцовство как социокультурный институт // Педагогика: научно-теоретический журнал, 2005b, № 9, с. 3–16.
Кон И. Новое о мастурбации // Андрология и генитальная хирургия, 2006а, № 1, с. 15–22.
Кон И. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006b.
Кон И. Мужчина в меняющемся мире. — М.: Время, 2009а.
Кон И. Мальчик — отец мужчины. — М.: Время, 2009b.
Кон И. Клубничка на берёзке: Сексуальная культура в России. — М.: Время, 2010.
Кон И. Телесные наказания детей в России: прошлое и настоящее // Историческая психология и социология истории 1, 2011, с. 74–101.
Коротаев А. В. Социальная эволюция: Факторы, закономерности, тенденции. — М.: Восточная литература РАН, 2003.
Косвен М. О. Авункулат // Советская этнография, 1948, № 1, с. 3–46.
Косвен М. О. Семейная община и патронимия. — М.: Изд-во АН СССР, 1963.
Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // Исторические монографии и исследования. Т. 19. — СПб., 1887.
Кохут Х. Восстановление самости. — М.: Когито-Центр, 2002.
Крадин Н. Н. Политическая антропология: учебник, 2-е изд. — М.: Логос, 2004.
Крадин H. H. Половое неравенство // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии: В 2 т./ Сост. и отв. ред. В. В.Бочаров. Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе. — СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2006.
Крецер И. Ю. В поисках родства: к постановке проблемы изучения родственных отношений в современных западных исследованииях // Журнал социологии и социальной антропологии, (2016). № 1. с. 166–180.
Крих С. Б. Образ древности в советской историографии. — М: Красанд, 2013.
Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В., Куфтяк Е. В. Психология семьи: жизненные трудности и совладание с ними. — СПб., Речь, 2005.
Ксенофонтова Н.А. Единство и противоборство мужского и женского в традиционных культурах африканских народов // Мужчина и женщина. Книга 1. Диалог или соперничество? М.: Институт Африки РАН, 2004.
Кузнецова В.П. Причитания в северно-русском свадебном обряде. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1993.
Кузнецова Т. Г., Сыренский В. И., Гусакова Н. С. Шимпанзе: онтогенетическое и интеллектуальное развитие в условиях лабораторного содержания. — СПб: Политехника, 2006.
Кузьменко Г. Н. Василиса Премудрая. Сказочные проекции архаичного образования. — М.: Инфра-М, 2014.
Кулик С. Бушмены: мифы и реальность // Азия и Африка сегодня, 1996, № 3, сс. 42–56.
Курпатов А. 3 главных вопроса. Семейное счастье. — Изд-во: Олма Медиа Групп / Просвещение, 2013.
Курпатов А. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. — Изд-во «Капитал», 2018.
Куфлина Е. Д., Рощина Я. М. Дифференциация социального капитала россиян и ее факторы // Вестник Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, № 8. М.: НИУ ВШЭ, 2018.
Лаврененко М. Л. «Братоучадо» Русской правды и роль брата матери в домонгольской Руси // Древнейшие государства Восточной Европы. 2016 год: Памяти Г. В. Глазыриной. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2018.
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. — М.: Языки славянской культуры, 2004.
Лапин В.А. Групповая свадебная причеть: вид, жанр или жанровая разновидность? // От конгресса к конгрессу. Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов: Сб. докладов. Т. 1. — М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010, с. 277–282.
Лебедев В.И. Психология и психопатология одиночества и групповой изоляции. — М.: Юнити-Дана, 2002.
Левинтон Г.А. Мужской и женский текст в свадебном обряде (свадьба как диалог) // Этнические стереотипы мужского и женского поведения: сборник статей. — СПб.: Наука, 1991, с. 210–234.
Леви-Строс К. Структурная антропология. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
Леви-Строс К. Узнавать других. Антропология и проблемы современности. — М.: Текст, 2016.
Ледюк К. Брак в Древней Греции // История женщин на Западе: в 5 т. Т. I: От древних богинь до христианских святых. — СПб.: Алетейя, 2005.
Лем С. Культура как ошибка // Библиотека XXI века. — М.: АСТ, 2002.
Лихтенберг Георг Кристоф. Афоризмы. — М.: Наука, 1964.
Локвуд Д. Я — абориген. — М.: Наука, 1971.
Лоро Н. Что есть богиня? // История женщин на Западе: в 5 т. Т. I: От древних богинь до христианских святых — СПб.: Алетейя, 2005.
Лудмер Я. Бабьи стоны (Из заметок мирового судьи) // Юридический вестник. 1884, [т. 17], № 11, ноябрь. — Типография А. И. Мамонтова и К, 1884, с. 446–468.
Макридин В. П., Верещагин Н. К., Тарянников В. И. и др. Крупные хищники и копытные звери. — М.: "Лесная пром-сть", 1978.
Малиновский Б. Секс и вытеснение в обществе дикарей. — М.: Изд. дом Гос. ун-та ВШЭ, 2011.
Малявин В. В. Повседневная жизнь в Китае эпохи Мин. — М.: Молодая гвардия, 2008.
Манко Дж. Как заселялась Европа. От первых людей до викингов. — М.: Издательский дом ЯСК, 2019.
Маньянти Б. Секс-мифы. Почему всё, что мы знаем — неправда. — М.: Эксмо, 2014.
Маретина С.А. Андаманцы. К проблеме доземледельческих обществ. — СПб: "Наука"; Кунсткамера, 1995.
Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Кн. 1. Обезьяны, кости и гены. — М.: Астрель: CORPUS, 2011.
Маркс К. К критике политической экономии // К. Маркс и Ф. Энгельс: сочинения, изд. 2, Т. 13. — М.: изд-во политической литературы, 1959, с. 7.
Маркс К. Конспект книги Льюиса Г. Моргана "Древнее общество" // Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 45. — М.: изд-во политической литературы, 1974, с. 227–372.
Мартин Р. Как мы делаем это. Эволюция и будущее репродуктивного поведения человека. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
Маршалл А. Мы такие же люди // Алан Маршалл. Избранное. — М.: Правда, 1989.
Маслов Б. "Жилище тишины преобратилось в ад": о судьбе старорежимных понятий в Новое время // Понятия, идеи, конструкции: очерки сравнительной исторической семантики. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. — М.: Мир, 1998.
Мачинская Р. И., Сугробова Г. Е., Семёнова О. А. Междисциплинарный подход к анализу мозговых механизмов трудностей обучения у детей. Опыт исследования детей с признаками СДВГ // Журнал Высшей Нервной деятельности, 2013, Т. 63, № 5, с. 542–564
Медина Дж. Правила развития мозга вашего ребенка. Что нужно малышу от 0 до 5 лет, чтобы он вырос умным и счастливым. — М.: Эксмо, 2013.
Медникова М.Б. Биоархеология детства в контексте раннеземледельческих культур Балкан, Кавказа и Ближнего Востока — М.: Club Print, 2017.
Мейе А. Как слова меняют значение // Понятия, идеи, конструкции: Очерки сравнительной исторической семантики / Калугин Д. Я., Маслов Б. П. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
Мид М. Культура и мир детства. — Москва: Наука, 1988.
Мид М. Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющемся мире. — М.: РОССПЭН, 2004.
Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия на берег Маклая. — М.: Эксмо, 2010.
Миллер А. В начале было воспитание. — М.: Академический проект, 2003.
Мифы и сказки бушменов. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1983.
Михайлов А. Д. "Пятнадцать радостей брака" // "Пятнадцать радостей брака" и другие сочинения французских авторов XIV–XV веков / Сост. Бессмертный Ю. Л. — М.: Наука, 1991.
Моление Даниила Заточника: пер. с древнерус. // Древнерусские повести — Пермь, 1991.
Моррис И. Собиратели, земледельцы и ископаемое топливо. Как изменяются человеческие ценности — М.: Изд-во института Гайдара, 2017.
Моуэт Ф. Следы на снегу — М.: Мысль, 1985.
Мур Э., Эткинд А. Утомлённые солнцем, унесённые ветром: суррогатное материнство в двух культурах // Семейные узы: модели для сборки. Кн. 2 — М.: НЛО, 2004, с. 32–59.
Муравьёва М. Повседневные практики насилия: супружеское насилие в русских семьях XVIII в. // Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI–XXI вв.): коллективная монография. — СПб.: Изд-во Европейского универс-та, 2012.
Наговицын А. Е. Использование принципов родо-семейных отношений для воздействия на личность в различных религиозных сектах // Психология семейных отношений: монография. — М.: Флинта: Наука, 2015.
Нагоски Э. Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
Найденова Л. П. «Свои» и «чужие» в Домострое: внутрисемейные отношения в Москве XVI века // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996. С. 290–305.
Неволин К. А.История российских гражданских законов. Ч. 1. М., 2005 (переизд. с изд. 1857 г.).
Нечаева А. М. Семейное право. Курс лекций. — М.: Юристъ, 1998.
Никифоров А. И. Эротика (глава) // Русский эротический фольклор. — М.: Ладомир, 1995.
Никифоров А. И. Эротика в великорусской народной сказке // Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей. Сост. А. Л. Топорков. — М.: Ладомир, 1996.
Николаева Е. И. Психология семьи: учебник для вузов (Стандарт третьего поколения) — Издательство: «Питер», 2017.
Носырев И. Н. Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов. — М.: Форум; Неолит, 2013.
Нохуров А. Нарушения сексуального поведения. — М.: Медицина, 1988.
Ньюфелд Г., Матэ Г. Не упускайте своих детей. — Изд-во: Ресурс, 2018.
Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. — М.: Юрайт, 2013.
Ольдерогге Д. А. Эпигамия. Избранные статьи. — М.: Наука, 1983.
Опитц К. Женщина в зеркале позднесредневековой агиографии // Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. — М.: Наука, 1993.
Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследование по истории морали. — М.: Прогресс, 1987.
Павлов А. А. Брак: любовь или добродетель (античные этюды) // Гендер и общество в истории / Под ред. Л. П. Репиной. Спб.: Алетейя, 2007. С. 7–27.
Панов Е. Человек — созидатель и разрушитель: Эволюция поведения и социальной организации. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2017.
Патнем Э. Восемь лет среди пигмеев. — М.: Издательство восточной литературы, 1961.
Пацлаф Р. Застывший взгляд: Физиологическое воздействие телевидения на развитие детей. — М.: evidentis, 2011.
Паштова М.М. Черкесский гостиный дом: опыт исследования универсальных и локальных культурно-исторических форм // Вестник КБИГИ, № 4 (23). — Нальчик, 2014, с. 26–41.
Пейн Дж., Пруденте С. Орангутаны Загадочные жители джунглей — Издательство «Контэнт», 2009.
Пенской В. В. Община: теория и реальность. Размышления над книгой Л. Б. Алаева «Сельская община. "Роман, вставленный в историю"…» (М., 2016) и дискуссией вокруг нее на страницах журнала «Средние века» // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. — Т. 4, № 1, 2018, с. 35–46.
Перель Э. Размножение в неволе. Как приручить эротику и быт? — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
Перель Э. Право на «лево». Почему люди изменяют и можно ли избежать измен. — изд-во: Эксмо, 2018.
Перри Б., Салавиц М. Мальчик, которого растили как собаку. И другие истории из блокнота детского психиатра. — М.: АСТ, 2015.
Перри Дж. Другое и более подробное повествование о России // Чтения Императорского общества истории и древностей российских, 1871, № 2.
Плампер Я. Введение 1. Эмоции в русской истории // Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций. Сб. статей. — М.: НЛО, 2010.
"Повесть о семи мудрецах" // ПЛДР. XVII век. Кн. 1. — М., 1988.
Поливанова К. Н., Сазонова Е. В., Шакарова М. А. Что могут рассказать о современных детях их чтение и игры // Вопросы образования, 2013, № 4, с. 283–299.
Поливанова К. Н., Бочавер А. А., Нисская А. К. Взросление пятиклассников: 1960-е vs 2010-е // Вопросы образования, 2017, № 2, с. 185–205.
Почагина О. В. Семья: новые формы — иные ценности // Отечественные записки, 2008.-№ 3 С. 234–246.
Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. — М.: Искусство, 1976.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки // Собрание трудов. — М.: Лабиринт, 1998.
Пучков П. В. К спору о плейстоценовом кризисе и "дикарях"-звероборцах // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера», 2010, т.2, № 3.
Пушкарёва Н. Л. Мать и материнство на Руси (X–XVII вв.) // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996а.
Пушкарёва Н. Л. Сексуальная этика в частной жизни древних русов и московитов (X–XVII вв.) // Секс и эротика в русской традиционной культуре: Сб. статей. — М.: Ладомир, 1996b.
Пушкарёва Н. Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница. — М.: Ломоносовъ, 2011.
Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. / Том 7: Критика и публицистика. — Л.: Наука, 1978.
"Пятнадцать радостей брака" и другие сочинения французских авторов XIV–XV веков / Сост. Бессмертный Ю. Л. — М.: Наука, 1991.
Райан К., Жета К. Секс на заре цивилизации: эволюция человеческой сексуальности: с доисторических времён до наших дней. — Москва.: Ориенталия, 2018.
Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей / под ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадина, А. В. Ко-ротаева. — Волгоград: Учитель, 2006.
Рассел Б. Брак и мораль. — М.: Крафт+, 2004.
Рафси Д. Луна и радуга — М.: Наука, 1978.
Реан А. А. Семья в структуре ценностей молодежи // Российский психологический журнал. 2017. Т. 14. № 1, с. 62–76.
Репина Л. П. Выделение сферы частной жизни как историографическая и методологическая проблема // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени. — М.: РГГУ, 1996.
Рид Дж., Мошер Л. Р., Бентал Р. П. Модели безумия: психологические, социальные и биологические подходы к пониманию шизофрении. 2008.
Ридли М. Происхождение альтруизма и добродетели: от инстинктов к сотрудничеству. — М.: Эксмо, 2013.
Робертс Э. Невероятная случайность бытия. Эволюция и рождение человека. — Азбука-Аттикус, 2014.
Романов Б. Люди и нравы Древней Руси. — М.: Ломоносовъ, 2013.
Ронин В. К. Восприятие детства в каролингское время // Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. — М.: Наука, 1993.
Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии. — М.: Аспект Пресс, 1999.
Росс Э. Кельты-язычники. Быт, религия, культура. — М.: Центрполиграф, 2005.
Роуч М. Секс для науки. Наука для секса. 6-е изд. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Рубин Г. Обмен женщинами. Заметки о "политической экономии" пола // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е.Здравомысловой, А. Тёмкиной. — СПб.: издательство "Дмитрий Буланин", 2000.
Рубин Г. Размышляя о сексе: заметки о радикальной теории сексуальных политик // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001.
Рулан Н. Юридическая антропология. — М.: Издательство НОРМА, 2000.
Руш М. Раннее западноевропейское Средневековье // История частной жизни. Том 1. От Римской империи до начала второго тысячелетия. 3-е издание. — М.: НЛО, 2017.
Рябова Т. Б. Женщина в истории западноевропейского Средневековья. — Иваново: изд-во «Юнона», 1999.
Салливан Г. С. Интерперсональная теория в психиатрии. — СПб.: «Ювента». М.: "КСП+", 1999.
Сваре Х. Философия дружбы. — М.: Прогресс-Традиция, 2010.
Свенцицкая И. С. Греческая женщина античной эпохи: путь к независимости // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996.
Семенович А. В. В лабиринтах развивающегося мозга. Шифры и коды нейропсихологии. — М.: Генезис, 2010.
Семёнов Ю. И. Как возникло человечество. — Изд. 2-е, с нов. предисл. и прилож. — М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2002.
Семёнов Ю. И. Социальная организация отношений между полами: Возникновение и развитие // Социальная философия. Курс лекций. Учебник. — Под ред. И. А.Гобозова. — М.: Издатель Савин С. А., 2003.
Семьецентризм: миф или реальность? Коллективная монография / Антонов А. И., Жаворонков А. В., Синельников А. Б., Новоселова Е. Н. и др. Гл. ред. Антонов А. И. — М.: МАКС Пресс, 2016.
Сидоров А. И. В ожидании Апокалипсиса. Франкское общество в эпоху Каролингов, VIII–X века. — СПб.: Наука, 2018.
Скиннер Р., Клииз Дж. Семья и как в ней уцелеть. — М.: Класс, 1994.
Скотт Джоан. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. И. А. Жеребкиной — Харьков: ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001.
Слюсарев Н. С., Горбачева И. Г., Цветков А. В. Психология глупости: очерки НЕкритического мышления. — М.: изд-во "Спорт и Культура-2000", 2017.
Смирнова Я. С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа: Вторая половина XIX–XX вв. М.: Наука, 1983.
Смолл М. Причём здесь любовь? Эволюция взаимоотношений полов. — М.: СветЛо, 2015.
Смолл М. Мы и наши малыши. Какими родителями делают нас природа и культура. — М.: СветЛо, 2016.
Соболев П. Ю. Адекватное познание реальности, или Как заставить облей думать? — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018.
Соболев П. Ю. Мифы об инстинктах человека. — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2020.
Стивенс-Давидовиц С. Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас всё. — Москва: Эксмо, 2018.
Сухович Е. В. Символ, симулякр и виртуальная реальность как категории культуры (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук). — Волгоград, 2013.
Счастный Е. Д., Горбацевич Ю. Н. Тревожно-депрессивные расстройства у учащихся в системе начального профессионального образования [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. — 2012. — N 3 (14) (Дата обращения: 05.01.2019 г.).
Такман Б. Загадка XIV века. — М.: АСТ, 2013.
Тартаковская И. Н. Гендерная социология. — М.: ООО «Вариант»: ООО "Невский Простор", 2005.
Тартаковская И. Н. Смертельная ноша маскулинности // Демоскоп Weekly, 2010, № 425–426.
Темкин 3., Эрман В. Мифы древней Индии. Изд. 2-е, перераб. и дололн. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1982.
Титова Л. В. "Беседа отца с сыном о женской злобе" // Исследование и публикация текстов. — Новосибирск: изд-во «Наука», 1987.
Тих Н. А. Предыстория общества. — Ленинград: изд-во ЛГУ имени А. А. Жданова, 1970.
Толстой В. Понятие семьи в советском праве //Советская юстиция, 1969, № 19, с. 5
Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки 1895–1899 / Л. Н. Толстой // Полное собрание сочинений: в 90 т. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1953. Т. 53.
Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс / Пер. с англ. — М.: ООО «Фирма», "Издательство ACT"; Львов: «Инициатива», 1998.
Трубачёв О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М.: Изд-во АН СССР, 1959.
Турский Гр. История франков — М.: Наука, 1987.
Тушина Е. А. «Хроника» Бонаккорсо Питти как источник по демографической истории итальянского города начала XV в. // Женщина, брак, семья до начала Нового времени: Демографические и социокультурные аспекты. — М.: Наука, 1993.
Тюгашев Е.А. Семьеведение: Учебное пособие. — Новосибирск: СибУПК. 2006.
Уваров П. Ю. Представления о детях и детстве в Средние века // Культура и общество в Средние века: методология и методика зарубежных исследований: реферативный сборник. — М. 1982.
Уваров П. Ю. Старость и немощность в сознании француза XVI века: сцены из нотариальной практики времени Генриха II // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. — М.: РГГУ, 1996.
Улыбина Е. В. Обыденное сознание в картине мира личности: психосемантический подход. (дис. д-ра психол. наук). — М.: Российская государственная библиотека, 2003.
Уотсон Дж. Психологический уход за ребенком: пер. с англ. Изд. 2-е. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
Ушакин С. А. Поле пола. — Вильнюс: ЕГУ — Москва: ООО «Вариант», 2007.
Файн К. Тестостерон Рекс. Мифы и правда о гендерном сознании. — М.: Фантом пресс, 2017.
Файнберг Л. А. О некоторых предпосылках возникновения социальной организации // Советская Этнография. 1974. № 5.
Файнберг Л. А. У истоков социогенеза: от стада обезьян к общине древних людей. — М.: Наука. 1980.
Файнберг Л. А., Бутовская М. Л. У истоков человеческого общества (Поведенческие аспекты эволюции человека) — М.: Наука. 1993.
Федорович Е. Ю., Емельянова С. А. Функции животных-домашних питомцев в поддержании гомеостаза семейной системы в зависимости от этапа жизненного цикла семьи // Семейная психология и семейная терапия, 2014, № 3, с. 88–108.
Фёдорова Е.Г. Женское пространство в традиционной культуре северных манси // Мужская и женская субкультуры в архаике: мифологемы, системы обозначения, функции. — СПб.: МАЭ РАН, 2019, с. 151–163.
Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? — М.: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
Фоссье Р. Люди средневековья. — СПб.: Евразия, 2010.
Фреге Г. Псевдоимена // Семиотика и информатика. 8 выпуск. Сб. под ред. Михайлова А. И., — М: ВИНИТИ, 1977, с. 352–379.
Фрейд З. Тотем и табу. — М.: Азбука-классика, 2005.
Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян. — СПб., 1996.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии: В 2 т. Т. 2: — М.: Терра-Книжный клуб, 2001.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб., A-cad, 1994.
Фуко М. Воля к истине: По ту сторону власти и сексуальности. Работы разных лет — М., Магистериум, Касталь, 1996.
Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе. — Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. — М.: Республика, 1993.
Хаген В. Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки — М.: Центрполиграф, 2010.
Харари Ю. Н. Sapiens. Краткая история человечества. — М.: Синдбад, 2016.
Хачетлова С. М. Значение аталычества для горцев Северного Кавказа // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2015. № 3. Ч. 1. С. 192–194.
Хокшилд А. Вторая смена: работающие семьи и революция в доме. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.
Холлис Дж. Под тенью Сатурна: мужские психические травмы и их исцеление. — М.: Когито-Центр, 2005.
Хорни К. Невроз и личностный рост. Борьба за самоосуществление. — Изд-во: Академический проект, 2008.
Хорни К. Невротическая личность нашего времени / Пер. А. И. Фет. — Philosophical arkiv, Sweden, 2016.
Цатурова М. К. Три века русского развода (XVI–XVIII века) — М.: Логос, 2011.
Цветков А. В. Образ Я: структура, функции, развитие. — М.: Изд-во "Спорт и "Культура — 2000", 2012.
Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. — Киев: Радянська школа, 1989.
Черняк Е. М. Социология семьи: учебное пособие. — 3-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2004.
Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола (Часть III. Половая идентификация и вопроизводство материнства) // Антология гендерной теории. — Минск: Пропилеи, 2000.
Чуркин А. А. Основные тенденции распространённости шизофрении в современном мире // Шизофрения и расстройства шизофренического спектра. — М., 1999. — С. 183–196.
Шадрина А. Не замужем. Секс, любовь и семья за пределами брака. — М.: НЛО, 2014.
Шадрина А. Дорогие дети: сокращение рождаемости и рост «цены» материнства в XXI веке. — М.: НЛО, 2017.
Шашков С. История русской женщины. — СПб., 1879.
Шестаков Д. А. Семейная криминология: Криминофамилистика (2-е изд.) — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
Шестов Л. Преодоление самоочевидностей // Шестов Л. Сочинения в 2-х т. — М.: «Наука», Том 2, 1993.
Шипов Б. Великая ложь. Теория любви: мифы и реальность. — Самара: Бахрах-М, 2010.
Шкуратов В. А. Историческая психология. Уч. пос. изд. 2. — М., 1997.
Шлюмбом Ю. Устойчивые мифы и изменчивые практики: "Крестьянский двор" и большая семья в Германии / Homo Historicus: к 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертного: В 2 кн. / Ред. А. О. Чубарьян. — М.: Наука, 2003, Кн. 1. — с. 631–649.
Шлюмбом Ю. Детство в Германии: проблемы социализации и воспитания в 1700–1850 гг. // Гендер и общество в истории. — СПб.: Алетейя, 2007.
Шнейдер Л. Б. Семья: оглядываясь вперёд. — Изд-во: «Питер», 2013.
Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства. — М.: Наука, 1980.
Шнирельман В. А. Парадоксы половых ролей // Советская этнография, 1990, № 6, с. 55–61.
Шнирельман В. А. У истоков войны и мира // Война и мир в ранней истории человечества. В 2-х т. Т.1. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1994.
Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. — Саранск: Норд, 1991.
Щапов Я. Н. Государство и церковь в Древней Руси X–XIII вв. М.: Наука, 1989.
Щапов Я. Н.Очерки русской истории, источниковедения, археографии. — М.: Наука, 2004.
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2008.
Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития. В традиции культурно-исторической теории Л. С. Выготского. — М.: Тривола, 1994.
Эльконинова Л. И., Эльконин Б. Д. Знаковое опосредование, волшебная сказка и субъектность действия // Психология игры и сказки. Хрестоматия. — М.: АНО "Психологическая электронная библиотека", 2008.
Энгельс Ф. Полю Лафаргу // К. Маркс и Ф. Энгельс: сочинения, изд. 2, Т. 36. — М.: изд-во политической литературы, 1964.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // К. Маркс и Ф. Энгельс: сочинения, изд. 2, Т. 21. — М.: изд-во политической литературы, 1961.
Эриксен Т. Х. Что такое антропология? — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
Эриксон Э. Детство и общество. — М.: Прогресс книга, 2019.
Юссен Б. Родство искусственное и естественное? Биологизмы в культурно-исторических концепциях родства // Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы (до начала нового времени). — М., ИВИ РАН, 2000.
Ялом И. Когда Ницше плакал. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
Ялом М. История жены. — М.: Новое литературное обозрение, 2019.
Япко М. Депрессия заразительна. — СПб.: Питер, 2013.
Ясперс К. Духовная ситуация времени // Призрак толпы / Карл Ясперс, Жан Бодрийар. М.: Алгоритм, 2008
Ястребицкая А. Л. Представления людей Средневековья о семье, браке, сексуальной морали // Культура и общество в Средние века: реферативный сборник — М.: 1982.
Ястребицкая А. Л. Семья в средневековом городе // ВИ. 1985. № 8, с. 68–71.
Abdollahi, F., Lye, Munn-Sann, Zain, A., Ghazali, S. S., Zarghami, M. (2011). Postnatal Depression and Its Associated Factors in Women From Different Cultures // Iran J Psychiatry Behav Sci., Autumn-Winter; 5(2): 5–11.
Alesina, A., Di Tella, R. & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: Are Europeans and American different? Journal of Public Economics, 88, 2009–2042.
Alexander M. G. & Fisher T. D. (2003). Truth and consequences: using the bogus pipeline to examine sex differences in self-reported sexuality // Journal of sex research, 40, 27–35.
Alexander, G. M., Sherwin, В.B. (1991). The association between testosterone, sexual arousal, and selective attention for erotic stimuli in men. Hormones and Behavior, 25(3), 367–381.
Arabagian, R.K. (1984). Cattle raiding and bride stealing: the goddess in Indo-European heroic literature // Religion, 14:2, 107–142.
Arora M. K., Yadav A., Saini V. Role of hormones in acne vulgaris. ClinBiochem. 2011 Sep;44(13):1035–1040.
Aukett, R., Ritchie, J., & Mill, K. (1988). Gender differences in friendship patterns. Sex Roles, 79(1–2), 57–66.
Bajos N., Bozon M., Beltzer N. Enquetes sur la sexualite en France. — La Decouverte, INED, 2008.
Balter M. 2010. Score One for Hunting at Olduvai // Science. V 329, pp. 1464–1465.
Bancroft J. (1984). Hormones and human sexual behavior. Journal of sex and marital therapy, 10, 3–21.
Bancroft J. (2002). Biological factors in human sexuality, The Journal of Sex Research, 39:1, 15–21.
Bancroft J, Sanders D, Davidson D, Warner P. Mood, sexuality, hormones and the menstrual cycle: 111. Sexuality and the role of androgens. Psychosom Med 45(6):509ff, 1983.
Bank, В.J. & Hansford, S. L. (2000). Gender and friendship: Why are men’s best same-sex friendships less intimate and supportive? Personal relationships, 7, 63–78.
Barnes, R.H. Marriage by Capture // The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1999), pp. 57–73.
Barrett, М., Mclntosh, М. (1982) The Anti-Social Family. London: Verso.
Bartlett, L. J., Williams, D. R., Prescott, G. W. et al. (2015) Robustness despite uncertainty: regional climate data reveal the dominant role of humans in explaining global extinctions of Late Quaternary megafauna // Ecography (https://doi.org/10.1111/ecog.01566).
Beckerman, S., Valentine, P., (eds) (2002) The Theory and Practice of Partible Paternity in South America, University Press of Florida.
Beidelman Т. О. Pig (Guluwe): An Essay on Ngulu Sexual Symbolism and Ceremony // Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 20, No. 4 (1964): 375.
Bell C. J., Foulds J. A., Horwood L. J., Mulder R. T. Childhood abuse and psychotic experiences in adulthood: findings from a 35-year longitudinal study // The British Journal of Psychiatry, 27 November 2018, или https://doi.org/10.1192/bjp.2018.264
Belsky J., Lang M. E., Rovine M. Stability and change in marriage across the transition to parenthood: A second study // Journal of Marriage and the Family. 1985. N. 47. P. 855–865.
Belsky, J., and M. Rovine. Patterns of Marital Change across the Transition to Parenthood: Pregnancy to Three Years Postpartum // Journal of Marriage & Family, 52 (1990): 5–19.
Belsky, J., and J. Kelly. The Transition to Parenthood: How a First Child Changes a Marriage and Why Some Couples Grow Closer and Others Apart. New York: Dell, 1994.
Berardo, F. M. (1970). Survivorship and social isolation: The case of the aged widower // The Family Coordinator, 79(1), 11–25.
Berkowitz, B., Yager-Berkowitz, S. He’s Just Not Up For It Anymore: Why Men Stop Having Sex and What You Can Do About It. — New York: William Morrow, 2008.
Bernard, J. (1972). The Future of Marriage. — New York: Bantam Books.
Berndt, C. H. and R. M. Berndt, 1951. Sexual Behaviour in Western Arnhem Land.Viking Fund Publications in Anthropology, 16. New York: Wenner-Gren.
Bertschinger, H., Delsink, A. et al. (2008). Reproductive control of elephants // Elephant management. A scientific assessment for South Africa. — Wits University Press, Johannesburg, pp.257–328.
Bhattacharya K, Ghosh A, Monsivais D, Dunbar RIM, Kaski K. (2016), Sex differences in social focus across the life cycle in humans" // Royal Society Open Science. 2016 Apr; 3 (4).
Bird-David, N. (1990). The giving environment: Another perspective on the economic system of gatherer-hunters // Current Anthropology 31(2):189–196.
Birditt, K. S., Wan, W. H., Orbuch, T. L., & Antonucci, T. C. (2017). The development of marital tension: Implications for divorce among married couples. Developmental Psychology, 53(10), 1995–2006.
Bischof, N. (1975): Comparative Ethology of Incest Avoidance // Biosocial Anthropology. — London: Malaby Press. pp. 37–67.
Bleek, D.F. The Naron: A Bushman Tribe of the Central Kalahari, 1928.
Boesch C. The Effects of Leopard Predation on Grouping Patterns in Forest Chimpanzees // Behaviour. 1991. No. 117. P. 220–242.
Boesch C., Bole C., Eckhardt N., Boesch H. Altruism in Forest Chimpanzees: The Case of Adoption // PLoS ONE, 2010.
Bossen, L., Gates, H. Bound Feet, Young Hands: Tracking the Demise of Footbinding in Village China. — Stanford University Press, 2017.
Bradbury, T. N., Fincham F. D., & Beach S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62, 964–980.
Brewis, A., & Meyer, M. (2005). Demographic evidence that human ovulation is undetectable (at least in pair bonds) // Current Anthropology, 46 (3), 465–471.
Bridges, L. (1948). Uttermost Part of the Earth — London, Hodder & Stoughton.
Brinig, M. F., Allen, D. W. (2000). These Boots are Made for Walking': Why Most Divorce Filers are Women // American Law and Economics Review, Vol. 2, pp. 126–169.
Brotto, L. A., Petkau, A. J., Labrie, F., and Basson, R. Predictors of Sexual Desire Disorders in Women. Journal of Sexual Medicine 8 (2011): 742–53.
Brown, M. J., Satterthwaite-Phillips, D. (2018) Economic correlates of footbinding: Implications for the importance of Chinese daughters’ labor // PLoS ONE 13(9): e0201337.
Brown, R. E. Sexual arousal, the Coolidge effect and dominance in the rat (Rattus norvegicus) // Animal Behaviour. — 1974. — № 22. — P. 634–637.
Bruner, A., Revuski, S. 1961, Collateral behavior in humans // Journal of Experimental Analysis of Behavior, 4, 349–350.
Burt, A. (1992). Concealed ovulation' and sexual signals in primates // Folia Primatologica. 58 (1): 1–6.
Byers, S. & Heinlein, L. Predicting Initiations and Refusals of Sexual Activities in Married and Cohabiting Heterosexual Couples // The Journal of Sex Research, Vol. 26, No. 2 (May, 1989), pp. 210–231.
Call, V., Sprecher, S., & Schwartz, P. (1995). The incidence and frequency of marital sex in a national sample. Journal of Marriage and the Family, 57(3), 639–652.
Campos-Castillo, C., Shuster, S. M., Groh, S. M., Anthony, D. L. Warning: Hegemonic Masculinity May Not Matter as Much as You Think for Confidant Patterns among Older Men // Sex Roles: A Journal of Research, 2020.
Carr, D. (2004). The Desire to Date and Remarry Among Older Widows and Widowers // Journal of Marriage and Family 66(4): 1051–1068.
Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., Schwarz, N. (2014). Happy Marriage, Happy Life? Marital Quality and Subjective Well?being in Later Life // Journal of Marriage and Family, V. 76, Issue 5, pp. 930–948.
Carroll, J. L., Volk, K. D., & Hyde, J. S. (1985). Differences between males and females in motives for engaging in sexual intercourse // Archives of Sexual Behavior, 14(2), 131–139.
Carsten J. Cultures of Relatedness: new approaches to the study of kinship, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Cassels, M. T., White, N., Gee, N., Hughes, C. (2017). One of the family? Measuring young adolescents' relationships with pets and siblings // Journal of Applied Developmental Psychology, Volume 49, pp. 12–20.
Chafe W. The Paradox of Change: American Women in the 20th Century — New York: Oxford University Press, 1991.
Chao, F., Gerland, P., Cook, A. R., Alkema, L. Systematic assessment of the sex ratio at birth for all countries and estimation of national imbalances and regional reference levels // PNAS May 7, 2019 116 (19) 9303–9311.
Chapais, B. Primeval kinship: how pair-bonding gave birth to human society. — Harvard University Press, Cambridge, 2008.
Chapais, В., Mignault, С. (1991). Homosexual incest avoidance among females in captive Japanese macaques // American Journal of Primatology, 23, pp. 171–183.
Chapman, S. N., Pettay, J. E., Lummaa, V., Lahdenpera, M. (2019). Limits to Fitness Benefits of Prolonged Post-reproductive Lifespan in Women // Current Biology, volume 29, issue 4, pp. 645–650.
Chivers M. L., Rieger G., Latty E. & Bailey J. M. (2004). A sex difference in the specificity of sexual arousal // Psychological Science, 15, 736–744.
Chivers M. L., Seto M. C., Blanchard R. Gender and Sexual Orientation Differences in Sexual Response to Sexual Activities Versus Gender of Actors in Sexual Films // Journal of Personality and Social Psychology, 2007, Vol. 93, No. 6, 1108–1121.
Cho Y. J., Choi R., Park S., Kwon J. Parental smoking and depression, and attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Korean national health and nutrition examination survey 2005–2014 // Asia-Pacific Psychiatry, Volume 10, Issue 3, 2018
Chronis A., Gamble S., Roberts J. E., Pelham W. E. (2006). Cognitive-Behavioral Depression Treatment for Mothers of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder или https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16942968
Clark, A. E. & Oswald, A. J. (2002). Well-being in panels. Unpublished manuscript, Department of Economics, University of Warwick.
Cohabitation, Marriage, Divorce, and Remarriage in the United States / Centers for Disease Control and Prevention, Vital and Health Statistics, Series 23, Number 22, July 2002.
Cohen, Ph.N. 2014. Family Diversity is the New Normal for America's Children / Council on Contemporary Families Briefing Paper.
Cohen, S. P. Can pets function as family members? // Western Jorn. of Nursing Research. 2002. V. 24. — р. 621–638.
Colla J., Buka S., Harrington D., Murphy J. M. Depression and modernization: a cross-cultural study of women // Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2006 Apr; 41 (4): 271–9.
Collier, J. F., Rosaldo, M. Z. and Yanagisako, S. (1982). Is There a Family?: New Anthropological Views // Rethinking the Family: Some Feminist Questions. B. Thorne and M. Yalom, ed. Pp. 25–39. Longman: New York.
Collins, D. (1798). An account of the English colony in New South Wales — London.
Conaway, C. H., Koford, C. B. (1964). Estrous cycles and mating behavior in a free ranging herd of rhesus monkeys // Journal of Mammalogy, vol. 45, pp. 577–588.
Connidis, I. A. (2001). Family ties and aging. Thousand Oaks, CA: Sage.
Coombs, R. H. (1991). Marital status and personal well-being: A literature review. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 40(1), 97–102.
Coontz, S. Marriage, a History: How Love Conquered Marriage. Penguin, 2006.
Cooper, D., Lane, A. The Death of the Family — The Penguin Press, 1971.
Cowan, P. A., Cowan, C. P. (1989). Changes in marriage during the transition to parenthood: Must we blame the baby? In G. Michaels & W. Goldberg (Eds.), The transition to parenthood: Current theory and research (pp. 114–154). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Cowan, P. A., Cowan, C. P., Kline M. (1991). The Origins of Parenting Stress During the Transition to Parenthood: A New Family Model // Early Education and Development, Volume 2, Pages 287–305.
Crabb A. The Wife Drought. — Random House
Australia, 2014.
Cucchiari S. The gender revolution and the transition from bisexual horde to patrilocal band: the origins of gender hierarchy // Sexual meanings: The cultural construction of gender and sexuality, 1992, pp. 31–79.
Curie-Cohen M., Yoshihara D., Luttrell L., Benforado K., MacCIuer J. W., Stone W. H. (1983) The effects of dominance on mating behavior and paternity in a captive troop of rhesus monkeys // American Journal of Primatology, Vol. 5; Iss. 2. pp. 127–138.
Curtiss, S. Genie: A Psycholinguistic Study of a Modern-Day "Wild Child". — New York: Academic Press, 1977.
Cutler W. B., Friedmann E., McCoy N. L. Coitus and Menstruation in Perimenopausal Women // Journal of psychosomatic obstetrics and gynecology, 1996 Sep;17(3):149–57.
Dabbs, J. M., & Mohammed. S. (1992). Male and female salivary testosterone concentrations before and after sexual activity Physiology and Behavior, 52(1), 195–197.
Dawson, S. J., Suschinsky, K. D. and Lalumiere, M. L. (2013) Habituation of Sexual Responses in Men and Women: A Test of the Preparation Hypothesis of Women's Genital Responses. J. Sex. Med., 10, 990–1000.
de Waal, F. (1996) Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals (Harvard Univ. Press, Cambridge, MA).
Delaney J., Lupton M. J., Toth E. The Curse: A Cultural History of Menstruation: 2nd edition — University of Illinois Press, 1988.
Dembler-Stamm T. et al. Sexual Dysfunction in Unmedicated Patients with Schizophrenia and in Healthy Controls. Pharmacopsychiatry. 2018 Jan 29.
DePaulo, B., Morris, W. Singles in Society and in Science // Psychological Inquiry, 2005, Vol. 16, Nos. 2&3, pp. 57–83.
Derrida J. Margins of philosophy. Chicago, 1986.
DeVore, I. (1965). Male dominance and mating behavior in baboons. In F. A. Beach, (Ed.), "Sex and Behavior", J. Wiley & Sons, Inc.
Di Tella, R., MacCulloch, R., & Oswald, A. J. (2003). The macroeconomics of happiness. Review of Economics and Statistics, 85(4), 809–827.
Dittami, J., Keckeis, M., Machatschke, I., Katina, S., Zeitlhofer, J. and Kloesch, G. (2007). Sex Differences in the Reactions to Sleepign in Pairs versus Sleeping Among in Humans // Sleep and Biological Rhythms 5(4): 271–276.
Dong, Y., Morgan, C., Chinenov, Y., Zhou, L., Fan, W., Ma, X., & Pechenkina, K. (2017). Shifting diets and the rise of male-biased inequality on the Central Plains of China during Eastern Zhou // PNAS, 114(5), 932–937.
Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 96(3), 601–619
Douglas P. H., Hohmann G., Murtagh R., Thiessen-Bock R., Deschner T. Mixed messages: wild female bonobos show high variability in the timing of ovulation in relation to sexual swelling patterns. BMC Evolutionary Biology; 30 June, 2016.
Dykstra, P. A. & Fokkema, T. (2007). Social and Emotional Loneliness Among Divorced and Married Men and Women: Comparing the Deficit and Cognitive Perspectives // Basic and Applied Social Psychology, Volume 29, Issue 1, pp. 1–11.
Eaton, G. G. (1973), Social and endocrine determinants of sexual behaviour in simian and prosimian females // Primate Reproductive Behaviour, Vol. 2 (C. H. Phoenix, ed.), Basel: S. Karger, pp. 20–35.
Eaton, R. (Ed.). (1976). The world's cats II. Seattle, WA: Feline Research Group, Woodland Park Zoo.
Elder, J. H. and Yerkes, R. M.: The sexual cycle of the chimpanzee. Anat. Rec. 67:119–143 (1936).
Engelhardt, S. C., Bergeron, P., Gagnon, A., Dillon, L., Pelletier, F. (2019). Using Geographic Distance as a Potential Proxy for Help in the Assessment of the Grandmother Hypothesis // Current Biology, volume 29, issue 4, pp. 651–656.
Englander-Golden, R, Chang, H., Whitmore, M. R., & Dienstbier, R. A. (1980). Female sexual arousal and the menstrual cycle. Journal of Human Stress, 6, 42–48.
Escasa, M. J., Casey J. F., Gray P. B. Salivary testosterone levels in men at a U. S. sex club // Arch Sex Behav. 2011 Oct;40(5):921–926.
Essex, M. J., et al. “Maternal Stress Beginning in Infancy May Sensitize Children to Later Stress Exposure: Effects on Cortisol and Behavior.” Biol Psych 52, no. 8 (2002): 776–84.
Fairbanks, L.and McGuire, M. T. Age, reproductive value, and dominance-related behavior in vervet monkey females: cross-generational influences on social relationships and reproduction // Animal Behaviour 34 (1986): 1710–1721.
Fan Xinyu, Wu Lingwei. The Economic Motives for Foot-binding, 2018.
Felton, S. Becker, H. A Gender Perspective on the Status of the San in Southern Africa — Windhoek, Legal Assistance Center, April 2001.
Fine C. Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference. — New York, 2010.
Fingerman, K. L., & Hay, E. L. (2002). Searching under the streetlight?: Age biases in the personal and family relationships literature. Personal Relationships, 9, 415–433.
Ford, C. S., Beach, F. Patterns of Sexual Behavior. — Westport, CT: Greenwood Press, 1952.
Fourie, L. (1928). The Bushmen of South West Africa // The native tribes of South West Africa, — Cape Town: Cape Times limited, pp. 79-105.
Fox, R. Kinship and Marriage. — London: Penguin, 1967.
Fox, R. The Red Lamp of Incest. — New York: E. P. Dutton, 1980.
Fox, R. Reproduction and Succession: Studies in Anthropology, Law, and Society. — Transaction Publishers, 1997.
Fromm-Reichman, F. (1948). Notes on the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy. Psychiatry, 11(3), 263–273.
Gallup, G. G., Burch, R. L. (2004). Semen Displacement as a Sperm Competition Strategy in Humans // Evolutionary Psychology, vol. 2, 1.
Gallup, G. G., Burch, R. L., Zappieri, M. L., Parvez, R., Stockwell, M. and Davis, J. A. (2003). The human penis as a semen displacement device. Evolution and Human Behavior, 24, 277–289.
Gerstel N., Sarkisian N. (2006). Marriage: The Good, the Bad, and the Greedy // Contexts, Vol. 5, Issue 4, pp. 16–21.
Gillis, J. R. A world of their own making: Myth, ritual, and the quest for family values. New York: Basic Books, 1996.
Goldey K. L., van Anders S. M. Sexual Modulation of Testosterone: Insights for Humans from Across Species // Adaptive Human Behavior and Physiology volume 1, pages93–123 (2015).
Golod S. I.. Adultery: Facts and Consideration.// Sexual Cultures in Europe, June 24th to 26th, 1992 Forum on Sexuality. SISWO. Amsterdam, 1992, pp. 42–51.
Gohm, C., Oishi, S., Darlington, J., Diener, E. (1998). Culture, parental conflict, parental marital status, and the subjective well-being of young adults. Journal of Marriage and the Family, 60, 319–334.
Goren, M., Gat, Y. (2018). Varicocele is the root cause of BPH: Destruction of the valves in the spermatic veins produces elevated pressure which diverts undiluted testosterone directly from the testes to the prostate // Andrologia, volume 50, Is. 5.
Graziani, A. R., Guidetti, M., & Cavazza, N. (2021). Food for boys and food for girls: Do preschool children hold gender stereotypes about food?. Sex Roles, 84(7), 491–502.
Greenblat, C. S. (1983). The salience of sexuality in the early years of marriage. Journal of Marriage and the Family 45: 289–299.
Gregor, T. (1985). Anxious Pleasures: The Sexual Lives of an Amazonian People — University of Chicago Press.
Grych, J. H., & Cardoza-Fernandes, S. (2001). Understanding the impact of interparental conflict on children: The role of social cognitive processes // Interparental conflict and child development: Theory, research, and applications (pp. 157–187). NY.: Cambridge University Press.
Guenther M. (2020) Humans and Elephants, Transforming and Transformed: Two Naro Myths about Ontological Mutability, Folklore, 131:4, 371–385.
Hansen, T. Parenthood and Happiness: a Review of Folk Theories Versus Empirical Evidence // Social Indicators Research. 2012, Volume 108, Issue 1, pp 29–64.
Harris, C. Psychophysiological responses to imagined infidelity: The specific innate modular view of jealousy reconsidered // Journal of Personality and Social Psychology. 2000. № 78. Pp. 1082–1091
Hawkes, K. Why Do Men Hunt? Benefits for Risky Choices // Risk and Uncertainty in Tribal and Peasant Economies, edited by Elizabeth Cashdan (pp. 145–166). Boulder, Colo.: Westview Press, 1990.
Hawkes, K., O'Connell J. F. and Blurton Jones N. Hardworking Hadza Grandmothers. In Comparative Socioecology: The Behavioral Ecology of Humans and Other Mammals, edited by V Standen and R. A. Foley (pp. 341–366). Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1989.
Hawkes, К., O’Connell, J.F., & Blurton Jones, N. (1991). Hunting income patterns among the Hadza: Big game, common goods, foraging goals, and the evolution of the human diet. Philosophical Transactions of the Royal Society, Section B, 334, 243–251.
Hawkes, К., O’Connell, J.F., & Blurton Jones, N. (2018). Hunter-gatherer studies and human evolution: a very selective review.
Heaton T. B. Marital stability throughout the child-rearing years // Demography. 1990. N. 27. P. 55–63.
Heiman, J. R., Rowland, D. L., Hatch, J. P., & Glad-ue, B. A. (1991). Psychophysiological and endocrine responses to sexual arousal in women. Archives of Sexual Behavior, 20(2), 171–186.
Holtzman, J. Samburu. — The Rosen Publishing Group, 1995.
Howell S. Adoption of the Unrelated Child: Some Challenges to the Anthropological Study of Kinship, Annual Review of Anthropology, 2009, 38: 149–166.
Hrdy, S. B. (1986). Empathy, polyandry, and the myth of the coy female // Feminist approaches to science. — New York: Pergamon Press, pp. 119–146.
Hrdy, S. B. (2000). Mother Nature: Maternal Instincts and How They Shape the Human Species.
Huck M, Di Fiore A. and Fernandez-Duque E. (2020). Of Apples and Oranges? The Evolution of «Monogamy» in Non-human Primates // Frontiers in Ecology and Evolution, 7:472.
Hurlbert A., Ling Y. Biological components of sex differences in color preference // Current Biology, Vol 17, № 16, pp. 623–625, august 21, 2007.
Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo: The State of Knowledge at the Turn of the Century // Arthur P. Wolf and William H. Durham, eds. — Stanford: Stanford University Press, 2004.
Ivey, D.C, Conoley, С.W. (1994). Influence of gender in family evaluations: a comparison of trained and untrained observer perceptions of matriarchal and patriarchal family interviews //Journal of family psychology. Vol. 8. № 3. P. 336–346
James, W. H. (1981). The honeymoon effect on marital coitus // Journal of Sex Research, 17, 114–123.
Johnson, M. D. Great Myths of Intimate Relationships: Dating, Sex, and Marriage — Wiley-Blackwell; 2016.
Kahn, J. R., & Udry, J. R. (1986). Marital coital frequency: Unnoticed outliers and unspecified interactions lead to erroneous conclusions. American Sociological Review, 51(5), 734–737.
Kelly, J. B. Children’s Adjustment in Conflicted Marriage and Divorce: A Decade Review of Research. // J Am Acad Chi & Ado Psych 39, no. 8 (2000): 963–73.
Knapp, J. J. (1975). Some non-monogamous marriage styles and related attitudes and practices of marriage counselors // Family Coordinator, 24(4), 505–515.
Kim K.E, Choi J.H, Kim Y. H., "Effect of infant health problem, mother's depression and marital relationship on infant abuse in Korea: mediating pathway of marital relationship // Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2014 Jun; 8(2):110–7.
Kinzey, W. G., 1987. A primate model for human mating systems // Evolution of Human Behavior: Primate Models. — State University of New York press, New York.
Kolves, K., Ide, N. and De Leo, D. (2010). Suidical Ideation and Behavior in the Aftermath of Marital Separation: Gender Differences // Journal of Affective Disorders 120(1–3): 48–53.
Komarovsky M. Blue-Collar Marriage. — New Haven: Vintage, 1962.
Kroenke, C. H. et al. (2006). Social networks, social support, and survival after breast cancer diagnosis // Journal of Clinical Oncology 24, no. 7: 1105–1111.
Kurdek, L. A. (1993). Predicting marital dissolution: A 5-year prospective longitudinal study of newlywed couples. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 221–242.
Kutob, R., et al, (2017). Relationship Between Marital Transitions, Health Behaviors, and Health Indicators of Postmenopausal Women: Results from the Women's Health Initiative // Journal of Women's Health, Apr;26(4):313–320.
Laumann E., Gagnon J., Michael R. and Michaels S., The Social Organization of Sexuality. Sexual Practices in the United Slates. Chicago: University of Chicago Press 1994.
Lawrence, E., Rothman, A. D., Cobb, R. J., Rothman, M. T., & Bradbury, T. N. (2008). Marital satisfaction across the transition to parenthood. Journal of Family Psychology, 22(1), p. 41–50.
Lee, R. What Hunters Do for a Living: Or, How to Make Out on Scarce Resources // Man the Hunter. — Chicago: Aldine, 1968, pp. 30–48.
Lee, R. (1979). The!Kung San: men, women and work in a foraging society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Lee, R. The Dobe Ju/'hoansi. Fourth Edition — Cengage Learning,2012.
LeMasters, E. E. Parenthood as Crisis. Marriage and Family Living 19 (1957): 352–55.
Leibowitz, L. Females, Males, Families: A Biosocial Approach. — North Scituate, Mass.: Duxbuty Press, 1978.
Levi-Strauss, C. The Elementary Structures of Kinship, — Boston: Beacon Press, 1969.
Levi-Strauss, C. The Family // Man, Culture and Society, edited by H. Shapiro. London: Oxford University Press, 1971.
Lidz, T., Fleck, S., Cornelison, A. Schizophrenia and the family (International Universities Press, 1965).
Lippa, R. A. (2006). Is High Sex Drive Associated With Increased Sexual Attraction to Both Sexes?: It Depends on Whether You Are Male or Female // Psychological Science, volume: 17 issue: 1, page(s): 46–52.
Lippa, R. A. The relation between sex drive and sexual attraction to men and women: A cross-national study of heterosexual, bisexual and homosexual men and women // Archives of Sexual Behavior. 2007. № 36. Pp. 209–222.
Lovejoy, C. O. The Origin of Man // Science. 1981. V. 211. P. 341–350.
Lovejoy, C. O. Reexamining human origins in light of Ardipithecus ramidus // Science, 2 October 2009, 326–74.
Loy, J. (1970). Peri-menstrual sexual behavior among rhesus monkeys. Folia Prirnat. 13, 286–297.
Lynd, R. S. & Lynd, H. M. Middletown in transition: a study in cultural conflicts. New York: Harcourt Brace, 1937.
Mansperger, M. C. (1990). The precultural human mating system // Journal of Human Evolution 5: 245–259.
Marriage and Cohabitation in the United States / Centers for Disease Control and Prevention, Vital and Health Statistics, Series 23, Number 28, February 2010.
Marlowe, F. W. (2003). The mating system of foragers in the Standard Cross-Cultural Sample. Cross-Cultural Research: The Journal of Comparative Social Science, 37(3), 282–306.
Martin, E. The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles / Journal of Women in Culture and Society 1991, vol. 16, no. 3 pp. 485–501.
Martin, P. S. (1966). Africa and Pleistocene overkill // Nature. 212 (5060): 339–342.
Mate G. Scattered Minds: A New Look at the Origins and Healing of Attention Deficit Disorder, Toronto, Ontario, Canada, A. A. Knopf Canada, 1999.
Maternal depression and child development // Paediatrics & Child Health. 2004 Oct; 9(8): 575–583 или https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724169/
McCubbin, H. I., Figley, C. R. (1983). Stress and the Family. Vol.1. Coping with Normative Transitions; Vol.2. Coping with Catastrophe — New York, Bruner/Mazel Publishers.
McLanahan, S. & Adams, J. (1989). The effects of children on adults’ psychological well-being. Social Forces, 68(1), 124–146.
Mech D. The Wolves of Minnesota. — Voyageur Press, 2003.
Meigs A. 1986. Blood, kin and food // Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology, ed. JP Spradley,DW McCurdy, — Boston: Little Brown Higher Education.
Meillassoux, С. Maidens, Meal and Money: Capitalism and the Domestic Community (Themes in the Social Sciences) — Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Mercer, R. T., & Ferketich, S. L. (1988). Stress and social support as predictors of anxiety and depression during pregnancy. Advances in Nursing Science, 10(2), 26–39.
Mercer, R. T., Ferketich, S. L., DeJoseph, J. F., May, K. A., & Sollid, D. (1988). Effect of stress on family functioning during pregnancy. Nursing Research, 37(5), 268–275
Meuwissen, I, Over, R. Habituation and dishabituation of female sexual arousal // Behaviour Research and Therapy, 1990;28(3): 217–26.
Montalban Lopez, R. “el oficio mas antiguo del mundo”. Prostitucion y explotacion sexual en la antigua Roma // Raudem: Revista de estudios de las mujeres, ISSN-e 2340–9630, № 4, 2016, p. 155–177.
Murdock, G.P. (1934). Our primitive contemporaries. — New York: Macmillan.
Musick K., Bumpass L. (2012). Reexamining the Case for Marriage: Union Formation and Changes in Well-being // Journal of Marriage and Family, Volume 74, Issue 1, pp. 1–18.
Myrskyla, M., & Margolis, R. (2014). Happiness: Before and After the Kids. Demography, 51(5), 1843–1866.
Nachmias, M., et al. “Behavioral Inhibition and Stress Reactivity: Moderating Role of Attachment Security.” Child Dev 67 (1996): 508–22.
Nattrass, S., Croft, D. P., Ellis, S. et al. (2019). Postreproductive killer whale grandmothers improve the survival of their grandoffspring // Proceedings of the National Academy of Sciences Dec 2019, 116 (52) 26669–26673.
Ni Chonaill, B. Child-centred law in medieval Ireland. In: Davis, R. and Dunne, T. (eds.) The Empty Throne: Childhood and the Crisis of Modernity. Cambridge University Press. (In Press). 2008.
Ninio A., Rinott N. Father’s Involvement in the Care of Their Infant’s and Their Attribution’s of Cognitive Competence to Ifants. // Child Development, 1988, 59: 652–663.
Nolen-Hoeksema S. (1990). Sex differences in depression. — Stanford, CA: Stanford University Press.
Oliver-Williams, C. The association between parity and subsequent cardiovascular disease in women: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study (presented 4 June 2018 at the British Cardiovascular Society Conference)
O'Brien, M., & Peyton, V. (2002). Parenting attitudes and marital intimacy: A longitudinal analysis. Journal of Family Psychology, 16(2), 118–127.
O'Donohue, W., Geer, J. H. (1985). The Habituation of Sexual Arousal // Archives of Sexual Behaviour, 14(3): 233–46
O'Donohue, W., Plaud, J. J. The long-term habituation of sexual arousal in the human male // Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 1991 Jun;22(2): 87–96.
Ortner, S. 1974. Is female to male as nature is to culture? // Woman, culture, and society. M. Z. Rosaldo and L. Lamphere (eds), — Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 68–87.
Pagel, M., Meade, A. (2006). Bayesian Analysis of Correlated Evolution of Discrete Characters by Reversible-Jump Markov Chain Monte Carlo. The American Naturalist, 167(6), 808–825.
Palombit, R. A. (1994a). Dynamic pair bonds in hylobatids: Implications regarding monogamous social systems. Behaviour 128:65–101.
Palombit, R. A. (1994b). Extra-pair copulations in a monogamous ape. Animal Behaviour 47:721–723.
Parke R. D., Sawin D. B. The Father’s Role in Infancy: A Re-Evaluation // The Family Coordinator, 1976, vol.25, 365 p.
Pawlowski, B. (1999). Loss of Oestrus and Concealed Ovulation in Human Evolution: the Case against the Sexual-Selection Hypothesis // Current Anthropology. 40 (3): 257–276.
Payen, J-Ch. La crise du mariage a la fin du XIIIe siecle d'apres la litterature francaise du temps. In: Famille et parente dans l'Occident medieval. Actes du colloque de Paris (6–8 juin 1974) Rome: Ecole Francaise de Rome, 1977. pp. 413–426.
Payne, K. K. (2015). The Remarriage Rate: Geographic Variation, 2013. (FP-15–08). National Center for Family and Marriage Research.
Peen, J. and Dekker, J. (1997) Admission rates for schizophrenia in the Netherlands. Acta Psychiatrica Scandinavica 96: 301–5.
Pedersen, C. and Mortensen, P. (2001). Urbanization and schizophrenia. Schizophrenia Research (suppl. 41): 65–6.
Perales F., Baxter J. (2017). Sexual Identity and Relationship Quality in Australia and the United Kingdom // Family Relations,Volume 67, Issue 1, pp. 55–69.
Piccinelli M., Wilkinson G. (2000). Gender differences in depression // British Journal of Psychiatry, 177, 486–492.
Pilot, M., Dahlheim, M. E., Hoelzel A. R. (2010). Social cohesion among kin, gene flow without dispersal and the evolution of population genetic structure in the killer whale (Orcinus orca) // Jurnal of Evolutionary Biology, volume 23, issue 1, pp. 20–31.
Pinquart, M. (2003). Loneliness in married, widowed, divorced, and never-married older adults // Journal of Social and Personal Relationships, 20(1), 31–53.
Pinquart, M., & Sorensen, S. (2000). Influences of socioeconomic status, social network, and competence on subjective well-being in later life: A meta-analysis. Psychology and Aging, 15, 187–224.
Pleshkova N. L., Muhamedrahimov R. J. Quality of attachment in St Petersburg (Russian Federation): A sample of family-reared infants // Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2010, Vol. 15,3. Pp. 361–372.
Ploubidis, G. B., Silverwood, R. J., DeStavola, B., & Grundy, E. (2015). Life-Course Partnership Status and Biomarkers in Midlife: Evidence From the 1958 British Birth Cohort // American Journal of Public Health. August; 105(8): 1596–1603.
Potter, B., Irish, J., Reuther, J. and McKinney, H. New insights into Eastern Beringian mortuary behavior: A terminal Pleistocene double infant burial at Upward Sun River // PNAS December 2, 2014 111 (48) 17060-17065.
Powdthavee, N., Vignoles, A. (2008) Mental Health of Parents and Life Satisfaction of Children: A Within-Family Analysis of Intergenerational Transmission of Well-Being // Social Indicators Research, 88(3), 397–422.
Power, C. Hadza gender rituals — epeme and maitoko — considered as counterparts // Hunter Gatherer Research (2015), 1, (3), 333–358.
Power, C., Watts, I. The Woman With The Zebra's Penis Gender, Mutability And Performance // Journal of the Royal Anthropological Institute, 1997, Vol. 3 Issue 3, p 537–560.
Pradhan, G. R., et al. The evolution of female copulation calls in primates: A review and a new model // Behavioral Ecology and Sociobiology. 2006. № 59(3). Pp. 333–343.
Profet, M. (1993). Menstruation as a defense against pathogens transported by sperm // The Quarterly Review of Biology, 68(3): 335–86.
Rao, K. V., & Demaris, A. (1995). Coital frequency among married and cohabiting couples in the United States. Journal of Biosocial Science, 27(2), 135–150.
Read J., Ross C. A. (2003). Psychological trauma and psychosis: another reason why people diagnosed schizophrenic must be offered psychological therapies // Journal of the American Academy of Psychoanalyses and Dynamic Psychiatry. 31 (1):247–68.
Reddy, R.B. & Sandel, A.A. (2020). Social relationships between chimpanzee sons and mothers endure but change during adolescence and adulthood // Behavioral Ecology and Sociobiology, v. 74, 150.
Rubin, L. (1990) Intimate Strangers: Men and Women Together. — New York: Harper.
Rutter, M. Parent-Child Separation: Psychological Effects on the Children // Journal of Child Psychology and Psychiatry 12 [1971]: 233–256
Robards, J., Evandrou, M., Falkingham, J. and Vlachantoni, A. (2012). Marital Status, Health and Mortality // Maturitas 73(4): 295–299.
Rocca, C. H., Samari, G., Foster, D. G., Gould, H., Kimport, K. (2020). Emotions and decision rightness over five years following an abortion: An examination of decision difficulty and abortion stigma // Social Science & Medicine, Volume 248, 112704.
Rosenfeld, M. J., Thomas, R. J., Falcon, M. (2015). How Couples Meet and Stay Together (HCMST) — Stanford, CA: Stanford University Libraries.
Rosenfeld, M. J. (2018). Who wants the Breakup? Gender and Breakup in Heterosexual Couples // Social Networks and the Life Course: Integrating the Development of Human Lives and Social Relational Networks, pp. 221–243.
Ross, H. G. & Milgram, J. I. (1982). Important variables in adult sibling relationships. In M. E. Lamb and B. Sutton-Smith (Eds.), Sibling relationships: Their nature and significance across the lifespan (pp. 225–249). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Sabour Esmaeili N., Schoebi D. Research on correlates of marital quality and stability in Muslim countries: A review // Journal of Family Theory & Review. 2017. No. 9. P. 69–92.
Safron, A., Barch, B., Bailey, J. M., Gitelman, D. R., Parrish, T. B., Reber, P. J. Neural correlates of sexual arousal in homosexual and heterosexual men // Behavioral Neuroscience. 2007. № 121(2). Pp. 237–248.
Semple, S. Individuality and male discrimination of female copulation calls in the yellow baboon // Animal Behaviour. 2001. № 61. Pp. 1023–1028.
Silberman I. (1950). A contribution to the psychology of menstruation // International Journal of Psycho-Analysis 31:258–267.
Sivak E., Smirnov I. Parents mention sons more often than daughters on social media // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019. Vol. 116. No. 6. P. 2039–2041.
Shachar, R., Leshem, T., Nasim, R., Rosenberg, J., Schmidt, A. & Schmuely, V. (2013) Exploring Discourses That Affect Therapists Regarding Single Women // Journal of Feminist Family Therapy, 25:4, 257–280.
Shapiro, A., et al. “The Baby and the Marriage: Identifying Factors That Buffer against Decline in Marital Satisfaction after the First Baby Arrives. ” J of Fam Psych 14, no. 1 (2000): 59–70.
Sheff, E. (2005). Polyamorous women, sexual subjectivity and power // Journal of Contemporary Ethnography, 34(3): 251–283.
Sheff E. (2014). The polyamorists next door: Inside multiple-partner relationships and families — USA, Maryland: Rowman & Littlefield.
Shorter E. The Making of the modern family. N. Y., 1975.
Shred, R., et al. Infants’ cognitive and emotional responses to adults’ angry behavior. In Children and Marital Conflict, edited by Cummings and Davies. Seattle, WA, 1991.
Schreiner-Engel P, Schiavi R.C, Smith H, White D. (1981). Sexual arousability and the menstrual cycle. Psychosomatic Medicine, 43:199–214.
Skaanes, Th. (2017). Sounds in the night: Ritual bells, therianthropes, and eland relations among the hadza // Human Origins. Berghahn Books, pp.204–223.
Slob, A. K., Ernste, M. & van der Werff ten Bosch, J. J. Menstrual cycle phase and sexual arousability in women. Arch Sex Behav 20, 567–577, (1991).
Small, M. F. Female Choices: Sexual Behavior of Female Primates. — Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993.
Smith, D. (1994). Male Dominance and Reproductive Success in a Captive Group of Rhesus Macaques (Macaca mulatta). Behaviour, Vol. 129, No. 3/4 (June), pp. 225–242.
Smith, H. J. Parenting for primates. — Harvard University Press, 2005.
Smuts, B. B. (1995). The evolutionary origins of patriarchy // Human Nature, 6, 1–32.
Solomon, N. G., Keane, B., Knoch, L. R., and Hogan, P. J. (2004). Multiple paternity in socially monogamous prairie voles (Microtus ochrogaster). Canad. J. Zool. Rev. Canad. Zool. 82, 1667–1671.
Sommerlad, A., Sabia, S., Singh-Manoux, A., Lewis, G., Livingston, G. (2019) Association of social contact with dementia and cognition: 28-year follow-up of the Whitehall II cohort study // PLoS Med 16(8): e1002862.
Speth, J. D. The Paleoanthropology and Archaeology of Big-Game Hunting: Protein, Fat, or Politics? — New York: Springer-Verlag, 2010.
Sporer A. (1991) Male Sexuality. In: Leyson J. F. J. (eds) Sexual Rehabilitation of the Spinal-Cord-Injured Patient. Humana Press, Totowa, NJ.
Sprague, J., Quadagno, D. Gender and sexual motivation: An exploration of two assumptions // Journal of Psychology and Human Sexuality. 1989. № 2. Pp. 57.
Stadtfeld, C., & Pentland, A. (2015). Partnership ties shape friendship networks: A dynamic social network study // Social Forces, 94, 453–477.
Stanton S. J., Mullette-Gillman O. A., Huettel S. A. Seasonal variation of salivary testosterone in men, normally cycling women, and women using hormonal contraceptives. PhysiolBehav. 2011 Oct 24;104 (5):804–808.
Stiner M. C. An Unshakable Middle Paleolithic? Trends versus Conservatism in the Predatory Niche and Their Social Ramifications // Current Anthropology, Vol. 54, No. S8, Alternative Pathways to Complexity: Evolutionary Trajectories in the Middle Paleolithic and Middle Stone Age (December 2013), pp. S288-S304.
Stone, L. The family, sex, and marriage in England 1500–1800. New York: Harper & Row, 1977.
Stone, L. Kinship and Gender. — Westview Press, Harper-Collins, Boulder, 1997.
Sue Carter C., Perkeybile A. M. (2018). The Monogamy Paradox: What Do Love and Sex Have to Do With It? // Frontiers in Ecology and Evolution, 6:202.
Sukumar, R. (2003). The Living Elephants: Evolutionary Ecology, Behavior, and Conservation // Oxford University Press, New York.
Timmermann A. Quantifying the potential causes of Neanderthal extinction: Abrupt climate change versus competition and interbreeding // Quaternary Science Reviews, Volume 238, 2020, 106331.
Tornstam, L. (1992). Loneliness in marriage // Journal of Social and Personal Relationships, 9(2), 197–217.
Torrey E. E. Schizophrenia and civilization. — New York: Jason Aronson, 1980.
Turnbull, C.M. (1957). Initiation Among the BaMbuti Pygmies of the Central Ituri. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 87(2), 191–216.
Turnbull, C.M. The Forest People — NY.: Simon and Shuster, 1961.
Twenge, J.M, et al. Parenthood and Marital Satisfaction: A Meta-Analytic Review // J of Marr & Family 65, no. 574–583 (2003).
Udry, J. R. (1980). Changes in the frequency of marital intercourse from panel data. Archives of Sexual Behavior, 9, 319–325.
van Anders S. M., Hamilton L. D., Schmidt N., Watson N. V. (2007). Associations between testosterone secretion and sexual activity in women // Hormones and Behavior, Volume 51, Issue 4, Pages 477–482.
VanLaningham, J., Johnson, D. R., Amato, P; Marital Happiness, Marital Duration, and the U-Shaped Curve: Evidence from a Five-Wave Panel Study, Social Forces, Volume 79, Issue 4, 1 June 2001, Pages 1313–1341
van Os, J. et al. (2001). Prevalence of psychotic disorder and community level of psychotic symptoms: an urban-rural comparison. Archives of General Psychiatry 58: 663–8.
Ventura-Aquino, E., Fernandez-Guasti, A., Paredesa, R. G. Hormones and the Coolidge effect // Molecular and Cellular Endocrinology, Volume 467, 2018, pp. 42–48.
Walker, R.S., Hill, K.R., Flinn, M.V., Ellsworth, R.M. (2011). Evolutionary History of Hunter-Gatherer Marriage Practices. PLoS ONE 6(4):e19066.
Wanic, R. & Kulik, J. (2011). Toward an Understanding of Gender Differences in the Impact of Marital Conflict on Health // Sex Roles, volume 65, pages 297–312.
Watt J. D., Ewing J. E. Toward the development and validation of a measure of sexual boredom. // The Journal of Sex Research, 1996, vol.33, N 1, pp.57–66.
Weare, S. F. Forced-to-penetrate cases: lived experiences of men // Baseline Research Findings Lancaster University, 2017, June.
Weiner, A. B. Women of Value, Men of Renown: New Perspectives in Trobriand Exchange. — Austin, Tex., London University of Texas Press, 1976.
Weiner Davis M. The Sex-Starved Wife: What to Do When He's Lost Desire — Simon & Schuster, 2008.
Wildman D. E., Uddin M., Liu G., Grossman L. I., Goodman M. Implications of natural selection in shaping 99.4 % nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: enlarging genus Homo // PNAS USA, 2003;100(12):7181–8.
Williams, W. The relationship between male-male friendship and male-female marriage: American Indian and Asian comparisons. In P. M. Nardi (Ed.), Men’s friendships (pp. 186–200). Newbury Park, CA: Sage, 1992.
Wilson, J. R., Kuehn, R. E., & Beach, F. A. (1963). Modification in the sexual behavior of male rats produced by changing the stimulus female. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 56(3), 636–644.
Wisner, K. L., Sit, D. K. Y., McShea, M. C. et al. (2013). Onset Timing, Thoughts of Self-harm, and Diagnoses in Postpartum Women With Screen-Positive Depression Findings // JAMA Psychiatry, 70(5):490–498.
Whipple, B. (1991). Female sexuality. In: Leyson J. F. J. (eds) Sexual Rehabilitation of the Spinal-Cord-Injured Patient. — Humana Press, Totowa, NJ. pp. 19–38.
Wolf A. P. Sexual Attraction and Childhood Association: A Chinese Brief for Edward Westermarck. — Stanf., 1995.
Wolfe, L. D. (1978). Age and Sexual Behavior of Japanese Macaques (Macaca Fuscata) // Archives of Sexual Behavior, Vol. 7, No. 1, 1978, pp. 55–68.
Wolfe, L. D. (1984). Japanese Macaque Female Sexual Behavior: A Comparison of Arashiyama East and West // Female Primates: Studies by Women Primatologists, pp. 141–157. — New York: Alan R. Liss.
Wolfe, L. D. (1986). Sexual strategies of female Japanese macaques (Macaca fuscata) // Human Evolution, vol. 1, № 3, pp. 267–275.
Woodburn, J. 1964. The social organization of the Hadza of North Tanganyika. — Ph.D. Dissertation, Cambridge University, Cambridge.
Woodward, C., Fischer J., Najman J. and Dunne, M. P. Selling Sex in Queensland 2003: A Study of Prostitution in Queensland, Prostitution Licensing Authority, 2004.
Wright M. R., Brown S. L. Psychological well-being among older adults: The role of partnership status // Family Relations. 2017. No. 79. P. 833–849.
Yabiku, S., Gager, C. Sexual Frequency and the Stability of Marital and Cohabiting Unions // Journal of Marriage and Family 71 (November 2009): 983–1000.
Yeshurun, R., Bar-Oz, G., Weinstein-Evron, M. Modern hunting behavior in the early Middle Paleolithic: Faunal remains from Misliya Cave, Mount Carmel, Israel // Journal of Human Evolution 53 (2007) 656–677.
Zerzan, J. (2010). Patriarchy, Civilization, and the Origins of Gender.” The Anarchist Library, https://theanarchistlibrary.org/library/john-zerzan-patriarchy-civilization-and-the-origins-of-gender.
Ziegler, A., Matsick, J. L., Moors, A. C., Rubin, J. D., & Conley, T. D. (2014). Does monogamy harm women? Deconstructing monogamy with a feminist lens // Journal fur Psychologie, 22(1), 1–18.
Zuk, M. Sexual selections: What we can and can’t learn about sex from animals. — Berkeley: University of California Press, 2002.
Оглавление
Предисловие
Введение
Глава 1. Рождение норм
1. Культура как ориентир
2. Культура имеет значение
3. Трансляторы культуры
Часть I. Прошлое близкое и прошлое далёкое
Глава 2. Семья: вечная ценность, возникшая вчера
1. Детско-родительские отношения прошлого
Отцы и дети
Аталычество, кормильство и фостераж
Дети и отцы
2. Супружеские отношения прошлого
Брачная пара — выбор родителей
"Бьёт — значит любит"
Восприятие брака никогда не было радужным
3. Так что такое "семья"?
Туманная сущность семьи
Загадка родства
Фигура Отца
Что такое брак?
Семья как симулякр
Глава 3. Миф женской сексуальности
1. Приматология о сексуальной активности самок
2. Гормоны и сексуальность
3. Культура и месячные
4. Репрессированная женская сексуальность
5. Культура диктует видение
6. Что говорит наука о женской сексуальности
7. Ну а что мужчины?
Глава 4. Рождение моногамной идеологии (реконструкция)
1. Эпоха промискуитета
Обезьяны — не моногамны
Немоногамная физиология и прочие следы промискуитета человека
2. Начало мужского господства
Великая Охота и рождение гендера
Создание брака и контроль женской сексуальности
3. Открытие отцовства
Часть II. Брак в настоящем
Глава 5. Его брак и Её брак
Глава 6. Моногамная изоляция
Глава 7. Как рождалась моногамная психология
Моногамная психология как травма
А в не нуклеарной семье?
Глава 8. Семья и дети
1. Как дети влияют на родителей?
2. Как родители влияют на детей?
3. Семья как источник психозов
Глава 9. Семейная психотерапия как транслятор моногамной идеологии
Глава 10. Чем спасается моногамия?
Глава 11. Будущее, которое будет?
Заключение
Список литературы