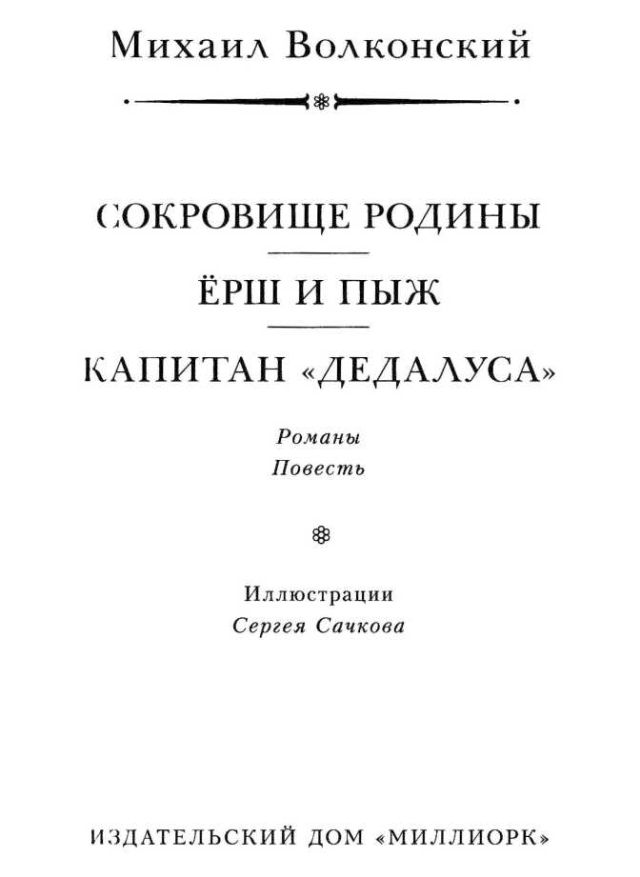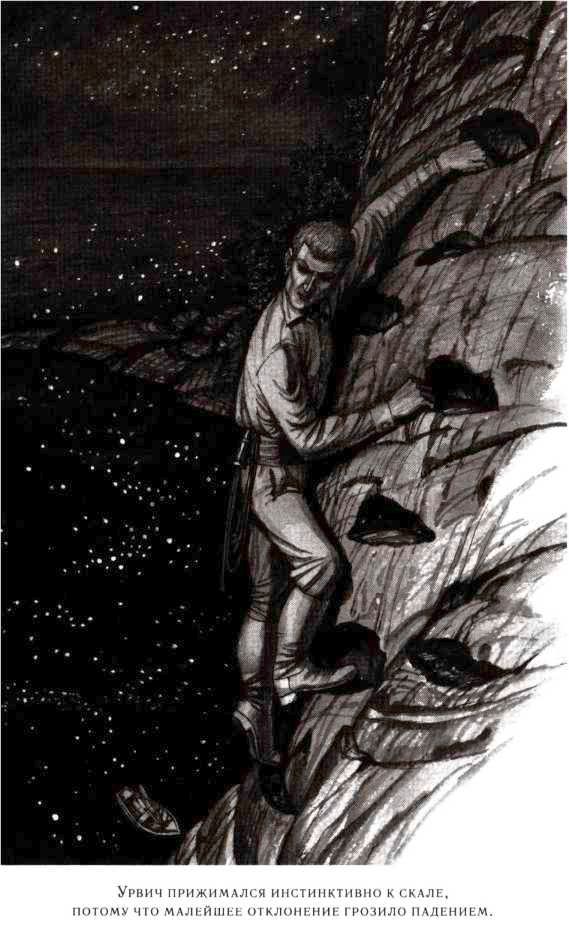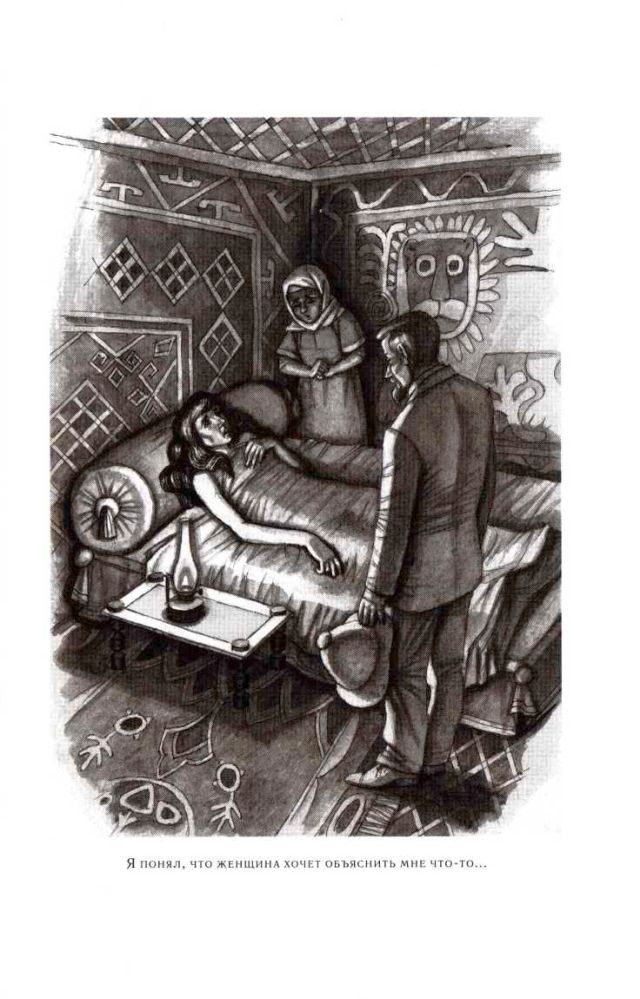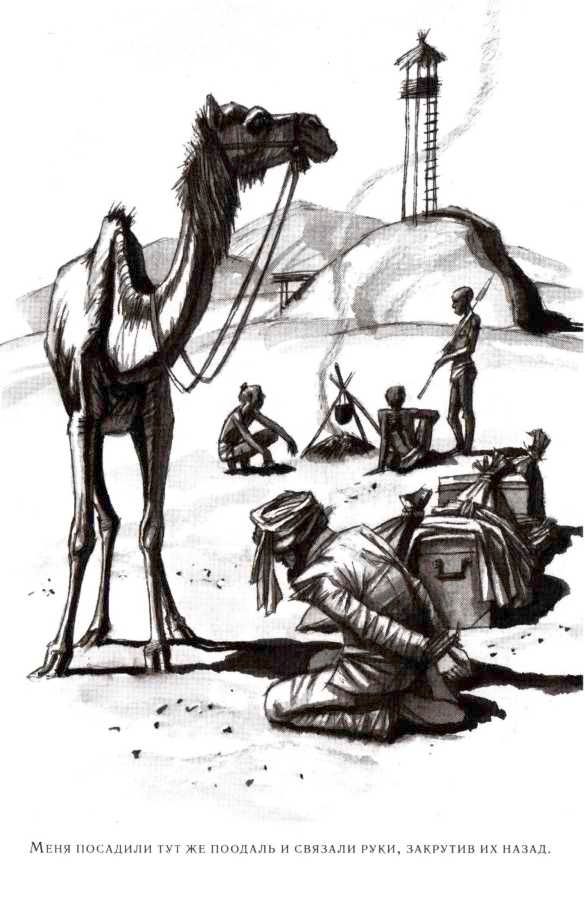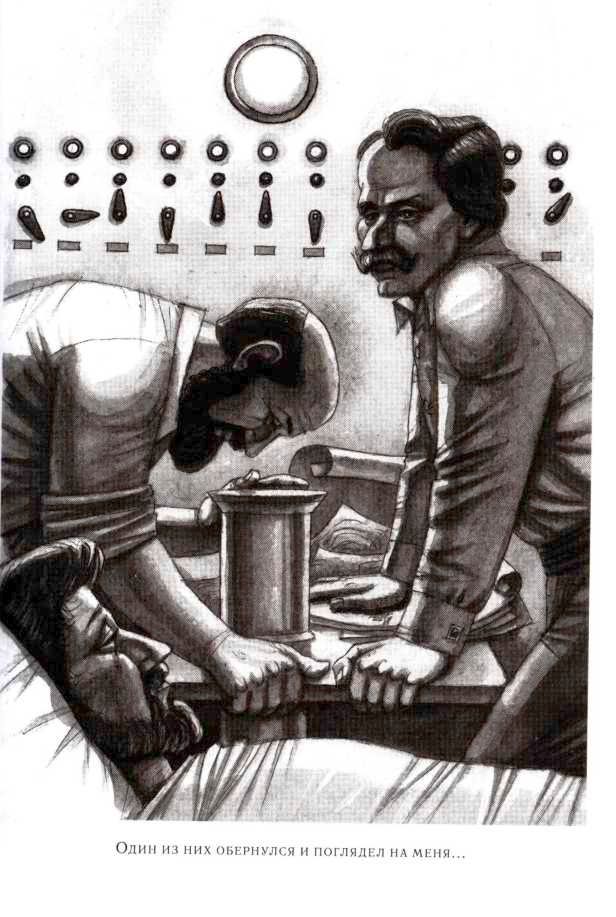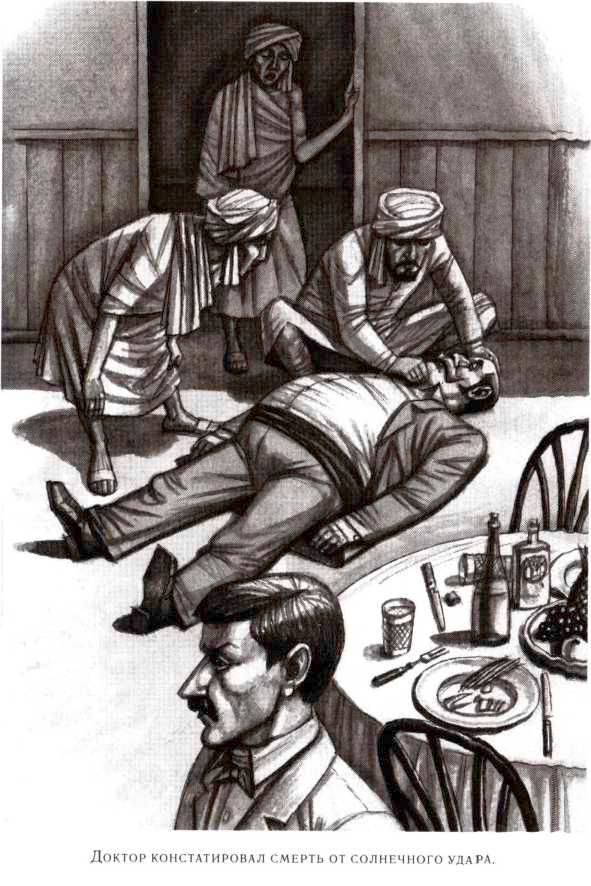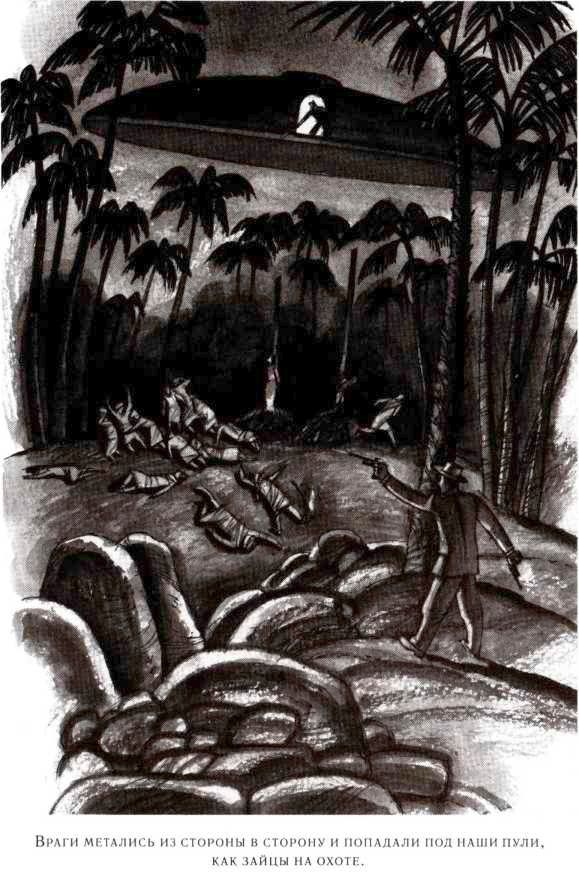Михаил Николаевич Волконский
Сокровище Родины
(сборник)


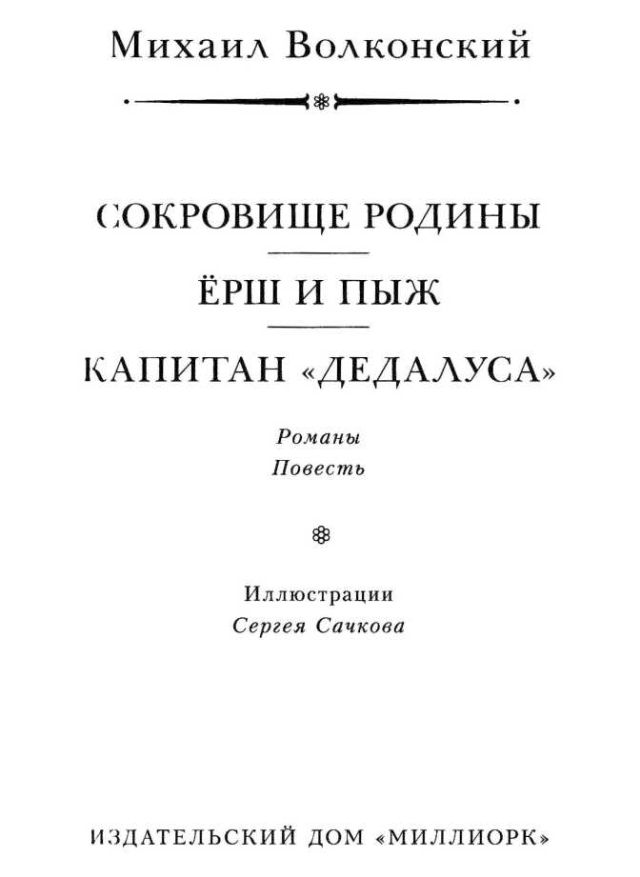
Иллюстрации Сергея Сачкова
Составитель и редактор серии Георгий Пилиев
Автор иллюстраций к обложке и форзацу Сергей Сачков
© Сачков С. Н., иллюстрации, 2016
© Пилиев Г. К., статья об авторе, 2016
© ООО «Миллиорк», художественное оформление серии, 2016
Настоящее издание посвящено памяти замечательного русского художника Сергея Николаевича Сачкова (1955–2016), для которого работа над иллюстрациями к этой книге оказалась последней…
Сокровище Родины
I
Николай Иванович Урвич был самый обыкновенный простой русский человек, никак не предполагавший, что на его долю выпадет целый ряд приключений, достойных описания.
Правда, с детства был он предприимчив, с детства увлекался рассказами о путешествиях и любимым его чтением были так называемые романы действия, где события часто сходятся с вымыслом, и запутанная завязка, полная таинственности, отвлекает нас от действительности и житейских мелочей.
Многие находят такие произведения ненужными и лишними, требуют, чтоб им описывали только окружающую их повседневную жизнь. Конечно, хорошее изображение повседневной жизни может доставить и удовольствие, и пользу, если оно талантливо, но и произведение, полное загадочной поэзии, отвлекающее нас от действительности, даже сказка, в которой соблюдена художественная правда, являются такими же детищами литературы, и отвергать их вовсе — значит отымать у человечества фантазию, необходимую для творчества. Творчество — коснись оно даже отыскания новой теоремы в геометрии — немыслимо без фантазии, не говоря уже о том, что жить одною только житейскою прозой не в природе человека. Поэтому чем суровее эта жизнь, чем прозаичнее она, тем более потребности в поэзии, и самые фантастические сказки слагаются народами, когда они находятся в первобытном состоянии.
Таково было мнение Урвича, и он держался его, не стыдясь признаваться в этом открыто.
Отца потерял он ещё в детстве и жил с матерью, получавшей небольшую пенсию после смерти мужа. Жили они в университетском городе, в маленьком собственном доме. Всё шло хорошо, пока Урвич был в гимназии и, окончив курс в ней, поступил в университет по филологическому факультету; но когда после сданного в университете последнего экзамена ему пришлось вступить на самостоятельную дорогу, его постигло несчастье — скончалась его мать. Он остался один-одинёшенек на свете.
Были какие-то дальние родственники у него, но он не знал даже хорошенько, где живут они, и потому выходило всё равно, что их не существовало вовсе.
Похоронив мать, Николай Иванович задумался, что же ему делать теперь. Курс в университете кончил он кандидатом. Оставалось только поступить на службу, то есть в какое-нибудь казённое учреждение, или стать учителем. Это обещало сносное — в смысле материальных средств — существование, но существование это должно было слагаться затем из ежедневного, кроме праздников, хождения на службу, писания бумаг или возни с учениками в классе и изо дня в день того же самого, то есть сегодня, как вчера, завтра, как сегодня…
Такая жизнь не радовала Урвича.
Будь с ним его старушка-мать, он, разумеется, живя с нею и для неё, не желал бы себе ничего лучшего и стал бы примерным чиновником или учителем, исправляя свои обязанности так же добросовестно, как добросовестно учился в гимназии, а потом в университете.
Но теперь он был один, и ничто не притягивало его к тому городу, где он родился, вырос и воспитался.
Хорошие воспоминания прошлого оставались при нём, и, рассуждал он, где бы он ни был, они всегда будут для него одинаково дорогими и светлыми.
А между тем его тянуло неудержимо вдаль, ему хотелось повидать чужие страны и чужих людей и попытать своё счастье не в однообразной скучной канцелярии, где такие же неприветливые казённые стены, как в гимназии и университете, а где-нибудь на просторе, где кипит иная, сопряжённая, может быть, с опасностями деятельность.
Его тянул к себе Дальний Восток.
Он знал, что там русские люди, борясь с природой и побеждая косность тёмных, непросвещённых инородцев, совершают новое дело, что там можно приложить свои молодые силы.
Там, чтобы не потеряться, нужна предприимчивость, нужна энергия, и предприимчивый и энергичный человек может сделать там и для себя, и для других гораздо больше, чем здесь, в городе Средней России…
О чём-нибудь особенном, необыкновенном он не мечтал.
Он продал домик, доставшийся ему в наследство, обстановку, какая была, и, выручив около девяти тысяч в чистую, собрался и поехал наудачу, не имея ничего определённого впереди…
Он сел на пароход в Одессе, взяв билет до Владивостока.
II
Попутчиками Урвича были офицеры, отправлявшиеся с семьями на службу в Восточную Сибирь. Он сейчас же со всеми познакомился, и они очень весело сделали переезд до Константинополя,
[1] потом до Порт-Саида
[2] и миновали Красное море, где их помучила-таки жара и влажная духота тропического морского зноя.
В Адене
[3] к ним сел новый пассажир.
За время почти трёхнедельного плавания они настолько сжились и узнали друг друга, что уже составляли тесно сплочённый кружок, и появление в нём нового человека было встречено не особенно сочувственно.
Севший в Адене пассажир оказался французом, ехавшим до Сингапура
[4] только. То, что он был иностранец, до некоторой степени примиряло с ним. По крайней мере, он не понимал, когда говорили при нём по-русски.
Звали его Гастон Дьедоннё. Так он представился, знакомясь с обществом.
С первого же дня выяснилось, что человек он малообщительный. Держаться стал он в стороне, больше сидел в своей каюте или ходил на шканцах
[5] вдоль планширя,
[6] когда все остальные сидели на юте.
[7]
Он вежливо познакомился со всеми, но в разговоры ни с кем не вступал — потому ли, что никто, кроме Урвича, не владел хорошо французским языком, или просто, вопреки обыкновенной привычке своих соотечественников, не отличался болтливостью.
Что едет он до Сингапура, узнали от пароходного старшего офицера. Но зачем именно и почему сел он в Адене и что делал он в этом пустынном и немноголюдном месте, оставалось вполне неизвестным.
Эта скрытность Дьедонне так раззадорила любопытство, что стали с ним сами заговаривать.
В особенности дамы заинтересовались. Жена штабс-капитана, самая бойкая и самая хорошенькая, воспитывавшаяся в институте и изучавшая когда-то французский язык, но успевшая отвыкнуть от него за отсутствием практики, постаралась вспомнить прежнее и наладила несколько фраз, с которыми обратилась к Дьедонне за обедом.
К удивлению всех он ответил ей вдруг несколькими словами на ломаном, но всё-таки русском языке.
— Так вы говорите по-русски? — воскликнули кругом.
— Говорю, но ошень не карашо, — с трудом произнёс Дьедонне.
— Но всё понимаете?
— Понимаю много.
И каждый постарался припомнить в эту минуту, не говорил ли он при французе что-нибудь обидное для него, полагая, что он не поймёт.
В самом деле, странно было встретить в Индийском океане, буквально за тридевять земель от России француза, знакомого с русским языком!
Это обстоятельство ещё больше возбудило догадок и разговоров.
Сам Дьедонне стал, однако, держаться ещё дальше от общества, как будто сожалея уже, что выдал своё понимание русской речи.
На следующий день за обедом бойкая жена штабс-капитана обратилась было снова к нему с расспросами:
— Вы жили в России? — стала допытываться она.
— Нет, мадам, — ответил француз.
— Жили у русских во Франции?
— Нет, мадам.
— Где же вы научились по-русски?
— Я имел сношения с русскими.
— Где?
— Это мой секрет, мадам.
И больше от него нельзя было ничего добиться.
Он только обедал и завтракал вместе с остальным обществом, а целый день держался отдельно вдалеке, и целый день разговор сводился на него.
Из всех высказанных предположений восторжествовало почему-то самое романическое. Кто-то предположил, что француз был, вероятно, влюблён в русскую, и что любовь эта была несчастна.
Это было одобрено всеми, хотя Дьедонне вовсе не был похож на героя романа.
Толстенький, приземистый, с большой круглой коротко остриженной головой, с рыжими торчащими, щетинистыми усами, он походил скорее на торговца, занятого коммерческими расчётами и потому сосредоточенного, угрюмого и нелюдимого.
Урвич менее других принимал участие в разговорах о нём и, казалось, относился к французу совсем равнодушно, может быть, поэтому именно ему и пришлось разговориться с ним.
III
Разговориться, однако, пришлось Урвичу с Дьедонне не скоро, только после Коломбо,
[8] где по расписанию останавливался пароход.
Вход в гавань Коломбо не совсем спокойный: с одной его стороны высовываются опасные каменья, и потому в темноте, при фонарях, не рискуют входить, а рассчитывают так, чтобы подойти к Коломбо при солнечном свете.
По большей части входят утром на заре.
Коломбо лежит на западном возвышенном берегу Цейлона, и солнце встаёт прямо из-за гор этого острова. Издали виднеется ещё в темноте светлая точка высокого маяка Коломбо, потом она начинает тускнеть в сумерках нарождающегося утра, мелькает всё бледнее и бледнее и, наконец, словно тонет в расплавленном золоте, на которое становится похож воздух, пронизанный брызнувшими целым снопом из-за цейлонских гор лучами восходящего солнца.
Сначала слепит оно, и глаза, невольно щурясь, разбегаются, не зная куда смотреть и чем любоваться: так хороши, нежны и красочны оттенки и переливы неба и моря, отражающего его.
Золото прозрачное, расплавленное до состояния мельчайших паров, золото с красными, пунцовыми, малиновыми, розовыми, бледно-зелёными и голубовато-фиолетовыми отражениями! — иначе нельзя назвать почти сказочную красоту этого восхода.
Мало-помалу начинают вырисовываться в этом золоте очертания гор, пальмовые кущи, домики раскинувшегося на берегу Коломбо с высокой башней маяка, словно белый страж, стоящего над городом, и выступает правильная линия мола с таким кажущимся издали узким проходом, что положительно недоумеваешь, как пройдёт в него большой океанский пароход.
Только у самого уже этого прохода видишь, что он достаточно широк, и огромная махина, с трудом раскачиваемая океанской волной на открытой воде, медленно, осторожно, но плавно и свободно минует его.
Урвич вместе со всем остальным обществом стоял под капитанским мостиком, любуясь картиной.
Дьедонне не было с ними. Он хотя тоже встал и оделся, сидел с книгой на шканцах и, словно ничего уже в море не было ему в диковинку, не желал обращать внимания на развёртывавшуюся перед глазами красоту.
Пароход вполз в гавань, тихо прошёл между стоявшими там в две линии судами, завернул и бухнул свой тяжёлый якорь в воду.
Все пошли пить чай в кают-компанию.
Едва сели за стол, в дверь каюты постучался и робко вошёл темнокожий молодой сингалезец
[9] в тропическом белом костюме и в шапке с галуном. Оказалось, что это санитарный врач, явившийся для соблюдения необходимых в каждом порту формальностей.
Пароходный доктор встал к нему навстречу, протянул ему руку, встали и все остальные и тоже поздоровались с ним.
Сингалезец с доктором отошли в сторону, сели к другому столу и быстро переговорили и кончили всё, что было нужно.
Сингалезца стали приглашать пить чай, но он ни за что не хотел сесть к общему столу.
Им подали с пароходным доктором чай за отдельный стол, где они сидели.
Сингалезец был, видимо, тронут оказанным ему вниманием. Он всё улыбался и кланялся, разговаривая с доктором, потом, словно не выдержав, улыбнулся шире, чем прежде, и произнёс как-то полушёпотом:
— Какие вы добрые!..
— Отчего? — спросил доктор. — Что случилось?
— Да ничего особенного. Но если б я явился на английский пароход, меня не только не стали бы угощать чаем, но даже не посадили бы и не подали бы мне руки.
— Неужели?
— Да. Англичане презирают нас. Они считают Индию своею страной, где живут не люди, а рабы.
И сингалезец грустно вздохнул.
Урвич, владевший английским языком, прислушивался к этому разговору доктора с сингалезцем и, взглянув случайно на сидевшего вдали Дьедонне, заметил, что тот тоже внимательно слушает.
IV
Всем обществом ездили на берег, чтобы осмотреть Коломбо, обедали в очень хорошей, богато обставленной гостинице, отведали индийского блюда «кэри»,
[10] состоящего из разваренного риса со всевозможными пряными приправами, катались вечером за городом.
Дьедонне не принимал участия в этой поездке и остался на пароходе.
Отходили на другой день утром.
Урвич, полный новых впечатлений и очень довольный ими, разгуливал по палубе. Остальные пассажиры занимались тем, что, столпившись у планширя, бросали в воду серебряные монеты черномазым мальчишкам, сновавшим кругом на маленьких самодельных лодочках. Мальчишки бросались за монетой в воду и без промаха ловили её. Мало того, ныряя, успевали они ещё заводить под водой драку из-за этой добычи.
Местные лодки в Коломбо не совсем обыкновенные устройства. Узенькие, долблёные, с остроконечной кормой и носом, они соединены двумя деревянными дугами с увесистым поленом, которое плывёт таким образом рядом с лодкой и сообщает ей устойчивость, не особенно замедляя впрочем её ход. Лодочник голый, с перевязкой на бёдрах и с тряпкой на голове, правит и гребёт вместе с тем одним веслом.
Почти перед самым отходом парохода, когда уже собирались поднять трап, подплыла к нему такая лодка, и из неё вышел индиец в белой чалме и белом, лежавшем на его плечах красивыми складками плаще.
Он сказал что-то по-своему голому лодочнику, и тот, кивнув головой, остался его ждать.
— Нельзя на пароход, нельзя, сейчас отходит, — хотел было остановить индийца вахтенный матрос, но тот, словно не понимая, в чём дело, миновал его и, ступив на палубу, начал оглядываться, как бы ища кого-то.
— Вы русский? — спросил он проходившего в это время Урвича.
Урвич остановился.
— Да, русский, — ответил он по-английски, то есть так же, как и вопрос был сделан.
— Вы пассажир тут?
— Да.
— Идёте до Владивостока?
— Да.
— Значит, будете в Сингапуре?
— Вероятно, через семь дней. Так, по крайней мере, обещает капитан.
— Могу я вас попросить об одном одолжении?
— Пожалуйста.
— О! — воскликнул индиец, — если бы вы мне не сказали даже, что вы русский, я бы теперь не сомневался в этом.
— Почему же?
— Потому что русские очень добрые всегда и не отказывают в услуге даже незнакомому для них человеку.
— В чём же дело?
— Могу я вас попросить, — опять повторил индиец, — передать по адресу в Сингапуре письмо?
— Ничего нет легче, — улыбнулся Урвич, — дайте мне ваше письмо, я передам его по адресу в Сингапуре.
Индиец из складок своего плаща достал запечатанный конверт с готовым уже и надписанным адресом.
— Только, пожалуйста, — пояснил он, — не посылайте это письмо по городской почте в Сингапуре, а лучше всего отвезите сами. Может быть, вы и раскаиваться в этом не будете, — добавил как-то загадочно индиец.
Это удивило несколько Урвича.
— Почему же вы хотите, чтоб я непременно отвёз сам? — полюбопытствовал он.
— Потому, — ответил индиец, — что мне важно, чтобы это письмо не попало в руки англичан. Они, не стесняясь, прочитывают наши письма.
— Значит, в этом письме есть тайна, которую вы хотели бы скрыть от них?
— Да. И я надеюсь на благородство русского.
— Будьте покойны, — сказал Урвич, протянув индийцу руку. — Я даю вам слово, что передам письмо из рук в руки тому, кому оно адресовано.
— Благодарю вас!
Урвич достал свою визитную карточку и отдал её индийцу, с тем чтобы, в свою очередь, узнать и его имя, но этого не удалось ему.
— Поднять трап! — раздалась команда.
Индиец поспешил удалиться, иначе ему пришлось бы остаться на пароходе.
Урвич невольно остановился с письмом в руках в полном неведении, как зовут того, который дал ему такое до некоторой степени ответственное поручение.
Он перегнулся через планширь и крикнул отъезжавшему в лодке индийцу:
— А как ваше имя?
Индиец ответил ему что-то, но ветер отнёс его слова, и ничего нельзя было расслышать.

V
Урвич был уверен, что никто не заметил, как он разговаривал с индийцем, передавшим ему письмо, потому что все были заняты отходом парохода и смотрели на Коломбо, прощаясь с ним. Коломбо всем очень понравился и оставил очень приятное впечатление. Однако не успел Урвич отойти от планширя — к нему приблизился Бог знает откуда взявшийся Дьедонне.
— О чём это вы разговаривали с этим индийцем? — спросил он.
Урвич невольно посмотрел на него с удивлением. Нелюдимый француз, которому, казалось, до сих пор ни до чего не было дела, вдруг высказывал совсем, по-видимому, не свойственное ему любопытство.
— Не всё ли вам равно! — улыбнулся Урвич, решив, что рассказывать о письме не надо.
— Он поручил вам передать письмо в Сингапур?
— А вы почём знаете? — вырвалось невольно у Урвича. — Разве вы слышали?
Он голову мог дать на отсечение, что француза не было поблизости, когда индиец обратился к нему со своей просьбой.
«Как же он мог услыхать?»
Дьедонне словно понял недоумение Урвича, но никаких объяснений не дал.
— Жалкий народ эти индийцы! — сказал он только.
— Да, очень, — подтвердил Урвич.
Они поднялись на ют и, разговаривая, сели друг против друга на соломенные плетёные кресла, очень удобные, в особенности в жару.
— Вы подумайте только, — заговорил Дьедонне, словно давно уже у них с Урвичем существовало обыкновение сидеть так и вести беседу. — Вы подумайте только, ведь англичане держат Индию в полном рабстве. Индусы для них теперь — всё равно, что у вас были крепостные когда-то для помещиков. Они собирают с Индии непомерную дань, гнетут несчастных индийцев налогами, а сами благодушествуют и уверяют всех, что Англия — самая либеральная страна в свете. Либеральная — кто говорит, но только для самих англичан. Впрочем, они остальные нации и за людей не считают, а так — за каких-то тварей. К здешним индусам, с которых они дерут по две шкуры, относятся они, как к крысам — с гадливостью, с омерзением.
— Ну, уж это, я думаю, слишком, — заметил Урвич.
— Нет, не слишком, — возразил Дьедонне, — я называю вещи своими именами. Англичанин брезгует индусом. Да вот этот доктор сингалезец, который являлся к нам сюда. Вы слышали, как он рассказывал, что на английском пароходе не только не протянули бы ему руки и не предложили бы чаю, но даже не впустили бы в кают-компанию. А вы знаете, что этот сингалезец учился в самой Англии и имеет диплом доктора медицины? И вот, имея диплом доктора медицины, он служит здесь под начальством английских фельдшеров. Ни более, ни менее… Простые фельдшеры-англичане командуют им только потому, что он сингалезец. И так тут всё. Господа англичане пьют кровь здесь, а там у себя либеральничают и гордятся свободой. Да вы назовите лжецом всякого, кто скажет вам, что Англия — свободная страна. Хороша свобода, если целая Индия не что иное, как крепостные господ, населяющих Англию. Отымите этих крепостных и посмотрите, что останется от пресловутой свободы.
— Знаете, — проговорил вдруг Урвич, сам поражённый пришедшим ему в голову сравнением, — у нас в России во время крепостного права были помещики, которые считали себя свободолюбивыми и последователями Вольтера. Их и звали вольтерьянцами, но это не мешало им бить своих крепостных и жить на их счёт.
— Ну вот, англичане, — подхватил Дьедонне, — точь в точь эти ваши помещики: проповедуют свободу, а сами угнетают несчастную Индию.
— А чудная страна! — невольно заметил не без восторга Урвич.
— Чудная, только изнеженная, — подхватил Дьедонне, — да и забитая: вечный голод, чума, повальные болезни и бесконечные поборы. Эти негодяи англичане у голодного, у умирающего отымают последнее, чтобы там, в Лондоне, справлять торжественные празднества; заседают в парламенте и, соря деньгами, производят подкупом и всякими дозволенными и недозволенными средствами давление на мировую политику, и мир терпит этих господ… Нет, знаете, — заключил Дьедонне, слишком уже расходившись, — я просто не могу спокойно говорить об этом. Бросим. Сыграем лучше партию в домино.
Урвич охотно согласился.
VI
С этого дня, то есть с самого отъезда из Коломбо, после первой сыгранной Урвичем с Дьедонне партии в домино, они стали играть, не отрываясь. С раннего утра они завладевали косточками домино и сидели друг против друга на юте, не переставая играть.
Сначала на это не обратили никакого внимания, но потом всем стало странно такое их поведение.
Но люди они были взрослые, вполне самостоятельные, и могли поэтому делать, что хотели.
В Урвиче произошла, однако, значительная перемена: он вдруг осунулся весь, заметно побледнел, похудел, а руки у него тряслись, и глаза лихорадочно блестели, когда он, видимо волнуясь, брал кость домино, чтобы поставить её.
Пробовали, шутя, отвлечь его от игры, но все попытки оказались напрасны: он, махая рукой, только встряхивал головой и всё же шёл играть.
Так продолжалось во весь переход от Коломбо до Сингапура, и в утро, когда должны были прийти туда, заметили, что Урвичу особенно не по себе и что он говорил что-то французу, тревожно размахивая руками, а тот отрицательно мотал головой.
Наконец он пожал плечами и, как бы согласившись против воли, пошёл играть.
На этот раз они сыграли одну партию. Урвич проиграл её и встал, непохожий сам на себя, с дрожащей челюстью.
Прямо от стола, за которым он проиграл эту последнюю партию, он прошёл в каюту к капитану.
Капитан был у себя; на горизонте только ещё показались очертания Сингапура, до него было далеко, и всходить на мостик было рано.
Капитан встретил Урвича очень любезно, но посмотрел на него не без тревожного удивления: в таком тот был состоянии.
— Я к вам… — начал Урвич, стараясь овладеть собой и казаться спокойным.
— Что такое? — спросил капитан, снимая какие-то книги с диванчика у привинченного к стене письменного стола и освобождая место для Урвича.
— Я пришёл попросить у вас… — начал тот, садясь, — попросить у вас мои деньги.
Капитан взглянул на него и спросил:
— Много?
— Все, — как-то глухо ответил Урвич.
— Все девять тысяч?
Эти девять тысяч, составлявшие всё, что было у Урвича, он сдал на хранение капитану в железный ящик.
— Да, все девять тысяч! — подтвердил опять Урвич.
— Вам они нужны сейчас?
— Да, я желаю их получить до прихода в Сингапур.
Капитан соболезнующе и вместе с тем испытующе поглядел на Урвича, как бы догадываясь, в чём было дело, и не веря этой своей догадке.
— Кроме того, — заговорил опять Урвич, — у меня есть ещё до вас просьба: могу я передать свой билет, оплаченный до Владивостока, господину Гастону Дьедонне?
Капитан, не молодой уже человек, но и не настолько старый, чтобы импонировать Урвичу своими годами, всё-таки по-отечески заглянул ему в лицо, тронув его за руку.
— Послушайте, зачем вы хотите передать свой билет этому французу? Разве вы сами не идёте во Владивосток?
— Нет, — как-то растерянно произнёс Урвич, — а он идёт и не остаётся в Сингапуре.
— Так ли это?
— Ну, разумеется, так.
Капитан подумал с минуту и потом решительно сказал:
— Но этого нельзя сделать! Если господин Дьедонне хочет идти до Владивостока, то пусть возьмёт себе билет, а я не могу допустить, чтобы вы передали ему свой.
— Почему же это? — волнуясь, запротестовал Урвич. — Разве я не имею на это право?
— По правилам — нет.
— Но вы, может быть, сделаете отступление и позволите, не всё ли вам равно?
Капитан долго молча глядел мимо Урвича в открытое окно каюты, в которое виднелось широкое тихое море.
Урвич терпеливо ждал и особенно резко чувствовал привычное и обыкновенно незаметное на ходу дрожанье парохода, и слышал шум машины и работу пароходного винта.
И всё это, казалось ему, не только отдаётся в стенках каюты, но и во всём его теле, которое дрожало внутри.
— Неужели, — услыхал он голос капитана, — вы проиграли все свои деньги и даже билет до Владивостока?
Урвич взялся за голову, не зная, что ответить, и недоумевая, каким образом капитан мог догадаться; как будто это было так уж трудно.
Урвич и не подозревал, что стоило только взглянуть на его взволнованную фигуру, в особенности два последних дня за домино с Дьедонне, чтобы, не сомневаясь, сказать, что они играют на крупную ставку.
Только никак нельзя было ожидать, чтобы проигрыш в такую сравнительно безобидную игру дошёл до цифры девять тысяч.
Началось у них с пустяка, с рубля, потом вдвое, потом опять вдвое; Урвич играл плохо, горячился, не соображал, сам увеличивал куши (так ему казалось, по крайней мере), и, наконец, вчера долг его Дьедонне достиг девяти тысяч рублей, и сегодня утром он упросил француза сыграть последнюю партию на стоимость билета до Владивостока; тот согласился и опять выиграл.
Но Урвичу не хотелось сознаваться капитану в своём безумии. В самом деле, было смешно проиграть в семь дней в домино девять тысяч рублей! Последние партии у них шли по пятьсот и по тысяче рублей.
Урвич ещё не успел опомниться и отдать себе отчёт в том, что он сделал, и потому разговаривал теперь, сам хорошенько не сознавая, что говорит.
— Ничего я не проиграл! — стал возражать он капитану. — Просто переменил намерение, хочу остаться в Сингапуре и для того и беру свои деньги у вас, а билет хочу продать Дьедонне, чтобы не потерять его стоимости. Вот ваша расписка, позвольте мне мои деньги!
Он достал из кармана расписку и положил её на стол.
Всё это было очень возможно и правдоподобно, что он говорил, но голос его, самый вид и выражение, с которым он говорил это, ясно показывали, что он лгал.
VII
В Сингапуре не остановились на рейде, а швартовались у пристани.
Пёстрая толпа жёлтых, чёрных и белых людей, китайцев, малайцев, индусов и европейцев прилила к только что пришедшему пароходу; некоторые влезли на палубу, но большинство толпилось на набережной, предлагая фрукты, раковины и другие незамысловатые товары.
Сейчас же начался торг, и матросы покупали огромные янтарно-жёлтые ананасы, по 5 копеек штука.
Неизвестно откуда набралась сейчас же группа рикшей, возящих в одноместных двухколёсных колясочках людей вручную; к ним направился Урвич, чтобы отвезти письмо индийца по адресу.
Деньги капитан ему отдал полностью, но на передачу билета французу не согласился, и благодаря этому Урвич был обеспечен до Владивостока. Всё-таки было безопаснее добраться до русского города, чем оставаться в Сингапуре без денег и без всякой определённой цели.
Урвич успел уже обсудить своё положение и так или иначе примириться с ним.
Глупо проигранные деньги он отдал Дьедонне и был теперь в душе очень благодарен капитану, что тот насильно оставил за ним билет, чем дал ему возможность попасть во Владивосток.
Как ни жаль было девяти тысяч, но с ними не всё ещё было потеряно; во Владивостоке можно было поступить на службу, и хотя это совсем не соответствовало первоначальным планам Урвича, всё-таки дальнейшее существование было возможно.
Последний свой проигрыш, то есть стоимость билета от Сингапура до Владивостока, Урвич обещался выслать французу со временем по мере возможности и теперь спешил исполнить поручение индийца, чтобы, съехав с парохода, вернуться на него, когда уже не будет Дьедонне, с которым ему не хотелось больше видеться.
Письмо он хранил в своей каюте, пришпилив его кнопками к стене, чтоб иметь постоянно перед глазами и быть покойному за его целость.
Адрес был написан по-английски, очень чётко и ясно.
Держа пакет в руках, Урвич прочёл громко рикшам название улицы и дома, поставленных на адресе, и один из рикш сейчас же отозвался, что он отлично знает этот дом и мигом доставит туда господина.
Урвич сел в колясочку, рикша взялся за оглобли и побежал спешной, привычной его мускулистым ногам рысью.
На небе не было ни облачка, солнце стояло почти над самой головой, и странные для глаза северного жителя короткие тени почти не были заметны, так что всё казалось сплошь облито солнечными лучами: и деревья, и дома, стены которых были одинаково освещены по обе стороны улиц.
Жара была жестокая.
Урвичу вспомнились слова, сказанные как бы вскользь индийцем, что, может быть, ему самому будет интересно передать письмо по адресу.
Это почему-то показалось ему особенно любопытно теперь, в том состоянии, в котором он находился. Ему хотелось отвлечься от своих мыслей и от воспоминания о том, что случилось с ним на пароходе. Он ехал и старался всё своё внимание привлечь к тому, чтобы рассмотреть хорошенько новый и незнакомый ему город.
Смотреть, впрочем, было не на что.
Такая же, как в Коломбо, была тут ровная, отлично утрамбованная и укатанная дорога, которую можно было принять за асфальтовую, если бы не её ярко-красный, совсем пунцовый цвет глины.
Дома с черепичными крышами были каменные, и только окраска их имела до некоторой степени своеобразный характер. Окраска эта была ярко-синяя, такая синяя, какую любят у нас в средних городах мещанки для своих праздничных платьев.
Урвич занялся было соображением, не есть ли эта любовь наших мещанок к синему цвету отдалённый остаток влияния Востока, как вдруг его рикша круто повернул во двор одного из домов, и не успел Урвич опомниться, как в этом дворе кинулись на него люди, ловко, проворно стащили его, повалили на землю, связали по рукам и ногам и заткнули рот платком.
Всё это произошло среди бела дня под ослепительными палящими лучами солнца.
Ни сопротивляться, ни двигаться, ни даже крикнуть Урвич не мог; он только мог видеть и видел, что привёзший его сюда рикша действовал наравне с прочими.
Его подняли на руки и понесли.

VIII
Пароход мог простоять в Сингапуре только сутки, и исчезновение Урвича было замечено не сразу.
В первый день никто не обратил внимания на его отсутствие, потому что и все остальные провели время в городе.
Дьедонне забрал свои вещи и съехал на берег; история его выигрыша была уже известна и с ним простились очень холодно, почти враждебно, но он этим очень мало стеснялся, по-видимому, и был очень доволен и весел.
— Ещё бы не быть весёлым, когда ни за что ни про что получил девять тысяч, обыграв молодого человека! — пустил ему в след кто-то из пассажиров, когда он выходил.
— Тише, ведь он понимает по-русски! — остановил его другой.
— А мне что за дело? Пусть понимает, так ему и надо!
На следующее утро выяснилось, что Урвич, как ушёл вчера, так и не возвращался, и никто его не видал с тех пор.
Капитан, ездивший в город по делам, вернулся за час до отхода, и когда узнал, что Урвича нет, очень забеспокоился.
— Впрочем, — вспомнил он, — Урвич мне говорил, что хочет остаться в Сингапуре! Если он взял с собой свои вещи, то тогда всё обстоит благополучно.
Но вещей Урвич не брал с собой, ничего даже не было уложено у него в каюте, и это служило явным доказательством, что отсутствие его было непроизвольное и независимо от него самого.
— А то, может быть, просто закутил с горя! — высказал предположение один из пароходных офицеров. — Вот подождём назначенного часа для отхода, тогда и ясно станет, пропал он или нет!
— Ну, пропасть он не может! — возражали ему. — Ведь здесь не дикий лес, а благоустроенный город.
— Вполне благоустроенный! — с одобрением подтвердил штабс-капитан.
Он, между прочим, желая постричься, нашёл в Сингапуре такую роскошно обставленную парикмахерскую с куафёром-французом, что и в Европе не часто встретишь.
— Пропасть он, я думаю, тоже не может, — подтвердил и пароходный офицер. — Но как бы он сам над собою чего не совершил; после такого проигрыша не мудрено потерять голову.
И все стали удивляться и говорить, что никто не ожидал, что в домино можно проиграть девять тысяч, и все в один голос старались уверить, как не понравился им Дьедонне с первого раза.
Капитан решил, что если Урвич не вернётся к отходу, то они останутся ещё на день, дадут знать консулу и примут меры, чтобы отыскать бедного молодого человека, или, во всяком случае, хоть узнать что-нибудь о нём.
Пока шли эти толки и пересуды, на пароход из города явился рикша с письмом на имя капитана. Адрес был написан по-русски.
Капитан распечатал конверт, пробежал письмо: оно было от Урвича.
Он писал, что, как говорил о том капитану, не желает ехать дальше, остаётся в Сингапуре и просит с посланным прислать ему его вещи.
— Господа, — спросил капитан, — знает ли кто-нибудь почерк Урвича?
Но почерка никто не знал.
— Как же быть? — спросил капитан. — Почём мы знаем, от него это письмо или нет?
— Но, во всяком случае, это известие о нём! — заметил старший офицер. — Да и русский язык письма говорит в некоторой степени за его подлинность; едва ли кто-нибудь в Сингапуре напишет такое письмо по-русски!
— А француз Дьедонне! — сейчас же в один голос воскликнуло несколько человек.
— Ну, он слишком плохо владеет русской речью.
— Почём знать! Может быть, он нарочно ломал язык.
— Как же быть, господа?
Никто не мог дать подходящего ответа, большинство советовало отправиться к консулу, что было вполне целесообразно, если с Урвичем действительно случилось что-нибудь, и очень неловко, если письмо было от него.
Вопрос разрешил младший помощник капитана, предложив взять вещи Урвича и отправиться вместе с рикшей.
Так и было сделано.
Рикша не выказал никакого противодействия тому, чтобы с ним отправился провожатый.
Вещи Урвича были поручены младшему помощнику, и тот отправился с рикшей.
Вернулся он через час, не более, и сказал, что сам своими глазами видел Урвича и передал ему его вещи. Он действительно желает остаться в Сингапуре и находится теперь в гостинице, поселившись там в одном номере с французом Дьедонне.
— Он просто, значит, хочет отыграться! — решили все хором.
IX
Предположение, что Урвич остался в Сингапуре у Дьедонне, чтобы отыграться, было вовсе неверно. Урвич уже раз навсегда дал себе слово никогда больше в жизни не играть и крепко держать это слово. Не по своей воле попал он в руки людей, связавших его, и также до некоторой степени не по своей воле очутился у Дьедонне, хотя добровольно затем остался у него.
Вот как это произошло.
Когда Урвича связали, его отнесли в подвал с каменными сводами, обшарили его карманы и отобрали все вещи, которые нашлись в них: портсигар, спичечницу, носовой платок, около пяти долларов денег и письмо индийца.
Затем его оставили, связанного, и ушли; он ясно слышал, как захлопнули дверь и задвинули её тяжёлым железным засовом.
Как это ни было странно в положении Урвича, но первое ощущение, которое он испытал в подвале, было некоторое удовольствие. Удовольствие это он ощутил оттого, что в погребе было гораздо прохладнее, чем на улице, и тело приятно отдыхало в этой прохладе.
Если б не связанные ноги и руки, тогда было бы совсем хорошо. Положили его на камышовую циновку, и лежать на ней было достаточно мягко.
В первую минуту Урвич не мог ещё ничего сообразить, но мало-помалу мысли у него начали работать, и он стал обдумывать, стараясь объяснить себе, что же случилось с ним?
Платок изо рта у него вынули.
«Ну, хорошо, — думал Урвич, — очевидно, захватили они меня с целью грабежа, но досталось им не особенно много: пожива небольшая! Но зачем же они теперь держат меня? Не убьют же они его из-за пяти долларов и носового платка!»
Урвич был вместе с тем уверен, что не дадут же ему, в самом деле, пропасть так даром, что о нём спохватятся на пароходе и начнут разыскивать.
В Сингапуре — английская полиция, и ради страха перед нею не посмеют покуситься на его жизнь. Вообще как-то относительно своей жизни он был совершенно спокоен; ему не жаль было ни портсигара, хотя бы покурил он теперь с удовольствием, ни пяти долларов, хотя это были его последние деньги, но более всего его тревожило, что у него отняли письмо.
Он обещал индийцу, что передаст это письмо из рук в руки, кому оно адресовано, а между тем фактически он не имел возможности сдержать своего обещания; одно было успокоительно, что если оно не попадёт по назначению, то, во всяком случае, не попадёт и в руки англичан, чего именно боялся индиец.
«Конечно, — рассуждал Урвич, — этим разбойникам нет никакого удовольствия иметь дело с английской полицией. И самое худшее, они просто выбросят письмо, как совершенно им ненужное».
Но лежать ему было всё-таки неловко, руки и ноги затекли, и верёвки щемили.
Он сделал усилие и, раскачнувшись несколько раз, приподнялся так, что ему удалось сесть на циновке. Он внимательно смотрел на свои ноги теперь, и все усилия его мысли были направлены к тому, чтобы сообразить, каким способом отделаться от несносных верёвок.
В это время дверь в подвал отворилась, вошёл человек с большой жестяной кружкой в руках и, сделав ему знак рукой, чтоб он молчал, поставил кружку на землю и стал развязывать его.
Урвич всё-таки попробовал заговорить о том, что он каютный пассажир с русского парохода, что его соотечественники подымут историю, если что-нибудь случится с ним.
Человек ничего не ответил, поспешно развязал ему руки и исчез за дверью, захлопнув её опять за собой и задвинув засов.
С развязанными руками Урвич легко освободил от верёвок ноги и, расправившись, с удовольствием напился воды, которая оказалась достаточно вкусной, а главное, холодной.
Эта принесённая ему кружка воды и дарованная ему свобода движения доказывали, что крупного зла ему не хотят и что есть надежда к тому, чтобы странное приключение окончилось без особенно крупного несчастья.
«Если они мне принесли пить, — сообразил Урвич, — то дадут, вероятно, и поесть, когда это будет нужно».
И, действительно, через некоторое время тот же человек подал ему в дверь большой кусок хлеба и сыра. Урвичу этот хлеб и сыр показались особенно вкусными, такими, каких он будто никогда не ел до сих пор.
Подкрепившись, он постарался осмотреть свою тюрьму, но осмотр этот не дал ничего утешительного: стены подвала были толстые и каменные, пол тоже каменный, дверь крепкая и маленькое окошко с решёткой такое маленькое, что если б даже не было в нём решётки, пролезть в него казалось невозможным. Волей-неволей приходилось ждать и покориться своей участи.
Наступил вечер, окошечко потемнело. Урвич лёг на циновку, сняв с себя пиджак и положив его под голову.
Он заснул.
Долго ли проспал он так — он не знал; его разбудил стук отворяемой двери.
Ему опять сунули в рот платок, связали руки, закрыли повязкой глаза и на этот раз повели куда-то.
X
Урвича вели с завязанными руками и глазами довольно долго, много раз заставляя поворачиваться.
Ему всё-таки показалось, что они кружат всё по тому же месту.
Наконец он почувствовал, что руки у него свободны, и в тот же миг повязка спала с его глаз.
Он стоял посреди пустынной улицы один. Была ночь, тёплая южная звёздная ночь.
Куда девались его провожатые, было неизвестно — они словно сквозь землю провалились.
Он стоял один среди улицы. Дома кругом казались все одинаково безмолвны, с запертыми дверями и спущенными зелёными жалюзи на окнах.
Урвич несколько раз оглянулся и ни в одном из домов не узнал того, в который завезли его сегодня утром, словно это была совсем другая часть города.
Впрочем, утреннее происшествие случилось с ним так быстро, что он не мог иметь времени, чтобы заметить внешность дома в чужестранном, да ещё азиатском городе, в котором был первый раз в жизни.
И теперь стоял он, положительно не зная, в какую сторону ему направиться. Чтобы попасть на пароход, нужно было выбраться к морю.
Урвич знал, что Сингапурская бухта омывает город с юга, значит, ему следовало повернуть в ту улицу, которая идёт на юг и, держась её направления, выйти к морю, а там, идя по берегу, найти свой пароход.
К тому же мог он встретить и рикшу по дороге. Впрочем, теперь он боялся рикш и решил справиться самостоятельно.
Но если б даже он и хотел рискнуть снова сесть теперь ночью в предательскую колясочку, завёзшую его и днём в западню, он не мог бы этого сделать в настоящую минуту, потому что вокруг него на улице не было видно ни души — ни прохожих, ни рикш, никого.
Очевидно, его завели на окраину, так как портовый город Сингапур не мог замирать вовсе на ночь. Обыкновенно в портовых городах на главных артериях жизнь идёт, не прерываясь целые сутки.
У себя на севере Урвич давно бы ориентировался. Он знал, что по Большой Медведице, соединив мысленно линией две крайние звезды её «кастрюльки», легко отыскать на продолжении этой линии северную Полярную звезду, а по ней узнать, где юг, восток и запад.
Но здесь, почти под экватором, Большой Медведицы не было видно, наверху над Урвичем блестели в синем небе прекрасные, но не знакомые ему звёзды. Он мог только любоваться ими, но никакой помощи оказать они ему не могли.
Он пошёл наугад прямо перед собой в ту сторону, куда был повёрнут, когда развязали ему глаза. Едва он сделал несколько шагов, как от стены ближайшего дома, словно тень отделилась, и к нему стал приближаться голый темнокожий человек с повязанными только бёдрами и чем-то, вроде белой чалмы, на голове.
Он шёл прямо на Урвича. Тот, едва человек приблизился, схватил его за плечо и стиснул, сочтя за лучшее самому напасть первому, чем снова подвергнуться нападению.
Темнокожий, вместо того чтобы
сопротивляться или вообще выказать какое-нибудь враждебное действие, закивал, по-видимому, очень дружелюбно головою и засмеялся.
— Я друг, — заговорил он сквозь смех на ломаном английском языке, на котором объясняются сингапурцы в Коломбо, — я друг,
Nicol Wanich.
Урвич, удивлённый, отпустил темнокожего, поняв, что он хотел объяснить о своей дружбе, и не разобрав, что значили последние его слова.
— Nicol Wanich, — с трудом повторил этот неизвестно откуда взявшийся «друг».
Урвич долго не мог сообразить, в чём дело, пока, наконец, не понял, что таинственные слова
Nicol Wanich должны были обозначать его собственное имя и отчество, то есть «Николай Иванович».
— Ты знаешь, как меня зовут? — спросил он.
Темнокожий закивал опять головою и захохотал ещё громче.
— Пусть господин
Nicol Wanich, — уверенно сказал он, — идёт за мною… Я проведу господина.
— Куда?
— Господин увидит.
— Но откуда ты знаешь моё имя?
— Пусть только господин идёт за мною, я друг господина.
«Я пойду за ним, — решил Урвич, — хотя бы для того только, чтобы узнать, почему известно этому человеку моё имя?»
И он пошёл за ним.
В самом деле, трудно было отказать себе в удовольствии расследовать, кто был этот встретившийся в критическую минуту человек ночью в Сингапуре на пустынной улице и назвавший по имени Урвича, который никогда не бывал здесь в своей жизни.
XI
Темнокожий «друг» шёл впереди, показывая дорогу. Урвич следовал за ним, бодро шагая посреди улицы.
Фонарей не было вовсе, и дорога освещалась только яркими звёздами.
Они шли сначала всё прямо, потом сделали несколько поворотов и вдруг очутились на перекрёстке улицы, освещённой так ярко, как будто тут была торжественная иллюминация.
Урвичу показалось, что он когда-то в детстве где-то видел, в панораме или на сцене, такую улицу.
Двухэтажные дома с причудливыми изломанными крышами и большими фигурными окнами из мелких разноцветных стёкол были освещены изнутри. По стенам домов на далеко высунувшихся шестах висели огромные бумажные фонари, пёстро раскрашенные, необычайно длинные. Висели они не правильными вереницами, а где попало, красивыми светлыми пятнами, блестя в ночной темноте, сгустившейся здесь благодаря свету такой иллюминации.
По освещённой улице ходил народ, а из домов неслась музыка, и раздавалось пение.
Музыка была несуразная, громкая, в ней преобладали ударные инструменты, а пение походило скорее на крик, но всё-таки в этом казавшемся с первого раза нелепом шуме чувствовалось раздолье веселья и известной удали.
Провожатый Урвича подвёл его к одному из домов, сунул какую-то монету сидевшему у входа за столиком китайцу и пригласил своего спутника подняться вверх по лестнице. Лестница была очень крутая, с очень высокими, узенькими и неудобными ступеньками, но зато резная и золочёная.
Поднявшись по ней, Урвич очутился в небольшой комнате, заставленной столиками и освещённой несколькими свесившимися с потолка керосиновыми лампами.
Табачный дым стоял здесь густым синим облаком.
За столиками сидело много разношёрстного народа разных национальностей, прислуживали китайцы в чёрных шёлковых кофтах и расшитых шелками ермолках.
В глубине комнаты было сделано возвышение вроде эстрады, и на ней маленькие китаянки-подростки танцевали, кривлялись и пели по-своему под аккомпанемент диких, нёсшихся откуда-то из-за двери звуков бубна, барабана, стучащих досок и трубы, такой вопиющей, какая была, вероятно, в оркестре еврейского войска, когда её звуков не выдержали и пали иерихонские стены.
Казалось, от этих звуков весь дом ходил ходуном, но сидевшие за столиками, по-видимому, находили всё это очень приятным, курили, пели и веселились.
За одним из столиков подальше от эстрады сидел Гастон Дьедонне.
Увидав, наконец, знакомое лицо, Урвич невольно обрадовался и направился к нему.
— А! Вот и вы! — встретил его француз, ничуть не удивляясь его появлению, как будто он сидел тут и ждал именно Урвича.
— Я рад, что вас встретил… — начал было тот, но Дьедонне перебил его.
— Ну, садитесь! — сказал он. — Берите ваш стакан, он давно готов для вас и выпьем японского пива! Отличное пиво!
И, усадив Урвича к себе за столик, где стояла бутылка и два стакана, он налил пиво.
— Что же это, — спросил Урвич, — вы, значит, знали, что я приду сюда?
— Ну, конечно, знал! — подтвердил Дьедонне. — Как же мне было не знать, когда вас привёл сюда мой человек.
Он кивнул головою. Урвич обернулся и увидал за собой своего проводника, приведшего его сюда.
— Так это ваш человек? — переспросил он. — Вот оно что! Вы научили его, значит, называть меня по имени?
— И с большим трудом! — пояснил Дьедонне. — Он едва запомнил и всё-таки, наверное, переврал. Но, во всяком случае, он исполнил своё дело и привёл вас ко мне… Ты хорошо, — обратился он к темнокожему, — исполнил моё поручение. Я благодарю тебя. Можешь идти.
Темнокожий ухмыльнулся, оставшись, видимо, доволен похвалой, поклонился, приложив ладонь ко лбу, и ушёл.
— Что же это всё значит? — стал спрашивать Урвич. — Во-первых, где мы теперь и который час?
Часов он не взял с собою, потому что их некуда было деть в тропическом белом костюме, да если б и взял, то, вероятно, их отобрали бы у него вместе с другими вещами.
— Теперь около двух часов ночи, — сказал Дьедонне, — но мы можем сидеть здесь сколько угодно, потому что вся эта улица китайских кабачков торгует до утра. Теперь мы сидим с вами в китайском кабачке, можем пить и наслаждаться восточной музыкой и пением. А что случилось с вами, я готов, пожалуй, объяснить вам сейчас.
XII
— Вы, — начал Дьедонне, — сойдя сегодня утром с парохода, направились к рикшам и имели неосторожность прочесть им вслух адрес письма.
— Почему же неосторожность? — остановил его Урвич.
— Вы увидите это потом! Один из рикшей вызвался сейчас же везти вас, но привёз не по адресу, а совсем в другой дом!
— Это-то я всё знаю, — перебил Урвич. — Но каким образом вы узнали об этом?
— Очень просто, — пояснил Дьедонне. — Когда вы сошли с парохода, я тоже сошёл за вами вслед; я боялся, чтоб вы не вздумали сотворить над собой что-нибудь из-за вашего проигрыша. Ведь вы мне проиграли всё ваше достояние?
— Всё, — сказал Урвич.
— Ну вот, я и боялся, что вы окончательно потеряете голову. На набережной ждал меня мой человек Кутра — его зовут Кутра — и я приказал ему следить за вами. Он побежал за повёзшим вас рикшей и видел, как вас завезли в ворота дома; он вернулся ко мне и рассказал об этом, а я велел ему идти и стеречь дом, с тем чтобы, когда вас выпустят, он привёл бы вас прямо ко мне сюда, в этот кабачок.
От дыма, света ламп и китайской музыки у Урвича кружилась голова больше, чем от стакана пива, который он выпил залпом.
Кругом приходили и уходили люди, сновали служители-китайцы, и на эстраде беспрестанно сменялись китаянки; вся эта обстановка производила своим шумом, пестротой и движением одуряющее впечатление.
— Хорошо, — проговорил Урвич, стараясь наладить свои мысли на последовательность, — но почему вы знали, что меня должны выпустить?
— Потому что и мне, и Кутра известен дом, в который вас завезли, как подозрительный.
— A-а! Так этот дом известен в Сингапуре! — воскликнул Урвич. — Помилуйте, там ведь прямые мошенники, обобравшие меня! Как же полиция терпит такой дом, если он известен?
— Он известен, но не всем!
— Пусть не всем, но достаточно и этого, чтобы на обязанности полиции было принять нужные меры.
— Но здесь полиция английская!
— Что вы хотите этим сказать? Я слышал до сих пор, что английская полиция отличается своими порядками и что она лучшая во всём свете!
— Не лучшая, — поправил Дьедонне, — но наиболее дерзкая, и это доказывается ещё раз существованием в Сингапуре дома, куда вас завезли. Знаете ли, у кого вы были в гостях?
— Ну? — спросил Урвич.
— У самой этой английской полиции!
— Позвольте, как же так?.. — забормотал Урвич, решительно уже сбитый с толку. — По-вашему, я был в гостях у английской полиции, и полиция же обобрала меня? Кому же жаловаться на это?
— Мой совет — никому!
— Но нельзя же оставлять такие случаи безнаказанными. Я обращусь к нашему консулу, напишу об этом в газетах, буду кричать на всех перекрёстках. Положим, здесь Азия, но селение тут европейцев, и я уверен, что добьюсь своего.
— Ничего не добьётесь! Вас везде будут слушать с любезным вниманием, соболезновать вам, ужасаться даже, сделают вид, что перебрали всех рикшей, будут производить строжайшее следствие, выкажут полную готовность, так что вам никого не в чем будет упрекнуть, но заранее предваряю вас, что ничего не найдут и под сурдинку будут рассказывать, что вы выдумали всё это с пьяных глаз.
— Но позвольте, у меня есть свидетель!
— Свидетель?
— Ну, да! Ваш же Кутра! Он видел, как завезли меня в этот дом, и видел тоже, как меня вывели оттуда.
— Нет, Кутра ничего свидетельствовать не будет.
— Почему же?
— Потому что и его свидетельство ни к чему не приведёт. Дом обыщут и ничего не найдут в нём подозрительного, а между тем бедного Кутра сживут со света. Не беспокойтесь, его ничем не заставите говорить, когда он этого не захочет, а что он не захочет, я ручаюсь вам.
— Но в таком случае, что же делать? Неужели так и терпеть, чтобы сама полиция грабила мирных путешественников?
— Вот в этом вся и штука, — остановил его Дьедонне, — что вы не были вовсе мирным путешественником.
— Как так?
— А письмо, которое поручил вам индиец?
— Значит, всё дело в письме!
— Да.
— И оно попало в руки англичан? Ну, уж это не моя вина! — добавил Урвич, разведя руками. — Но если так, отчего же не взяли меня прямо, открыто?
— Оттого, — пояснил Дьедонне, — что по английским законам личность человека считается неприкосновенной.
— Вы говорите, — усмехнулся Урвич, — что по английским законам личность человека считается неприкосновенной, а между тем я на себе испытал сегодня совершенно обратное.
Дьедонне покачал головой и налил ему в стакан ещё пива.
— Видите ли, — заговорил он, — полиция не имела права открыто отнять у вас письмо и для этого разыграла комедию, что будто бы вас обобрали рикши; хорошо ещё, что эта комедия не зашла далеко и что вы отделались сравнительно благополучно. Конечно, вы и не знали, принимая письмо от индийца, что берёте на себя довольно опасное поручение. Очевидно, за индийцем в Коломбо следят так же, как следят здесь за тем, кому адресовано это письмо. В Коломбо видели, что оно было передано на русский пароход, дали знать об этом в Сингапур по телеграфу, и вот полицейский агент в виде рикши предложил вам свои услуги и якобы ограбил вас.
— Всё это очень хитро, — проговорил Урвич, — но согласитесь, что нельзя сказать, чтобы это было честно. И такие чисто мошеннические уловки недостойны власти.
— Только не английской, — перебил Дьедонне. — Английские власти не имеют обыкновения разбирать средств, когда им это нужно. Будь то маленькое дело, как ваше, или большое, вроде уничтожения кого-нибудь из враждебных англичанам политических деятелей в чужой стране. Они смотрят так, что убивают же на войне тысячи людей, так отчего же не покончить с одним, если он мешает английским интересам в политике. Политика — та же война!
Хорошо было рассуждать Дьедонне, но Урвич чувствовал себя очень скверно. Хотя он и не был виноват, как говорил, в том, что письмо индийца попало в руки англичан, но всё-таки это было ему более чем неприятно. В особенности потому, что он так определённо обещал передать письмо только из рук в руки адресату.
Он опустил голову и закрыл лицо руками.
— Что с вами? — спросил Дьедонне.
— Как что со мною! — ответил Урвич. — Больнее всего мне в этой истории, что порученное мне письмо попало именно туда, куда оно не должно было попадать!
— Нет, оно попало именно туда, куда следует! — произнёс спокойно Дьедонне.
— Вы находите, что английской полиции следовало захватить это письмо?
Дьедонне улыбнулся и покачал головой:
— Она не захватила его.
— Как так? Вы же сами говорите, что меня ограбили переодетые агенты, а я знаю наверное, что они вытащили у меня портсигар, платок, пять долларов и конверт!
— Но в этом конверте, — понизив голос, сказал Дьедонне, пригибаясь к Урвичу, — не было письма! Конверт вы пришпилили кнопками к стене своей каюты. По дороге от Коломбо сюда, в то время, как вы спали, конверт этот был снят, письмо вынуто, вместо него был вложен чистый лист бумаги, и господа англичане, ограбившие вас, захватили только этот чистый лист, а подлинное письмо было отправлено по адресу и было передано в руки, кому следовало.
— Кто же всё это сделал?
— Я! — сказал Дьедонне.
— Как же вы осмелились?.. — начал было Урвич.
— Но иначе английская полиция узнала бы то, что ей не следует знать!
— Так вы предвидели, что должно было случиться со мной?
— Нет, лгать не хочу, — заявил откровенно Дьедонне. — Письмо я взял совсем с другою целью и хотел обратно положить его на место, но, к счастью, не успел сделать этого: оно вышло к лучшему!
— Какая же это цель? — спросил Урвич.
— Об этом я не стану вам рассказывать. Это до некоторой степени моя тайна, тем более, что мне нужно ещё поговорить с вами о деле, которое, может быть, серьёзно заинтересует вас.
— Серьёзно заинтересует меня? — переспросил Урвич.
— Да! Ваше положение теперь, насколько я могу судить, более чем тяжёлое — денег у вас нет; скажите, пожалуйста, идёте вы во Владивосток на что-нибудь определённое или же так просто, искать счастья?
— У меня нет ничего определённого, — проговорил Урвич.
— Отлично! Я так и думал! — до некоторой степени радостно подхватил Дьедонне. — Вы человек одинокий?
— Вполне.
— Превосходно. Тогда я почти уверен, что мы сойдёмся.
— Смотря на чём, — заметил Урвич.
— На том, что не всё ли вам равно, где искать счастья — во Владивостоке или в ином месте; правда, то, что я хочу предложить вам, сопряжено с некоторым риском и опасностью, но зато может принести большие барыши, может быть, миллионы.
— Уж и миллионы? — недоверчиво улыбнулся Урвич.
— А вот увидите! Поговорим.
Им принесли новую бутылку пива, и Дьедонне стал рассказывать, в чём состояло дело, которое он хотел предложить Урвичу.

XIII
— Если вы человек одинокий и совершенно свободный, — говорил Дьедонне Урвичу, — и ничего не ждёте лучшего впереди, то подумайте о том, что я скажу вам. Мне посчастливилось выиграть у вас все ваши деньги, девять тысяч рублей, но это сущие пустяки в сравнении с тем, что я могу дать вам или, вернее, вы сами получите, войдя со мною в сношения.
Они разговаривали, понизив голос и не обращая внимания ни на движение в кабачке, ни на ужасную китайскую музыку, гремевшую без умолку.
— Но только об одном должен я предупредить вас, — остановил Урвич француза, — если в вашем предложении есть что-нибудь… не так, — договорил он, замявшись, — я не соглашусь, хотя бы вы мне действительно сулили миллионы.
— Дело и идёт о миллионах, — подхватил Дьедонне, — только будьте покойны, ничего в нём нет такого, что бы заставило вас идти против своей совести.
— Тогда рассказывайте, я слушаю, — согласился Урвич.
— Вот, видите ли, вам известно, конечно, во сколько раз морская поверхность превосходит на земном шаре сушу. Необъятные пространства эти кажутся нам хорошо исследованными, описанными, и мы воображаем, что, имея географические карты (вполне ли точны они все, Бог весть), мы знаем океаны так же хорошо, как и сушу… Странное и мало на чём основанное заблуждение!
— Ну, позвольте, — перебил Урвич, — нынче идёшь по океану, словно по модной улице: то и дело попадаются суда; кажется, всё изъезжено вдоль и поперёк.
— Ошибаетесь. Вы встречаете много судов на торном их пути, по которому сами идёте на пароходе, но это вовсе не значит, что по всему океану так будет. Эти торные пути, нет слов, изучены превосходно и много по ним движения, но сами эти пути ничтожество в сравнении с остальным водным пространством. Отойдите в сторону от этих путей, и вы очутитесь в водной пустыне и можете идти по ней месяцы, не увидав ни одной мачты… Несколько мореплавателей, имена которых наперечёт, обследовали океаны, составили описания, которыми мы пользуемся, но явись новый любопытный, он нашёл бы многое, что исправить в этих описаниях и, во всяком случае, дополнить. Право, мы лучше знакомы с бесчисленным количеством звёзд на небе, чем с островами, в особенности, малыми, хотя бы Великого океана… Дело в том, что небо мы можем изучать, сидя в обсерватории, никуда не двигаясь, а к острову надо подплыть на корабле, что и хлопотливо и часто рискованно и очень дорого. Да и не острова одни! Почём вы знаете, что таится в этой водной пустыне, составляющей большую часть земной поверхности, какие корабли, какие суда плавают по ней вдали от обычного пути пароходов? В гавани эти суда кажутся самыми обыкновенными, иногда нагружёнными товарами, иногда богатыми яхтами, но кто знает, что делают они в открытом море и какие преследуют цели? Вы думаете, нет теперь торга невольниками, нет пиратства? Недавно ещё английская канонерка в Персидском заливе выдержала целое сражение с невольничьим кораблём! Случалось ли вам когда-нибудь, сидя на берегу моря, или вот когда вы шли теперь на пароходе, всматриваться в бесконечную даль и прислушиваться к шуму волн и ветра? Словно голоса какие-то чудятся в этом шуме, и волны, набегая друг на друга, будто хотят рассказать что-то, известное им одним, таинственное и заманчивое… Так и веет отовсюду в океане, чуть забеспокоится он, тайной и загадкой… Надо быть очень близоруким, чтобы воображать, что всё везде так, как на палубе обыкновенного курсового парохода. Нет, мы ещё пока только гости моря, но не хозяева его, и многое для нас в нём сокрыто.
— Да вы поэт! — усмехнулся Урвич.
— Нет, я только, может быть, плавал больше других, — отозвался скромно Дьедонне.
— И, пожалуй, разгадали одну из морских тайн?
— Не разгадал, но узнал. Да, мне известна одна тайна, и на ней основано моё будущее благополучие, и, если вы захотите, — ваше.
— Это любопытно, — сказал Урвич.
— Я долго искал, — продолжал Дьедонне, — подходящего для себя человека, и вот, наконец, судьба послала мне вас, — кивнул он Урвичу и чокнулся с ним, — мы встретились случайно. Вышло так, что мне посчастливилось выиграть ваши последние деньги. Это послужило для меня как бы указанием, что я должен именно остановиться на вас. У меня не хватало денег, и не было надёжного человека, и вдруг пришло и то и другое сразу… Мы, моряки, суеверны и, как хотите, для вас было во встрече со мной что-то роковое… А для меня — знаменательное.
— А вы моряк? — спросил Урвич.
— По призванию… И недаром я люблю море. Оно теперь вознаградит меня щедро при вашем посредстве за мою любовь к нему.
— В чём же должно заключаться это моё посредство? — полюбопытствовал Урвич.
— В том, что я с завтрашнего же дня приобретаю тут шхуну, теперь у меня денег достаточно, и за ту сумму, которую я могу заплатить за неё, я рассчитываю получить недурное парусное судно с достаточно быстрым ходом. Я снаряжу его, найму шкипера и команду, и вы отправитесь на нём.
— Куда?
— Я укажу вам широту и долготу, а вы, в полное распоряжение которого поступит шхуна, уже в море прикажете идти туда шкиперу.
— И что же там, на этой широте и долготе?
— Остров, не отмеченный на официальных картах.
— И известный вам?
— Да.
— И что же на этом острове?
— Сокровище, клад, называйте, как хотите.
— Складочное место добычи морских разбойников, — подсказал Урвич, вспоминая замысловатые английские и французские романы с рассказами о невозможных приключениях на суше и в особенности на море.
— Нет, — серьёзно перебил Дьедонне, — нет, это не складочное место добычи морских разбойников. Там такое скоплено богатство, что его хватит и для меня, и для вас, и для десятка таких, как мы с вами.
— Кем же скоплено?
— Не будьте слишком любопытны. Что могу, я вам рассказываю, а о чём молчу, того не скажу, сколько б вы ни спрашивали.
— Но почему вы имеете право распоряжаться этим сокровищем, или, вернее, дадите ли вы мне доказательство, что имеете это право? Я должен знать это.
— О, в этом не сомневайтесь. Я дам вам несомненное доказательство.
— Какое же?
— Ключ от хранилища. Я думаю, что тот, кто владеет ключом, может распоряжаться тем, что заперто под замком, от которого этот ключ?
— Положим. И вы меня отправите одного?
— С командой. Но никто из команды, ни даже шкипер, не будут знать о цели путешествия. Я научу вас, как поступить там, на месте, чтобы скрыть от них… Нынче на наёмных людей нельзя полагаться.
— А на меня, вы думаете, можно?
— Думаю.
— Почему же? Ведь вы меня совсем не знаете?
— Во-первых, потому что вы русский.
— Спасибо за лестное мнение о русских, но разве среди них нет способных на обман?
— Может быть, но русский человек, то есть, я хочу сказать — хороший русский человек, прямодушен и откровенен, и его узнать легко, а мы с вами провели вместе целую неделю, и потом — вы ещё слишком молоды, жизнь не испортила вас, да и то, как вы со мной теперь говорите, доказывает, что вы не способны ни на что дурное.
— Так что вы уверены, что я не обману вас?
— То есть как же обманете?
— Захватив на вашем острове всё, что можно, ничто не помешает мне не возвращаться к вам в Сингапур, а отправиться в любую гавань, с тем чтобы не встречаться с вами никогда.
— Вы этого не сделаете! — воскликнул француз.
— Конечно, не сделаю, — рассмеялся Урвич, — но вы-то уверены в этом?
Дьедонне задумался.
— Да, я уверен, — произнёс он, наконец. — Итак, вы согласны?
— Не совсем ещё. Мне надо, чтобы вы ответили ещё на один вопрос.
— Спрашивайте. Если можно, я отвечу.
— Почему вы искали какого-то надёжного человека и, найдя меня, хотите меня посылать, а не отправитесь на шхуне сами?
Дьедонне ответил не сразу.
— Как вам сказать, — раздумчиво произнёс он, — если бы я хотел солгать вам, я бы, конечно, нашёл сотню причин более или мене правдоподобных, но я вам открою правду: я дал клятву, что никогда не отправлюсь сам на этот остров. Хотите верьте, хотите нет: я боюсь нарушить эту клятву и знаю, что её нарушение будет несчастно для меня, а до сих пор я был счастлив и хочу оставаться счастливым.
Они говорили ещё долго, и результатом их разговора было то, что Урвич согласился на предложение француза.
Заманчивость и таинственность этого приключения привлекали его сами по себе. О возможности обогащения он как-то даже и не думал.
Порешив с Дьедонне, он отправился с ним в гостиницу и на другой день послал на пароход за своими вещами, которые и были привезены ему под конвоем младшего помощника капитана.
XIV
Дьедонне сказал, что на снаряжение шхуны понадобится ему не более недели времени.
Он успел уже присмотреть подходящее судно и знал какого-то шкипера, по его словам, очень опытного, который возьмётся доставить Урвича, куда угодно.
Относительно экипажа тоже беспокоиться было нечего. Человек восемь матросов всегда можно было найти в таком большом портовом городе, как Сингапур, а более восьми человек и не требовалось на шхуну.
Все хлопоты француз взял на себя и предоставил Урвичу полную свободу, сказав ему, что он может делать, что ему вздумается в течение недели.
В виде аванса в счёт будущих благ Дьедонне выдал Урвичу пятьсот рублей.
Такая щедрость должна была служить довольно серьёзным доказательством, что впереди действительно предстояла выгода не маленькая.
Урвич не думал о том, что эти деньги были частью, и очень небольшою, выигранных у него французом девяти тысяч.
Увлечённый необычайностью предприятия и подзадориваемый постоянными рассказами и обещаниями Дьедонне, он забыл уже о проигрыше.
С деньгами в кармане Урвич проводил время очень весело: катался за городом, осматривал окрестности, ездил в ботанический сингапурский сад на музыку.
Ботанический сад в Сингапуре занимает широкую площадь и обсажен очень красиво, а с научной стороны очень богато. В нём, говорят, растут все существующие виды пальм. И в самом деле там такое разнообразие в этих деревьях, что глаз невольно теряется, и не знаешь, на что смотреть: любоваться ли роскошью раскиданных ветвей, торчащих причудливой шапкой на высоких стволах, или удивляться оригинальности форм и очертаний некоторых древесных пород, о которых даже и по картинкам северянин не имеет представления.
Особенно странны так называемые «железные» пальмы, прямые, стройные, неподвижные, с правильными дугами правильно расположенных на верхушке ветвей, твёрдые листья которых будто искусственно отогнуты; пальмы эти вполне оправдывают своё название и кажутся сделанными из железа и подкрашенными масляной краской, причём в цвета не совсем натуральные и обычные для растений: листья у них слишком густо-зелены, а стволы серы, как дикий камень. Эта игра природы доходит до такого обмана, что не веришь, что пальмы настоящие, до тех пор пока не потрогаешь их. Попадаются экземпляры и каменных, то есть словно высеченных из камня, растений.
Но самую большую редкость сингапурского ботанического сада, редкость, хранимую с большою тщательностью, защищаемую особыми щитами от солнца, усердно поливаемую холодной водой, составляет маленькое хвойное деревцо, похожее, впрочем, довольно отдалённо на нашу ёлку. Она выродилась под экватором в игрушечное садовое растение с такими же, как и её иглы, зелёными и сочными ветками. Что напоминает в этом растении нашу ёлку, так это её смолистый запах.
Так мы взращиваем в теплицах тропические деревья, а в Сингапуре, под экватором, холят в тени и выращивают нашу ёлку. Каждому своё.
На большой, усыпанной песком и хорошо укатанной площадке, обставленной скамейками, играет хор военных трубачей.
Несмотря на то, что трубачи эти английские, а площадка находится в тропическом ботаническом саду, красоты которого разве, и то слабо, передаются у нас только на декорации в театре, всё остальное совершенно то же, что и у нас в провинциальном городе на музыке. Те же обдуманные наряды дам, та же щегольская походка военных и те же приёмы общества, гуляющего в саду на музыке.
По крайней мере, Урвич, как только осмотрелся, сейчас же вывел такое заключение.
Он сразу, как у себя в родном городе на бульваре, отличил и жену полкового командира, державшуюся так, словно она была тут хозяйка, и словно играла её собственная музыка, и её мужа, к которому подскакивали офицеры, когда он взглядывал на них, и отдельный весёлый кружок мужчин, собравшихся вокруг местной красавицы, которой завидовали остальные дамы и полковая командирша в том числе.
Разночинцы держались в стороне от этой аристократии.
«Люди — везде люди!» — философски подумал Урвич.
XV
Через неделю шхуна была готова.
Командир, нанятый Дьедонне, шкипер-англичанин мистер Нокс перебрался уже на неё, и восемь человек команды заняли своё помещение.
Это всё были ражие молодцы, загорелые и здоровые, из которых, как они сами уверяли, каждый стоил трёх обыкновенных матросов. Они хотели уверить этим, что они матросы необыкновенные.
В самом деле, при одном взгляде на них можно было сказать, что они, вероятно, с морем знакомы лучше, чем с сушей, и что большую часть своей жизни провели на воде.
Шхуна им, по-видимому, очень пришлась по вкусу. Они с удовольствием вычистили её, отскребли палубу, заблестевшую на солнце, как зеркало, натёрли медь и привели всё в такой порядок, что он сделал бы честь и военному судну. Дьедонне это очень понравилось.
— Прекрасный признак, — сказал он Урвичу. — Если судно полюбится экипажу, плавание будет счастливо.
В числе восьми человек команды был взят старый кок, то есть повар, очень тихий, робкий и подобострастный. Звали его Джон.
Урвич нашёл его лучше других и очень удивился, когда шкипер Нокс заметил, что вся команда хороша, только этот старый Джон кажется ему подозрителен.
— Что ж вы находите в нём? — даже обидясь за старика, спросил Урвич.
— Слишком уж он тих, — сказал Нокс, — таких в море мы не любим. Такие для берега годны только.
У Нокса, как уже успел это заметить Урвич, всё, что относилось к берегу, было достойно презрения, и потому его слова про Джона являлись высшим порицанием.
Урвич чувствовал, что и к нему самому Нокс относится, как к береговому, несколько свысока; это задело его самолюбие, и он сразу стал смотреть на шкипера недружелюбно.
Нокс ему казался грубым и невоспитанным. Он почти не разговаривал, а на обращённые к нему вопросы отвечал отрывисто, часто не поворачивая даже головы и не глядя на того, кто спрашивал. Слова он цедил сквозь зубы, не выпуская изо рта коротенькой трубки.
Старый Джон, наоборот, отличался словоохотливостью, говорил немножко нараспев и поразил Урвича своею угодливостью. Он сейчас же стал расспрашивать, какие кушанья любит Урвич, и обещался сготовить такой обед, что ни один король в мире не ел такого.
Урвич относился к еде всегда с удовольствием и умел сам приготовлять несколько кушаний.
Вообще он остался очень доволен коком и положительно невзлюбил шкипера.
Остальная команда тоже относилась к коку очень хорошо, даже как будто с некоторым почтением, что, впрочем, могло происходить вследствие почтенных лет Джона. Джон был значительно старше годами всех остальных.
Накануне дня, назначенного для отплытия, когда Дьедонне привёл Урвича на шхуну, чтобы показать ему её во всех подробностях, Нокс подошёл к французу и довольно решительно заявил:
— Не нравится мне Джон. Пока есть время, нужно взять другого кока.
— Что же вы имеете против него? — спросил Дьедонне.
— Ничего.
— Он был груб с вами?
— Нет, наоборот, слишком почтителен.
— Так нельзя же прогнать человека за слишком большую почтительность… Согласитесь, что это не проступок.
— А я говорю вам, что он подозрителен.
— Что же он может сделать?
Нокс помолчал, подумал, но прямого ответа не нашёл.
— А чёрт его знает! Я по нюху говорю. Не нравится он мне.
— А мне, наоборот, он очень нравится, — вмешался в разговор Урвич, — и я положительно не знаю, что можно иметь против этого старика. Мало ли кто нам не нравится!
Нокс ничего не возразил, нахмурил только брови и продолжал курить свою трубку.
— В самом деле, — проговорил и Дьедонне, — этот Джон вовсе не кажется мне дурным человеком. Да и вы как командир шхуны будете иметь полную власть над ним. Если он изменится в море, вы сможете справиться с ним. Справляетесь же вы со стихиями, — добавил француз, желая свойственной его нации любезностью окончательно победить Нокса, — так неужели стоит после этого говорить о каком-то несчастном старике?
Упрямый Нокс, хотя и не был побеждён даже таким аргументом, но всё-таки замолчал, и судьба Джона была решена. Он остался коком на шхуне.
XVI
«Весталка» — так называлась шхуна, на которой Урвичу приходилось сделать его несколько странное путешествие — была по виду крепким и надёжным судном.
Нагружена она была только балластом, провизией и пресной водой. Благодаря отсутствию какого-нибудь другого груза, помещение для команды было очень просторное.
На корме «Весталки» помещалась маленькая, но очень уютная кают-компания с верхним светом из люка, со столом и с вертящимися стульями вокруг него, как на самом богатом океанском пароходе.
В стене против входа был сделан шкаф для посуды, а рядом была дверка в кладовую, сплошь наполненную ящиками с бутылками рому.
Запас этих ящиков был так велик, что Урвич невольно удивился.
— Зачем же столько рому? — спросил он у Дьедонне. — Неужели вы думаете, что мы купаться в нём будем?
— Тсс, — остановил его француз, — ключ от этой кладовой будет храниться у вас. Никто не знает про этот ром, кроме вас, даже капитан, и вы молчите о нём до поры до времени. Я вам скажу потом, зачем он приготовлен… он будет нужен вам, когда вы придёте на место.
По сторонам кают-компании отворялись две двери ещё в две каюты: одна была отдана в распоряжение капитана, другая предназначалась для Урвича.
В своей каюте Урвич нашёл очень удобную койку, соломенное плетёное кресло, мягкое и покойное, стол с шкафиком внизу для вещей, полку с книгами, плотно уставленными и заложенными крепким бруском на случай качки, умывальник, стенную масляную лампу, какие обыкновенно бывают на кораблях.
Всё это было очень хорошо, прочно и красиво устроено.
В особенности тронуло Урвича внимание Дьедонне относительно книг.
Единственным существом, с которым он мог перемолвиться словом, был капитан, но человек этот, казавшийся нелюдимым, угрюмым и неразговорчивым, совсем не обещал ничего приятного своим обществом.
Поэтому книги являлись очень кстати и за них Урвич остался очень благодарен французу.
Тут были французские романы, какие-то, французские же, стихи, несколько разрозненных томов путешествий и исследование о драгоценных камнях.
Конечно, выбор мог бы быть и лучше, но спасибо было и за это.
За койкой в каюте был сделан секретный ящик, так искусно спрятанный, что Урвич, даже узнав о его существовании, с трудом нашёл его.
Он открывался с помощью очень сложного механизма — нужно было надавить кнопку, которая была в ряду гвоздей, державших деревянную обшивку каюты, и сама была похожа на гвоздь.
Если надавить эту кнопку, отпадала дощечка, и за нею был небольшой рычаг. Его нужно было повернуть тоже умеючи, и только тогда открывался ящик.
Ящик оказался довольно поместительный. Он был совершенно пуст.
— Погодите, это ещё не всё, — сказал Дьедонне. Он отпер ключом крышку стола и поднял её.
Там лежала географическая карта, сделанная довольно примитивно от руки на куске картона.
— Это карта какого-то острова? — спросил Урвич, взглянув на неё.
— Остров Трёх Могил, — сказал Дьедонне.
— Тот, куда нам придётся идти?
— Да.
— Она правильная?
— За правильность её я ручаюсь вам.
— Отчего же она сделана от руки?
— Оттого, что другую такую едва ли найдёте. Этот остров не помечен на официальных картах. Я вам говорил, что много есть в океане неизвестного и неисследованного; и вот, между прочим, неизвестен и этот остров. Моряки хорошо знают те пути, что лежат на обычных рейсах. Этот остров выдаётся из океана в сторону, и потому пока до него нет дела официальным картам.
— Хорошо, — сказал Урвич, рассматривая карту, — вы называете этот остров Островом Трёх Могил. Значит, он всё-таки известен кому-нибудь, если носит особое название?
— Конечно, известен, — согласился Дьедонне.
— Но почему же название у него такое… несколько странное?
— Потому что на нём действительно существуют три могилы, и они-то и составят цель вашего путешествия.
— Могилы?
— Да. Слушайте теперь внимательно, что я буду говорить вам. Когда вы придёте к этому острову, вы скажете капитану, чтобы он обогнул его и вошёл в эту бухту с южной стороны.
Дьедонне показал на карте бухту, о которой говорил.
— Она достаточно глубока, — продолжал он, — и достаточно защищена от моря выдавшейся косой, как вы видите, чтобы в ней нашла наша шхуна безопасную стоянку. Если всё время вам будет ветер попутный, вы придёте к острову в полнолуние и сможете действовать тогда одинаково хорошо при свете луны, как и при свете солнца, даже лучше, чем при свете солнца, потому что при луне вы всё будете видеть, что нужно, а сами легко скроетесь от нескромных и любопытных глаз. Нужно обмануть во всяком случае эти нескромные и любопытные глаза. Надо сделать так, чтоб ни капитан, ни — главное — команда не знали, зачем вы явились на неизведанный остров… Для этого вы сделаете вот что: как только шхуна бросит якорь в южной бухте и паруса будут убраны, вы дадите команде столько бутылок рому, сколько потребуется для того, чтобы все перепились к ночи вмёртвую.
— Так вот зачем вы сделали такой запас! — усмехнулся Урвич.
— Теперь поняли! — подхватил Дьедонне. — Этого запаса хватит, чтоб споить их. Постарайтесь также угостить шкипера. Впрочем, о нём не нужно беспокоиться. Командиру парусного судна столько хлопот на ходу, и столько он будет недосыпать ночей, что на стоянке в безопасном месте рад будет отдохнуть, завалится спать и заснёт, как убитый. Сами вы, разумеется, не пейте.
— Ну, конечно! — опять улыбаясь, сказал Урвич.
— Сами вы не пейте, — повторил француз. — К ночи ваша публика будет в таком состоянии… то есть она должна быть, — поправился он, — в таком состоянии, что не смогла уследить ни за чем, и вы получите возможность действовать. Тогда спуститесь в лодку и отправляйтесь на берег. Тут на берегу, вы сразу заметите ещё днём со шхуны, будет выдаваться почти отвесная очень высокая скала — направляйтесь прямо к ней и не сомневайтесь. Скала только издали кажется неприступною. Если вы пристанете к самой её середине, увидите, что там небольшая площадка и на ней в камень ввинчено кольцо, за которое можно привязать лодку. От площадки пойдёт тропинка кверху. Местами вы на ней в особенно крутых местах встретите ступеньки, высеченные в скале. Подъём, предупреждаю, будет очень крут, но вы не обращайте внимания и заранее дайте мне слово не оборачиваться.
Такое требование показалось Урвичу чудно.
— Что же, — перебил он, — это колдовство какое-нибудь, как при отыскании клада не велят оборачиваться, иначе нечистая де сила схватит? Неужели вы верите этим сказкам?
И первый раз он усомнился в странном предприятии, которое поручал ему Дьедонне.
— Нет, — рассмеявшись, пояснил тот, — это не колдовство, и зарок не оборачиваться вы должны дать просто потому, что если обернётесь — увидите за собою такую стремнину, что голова у вас с непривычки закружится, и вы рискуете не удержаться тогда и упасть. Крутизна там такая, что и привычные люди ходят с опаской, а уж про вас и говорить нечего. Поднявшись, вы очутитесь наконец на вершине небольшого плоскогорья. Будьте покойны, вы недаром преодолеете трудности подъёма по той тропинке, о которой я говорю вам. Другого входа на это плоскогорье не имеется…
— Это что-то очень уж сказочное, — опять перебил Урвич, — надо же было найти совсем неизвестный остров, да ещё с таким плоскогорьем, куда ведёт одна только тропинка, да и та — от моря по отвесной скале.
Дьедонне пожал плечами.
— Погодите сомневаться, — возразил он, — вы узнаете вещи, может быть, ещё более невероятные, но в том, что я сказал вам, пока нет ничего удивительного. Во-первых, это не остров, а очень небольшой островок — на карте масштаб сильно увеличен, а во-вторых, плоскогорье искусственно сделано недосягаемым с остальных сторон. И для этого потребовалось только несколько взрывов динамитом, не больше.
— Хорошо, — согласился Урвич. — Что же на этом плоскогорье?
— В середине плоскогорья, — сказал Дьедонне, — лежит небольшое озеро. Когда вы подойдёте к нему, оно покажется вам, особенно ночью, совершенно гладким. Но это только обман зрения. В середине его есть плоский островок, почти не возвышающийся над уровнем воды. Каменная поверхность его отшлифована и блестит так, что сливается почти с водяной гладью. Издали различить его очень трудно, как и тропинку на скале. Но вы не смущайтесь. Идите.
— Куда же? — спросил Урвич. — В воду?
— Да. В воду.
— Озеро не глубоко?
— Сначала оно замочит вам лишь ступни, потом колена, потом, может быть (судя по вашему росту), дойдёт до подбородка, но не выше. Идите, повторяю, смело. В этом месте, то есть там, где вода дойдёт вам до подбородка, глубина начнёт уменьшаться… К середине озера опять она у вас будет по щиколотку, и вы свободно взойдёте на плоский островок, так что вам покажется, что вы стоите на поверхности воды. Вы увидите три каменные плиты, то есть три могилы.
— Могилы? — переспросил Урвич.
— Да, по которым и самый остров носит своё название. А вам заранее уже страшно иметь дело ночью с могилами на пустынном острове?
И, сказав это, Дьедонне внимательно, испытующе оглядел Урвича.
— Нет, я не о том, — сказал тот, — а я думаю, что уровень этого озера зависит также от дождей. Понятно: когда идут дожди, вода должна подняться и едва ли она дойдёт мне только до подбородка. Но это бы ещё ничего. Я умею плавать и могу переплыть. Но вот что важно: если уровень озера поднимется, вода затопит плоский островок с плитами и могилами — что же я буду делать над ними по колено в воде?
— Не беспокойтесь, — пояснил Дьедонне, оставшийся очень доволен ответом, — сделайте всё так, как я вам говорю. Озеро искусственное, и в нём устроены отливные трубы на известной высоте. Уровень его не может поэтому перейти эту высоту, и вы найдёте плиты сухими. На одной из них надпись железная, на другой золотая, на третьей — высечена в самом камне… Плита с золотой надписью находится в середине. Её-то и надо вам открыть… Она заперта на ключ.
— Вы дадите мне этот ключ? — спросил Урвич, помня, что француз, в доказательство того, что имеет право распоряжаться сокровищем, обещал передать ему ключ.
— Вот он! — сказал Дьедонне, вынимая из кармана стальную пластинку с рядом хитрых вырезов и зарубок по краям. — Эту пластинку вы всунете в отверстие, находящееся в конце надписи на плите и составляющее как бы точку, затем повернёте от левой руки к правой…
— И плита откроется?
— Не совсем ещё. В надписи будет двадцать две буквы. Надавите первую из них, потом последнюю. Тогда плита повернётся и откроет ход вниз по лестнице, очень удобной… Ничего не бойтесь. Никаких гробов, ни покойников нет под плитою. Могила, разумеется, фиктивная. Плита закрывает ход. Вы спуститесь по лестнице…
— Она тёмная?
— Конечно. Ход подземный.
— Тогда надо запастись фонарём?
— Совершенно верно. Я забыл вас предупредить об этом. Захватите с собою потайной фонарик, он приготовлен у меня для вас, но откройте его, только когда спуститесь на несколько ступенек. По лестнице придётся вам спускаться довольно долго… от последней её ступеньки, то есть там, где она кончится, начнётся галерея. Идите по ней. Мало-помалу галерея будет суживаться и становиться всё ниже и ниже… Свод её опустится настолько, что
придётся пробираться ползком. Не унывайте, двигайтесь вперёд… Будет так узко, что покажется дальнейшее движение невозможным. Не обращайте внимания: с последним усилием проход станет расширяться, свод поднимется и галерея сделается шире, чем была прежде, а идти по ней станет удобнее.
— Совсем как испытания у древних магов в Египте, — заметил Урвич, — только огня недостаёт.
— Какие испытания?
— У древних египетских магов испытывали новопосвящённых воздухом, то есть заставляли взбираться на высоту почти по отвесной скале, затем водою, потом землёй, для чего нужно было переходить такой же искусственный водоём, как ваше озеро, и благополучно миновать такую же подземную галерею, как ваша… Недостает лишь огня.
— Так у египтян существовали такие испытания? — удивился Дьедонне.
— Да, я читал об этом, — подтвердил Урвич.
— Странно это, — раздумчиво произнёс Дьедонне.
— Что же странно?
— Такое совпадение… Ну, об этом, впрочем, мы потом поговорим, когда вы вернётесь. Вы мне расскажете, что знаете о тайнах древнего Египта, а теперь слушайте дальше.
XVII
— В конце подземной галереи, — понизив голос до шёпота и близко наклоняясь к Урвичу, заговорил Дьедонне, — вы найдёте подземелье довольно просторное и в нём… Но вы должны приготовиться заранее, чтобы голову не потерять от того, что увидите. Вы увидите там такое количество золота, такое богатство, что один вид его может свести с ума человека… Заблестят перед вами груды монет, куски золота в слитках, вы и представить себе не можете, какое впечатление производит их вид. Видеть эти богатства и чувствовать в своей власти возможность распоряжаться ими, взять сколько хочешь… Да, тут есть от чего растеряться. И вот, я предупреждаю вас — приготовьтесь, убедите себя, воспитайте свою волю, чтобы для этой минуты сохранить полное своё самообладание. Будет безумством с вашей стороны — слышите ли, безумством! — если вы наброситесь на это золото и захотите унести его. Если бы вы могли целый месяц таскать на шхуну столько, сколько поднять в состоянии, вы бы получили лишь малую часть того, что можете унести сразу из подземелья. Запомните это хорошенько и пренебрегите золотом. Для него не стоит стараться. Повторяю, вы сможете унести лишь слишком малую часть в сравнении с тем, чем будете иметь возможность воспользоваться. Минуйте золото и направьтесь к отдалённому углу подземелья. Можете ли вы понадеяться на себя, что совладаете с собою?
— Может быть, — улыбнулся Урвич. У него никогда не было особенной страсти к деньгам, и он удивлялся даже, слушая, с какою жадностью говорил француз. Ему эта жадность была неприятна.
— Только «может быть»! — воскликнул Дьедонне. — Значит, вы не уверены в себе?
— В каком смысле?
— То есть что не соблазнитесь золотом.
— Послушайте, — сказал серьёзно Урвич, — золото это не моё, а ваше, или, во всяком случае, вы, по-видимому, можете им распоряжаться. Значит, если вы мне запрещаете его брать, а я возьму его, выйдет… что я украду… На это я не чувствую себя способным.
— Ну, вот это дело, что вы говорите, — подхватил Дьедонне, — это дело. Я вам положительно запрещаю трогать золото.
— Ну и довольно об этом говорить, — заключил Урвич. — Что же дальше, что я найду в отдалённом углу подземелья?
— В этом углу, — опять зашептал француз, — стоит бронзовый сундук без замка и петель, так что он имеет вид, будто и открываться не может. Нажмите, однако, угловой гвоздь с правого угла, и крышка легко поднимется… В сундуке вы увидите…
В это время на палубе раздался громкий крик, и Дьедонне с Урвичем вскочили и выбежали туда, чтоб узнать, в чём дело.
Кричал старый Джон, держась за щёку. Когда он увидел хозяина шхуны, крик его перешёл в слезливый и жалобный стон.
— Что случилось? — стал спрашивать Дьедонне. — Вас ударили? Кто ударил вас?
— Я его ударил! — коротко проговорил шкипер Нокс, подходя.
— За что же?
— За дело!
— Какое же дело! — завопил старый кок. — Я шёл к господам, чтобы предложить им, не захотят ли они, чтоб я им приготовил ужин, а вдруг шкипер…
— Не ври, — оборвал его Нокс, — ты подслушивал, что говорилось в каюте.
Старый Джон начал клясться и божиться, что у него и в помышлении не было проделать такую вещь.
— Я знаю, что делаю! — проворчал Нокс.
— Во всяком случае вы могли, — заметил ему Дьедонне, — просто отогнать его, но зачем же драться.
Нокс вспыхнул.
— Уж позвольте мне управляться самому на шхуне, если вы отдали её в моё командование, — резко ответил он. — Если вам не нравится, я и уйду.
— Нет, этот человек слишком груб, — сказал Урвич по-французски, обращаясь к Дьедонне.
— У них в море свои обычаи, — отозвался тот также на французском языке. — Всё равно уж, теперь поздно искать другого шкипера, да и лучшего не найдём. Они все одинаковы насчёт кулачной расправы. А старику поделом досталось, если он желал подслушать.
— Но он всё равно ничего не понял бы, — проговорил Урвич, — мы говорили на языке, не понятном для него. Трудно допустить, чтобы старый англичанин свободно понимал по-французски.
Они вернулись опять в каюту.
— Итак, — начал снова Дьедонне, — вы, не тронув золота, откроете сундук и увидите там драгоценные каменья. Сундук полон бриллиантами, изумрудами, сапфирами и жемчугами, но вы полюбуйтесь только блеском их, но и их не берите.
— Что же мне взять, наконец? — спросил Урвич.
— Поверх драгоценных камней в сундуке лежит мешочек. Он не велик, но достаточно тяжёл. Имейте это в виду. Вот этот мешок вы возьмите.
— И что же в этом мешке?
— Отборные камни. Ценность этого мешка равняется ценности всего, что есть кроме него в подземелье… Тут каждый бриллиант, каждый сапфир, изумруд и рубин стоит сотни тысяч, миллионы даже. Вы знаете, что в короне русского императора есть огромный бриллиант — глаз Великого Могола?
— Знаю, — сказал Урвич.
— Ну, так вот, другой глаз хранится в этом мешке, и он не самый ещё большой там камень… Есть больше его и ценнее. Теперь вы можете себе представить, какое состояние, какое богатство заключено в этом мешке! Так вот, вы возьмите только его, пренебрегите остальным и привезите его… Взяв мешок, вы опять по подземной галерее и по лестнице выйдете на середину искусственного озера, пройдёте через него вброд и спуститесь по тропинке со скалы; тут, спускаясь, старайтесь смотреть себе под ноги и не глядите по сторонам, чтобы не закружилась голова на стремнине. Спустившись, вы в лодке вернитесь на шхуну, удостоверьтесь, все ли спят из команды, проберитесь к себе в каюту и лягте спать… Наутро, когда все выспятся, отправьтесь на берег, сделайте вид, хотя бы что вы снимаете местность острова; словом, выдумайте какой-нибудь предлог для вашего посещения неизвестного острова и, оставаясь там не более двух суток, сейчас же возвращайтесь назад.
— Такая поспешность необходима?
— Необходима.
— Зачем же?
— Хотя бы для сохранения припасов. На обратном пути вы можете заштилевать и неизвестно, сколько времени вам нужно сохранить припасы и пресную воду, поэтому долго оставаться на острове нельзя.
Хотя такое объяснение было вполне правдоподобно, но Урвичу показалось, что у Дьедонне есть и ещё какая-то тайная причина, по которой он не желает, чтоб они долго оставались на острове.
— Но отчего же я должен так скрываться от экипажа и действовать крадучись от него? — спросил он, желая этим косвенным вопросом выпытать что-нибудь у француза.
Тот сейчас же ответил:
— Очень просто. Если экипаж узнает, что у вас в каюте драгоценные камни, стоимость которых составляете миллионы, у этих людей может явиться мысль воспользоваться ими, и тогда расправа с вами и с капитаном может быть коротка.
— Ну, — заметил Урвич, — если кого и бояться, то именно этого грубого шкипера.
— Не судите по наружности. Вообще в таком деле, как наше, чем меньше знает народу о нём, тем лучше. Уже и без того о нём знает двое нас, хотя достаточно было бы одного… В каюте у себя вы спрячете мешок в потайной ящик, механизм которого вы знаете, и, обманув команду ложным предлогом вашего посещения острова, вернётесь сюда в Сингапур. Вот что должны вы сделать. Вы человек молодой, не трусливый. Не думаю, чтоб из трусости вы пошли бы теперь назад и изменили данному мне слову, после того, как узнали всё.
— Нет, — возразил Урвич, — о трусости говорить не надо. В том, что мне, по вашим словам, надо сделать, ничего страшного нет. Меня смущает только одно…
— Что же именно?
— Имеете ли вы право распоряжаться в этом подземелье и посылать меня туда, чтоб я взял мешок с каменьями?
— Ведь этот вопрос мы обсуждали уже, и вы убедились.
— Убедился, но не совсем.
— Вы, может быть, думаете, что я не отправляюсь сам за этим сокровищем, потому что путь к нему не так безопасен, как я говорю, и что я сам боюсь этих опасностей, а потому поручаю вам и подвергаю вас риску… Могу вас уверить, даю вам честное слово, что всё будет так, как я рассказал вам, и никакой опасности не предстоит…
— Дайте мне слово, — перебил Урвич, — или нет, лучше поклянитесь.
— В чём?
— В том, что, взяв мешок с драгоценностями, я не сделаюсь… вором, не возьму их у кого-нибудь потихоньку — словом, никого не заставлю сожалеть о них.
Дьедонне задумался и ответил не сразу.
— Вы ставите это непременным условием? — спросил он.
— Непременным.
— Хорошо. Я дам вам эту клятву.
После этого всякие сомнения Урвича исчезли, и он согласился отправиться в путь.
XVIII
На рассвете подул ветер.
Шхуна «Весталка» под командой шкипера Нокса подняла паруса и, снявшись с якоря, плавно пошла через большой сингапурский рейд на юго-запад.
Урвич стоял на корме и долго махал платком оставшемуся на берегу Дьедонне, который, в свою очередь, кланялся ему.
Маршрут был дан французом Ноксу вплоть до Сиднея, где они должны были запастись новой провизией, водой, и, выйдя оттуда, шкипер должен был получить приказание от Урвича, куда следовать дальше.
Сам Урвич не знал места географического положения Острова Трёх Могил и должен был узнать его, только выйдя из Сиднея в открытое море.
Ему был дан Дьедонне запечатанный конверт, в котором лежала записка с обозначением широты и долготы острова.
Конверт этот Урвич должен был распечатать в море после Сиднея.
Ветер всё время дул попутный. «Весталка», как чайка, скользила по воде и оправдывала похвалы, который расточал ей француз, развивая до двенадцати узлов ходу.
Конечно, на её маленькой палубе, накренённой благодаря надувшимся парусам, было не то, что на океанском пароходе, на котором путешествуешь, словно живя у себя в доме, окружённый всеми удобствами и расторопной прислугой. На шхуне приходилось тесниться, и кроме старого кока Джона другой прислуги не было, и к качке была шхуна гораздо чувствительнее.
Но качки Урвич не боялся, теснота ему казалась уютна, а в прислуге он не нуждался.
И даже в первый же день их плавания он сам вызвался помочь коку и состряпал такие вкусные макароны, что даже суровый и угрюмый Нокс пришёл в восторг.
Оказалось, что Джон, несмотря на свою похвальбу, что ни один король не ел такого обеда, какой готовил он, явился далеко не на высоте своего призвания. Слова его относительно короля были без сомнения, однако, справедливы, потому что, конечно, такой гадости, какую готовил он, ни одному королю есть не приходилось. Зато Джон продолжал быть услужливым и без умолку говорил о своей готовности услужить Урвичу: Дьедонне перед отходом сказал всем — и шкиперу, и матросам, чтобы они почитали Урвича за хозяина яхты. Готовность кока больше была на словах.
Утром, встав в море, Урвичу захотелось облиться водой, чтобы освежить себя хоть этим от жары, и он попросил Нокса, чтоб тот приказал кому-нибудь из людей зачерпнуть в вёдра воды за бортом.
Нокс, который, между прочим, оказался гораздо симпатичнее в море, чем на берегу, приказал Джону достать воды.
Кок лежал, растянувшись на палубе в тени паруса, ничего не делая, потому что Урвич возился в это время за него в камбузе.
Он лежал и как будто не слышал приказания шкипера, хотя тот достаточно громко крикнул.
— Эй ты, старая кошка! — повторил ещё громче Нокс. — Я тебе говорю!
Кок снова не двинулся.
Шкипер спокойно подошёл к нему, взял его за ворот, поднял и так молча потряс его, что Джон на этот раз без слов уже понял, чего от него требовали.
Он не заревел и не застонал, он только таким злым взглядом поглядел в спину удалявшегося шкипера, что, казалось, дал тут же обещание расплатиться с ним за его обхождение.
Но вёдра он взял, зачерпнул ими воды и помог Урвичу облиться из них.
Это был, впрочем, единственный неприятный инцидент, нарушивший мирную, размеренную по вахтам жизнь на шхуне.
А во всём остальном она текла так безмятежно, что Урвич испытывал одно наслаждение.
Все работали кругом него, и он сам старался не сидеть сложа руки и приносил посильную помощь тем, что готовил кушанья, которыми все объедались.
Обедал он и завтракал вместе с Ноксом, и тот, когда дело касалось моря, становился словоохотливым и даже красноречивым, рассказывая о случаях во время своих плаваний.
В его рассказах было много и трагического, и смешного, и слушать их можно было с большим удовольствием.
Когда ему хотелось, Урвич брался за книгу и читал.
Сам того не замечая, чаще других сочинений он держал в руках исследование о драгоценных камнях и изучил эту книгу настолько, что мог считать себя уже человеком, до некоторой степени понимающим в оценке этих камней.
Так время шло, и Урвич буквально не успел оглянуться, как они достигли Сиднея.

XIX
В Сиднее долго не задерживались, пробыли ровно столько времени, чтобы взять провизию, боясь упустить ветер, который, на их счастье, продолжал дуть не переставая.
Так что Урвич не сходил даже на берег.
«Весталка» опять подняла паруса и, словно сама рвалась к морю, заковыляла, будто как дельфин, ныряя по волнам.
Погода свежела. На гребнях появилась пена, и волны, суетясь, плескали о борт.
Нокс отдавал приказания, и люди, слушая его голос, работали быстро и споро.
— Славная погодка, — одобрил шкипер, повеселев. Он всегда веселел, когда крепчал ветер.
— Ходко идём! — подтвердил Урвич, стоя возле него и раскачиваясь на растопыренных ногах в такт тому, как волны подкидывали «Весталку».
— Ходко-то ходко, — повторил Нокс, — но куда — вот вопрос?
— Вы взяли курс прямо на восток?
— Да, как было приказано господином французом. Он очень определённо сказал мне взять курс, выйдя из Сиднея, прямо на восток, а затем ждать вашего распоряжения…
— В открытом море…
— Да какого же вам более открытого моря нужно, чем теперь…
Урвич оглянулся.
Он оглянулся и не поверил своим глазам.
Берег убежал и исчез, потонув в колыхавшихся волнах. Повсюду кругом виднелись одни только эти волны. Урвич и не заметил, как они отошли так далеко.
— Тогда я вам сейчас скажу цель нашего путешествия, — проговорил он Ноксу и отправился в свою каюту.
Каюта его была такая узенькая, что упёршись одной ногою в низ койки, другая приходилась как раз к противоположной стене.
Утвердившись таким образом, Урвич нагнулся над столом, достал конверт и распечатал его.
Из конверта выпал лист бумаги с несколькими цифрами, обозначавшими широту и долготу.
Кроме этих цифр ничего не было в записке: ни названия островов, ни каких-либо других сведений…
Урвич взял записку и вышел с нею в их крошечную кают-компанию.
Нокс, оставивши рулевого у колеса, был уже там и сидел над развёрнутой картой.
— Вот! — сказал Урвич, подавая ему записку.
— Ого! — протянул шкипер. — Сильно к югу и в стороне от обыкновенных рейсов судов. В эти широты редко кто заглядывает…
Он взглянул на карту.
— Что за ерунда! — воскликнул он. — Не может этого быть! На этой широте и долготе не показано ни кусочка земли, и на огромное пространство кругом тоже… Это, верно, недоразумение. Зачем мы будем забираться напрасно в такую даль?..
— Так нужно, — попробовал было ответить Урвич, думая, что мистер Нокс успокоится на этом.
— Что вы мне рассказываете — так нужно! — крикнул тот и ударил по столу кулаком. — Вы сами не знаете, что говорите. Как я могу очертя голову идти на такой скорлупе в пустое место… Провизии, положим, у нас хватит, но пресной воды… Она может испортиться за время, пока пройдём туда и обратно… Да это ещё, если ветер будет, а в случае штиля мы сядем без воды ранее…
Урвич понял, что ему молчать нельзя и что нужно сейчас же посвятить шкипера в тайну существования острова, который он всё равно должен был увидать рано или поздно…
— На этой широте и долготе находится остров, — сказал он, — остров, не показанный на официальной карте… Здесь места мало посещаемые…
Он готов был уже распространиться, повторяя лекцию, прочитанную ему самому господином Дьедонне о неизведанных морских пространствах, но мистер Нокс перебил его.
— Неужели тут есть остров, не отмеченный ещё на карте? — спросил он, и глаза его блеснули. — Он известен вам?
— Нет, но моему другу французу известен.
— О, тогда дело другое. Тогда я иду туда!.. — Очевидно было, что для старого моряка, каким был шкипер, не представлялось удивительным, что в море существуют острова, не отмеченные на карте. — Отлично! — одобрил он. — Мы составим его описание, дадим ему название и сообщим в Английское морское министерство. Я очень рад. Имя моё попадёт в записи открытий…
— Но у острова есть уже своё название, — возразил Урвич.
— Какое же?
— Остров Трёх Могил.
— Странное название. Мы изменим, однако, его, — решил мистер Нокс и затянулся из своей коротенькой трубки…
XX
Через два дня они шли по безбрежной водной пустыне, не встречая признаков земли и не видя ни одного судна.
Они были уже в тех местах, куда не заходили суда.
Урвич за этот переход не заметил ничего особенного на шхуне. Только когда он явился в камбуз, чтобы стряпать, кок показался ему как будто потерявшим свою обычную угодливость на словах.
Урвич не обратил на это внимания, думая, что старый Джон был не в духе или чувствовал себя нездоровым, что со всяким может случиться.
Шкипер, однако, целый день провёл на палубе, хотя «Весталка» шла гладко и его постоянного наблюдения не требовала.
Нокс, не выпуская изо рта вечной своей коротенькой трубки, ходил и часто заговаривал то с тем, то с другим матросом.
Один раз он прикрикнул на Джона без особенного серьёзного повода со стороны того.
Кок не огрызнулся, ничего не ответил, посмотрел только исподлобья так, что его чёрные, живые, несмотря на старость, глаза сверкнули под нахмуренными, свислыми седыми бровями.
Шкипер имел вид далеко не взволнованного человека, но тем не менее озабоченного чем-то, как будто ему в голову пришла неотвязчивая мысль, от которой он не мог отделаться.
Вечером, когда они сошлись с Урвичем в кают-компании за ужином, он долго молчал, потом вдруг процедил сквозь зубы:
— А знаете, дело, кажется, плохо.
— Отчего, что такое? — спросил удивлённый Урвич.
— Недаром не нравился мне этот кок!
— Вы опять о нём!
— Да.
— Чем же он ещё провинился?
Урвич уже успел примириться со шкипером и относился к нему гораздо добродушнее, чем в Сингапуре, объясняя нелюбовь Нокса к Джону странностью, которая позволительна старому человеку, каким был шкипер.
Сначала, увидев нахмуренное лицо Нокса, он было думал, что действительно случилось что-нибудь серьёзное, но когда узнал, что дело идёт опять о Джоне, успокоился и рассмеялся.
— Вы не смейтесь, — остановил его Нокс, — я вам говорю, что может беда быть.
— Даже беда! Я думаю, вы слишком мрачно смотрите на будущее. Погода нам благоприятна, шхуна крепка, запасов много, чего же нам бояться?
— Того, что на самой шхуне.
— Бросьте говорить загадками.
У Урвича вдруг промелькнуло: а не страдает ли бедный шкипер манией преследования?
— Кого ж нам бояться на шхуне? — добавил он.
— Команды.
— Как, всей команды?
— Их восемь человек — не так много, чтобы сговориться, и вполне достаточно, чтобы справиться с нами двумя.
«Так и есть, — подумал Урвич, — мания преследования».
— Но с какой же стати им справляться с нами?
— Чтобы завладеть шхуной.
— Это мне кажется невероятным.
— Почему? Обстоятельства благоприятствуют им. Мы идём в мало или, лучше сказать, в совсем не посещаемых местах. На постороннюю помощь рассчитывать нельзя. Они могут сделать с нами, что угодно — никто не узнает.
Холодный, рассудительный тон, которым говорил Нокс, начал действовать на Урвича.
— Какие же вы имеете доказательства справедливости вашего подозрения? — спросил он.
— К сожалению, очень веские.
— Неужели?
— Да, все эти восемь человек, нанятых вашим другом французом, составляют одну шайку… А кок, этот старый Джон, за которого вы заступались — их коновод, или предводитель.
— Не может быть! Из чего вы заключаете это?
— Мне этот кок сразу не понравился, но я не имел никакой причины обвинить его в чём-нибудь. И в команде всё обстояло благополучно, пока мы шли до Сиднея. Потом стал я замечать, что когда они разговаривают между собою, у них прорываются словечки особого жаргона, который свойствен разбойникам на море… Вчера и третьего дня мы шли, не имея встречных, и они поняли, что мы забрались туда, где суда не ходят, и осмелели. Вчера я случайно услыхал, как старый Джон начальнически прикрикнул на одного из матросов, что не забудет ему «прошлого года»; матрос смутился, а остальные присмирели, как будто все они отлично знали, чем проштрафился виновный в прошлом году… Отсюда ясно, что все они не в первый раз встречались на нашей шхуне, то есть давно уже составляют шайку, хотя и пришли наниматься к вашему другу порознь.
— Я тоже заметил, — сказал Урвич, начиная уже сдаваться на доводы шкипера, — что старый Джон сильно изменился сегодня… Только я это объяснил себе просто, что он не здоров.
— Ну, вот видите… Я сегодня внимательно следил, заговаривал с командой, прислушивался и вполне убедился, что у них уже решено всё. Это можно было заключить по манере их держаться со мною.
— Надо быть осторожными. Вот всё, что мы можем сделать. Может быть, вернуться назад в Сидней и взять там другую команду?
— Это не поможет. До Сиднея мы пойдём опять двое суток в водной пустыне, они сообразят, что мы возвращаемся, и всё равно будет что будет. У вас есть пистолеты?
— У меня револьвер. На шесть зарядов.
— У меня два пистолета, старые, но сослужат свою службу; итого у нас восемь пуль, которые мы можем выпустить почти сразу. Их же восемь человек. Мы ещё не в отчаянном положении. Только нужно быть осторожными. Вся беда в том, — продолжал Нокс, — что не я выбирал людей на шхуну. Я бы никогда не взял с собой такую компанию. Подобный случай был с одним моим приятелем. Только, к счастью, он отделался благополучно. А для этих молодчиков такое судно, как «Весталка», лакомый кусок…
— А что же случилось с вашим приятелем? — полюбопытствовал Урвич.
— Да он вот так же, как я, взялся провести тоже шхуну, нагруженную якобы рисом, а на самом деле — опиумом. Надо было доставить его помимо таможенных глаз…
— Контрабандой?
— Ну да, контрабандой. Но не в этом дело. Моему приятелю нужно было провести только судно, а всю махинацию с опиумом не он производил. Ну вот, в открытом море команда, сговорившись, связала его и, недолго думая, отправила в трюм… Обыкновенно в таких случаях шкипер летит за борт, но тут, Бог знает почему, спровадили его связанного в трюм… Команда завладела судном, а главное — драгоценным грузом, опиум очень дорог, как вы знаете; но на беду, то есть на их беду, а на счастье моего приятеля, никто из этих негодяев не умел управлять шхуной. К тому же засвежело, и поднялся шторм. Тут они окончательно растерялись, развязали моего приятеля и вывели на палубу, чтоб он помог справиться. Шхуна под его командой держалась отлично. Но шли они — не как мы в безлюдном месте, а в Атлантическом океане. Там легко встретить пароход или военное судно. Приятель мой скоро увидал огни и пустил ракету, что означает требование помощи. Они встретили, оказалось, русский крейсер, и приятель мой был спасён… Это в газетах было… Нам, однако, ни на крейсер, ни на шторм рассчитывать нечего…
— Ну, крейсера, — соглашался Урвич, — мы, конечно, в случае чего, не встретим, но шторм и здесь можете случиться, как и везде…
— Да. Но среди них есть человек, который и в шторм справится со шхуной.
— Кто же это?
— Всё тот же кок, старый Джон.
— Да не может быть! Он мне сам говорил, что вот уже сколько плавает на своём веку, а никак не может понять системы парусных манёвров.
— Тем хуже, что он говорил вам это. Когда третьего дня покрепчал ветер, я слышал, как у него сорвалось замечание как бы невольно, замечание, которое сразу показало в нём опытного моряка. Меня не проведёшь. По этому замечанию я голову даю на отсечение, что в серьёзном случае посоветовался бы с ним; а вам он очки втирал… Это более, чем подозрительно, согласитесь… Он, видите ли, не может понять системы парусных манёвров, а сам не хуже меня управит шхуной. Во всём этом мало утешительного.
Наблюдение Нокса, что Джон опытный моряк, тогда как он уверял противное, подействовало на Урвича более всего остального.
Хотя он всё ещё не мог убедиться вполне, что шкипер не преувеличивает, но согласился, что осторожность не мешает…
Решили, во-первых, зарядить сейчас же оба пистолета и револьвер, а затем держаться возле юта по преимуществу, чтобы иметь убежище в каютах. Но главное — спать по очереди, чтоб не было времени, когда оба погрузятся в сон, и шхуна останется без надзора…
Условившись таким образом, установили дежурство.
Нокс взял на себя самую трудную часть ночи, то есть под утро, а с вечера обещал не спать Урвич.
— Ну, так что ж, теперь уж не рано! — сказал Урвич Ноксу. — Идите спать, а я вас разбужу, когда почувствую себя не в силах бороться со сном.
— Только не надо, — посоветовал шкипер, — чтобы заметили, что мы начеку и караулим их! Самое лучшее, вы сядьте у себя в каюте, затворите дверь и читайте книгу; пусть думают, что и вы спите… Ну, до свидания… А меня действительно, — добавил он, — что-то сегодня, как никогда, тянет на койку! Просто глаза слипаются совсем!
Он зевнул, пожал Урвичу руку и отправился к себе, а Урвич вышел на палубу, чтобы вздохнуть свежим воздухом перед тем, как засесть в каюте.
Когда он вышел, ему показалось, что мелькнула какая-то тень на юте у самого люка над кают-компанией.
Стоявший на небе полумесяц заволокнулся набежавшим облачком, и в полутьме трудно было разобрать, кто находился над люком.
Рулевой стоял на своём месте; это был не он.
Приблизившись, Урвич узнал старого Джона.
Не было сомнения, что он подслушивал или, может быть, хотел только подслушать то, о чём говорилось в кают-компании.
— Что вы здесь делаете? — сердито окликнул Урвич кока.
— А ничего особенного! — спокойно ответил тот, подперши руки в боки и закидывая голову.
Урвич, поражённый таким небывалым поведением Джона, оглядел его, но тот, видимо, не желая продолжать разговор, повернулся и пошёл прочь, насвистывая.
— Кой дьявол там свищет? — раздался голос с бака.
— Молчи! — повелительно отозвался старый Джон, и голос сейчас же замолк.
У английских моряков, обыкновенно всегда очень суеверных, свистеть на палубе считается преступлением, потому что это накликает неминуемую беду, и они очень ретиво относятся к этому.
Вследствие того, что рассердившийся на свист голос тотчас же замолк, когда узнал, что это был старый Джон, и не затеял с ним перебранки по поводу такого серьёзного обстоятельства, доказывало несомненный и очень большой авторитет кока.
Всё это более чем подтверждало опасения, высказанные Ноксом, и Урвич должен был убедиться, что шкипер был прав: опасность существовала или, во всяком случае, имелись несомненные признаки её.
«Ну, что ж, — стал раздумывать он, — будем ждать событий, а пока станем бодрствовать!»
Он решил, что сейчас пройдёт в каюту, только на минуту присядет на стоявшее на юте соломенное кресло, уж очень ночь была хороша!
Но, опустившись на кресло, он вдруг почувствовал во всех членах тёплую истому, и непреодолимый сон словно чем-то окутал его не только вопреки его желанию, но и вопреки тем усилиям, которые он делал, чтоб не заснуть.
XXI
Странное и вместе с тем страшное пробуждение готовилось Урвичу.
Заснул он сразу, словно камень канул в воду, и погрузился в какое-то небытие без сновидений и без ощущений.
Он никогда не мог сообразить потом, сколько он времени проспал так, очевидно приведённый в состояние сна одним из сильнодействующих наркотиков, вероятно, подмешанным в чай.
Горячую воду для чая кипятил старый Джон, и он же сам подал её.
Очнулся Урвич от неимоверной возни и шума, бывших вокруг него.
Облачка на небе разошлись, полумесяц светил ярко, и первое, что увидел Урвич, открыв глаза — синее небо и паруса «Весталки».
Он лежал, связанный, навзничь на палубе.
Среди возни и криков, заставивших его очнуться, громче других раздавался голос старого Джона, который распоряжался.
— Хватай! Хватай его сзади! — кричал он. — Вали! Да не трусь! Нас же восемь, а он один!
Урвич понял, что эти «восемь» были негодяи матросы, предводительствуемые Джоном, а «один» — несчастный шкипер, проснувшийся, видимо, вовремя, не давший связать себя и отбивавшийся теперь.
Нокс был крепок телосложением и отбивался долго, но восемь человек осилили его. Послышался их крик.
— За борт! — скомандовал Джон.
И тяжёлое тело бухнуло в воду, так что раздался всплеск, и затем всё стихло.
— Ну, с самым главным покончили! — сказал Джон. — Так-то, братец! — наставительно добавил он, очевидно, перегибаясь за борт, потому что голос его зазвучал глуше. — Ты говорил, что восемь пуль на каждого из нас по одной, а вот мы и без пальбы отделались.
Из этих слов Урвич должен был заключить, что Джон слышал, сидя у люка, весь их разговор с бедным Ноксом за чаем.
— А всё-таки, — возразил другой голос, — он не дёшево достался! Мы не знаем, как он стреляет из пистолета, но ножом он владеет отлично.
— Уберите раненых! — приказал Джон.
Значит, были и раненые, если он приказывал убрать их.
Был некоторый промежуток времени, когда продолжалась возня, на этот раз молчаливая и более миролюбивая.
— Несите в каюту! — распоряжался Джон.
— Да одного и нести не стоит, — возразили ему. — Он мёртвый.
— Кто?
— Билли-Том.
Билли-Том был один из матросов, самый молодой из всех остальных.
— Двое раненых и один убитый! Постоял за себя! — послышался возглас.
Урвич невольно в душе удивился и порадовался, что шкипер, хотя и погиб сам, но по крайней мере троим отомстил, прежде чем погибнуть.
— Ну, а с этим что мы будем делать? — услышал Урвич новый голос над собой и инстинктивно, помимо самого себя, повинуясь чувству самосохранения, закрыл глаза, чтобы представиться спящим.
Связанный по рукам и ногам, он не мог постоять за себя, как сделал это шкипер, и ему оставалось только ждать решения своей участи и не ускорять это решение тем, что они узнают, что он проснулся.
— Что ж, и его за борт? — спросили опять. — Церемониться с ним нечего!
— Берись, ребята!..
Кто-то наклонился над ним и схватил уже за ноги, но в это время старый Джон проговорил:
— Оставьте мальчишку в покое! Один он не опасен нам!
— Чего ж с ним церемониться! — повторило на этот раз несколько голосов.
— Тащи!..
— В воду!..
— Я говорю — оставить! — крикнул Джон.
— А с какой стати?..
— А хотя бы с той, что один из нас убит, двое ранены, осталось всего пятеро и лишний человек для работы на шхуне не помешает. Мы его живо вышколим, а потом можно разделаться с ним; к тому же кто нам будет готовить такие кушанья, как он? Мы его определим к себе в коки!
Эти слова подействовали.
— В коки! В коки! — завопили кругом.
— А пока пусть его лежит тут и спит! — заключил Джон.
— Что же, развязать его?
— Можно и не развязывать.
На шхуне всё стихло и как будто пришло в обычный, нормальный порядок.
Связанный Урвич лежал и думал, думал без конца.
Сон, разумеется, не шёл ему на ум: слишком большое нервное потрясение пришлось ему перенести, да и связанные руки и ноги мешали заснуть.
«Что ж дальше?» — спрашивал он себя.
Судьбу, предстоявшую ему, он уже знал из решения, которое высказал старый Джон, остановив матросов, когда они хотели выкинуть его за борт.
Ему предстояло сделаться коком у этих разбойников, то есть из хозяина шхуны, каким поставил его здесь Дьедонне, превратиться в слугу и терпеть помыкания грубых людей и, может быть, их побои.
Теперь он, упрекая себя, вспоминал, как заступался он за старого Джона и отстаивал его на свою же погибель и, главное, на погибель ни в чём не повинного Нокса, который, как человек более опытный, сразу оценил по достоинству кока и недаром невзлюбил его.
Урвич напрасно раскаивался, зачем не послушался этого более опытного человека и ещё имел дерзость — да, дерзость, иначе он не мог назвать это — считать его сумасшедшим, страдающим манией преследования.
«Если судно полюбится экипажу, — пришли ему в голову слова Дьедонне, — плавание будет счастливое».
Вот тебе и счастливое плавание!
Шхуна действительно полюбилась экипажу, но полюбилась уж слишком.
Урвич чувствовал себя виноватым — и перед Ноксом, и перед Дьедонне.
Ведь всё-таки он был на положении хозяина «Весталки» и оказался настолько непредусмотрительным, что допустил разыграться такой истории, не послушав инстинкта старого моряка-шкипера и вмешавшись в его дело.
Если б он не заступился в Сингапуре за кока, Нокс, вероятно, прогнал бы его, а без Джона не остались бы и другие матросы его шайки на шхуне, и ничего бы не случилось.
Но всё это были «если бы», а на самом деле Урвичу предстояла с завтрашнего же утра, как только развяжут его и подымут, ежеминутная пытка, нравственная и физическая.
Когда он во всех подробностях представил себе, что ожидает его впереди, он самым искренним образом позавидовал участи брошенного за борт шкипера.
Тот, по крайней мере, умер, защищаясь и отстаивая себя.
Неужели же он, Урвич, безропотно покорится произволу этой челяди и подчинится её насилию, будет слугою у них? И для чего? Для того чтобы отсрочить на несколько дней то, что всё равно должно случиться с ним…
Он ясно слышал сказанное старым Джоном: «Потом можно будет разделаться и с ним». Это значило, что они продержат его на шхуне до тех пор, пока он нужен будет им, а затем при приближении к берегу сделают с ним то же, что сделали с Ноксом.
«Так зачем же, — рассуждал Урвич, — я буду откладывать, что неизбежно? Всё равно им нельзя явиться со мной на берег, потому что там ничто не заставит меня молчать и не воззвать к возмездию!.. За что же стану я мучиться эти несколько дней?»
И у него создался ясный и определённый план действия.
Шкипер говорил, что старый Джон опытный моряк и может вести шхуну, но кроме него, этого Джона, едва ли найдётся среди предателей ещё другой, обладающий такими знаниями.
Значит, лишив их руководителя, Урвич накажет их по заслугам. Наибольшая вероятность, что они погибнут при первом же серьёзном шторме. Помощи им ждать будет неоткуда, а выбраться на торный путь они не сумеют, потому что не знакомы ни с картой, ни с прокладкой курса, ни вообще с кораблевождением.
Хорошо же, пусть его развяжут утром и пошлют в камбуз, он возьмёт там кухонный ножик и, прежде чем разделаются с ним, он разделается сам с вероломным Джоном и прыгнет за борт прежде, нежели успеют схватить его.
Этот план казался единственным выходом Урвичу.
Он хотел сам скорее разделить участь Нокса и прыгнуть в воду, чем ждать, пока его бросят туда.
Он лежал на спине с открытыми глазами и смотрел в небо.
Вдруг, приглядевшись внимательно, заметил он по луне и звёздам, которые научился уже распознавать, что шхуна повернула и идёт теперь обратно на север, лавируя.
Это открытие изменило несколько ход его мыслей. Он удивился, как не сообразил раньше, что будет так.
Разбойники, очевидно, не могли продолжать прежнего пути, потому что не знали его и не имели понятия о его цели. Они, весьма естественно, должны были повернуть назад.
Вследствие этого положение менялось.
Торопиться с исполнением задуманного плана Урвичу не следовало. Если он завтра же утром попробует покончить со старым Джоном и прыгнет за борт, кто знает, как удастся ему нанести удар ножом, может быть, он царапнет только врага, а сам погибнет, оставив обидчиков на свободе и свою смерть и смерть Нокса без возмездия.
Расправа со старым Джоном должна быть крайним, последним средством.
Теперь с поворотом шхуны на север явилось у Урвича новое соображение, возбудившее в нём хотя слабую, но всё-таки надежду.
С курсом на север они приближались к более оживлённой части океана и могли встретить пароход. Тогда Урвичу, может быть, удалось бы выкинуть на мачте чёрный шар, то есть сигнал просьбы о помощи, или иначе обратить как-нибудь внимание на шхуну, и тогда он был спасён, а старый Джон и его сообщники наказаны.
После долгих колебаний Урвич решил, что подождёт с исполнением своего плана и посмотрит, что готовит ему утро.
А утро это уже розовым заревом блеснуло на горизонте, и по небу словно прорвался первый луч солнца, возвестивший появление дневного светила.

XXII
Команда проснулась.
— Ну, вставай, что ли, мальчишка! — услыхал над собою Урвич голос старого Джона. — Ах, я и забыл, что ты ещё связан… Развяжите его.
Урвича освободили от верёвок, подняли и поставили на ноги.
Старый Джон, одетый в праздничный костюм Нокса, очевидно, вступил во владение вещами шкипера; он оглядел Урвича и, рассмеявшись, сказал:
— Хозяин! Хорош хозяин шхуны, нечего сказать… Да такое судно, как «Весталка», не по рылу тебе, мальчишка… Ну, так вот, я взял его себе, и в моих руках быть ему куда приличнее… А ты слушай меня внимательно. Твой приятель мистер Нокс пошёл нынче ночью командовать рыбкой на морской глубине, а ты остался в живых только благодаря своему искусству готовить кушанья, чего я, по правде сказать, совсем не умею. Так вот, каждому своё. Мне твоя шхуна, которой ты управлять не умеешь, а тебе мой камбуз, где ты распоряжаешься отлично. Ты нам сегодня сделаешь макароны и хороший кусок солонины. Мы тоже любим поесть хорошо. И имей в виду ещё вот что: первое неповиновение — двадцать ударов линком, а по второму — прямо за борт без всяких разговоров в гости к мистеру Ноксу… Ну, а теперь марш на своё место!
Он говорил, держа руки в карманах и расставив по-морскому ноги. С последними словами он повернулся спиной и пошёл по направлению к юту, как будто и не сомневался, что его приказание будет исполнено без возражения.
Урвич не возразил.
Он был готов к тому, что сказал старый Джон, и знал уже вполне определённо, что станет он делать и как ему быть.
Он пошёл в камбуз; руки и ноги, затёкшие от верёвок в течение ночи, плохо повиновались и болели у него… Он сделал над собою усилие и пошёл.
— Эй, мальчишка! — окликнул его один из матросов, рост и сложение которого подходили к внешности Урвича. — Поменяемся-ка, брат, с тобою платьем, тебе в камбузе и в моём хорошо будет, а мне тоже пощеголять лестно.
Хохот остальной компании явился как бы одобрением словам матроса.
Урвич безропотно отдал свою одежду, а сам надел рваные, грязные панталоны и куртку матроса.
Переодеваясь, он увидел, что всё тело у него в синяках. С ним не очень-то церемонились, когда связывали ночью.
В камбузе нашёл он небольшой нож в кожаных ножнах, отточил его и спрятал в карман.
Он принялся готовить обед, и пока был занят им, его не тревожили, и никто его не трогал.
После обеда его заставили мыть палубу и отскоблить кровяные пятна на ней.
Умерший Билли-Том был, вероятно, уже выброшен за борт; по крайней мере, Урвич не видел его на шхуне.
Двум раненым, лежавшим в матросской каюте, он носил есть и нашёл их очень слабыми.
К вечеру один из них умер.
Таким образом, на шхуне оставалось всего четыре человека, кроме Джона.
Умершего, когда убедились, что он покончил с земными счётами, без всяких церемоний спустили за борт, привязав ему тяжесть к ногам.
Происшествие это всё-таки произвело некоторое впечатление.
Среди четырёх матросов произошло как бы волнение, они были возбуждены событием прошлой ночи и смертью двух товарищей.
Урвичу пришлось быть свидетелем неприятной сцены.
Матросы узнали, вероятно, вчера ещё ночью о существовании кладовой за кают-компанией и о запасе рома.
Они потребовали от Джона, чтобы он дал им несколько бутылок.
Джон в шкиперском одеянии вышел к ним и, расставив ноги, засунул руки в карманы.
— Рому не дам! — коротко заявил он.
— Мы требуем! — в один голос крикнули четыре человека.
Джон поднял голову:
— Что-о!..
— Мы требуем рому! — повторили опять.
— Я сказал — не дам. Вы перепьётесь, а что будет со шхуной?
— Ты не гувернёр нам, мы не школьники, давай рому, говорят тебе!
С каждой секундой возбуждение росло.
Матросы наступали. Урвич, следивший издали, был уверен, что если Джон не исполнит требования, его изобьют.
Но он стоял твёрдо на месте, нисколько не смущаясь, как будто всё это было привычно ему и входило даже в порядок вещей.
— Чего лезете! — крикнул он, покрыв четыре голоса. — Я сказал, что не дам!
— Так мы возьмём силой!
И они подвинулись.
Джон спокойно вынул из кармана револьвер и поднял его.
— Назад! Кто осмелится, я ему пулю всажу…
В ответ послышался глухой ропот, но недовольные сейчас же стихли и, ворча, разошлись.
Джон спрятал револьвер в карман и ушёл к себе.
«Они трусы. Так и должно, впрочем, быть подлым негодяям!» — заключил Урвич.
XXIII
На другой день с утра опять Урвича заставили готовить обед, но относились к нему несколько суровее и не оставляли в покое.
То тот, то другой из матросов призывал его и
заставлял принести себе что-нибудь, так что бедный Урвич сбился с ног.
Обед вследствие этого не поспел вовремя, и старый Джон раскричался на него за это и обещал пустить в ход линки.
Только надежда, что попадётся какое-нибудь встречное судно, заставляла Урвича сдерживаться.
Он исполнял всё, что от него требовали, откликался на обидную кличку «мальчишка» и всё время, стиснув зубы, молчал.
С самой той минуты, как разбойники завладели «Весталкой», он не проронил ни слова.
— А мальчишка-то, должно быть, онемел от страха! — сказал матрос, отобравший у Урвича платье и одевшийся в него. — Что ж ты всё молчишь? — обратился он к Урвичу. — Расскажи нам что-нибудь, или хоть песню спой. Ты, верно, мастер петь песни.
Урвич и тут сдержал себя, ничего не ответил и отошёл в сторону.
На ночь ему не давали постели; он должен был спать на досках палубы, подложив под голову мешок с крупой.
На вторую ночь сам старый Джон заметил, что Урвич положил под голову крупу, и рассердился на это.
— Ты что это! — крикнул он. — Своих барских привычек оставить не можешь? Не велик господин, можешь и так выспаться! Русская ты собака и больше ничего! Ну, и спи по-собачьему.
У Урвича рука уже потянулась к карману, где лежал у него нож, и не уйди старый Джон, он бы пустил его в дело.
Но Джон кинул свои обидные слова мимоходом и прошёл довольно быстро, так что пока Урвич догнал бы его, он успел бы принять меры защиты.
Всю эту ночь Урвич просидел без сна, смотря на небо, на звёзды, красиво и мирно сиявшие наверху.
И думалось ему, что вот теперь же, вероятно, ещё кто-нибудь смотрит на те же звёзды, но уж, наверное, не находится в таком отвратительном положении, как он.
Завтра они должны были уйти достаточно далеко на север, туда, где могли повстречаться какие-нибудь суда, и завтра наступал решительный день — или спасения, или задуманной расправы с Джоном.
Урвичу почему-то казалось, что спасение невозможно для него и что придётся ему покончить со всем разом.
Часы свои он полагал сочтёнными, и это сознание было и мучительно, и ужасно.
Каждый миг, каждая секунда, каждая минута, которые проходили, приближали неминуемую развязку, и хотя казались долгими, как никогда, но вместе с тем летели быстрее, чем когда-нибудь.
Урвич снова встретил без сна восход солнца и на этот раз любовался им, уверенный, что делает это в последний раз в жизни.
Странно ему было, и уж никак не думал он там у себя, в далёком русском городе, что придётся ему расстаться с жизнью при таких обстоятельствах.
Правда, мечтал он о путешествиях и о приключениях, но в мечтах всё у него выходило прекрасно и, мечтая, он всё-таки сознавал, что это не действительность.
Он постарался добросовестно ответить себе на вопрос: а что если бы он знал, что случится с ним, отправился бы тогда он или нет?
«А почём ты знаешь, что случится ещё и чем всё это кончится?» — словно сказал внутри его какой-то голос.
XXIV
Третий день пребывания на шхуне в качестве кока начался для Урвича так же, как и два предыдущие, но то, что последовало затем, явилось уже совершенно неожиданным и новым.
После обеда старый Джон, задумав обливаться морскою водой, приказал Урвичу наполнить вёдра так же, как сам он наполнял их когда-то для Урвича.
Тот спустил два ведра на верёвке за борт, предчувствуя, что решительный момент наступил и что если со стороны Джона последует ещё какая-нибудь выходка во время обливания, он не выдержит и покончит с ним.
Когда вёдра были наполнены, старый Джон разделся и велел обливать себя.
Урвич заметил, что Джон не следовал благим советам, которые, угрожая пистолетом, давал вчера матросам, когда они требовали от него рому, и сам отведал его изрядное количество, потому что казался сильно выпившим.
Обливать его Урвичу, который был ниже его ростом, было очень трудно и неловко.
Джон требовал, чтобы вода лилась на голову, а сам не нагибался и, недовольный Урвичем, он с отборными ругательствами протянул руку, чтобы схватить его за ухо.
Урвич вытащил нож из кармана и кинулся на старого Джона.
Джон, следивший за малейшим движением Урвича, увернулся в сторону и с ловкостью и силой, которых трудно было ожидать в его старом теле, схватил нападающего за руку. Урвич рванулся, но Джон, как тисками, сжал его и закричал, призывая на помощь.
Рулевой на юте видел эту сцену и тоже закричал.
Трое свободных матросов сбежалось; они облапили Урвича со всех сторон, отняли у него нож и крепко держали его.
Урвич понял, что напрасно погорячился, не выждав удобной минуты, и что теперь всё погибло для него.
— A-а! Мальчишка показывает зубы! — смеясь и быстро одеваясь, заговорил старый Джон. — Нет, братец, молод ты, чтобы провести такого старого волка, как я!.. Держите, держите его! — приказывал он матросам. — Сейчас мы ему, голубчику, покажем, что следует за бесчинство в нашей благородной компании! Ведь компания наша благородная?
Матросы, заранее уже предвкушая удовольствие от зрелища, которое, вероятно, даст придуманное старым Джоном наказание мальчишки, широко ухмылялись и разразились наглым смехом, когда их коновод назвал компанию «благородной».
— К мачте его! — скомандовал старый Джон.
Урвича потащили.
Он стал упираться, делая неимоверные усилия, чтобы вырваться и, прыгнув за борт, не дать этим людям надругаться над собой.
Он с таким отчаянием метался из стороны в сторону, что трое людей едва могли совладать с ним и уж не вели, а только старались удержать.
Наконец один из матросов догадался применить способ, которым обыкновенно английские полисмены водят мазуриков, когда те вздумают не повиноваться.
Он взял Урвича одною рукою за шею, а другою сзади за панталоны, слегка приподнял его и, подталкивая, повёл перед собою.
Человек, схваченный таким образом, делает инстинктивное усилие, чтобы сохранить равновесие, и волей-неволей подаётся вперёд, направляемый сзади куда следует.
Таким образом матрос при общем хохоте и гиканье остальных подтащил Урвича к фок-мачте.
Должно быть, фигура при этом получилась очень комичная, потому что рассмеялся и повеселел даже старый Джон.
— А ну-ка, разденьте его! — проговорил он.
Наказание, предстоявшее Урвичу (он слышал, что это практикуется на английских судах), заключалось в том, что его, голого, должны были привязать грудью к мачте и затем бить ремнями или особыми плетьми, называемыми кошками, в три или четыре хлеста с свинцовыми пульками на концах.
Неизвестно было только, до смерти ли хотел захлестать Урвича старый Джон…
Урвича не раздели, а сорвали с него одеяние, обхватили его руками мачту и крепко стянули их по другую сторону верёвкой.
То же самое проделали и с ногами, и бедный Урвич неуклюже повис, волей-неволей подставляя спину под готовящиеся удары.
Ремней и кошек не нашлось под руками; старый Джон велел их смастерить наскоро, а пока подступил к Урвичу и стал издеваться над ним.
— Что, мальчишка! — заговорил он. — Я тебе за неповиновение обещал двадцать ударов, но уж теперь не прогневайся, всыплю, пока мясо от костей не отстанет!
— Слушай, Джон, — сказал ему Урвич. — Ты можешь меня бить и мучить теперь, сколько хочешь, потому что я в твоей власти, но только помни, что всякое зло таит в самом себе и кару свою…
— Ты ещё рассуждать! — перебил его с криком Джон. — Эй! Поворачивайтесь живее! Готовы, что ли, плети?
— Готовы! — ответил сзади голос.
Урвич съёжился и зажмурил глаза, ожидая первого удара.
Но к крайнему удивлению Урвича удара, которого он ждал, не последовало.
— Капитан, судно! — доложил рулевой старому Джону.
— Где? — переспросил тот.
— По левому борту.
Привязанный к мачте, Урвич не имел свободы движения, не мог ни оглянуться, ни посмотреть вперёд, где перед ним была мачта, но он имел возможность повернуть голову в сторону.
Он взглянул налево и действительно увидел приближающееся к ним небольшое парусное судно, которое казалось меньше «Весталки».
На мачте его висел чёрный шар, означавший «прошу помощи».
Приближение этого судна не было сразу замечено на шхуне, потому что там заняты были все привязыванием Урвича к мачте.
— Он просит помощи! — сказал Джон.
— И вместе с тем держит прямо на нас! — заметил один из матросов.
— А что же? — продолжал Джон, — начали мы удачно, очевидно, счастье везёт нам, может, можно воспользоваться их положением, поживиться чем-нибудь! Нас пятеро, авось справимся, если их немного, а не то сделаем вид, что готовы оказать помощь.
Судно приближалось, и Урвич мог разглядеть на нём несколько человек чёрных.
По оснастке и парусам судно было европейское, а экипаж его состоял из чёрных.
— Ээ! Да там черномазые! — решительно заявил старый Джон. — Ну, с ними мы справимся! Валяй, ребята?
— Валяй! — лихо подхватили матросы.
— А что же нам делать с мальчишкой? — спросил, очевидно, наиболее благоразумный. — Не лучше ли отвязать его и спустить в трюм?
— Ничего, — махнул рукой старый Джон, — пусть болтается! Заткните ему только глотку чем-нибудь, чтобы не кричал!
В рот Урвичу грубо сунули грязный платок.
— По местам! — скомандовал старый Джон. — Я сам возьмусь за руль!
Через несколько минут «Весталка» послушно и ловко стала лавировать встречному судну, и судно это, в свою очередь, видимо, управляемое опытной рукой, приближалось с замечательным расчётом.
Море было тихо, ветер, достаточный, однако, чтобы надувать паруса, почти не колебал воды, и маневрировать поэтому было очень удобно.
Скоро сошлись на близкое расстояние и сразу, как будто по одной и той же команде, подобрали паруса и остановились.
— Что нужно? — завопил старый Джон через рупор, так что голос его, и без того громовой, раскатился по широкому пространству.
— Ради Бога, бочонок пресной воды! — также в рупор отвечали ему. — Мы двое суток без воды!
Старый Джон помедлил немного.
— Отчего же вы без воды? — спросил он.
— Зацвела… испортилась.
Старый Джон созвал своих матросов для совета.
— Что-то странно! — стал рассуждать он. — Европейское судно, одежда на экипаже европейская, говорят и понимают по-английски, а сами черномазые!
— Раз, два, три, четыре… — стали считать матросы людей, видневшихся на палубе судна.
— Их всего четверо, — сказал матрос, одетый в платье Урвича. — К тому же они измучены жаждой.
— Не может быть, чтобы их было только четверо, — усомнился Джон.
— Остальные, вероятно, лежат в изнеможении и никуда не годятся! — решил матрос.
— Во всяком случае, посмотрим! — заключил Джон. — Так, слушайте ж хорошенько! Ждать моей команды, но когда я крикну «вперёд», сразу начать; без команды же не сметь распоряжаться!
Он снова взял рупор и крикнул в него:
— У нас у самих мало воды!
— Ради Бога, — послышался ответ, — мы гибнем, нас только четверо ещё в силах вести судно, а пятеро лежат без памяти.
— Я говорил! — сказал матрос.
— Хорошо! — закричал старый Джон. — Стойте на месте, мы подойдём к вам к борту.
Он снова послал по местам своих матросов, паруса на «Весталке» распустились, и она двинулась.
«Господи, — подумал Урвич, — неужели вероломство этих людей опять удастся им, и они разграбят несчастных, просящих помощи?..»
XXV
Несчастные, просившие помощи, оказались, однако, столь же вероломными, как и старый Джон со своей компанией. Нашла коса на камень!
Как только «Весталка» приблизилась совсем близко к борту просившего помощи судна, с этого судна упали на неё, как по мановению волшебства, трапы с железными крючьями, крепко за неё зацепившимися.
Это было приспособление, похожее на то, которое употреблялось в древности для сцепки двух кораблей во время сражения.
И не четыре, а человек двадцать вдруг откуда-то совершенно неожиданно по этим трапам вскочили на «Весталку», и началась такая сумятица, такая борьба, что трудно было разобрать что-нибудь.
Напрасно, выходя из себя, орал старый Джон, напрасно отбивались его товарищи, нападающие были так же, как и они, опытны в своём деле и быстро справились с ними.
Урвич, всё ещё привязанный к мачте, не мог видеть всего, но зато слышал, и из того, что он отчасти увидел и услышал, он понял, что встретившееся им судно было таким же пиратским, в какое хотела обратить «Весталку» шайка Джона.
Вышло, что «вор у вора дубинку украл».
Шайка черномазых была многочисленна, хорошо организована и опытна.
Помощи они, конечно, просили для того только, чтобы привлечь «Весталку» к себе, и провели старого Джона.
Урвич слышал, как затихла свалка, затем послышался говор на незнакомом ему гортанном языке.
На том же языке раздалась команда.
Говор стих, и Урвич уловил у себя за спиной отзвуки молчаливой возни, изредка прерываемой только распоряжениями командира; смысл всего, однако, оставался Урвичу неясен.
Но по странному, уже знакомому ему, слышанному плеску воды за бортом, раздававшемуся, когда бухало тело Нокса, Урвич понял, что совершается за его спиной.
Буханье раздалось четыре раза, потом через некоторый промежуток — пятый.
Для Урвича не было сомнения, что это выкинули четырёх матросов, но он не знал, кто был пятый: раненый ли, лежавший в матросской каюте, или сам старый Джон.
До сих пор на Урвича не обращали внимания и оставляли его привязанным к мачте, хотя черномазые сновали по всей шхуне и хозяйничали на ней.
Когда покончили с экипажем, подошли к нему и развязали его.
Его взяли за руки, накинули на него какую-то хламиду и повели к начальнику.
Начальник сидел на шканцах в соломенном кресле; перед ним стоял связанный старый Джон.
«Значит, пятый был раненый!» — сообразил Урвич.
— Кто этот человек? — спросил про Урвича начальник.
— Хозяин этой шхуны! — ответил старый Джон.
— Хозяин? — протянул начальник (он говорил по-английски с сильным австралийским акцентом, но всё-таки говорил так, что его можно было понять). — Хозяин? — повторил он ещё раз. — Разве у вас хозяев привязывают к мачтам?! Кто тебя велел привязать? — обратился он к Урвичу.
Урвич смело глянул на него и показал на старого Джона.
— Это сделал ты? — продолжал начальник, оглядев Джона. — Значит, ты распоряжался здесь и хозяйничал. Ну, если у вас хозяев привязывают к мачте, а он хозяйничал здесь, так привяжите его самого!
Дисциплина у этих черномазых была образцовая, и едва начальник отдал свой приказ, старого Джона потащили к грот-мачте и прикрутили к ней спиной, крепко обмотав верёвками.
— А за этого, — сказал начальник, указав на Урвича, — вы отвечаете мне!
И двое людей взяли Урвича и отвели его на бак.
С ним случилось то, что часто бывает в жизни с нами, когда мы не знаем и не можем знать, что для нас дурно, что хорошо.
То, что Урвича привязали к мачте, было для него, разумеется, ужасно и грозило ему гибелью, но вместо угрозы именно это-то и спасло его, потому что, не будь он привязан, по всей вероятности, его бы сочли за товарища матросов и поступили бы с ним так же, как поступили с ними.

XXVI
От дранья плетьми и дранья, быть может, насмерть Урвич был спасён неожиданно происшедшими событиями, но что ожидало его теперь после спасения?
Трудно было предположить, что австралийский пират, хотя он и обошёлся довольно милостиво с Урвичем, окажется романтическим итальянским разбойником, карающим зло и награждающим добродетель.
Хотя Урвич считал себя ни в чём не повинным и, конечно, не смутился бы, если бы попал на какого-нибудь Ринальдо, но тут выходило положение несколько другое…
Тем не менее, первое, что ощутил Урвич, была радость возвращённой жизни. Надолго ли? Конечно, об этом можно было раздумывать, как и о том, что предстояло впереди, но, во всяком случае, теперь было лучше, чем висеть привязанным на мачте в ожидании плетей.
Двое черномазых, которым поручил под их ответственность начальник Урвича, отвели его на бак и там без всякой церемонии скрутили ему руки назад и привязали к одному из колец, ввинченных в борт, а потом ушли.
Очевидно, они понимали свою ответственность довольно своеобразно.
Урвич, к своему прискорбию, должен был заключить, что они отвечали не за безопасность его, а за то, чтоб он не убежал.
Положим, убежать ему решительно было некуда среди океана. Нельзя же было предположить, что он один управит «Весталкой», да ещё сцепленной трапами с пиратским судном!
Но его всё-таки привязали к кольцу со скрученными назад руками и, вероятно, для порядку, что ли…
Такой порядок Урвич одобрить не мог. Стоя привязанный на баке, он имел возможность видеть и наблюдать всё, что происходило на палубе шхуны.
Начальник удалился, а на «Весталке» осталась целая толпа чёрных, занявшаяся разграблением и дележом добычи.
Весь провиант самым тщательным образом черномазые перегрузили к себе и сделали это в образцовом порядке, гораздо скорее и с гораздо меньшей суетой, чем присяжные грузильщики в любом порту.
Затем на палубу, на шканцы были снесены и свалены в одну кучу все вещи, находившиеся в каютах.
Тут было платье, бельё, карты, инструменты, хронометр, пистолеты Нокса и револьвер Урвича, книги, посуда из кают-компании, кухонные ножи, чайник, кастрюли из камбуза и даже маленькая трубочка шкипера и его кисет с табаком.
Самый делёж происходил довольно оригинально. Несмотря на то, что делились полудикие разбойники, всё происходило необыкновенно чинно.
Очевидно, у них был выработан давнишней практикой строгий обычай, как поступать, и они свято придерживались его и ненарушимо.
У них была установлена очередь, и они выстроились, держась её, длинной вереницей.
Тогда на глазах у всех двое, вероятно, выборных, пересмотрели все вещи, раскрыли все ящики, какие были налицо, осмотрели карманы одежды и все деньги, которые нашли при этом, собрали и унесли, очевидно, начальнику.
Потом они стали по одному подходить к вещам.
Каждый подходил по очереди, рассматривал и брал то, что ему нравилось.
Наблюдая, Урвич заметил, что всякий имел право взять любую, но одну только вещь.
Самые лучшие доставались, разумеется, тем, которые подходили передовыми, но никто не обижался на это, считая, должно быть, установленную очередь вполне правильною.
Раз только вышло недоразумение из-за трубки погибшего шкипера.
Тот, кто, подойдя по очереди и рассмотрев оставшиеся на его выбор вещи, ничего не нашёл в них для себя лучше этой трубки, взял её и вместе с нею потянул кисет с табаком. Тогда черномазые закричали, и между ними завязался спор. Хотя спорили они на своём, не понятном для Урвича языке, но догадаться, в чём дело, было не трудно: взявший трубку доказывал, что кисет составляет её неотъемлемую принадлежность, потому что обе эти вещи должны считаться за одну, и не хотел отдавать кисета, а другие требовали, чтоб он удовольствовался одной вещью.
Шум и крик, поднятые по этому поводу, вызвали появление начальника.
Он угомонил шумевших, потребовал объяснения и рассудил, что кисет и трубка неделимы, по крайней мере, обладатель трубки остался также и при кисете, на что уже никто после решения начальника не сердился, и всё опять успокоилось.
XXVII
В каком бы скверном положении ни находился человек, но если он видит рядом кого-нибудь ещё в худшем, то ему как будто легче, и он становится терпеливее, стыдясь жаловаться на свою судьбу, когда другому хуже, чем ему.
Урвич был привязан, но некоторая свобода действий всё-таки оказалась предоставлена ему.
Руки загнули назад, однако, они всё-таки были довольно свободны, и шедшая от них верёвка к кольцу была настолько длинна, что он мог стоять и сидеть, если хотел, и даже сделать несколько шагов в сторону.
Старый Джон между тем был прикручен к мачте, обвитый вместе с нею верёвками, и не мог двинуть ни рукой, ни ногой.
Он так же, как и Урвич, глядел на сцену дележа вещей, скрипел зубами и ворчал ругательства.
Изредка он делал усилия, чтобы высвободиться из опутывавших его верёвок, но они держали его так крепко, что всякие его попытки даже шевельнуться были напрасны, и он мотал только головой; при этом лицо его густо краснело, жилы наливались на шее, и глаза таращились из-под седых бровей грозно и страшно.
Но угрозы и ругательства его ни на кого не действовали: черномазые были заняты своим делом и не заботились о привязанном Джоне.
Когда делёж был окончен, на палубу стали выносить ящики с бутылками рома, и ящики эти нагромоздились большой кучей.
Урвич, взглянув на них, ещё раз должен был изумиться, какой огромный запас сделал Дьедонне.
Хотя в его положении весёлость была и не совсем уместна, но он невольно улыбнулся, подумав, какую бы скорчил физиономию жадный француз, если б увидел, кто пользуется заготовленным им ромом.
Чумазые взяли по бутылке, откупорили, понюхали, почмокали губами, очевидно, одобрив качество напитка; затем они сели на палубу, поджав под себя ноги, и образовали большой круг.
Один из них встал и, подняв над головой бутылку, проговорил что-то по-своему, после чего все также подняли бутылки и, потрясая ими, громко заорали.
После этого началось пение.
Черномазые, сидя в кругу, тянули прямо из горлышка и пели. Сначала звуки их песни были протяжны и заунывны и часто прерывались однообразным припевом, похожим на вой дикого животного.
По мере того, однако, как пустели бутылки, напев становился веселее и чаще, пока не перешёл, наконец, в дикий крик. Двое вскочили в круг и начали плясать, а остальные в такт ударяли бутылками о палубу. Музыка получалась странная и слишком громкая даже под открытым небом океана.
Черномазые заметно пьянели.
Взглянув на старого Джона, Урвич поразился и испугался того, что делалось с ним.
Лицо у него совсем посинело, судорога кривила рот и словно пена показывалась у губ.
Он хрипел, силился крикнуть, так чтобы заглушить пьяный разгул и вопли чёрных.
— Пить… дайте мне пить… негодяи! — завопил он.
О нём вспомнили и оглянулись. Но лучше бы он не напоминал о себе.
То, что произошло затем, не могло сравниться своим ужасом ни с какими мучениями, о которых слышал когда-нибудь Урвич или читал. А уже видеть ему никогда, конечно, не приходилось ничего подобного.
— Молчать! — крикнул привязанному Джону один чернокожий по-английски, сильно, впрочем, исковеркав это слово.
Но Джон не слушал его и продолжал вопить. Тогда черномазый размахнул пустой бутылкой и кинул её. С необыкновенной силой, вертясь, пролетала она и ударилась в мачту над головой Джона, звонко рассыпавшись мелкими осколками. Осколки эти обсыпали привязанного.
И вслед за первой бутылкой полетала вторая, третья, и ещё, и ещё…
Иные из них не попадали в цель, пролетали мимо, падали на палубу и разбивались, но большинство метко было направлено в голову старого Джона, которая служила мишенью.
Зрелище было ужасное.
Бутылки рассекали ему кожу, окровавленная голова свесилась. Старый Джон стонал, но стонал недолго.
Он умолк, потеряв, видно, сознание, и только тело его судорожно вздрагивало.
Черномазые насмерть добивали его бутылками.
То, что он должен был терпеть теперь, было несравненно более жестоко, чем пытка плетьми, приготовленная им для Урвича.
И если он получал наказание за эту пытку, то оно было несоразмерно сурово и бесчеловечно, если можно говорить тут о человечности вообще.
Но один Бог знал, какие вины и какие преступления искупал старый Джон своей мучительной, ужасной смертью.
Дикие беспощадно продолжали свою оргию.
Урвич чувствовал, что у него темнеет в глазах, мысли путаются; он не мог дольше смотреть, закрыл глаза, палуба словно зашаталась под ним; он протянул бессознательно вперёд руки, как бы желая остановить отвратительное кровавое дело, попытался крикнуть и повалился без чувств.
XXVIII
Урвич упал без чувств, и всё смешалось у него; он перестал сознавать и не знал, что было потом и не помнил.
В этот день он с утра не ел ничего и, истомлённый духовно и физически, не мог выдержать дикой расправы чёрных со старым Джоном.
Обморок его был глубок и продолжителен, по крайней мере, так показалось ему, когда первые проблески сознания явились у него, проблески слабые до того, что он не мог распознать, было ли это наяву или в бреду, или, может быть, даже и не в бреду, а в каком-нибудь особенном, нездешнем, неземном состоянии.
Прежде всего ему пришло в голову, что
так хорошо может быть только после смерти. Ему было очень хорошо.
Тело испытывало необычайную приятность и теплоту, покой и удобство.
Он будто лежал на чём-то мягком, тёплом и удобном на спине, и голове было очень ловко.
Откуда-то слышался невнятный гул; воздух был тих, свеж и необычайно ароматен.
— Это рай! — проговорил Урвич.
И снова всё заволоклось для него дымкой, и снова всё перестало существовать для него, и сам он тоже погрузился в небытие.
Потом он помнил яркий свет, какие-то голоса, говорившие, как ему показалось, по-русски, но что именно — разобрать он не мог.
Он открыл глаза и сейчас же зажмурился от лучей яркого солнца.
Как будто раздалась откуда-то очень издали музыка, убаюкивающая и ласкающая.
Он опять открыл глаза, и перед ним, как видение, мелькнуло хорошенькое, прелестное личико. Он видел его одну секунду, меньше секунды… один миг, но забыть его уже было нельзя!
— Он очнулся! — сказал кто-то.
Урвич хотел ответить, что нет, он не очнулся и вовсе не хочет приходить в себя, потому что наяву грозит ему ужас.
Он знал, что наяву — разграбленная шхуна, черномазые разбойники, верёвки, скручивающие ему руки, наяву небо высоко и далеко от него, и нет мелькнувшего личика, нет музыки и прелести покоя!
Он хотел, чтобы грёзы его продолжались, и сделал усилие крикнуть это, но, как часто бывает во сне, что хочешь крикнуть и не можешь, так не смог и он, и снова веки его опустились, и всё покрылось темнотой и забвением.
Наконец Урвич очнулся в самом деле, очнулся если не совсем бодрый, то, во всяком случае, настолько сильный, что мог вполне сознательно оглядеться кругом, оглядеться и не поверить тому, что перед его глазами действительность, а не продолжение сновидения, бреда или иной, лучшей жизни.
Он чувствовал, однако, своё тело, двинул рукой, и рука у него двинулась, значит, он не перестал жить, и всё это было на земле, потому что никуда с земли, не расставшись со своим человеческим телом, попасть нельзя.
Урвич лежал на мягкой койке, покрытой шёлковым красным одеялом; под его головой была пуховая подушка в полотняной наволочке; рядом с койкой — тумбочка с белым мраморным верхом; на полу — красный ковёр; над головой — штучный из красного и розового дерева потолок с вделанным в него матовым стеклянным полушаром, очевидно, для электрической лампы.
Стены обнесены высокой панелью из красного дерева, а выше обшиты подобранными мозаикой дощечками розового.
Это была не то каюта, не то комната, маленькая, уютная, с двумя круглыми окошечками, совершенно такими, как устраивают иллюминаторы на пароходах.
Под окошечками письменный стол с покойным креслом перед ним, обтянутым красным сафьяном, вся остальная мебель — два кресла и ещё стул и диванчик — обита таким же сафьяном.
С койки, на которой лежал Урвич, в окошечко виднелось безоблачное небо, и по нему нельзя было определить, что это за помещение, в котором он очутился.
Он ещё раз потрогал себя, всё ещё не веря своим глазам, и должен был снова убедиться, что он прежний Урвич, тот самый, который отлично знал, что его привязали к кольцу на борту «Весталки», очутился теперь в этой роскошной обстановке не то какого-то сказочного коттеджа, не то каюты.
Но если это была каюта, то судно, часть которого она составляла, вероятно, не двигалось, потому что Урвич не ощущал ни малейшего колебания и, как ни напрягал слух, не мог различить никакого шума, служившего признаком движения.
Над тумбочкой у койки он заметил кнопку электрического звонка, и пока ещё раздумывал, надавить её или нет, ручка в двери шевельнулась, и дверь отворилась без стука.
XXIX
Дверь отворилась, и в неё вошёл высокий сухой человек, поджарый, мускулистый, с белым загорелым лицом, коротко остриженными волосами и тёмными, нависшими на губы, жидкими усами.
Одет он был в белый фланелевый костюм с узкими синими полосками, мягкую шёлковую рубашку и широкий тёмно-синий шёлковый пояс. Тёмно-синий же фуляровый галстук был повязан у него морским узлом.
— Ну что, батенька, оправились? — проговорил он Урвичу на чисто русском языке, даже по-московски красиво выделяя звук «а».
— Где я? — первое, что спросил Урвич, потому что всех вопросов нельзя было сделать сразу.
Кто был этот элегантно одетый человек, заговоривший с ним по-русски, куда девались черномазые, их судно и «Весталка», много ли прошло времени с тех пор, как с ним случился обморок — всё это хотелось также узнать Урвичу.
— Вы на яхте князя Северного! — ответил вошедший к Урвичу господин.
— Так вы князь? — спросил опять Урвич.
— Нет, я только доктор на этой яхте.
— Вы русский?
— Да, об этом вы и по говору моему можете судить.
— То-то, так иностранцы не могут выучиться… И князь, хозяин яхты, тоже русский?
Доктор улыбнулся в усы.
— Тоже.
— Но я что-то в России не слыхал такой фамилии…
— Это его прозвище, — опять улыбнулся доктор, — данное ему здесь в Азии, и оно упрочилось за ним.
— А как же его зовут по-настоящему?
— Этого я и сам не знаю, да думаю, что и вы никогда не узнаете. А скажите-ка лучше, как вы себя чувствуете, в теле ломоты нет?
— Нет.
— А голова не тяжела?
— Кажется, что нет.
— Дайте-ка руку.
Он пощупал Урвичу руку, голову, приложил ладонь к его сердцу и, по-видимому, оставшись доволен осмотром, проговорил:
— Вам надо бы сейчас вина выпить и поесть чего-нибудь… Хотите?
— Очень! — обрадовался Урвич, который чувствовал, что поест с большим удовольствием.
Доктор надавил электрический звонок, и почти сейчас же в каюте появился матрос в шёлковой голландке, с добродушным, чисто русским ухмыляющимся лицом.
Когда Урвич увидал это лицо, ему стало особенно радостно и весело на душе, он не только был освобождён и спасён, но и попал к своим русским на какую-то чудную яхту, о существовании которой и в помыслах прежде не было.
— Принеси-ка позавтракать, да вина дай красного!
— Есть! — беспрекословно ответил матрос и побежал исполнять приказание.
— Откуда же вы узнали, что я русский, и почему заговорили со мной по-русски? — продолжал спрашивать Урвич. — Каким образом вы нашли меня, и как яхта попала в эти места?
Доктор внимательно смотрел на него, как бы не слушая его вопросов, но больше следя за тем, как он говорит и каково его теперь состояние.
— Вы всё-таки лучше не разговаривайте пока ещё много, придёт время — всё узнаете! — успокоительно произнёс он. — А теперь лучше не тревожьтесь!
— Да нет, мне лучше будет, если я узнаю… — начал было Урвич.
Но доктор перебил его:
— Вы будьте уверены, что находитесь теперь в полной безопасности, яхта попала сюда по приказанию князя, который, как хозяин, может идти на ней, куда ему угодно, и когда силы ваши восстановятся, вы увидитесь с ним, тогда и расспросите его, а пока вот лучше подкрепитесь!
Матрос принёс на серебряном подносе кусок сочного бифштекса и графин с красным вином. Урвич, давно не слыхавший запаха хорошего жареного мяса и не видавший чёрного хлеба (на подносе на тарелке вместе с белым лежал чёрный хлеб), принялся есть, предварительно выпив по настоянию доктора почти залпом полстакана вина. Это было очень вкусно.
— А всё-таки, — прожёвывая кусок, полюбопытствовал Урвич, — могу я узнать, как название яхты?
— «Марианна», — ответил доктор и отошёл к иллюминатору, видимо, чтобы прекратить настойчивость, впрочем, весьма понятную, с которой продолжал Урвич свои расспросы.
Когда Урвич поел, доктор опять подошёл к нему, улыбнулся и посоветовал:
— Засните-ка теперь. Это будет для вас самое лучшее!
У Урвича, утолившего свой голод и насытившегося, слипались глаза, и он невольно согласился, что, действительно, заснуть ему было самое лучшее.
Доктор опять отошёл, а Урвич, сам не заметив, как, погрузился в здоровый, крепительный сон.
XXX
Сон так хорошо подействовал, что Урвич проснулся совсем бодрым, и явившийся опять к нему доктор проговорил, потирая руки:
— О, да вы совсем молодцом! Хотите попробовать встать и выйти на палубу, чтобы подышать воздухом?
— Я бы с удовольствием, — обрадовался даже Урвич, — но…
И он остановился, не договорив.
— Но, что такое? — переспросил доктор.
— Мне не во что будет одеться, — пояснил Урвич и сконфузился.
— Авось найдётся! — весело усмехнулся доктор. Он подошёл к двери, высунулся и крикнул: — Крамаренко, платье барину!
— Есть! — послышался ответный бодрый возглас. И добродушный матрос сейчас же явился.
Урвич издали узнал свой собственный фланелевый костюм и сапоги жёлтой кожи, которые нёс Крамаренко.
Он сам, своими глазами видел, как черномазые разобрали эти вещи, а теперь все они были целы, как и сам он, Урвич.
— Молодцом, молодцом! — ободрял его доктор, когда он одевался, почти не требуя помощи, которую желал оказать ему услужливый Крамаренко.
Одеваясь, Урвич заметил, что над письменным столом в каюте были вделаны в стену круглые часы: они показывали половину четвёртого.
Было, очевидно, половина четвёртого дня, потому что в иллюминаторы проникал яркий свет, но какого дня — этого Урвич не мог рассчитать и потому спросил наугад:
— А что было вчера в это время?
— Ну, что было, то быльём поросло! — остановил его доктор, явно старавшийся отвлечь воспоминания Урвича и заставить его думать о другом.
— Ну, пойдёмте на палубу! — предложил он и, взяв под руку Урвича, повёл его.
Урвич был уверен, что идти ему будет легко, так он хорошо чувствовал себя.
Но на самом деле вышло не совсем так.
Ноги его оказались слабы, и он был очень доволен, что доктор взял его под руку.
Из каюты они вышли в длинный, освещённый открытыми люками коридор, пол которого был затянут линолеумом и покрыт широким красным ковром.
На лестнице, чтобы подняться на палубу, доктор ловко поддержал Урвича, так что почти втащил его наверх, и они вышли на ту часть яхты, которая называется на судах шкафутом.
Яхта была трёхмачтовая, с полубаком, спардеком и ютом, немногим уступавшая своей величиной океанским пароходам.
На спардеке возвышались две трубы.
Яхта шла полным ходом, но так плавно, что не было заметно ни малейшего толчка, и только винт шумел за кормой, и по этому шуму можно было заключить, что ход был очень скорый.
Крамаренко придвинул на палубу длинное соломенное кресло-кушетку; доктор посадил на него Урвича и сам сел рядом с ним.
Он вынул из кармана портсигар, раскрыл и протянул его.
— Хотите курить? Не знаю, как мои папиросы понравятся, но они настоящие русские.
Урвич закурил и с наслаждением затянулся, только теперь поняв, какое лишение испытал он, не имея последние дни папирос, которых не давали ему на «Весталке».
Он курил молча и соображал.
Было половина четвёртого дня, значит, солнце склонялось уже к западу, оно было по левую сторону от них, и они шли, выходило, к югу.
— Мы идём к югу? — проговорил Урвич.
— Так, верно, князь приказал, — коротко ответил доктор.
— А каков ход у яхты?
— Да как вам сказать, — улыбнулся доктор, — если я вам не совру, вы не поверите.
— Однако?
— От тридцати до тридцати пяти узлов!
— Не может быть! — воскликнул Урвич.
О такой скорости он никогда не слыхал и не считал её возможной для яхты.
— И при этом, — удивился он, — совершенно не слышно стука машины, точно один винт работает сам собою!
— Оно так и есть, — отозвался доктор, — эти трубы, что вы видите, вовсе не от той машины, которая служит двигателем, они проведены от добывателя электричества, и яхта работает электричеством.
— Так это новое слово?
— Не совсем, потому что электрические катера давно существуют; отчего же не существовать яхте?
В это время по палубе мимо них прошёл черномазый в белой чалме и таком же плаще, и вид его поразил неприятно Урвича.
Доктор, заметив это, поспешил объяснить, что черномазый — сингалезец и что экипаж яхты только частью состоит из русских, а остальные индусы.
Вообще, доктор очень охотно, подробно и много говорил о яхте и тщательно отклонял разговор ото всего, что могло напомнить Урвичу события последних дней.
…Вплоть до вечера доктор не отходил от Урвича.
Он оказался ещё милее и симпатичнее, чем был сначала, хотя Урвич сразу счёл его за лучшего человека из всех, с кем приходилось встречаться ему до сих пор.
Они обедали вместе на палубе, потому что воздух был достаточно тёплый.
В тех местах, где они были, спускаясь к югу, они приближались к полюсу и удалялись от тропиков, и здесь поэтому север считался тёплой страной, а юг — холодной.
Урвич никак не мог привыкнуть к этому и часто ошибался.
Никого, кроме доктора и матросов-индусов, Урвич не видал на той части палубы, где они сидели с доктором. Из русских матросов тоже показывался один только Крамаренко.
Шканцы были закрыты высоким спардеком, и со шкафута не было видно, что происходит на них.
— А где помещение князя? — спросил Урвич, глядя наверх на капитанский мостик, где расхаживал вахтенный офицер, коричневый индус.
Доктор рассказал, что князь занимает кормовую часть яхты, то есть ют.
Этот ют и самого князя Урвич увидал лишь на другой день.
Он провёл отличную ночь на своей мягкой койке.

XXXI
Доктор дал Урвичу какое-то лекарство и благодаря ли ему, или просто вследствие своей крепкой молодой натуры, но Урвич проснулся утром, как встрёпанный.
Вчерашний день был у него немножко в тумане. Он сознавал, однако, и помнил, что находится на яхте князя Северного, что яхту зовут «Марианной» и что яхта эта спасла его с «Весталки».
Но как она его спасла, и как он попал на неё, вот что было интересно узнать Урвичу.
Доктор отвёл его к князю.
Урвич не мог не поразиться щегольскою чистотой яхты и роскошью её отделки. Роскошь, однако, этой отделки снаружи заключалась в полном отсутствии каких бы то ни было украшений и в строгости линий. Палуба, мачты, снасти — всё было сделано из великолепного материала, но всюду царила простота, необходимая для судна, которое несёт дальнюю службу и приспособлено для больших и долгих переходов, а не для увеселительных прогулок.
Зато внутри богатство отделки превышало измышление самой смелой фантазии.
Каюта Урвича, которая показалась ему последним словом роскоши, была скромным лишь намёком на то, что пришлось увидеть ему впоследствии.
Кабинет князя находился под ютом, и вход в него был прямо со шканцев через небольшую дверь с очень высоким порогом.
За кабинетом было помещение князя, куда никто не входил.
Из люка на шканцах спускались в огромную столовую, или так называемую кают-компанию, стены которой были облицованы различными сортами мрамора, скомпанованными в хитрую мозаику.
Среди этой мозаики были два фарфоровых панно. На одном был нарисован вид Москвы с кремлём, на другом — Калькутты.
Огромный стол стоял посредине. На нём завтракали и обедали на серебряной посуде с княжескими гербами. Когда бывало жарко, в кают-компании бил фонтан живой воды.
Под столовой помещалась обширная библиотека с массою книг на русском, немецком, французском и английском языках. Весь пол библиотеки был затянут ковром, а диваны и кресла в ней были до того удобны, что, раз усевшись, не хотелось вставать с них.
Ниже библиотеки почти в самом уже трюме находился музей, где было собрано множество коллекций раковин, неведомых морских зверей, растений, кораллов… С особенными приспособлениями на случай качки были устроены аквариумы, где плескались живые рыбы.
Музей этот представлял полную картину морского дна со всеми, казалось, его обитателями и растениями. Это была живая книга морских тайн, красноречивая и подробная. Нужно было много путешествовать и много работать, чтобы составить такие научные богатства, какие заключались в музее плавучего дворца, как иначе и назвать нельзя было яхту «Марианну».
Доктор впустил Урвича в кабинет к князю одного, сам не вошёл и затворил дверь.
От стола, на котором была разложена карта, навстречу Урвичу поднялся человек среднего роста с коротко остриженными волосами (так удобнее) и с бородою с сильной проседью. Лицо у него было типичное русское: выпуклый умный лоб, мясистый нос, сочные губы и добрые серые глаза.
Он оглядел Урвича и протянул ему руку.
— Добро пожаловать. Рад познакомиться с вами, молодой человек.
В манере, с которой он говорил, звучало столько простоты, искренности, привета, и вместе с тем слышалось такое сознание долгого житейского опыта, что Урвич сейчас же внутренне согласился, что этот князь может называть его «молодым человеком».
Сам он совсем не таким представлял себе князя, владетеля электрической яхты, делающей до 35 узлов в час.
Но как бы то ни было, князь оказался добрым, почтенным старичком, и от этого нисколько не проиграл в глазах Урвича.
— Я имею удовольствие… — начал было Урвич, но сейчас же остановился и просто сказал: — Простите, князь, но вы поймёте моё любопытство; скажите, как я попал на вашу яхту?
Князь показал Урвичу на стул возле стола и сам сел.
— Как вы попали? — проговорил он. — По воле судьбы… Это самый верный, хотя для вас, может быть, и неопределённый ответ. Так должно было, видно, случиться… Если же разобрать причинную связь событий, приведших вас ко мне, то трудно сказать, которое из них в последовательности своей послужило именно причиной нашего знакомства: то ли что вы, окончив курс в университете и потеряв вашу матушку, продали доставшийся вам в наследство домик и решили отправиться искать счастья на далёком востоке; то ли что вы сели на пароход в Одессе около двух месяцев тому назад, а затем на пароходе от Адена до Коломбо встретили француза Дьедонне, который по выходе из Коломбо обыграл вас в кости, так что вы явились нищим в Сингапур и должны были принять его предложение отправиться на «Весталке»; то
ли что вы отправились в это рискованное путешествие, в продолжение которого шайка злодеев, предводительствуемая старым Джоном, вероломно захотела хозяйничать на вашей шхуне и выбросила за борт несчастного шкипера Нокса; и то ли, наконец, привело вас на яхту «Марианну», что мы третьего дня нашли вас без чувств на шхуне, ограбленной чёрными разбойниками, расправившимися жестоко со старым Джоном и его командой?
Урвич слушал, не перебивая, потому что не мог вымолвить слова от удивления, поражённый, откуда князю известны все эти подробности.
Вместо того чтобы Урвичу самому, как он ожидал, рассказывать, а князю слушать, к чему, собственно, Урвич и приготовился, вышло, что рассказывал князь, осведомлённый обо всём, что произошло с Урвичем, почти так же подробно, как и сам он.
В первую минуту он с благоговейным трепетом, если не со страхом, посмотрел на князя, испуганный его проникновенным всеведением.
— Вы всё знаете про меня… — пролепетал он растерянно. — Значит, и имя моё известно вам?
— Вас зовут Николай Иванович Урвич, — сказал князь.
— Так и есть. Вы и это знаете…
Урвич взялся за голову, окончательно смутившись, наяву ли он, или во сне, потому что наяву такие вещи были невозможны.
— Нет, — воскликнул он, — сверхъестественных чудес не бывает на земле, это должно как-нибудь объясниться… или я с ума сойду!
— Отчего же?.. Зачем сходить с ума?
— Оттого, что я не могу понять разумом.
— Не всё мы можем, — возразил князь, — понять разумом, многое должны принимать на веру.
Урвич откинул голову, как бы хотел отмахнуться от спутавшихся мыслей своих.
— Я не могу поверить в то, что кажется нелепым и невозможным… Или я вчера в бреду рассказал всё, — вдруг догадался он и обрадовался, что нашёл хоть какое-нибудь объяснение.
— Нет, вы в бреду ничего не рассказывали, да и бредят обыкновенно отрывочно; из отрывочных фраз бреда трудно восстановить связную последовательность, — заговорил снова князь, — но вы правы: сверхъестественных, противных природе чудес не бывает, хотя всё чудно на земле. Чудеса на каждом шагу, но мы слишком привыкли к ним и не замечаем. И в том, что я знаю о вас столько, нет ничего невероятного. Выйдете на палубу — там вы сейчас поймёте разгадку всего… А пока до свидания, за завтраком увидимся, приходите завтракать в кают-компанию. Так если хотите узнать разгадку, спешите на палубу.
И князь кивнул на прощанье головой Урвичу.
Тот вышел на палубу, почти шатаясь, желая вместе с тем получить разъяснение, которое было, по словам князя, там, на этой палубе.
И как только перешагнул он порог двери, лицо его осветилось осмысленной, радостной улыбкой, и он, протягивая обе руки, бросился вперёд.
XXXII
На палубе навстречу Урвичу вместе с доктором шёл не кто иной, как сам угрюмый шкипер мистер Нокс со своей неизменной трубочкой в зубах.
— Знакомы? — шутливо спросил доктор, представляя Урвичу Нокса.
Тот так обрадовался, что видит снова шкипера, которого считал уже погибшим, что полез обниматься с ним, и Нокс принял его в свои объятия, для чего даже трубочку вынул изо рта ввиду торжественной минуты.
Минута была действительно торжественная. Они поцеловались.
— Да как же это, как же это так… Мистер Нокс? — стал спрашивать Урвич. — Какими судьбами вы целы и невредимы?
— Благодаря вашей шляпе, — сказал немногоречивый мистер Нокс, воображая, что этим ответом он не затемняет дело для Урвича ещё больше, а вполне объясняет его.
— Какой моей шляпе? — воскликнул Урвич. — Опять новая загадка!
Доктор, гостеприимный и внимательный, сказал, что до завтрака ещё далеко, и предложил отправиться к нему в каюту, где приготовлены бисквиты и вино и где беседовать будет гораздо удобнее.
Глотнув вина, бывший шкипер «Весталки» стал словоохотливее и начал рассказывать свою историю, известную уже всем на «Марианне», в том числе и доктору, так что доктор дополнял местами рассказ, когда Нокс умолкал, чтобы раскурить свою трубочку.
После разговора в кают-компании «Весталки» в вечер, предшествовавший роковой ночи, Нокс, которого вдруг стало клонить ко сну от очевидно подмешанного ему в чай наркотика, пошёл к себе в каюту, но прежде, чем лечь, зарядил пистолеты и надел под платье пробковый спасательный пояс из предосторожности, на всякий случай, чтоб иметь возможность выпрыгнуть за борт хоть с каким-нибудь вероятием на спасение и не даться в руки старого Джона, если верх останется за его компанией.
Он хотел посоветовать, чтобы Урвич сделал то же самое, потому что мысль о поясе пришла ему уже после того, как они разошлись, но сон поборол его, и он заснул.
Злодеи связали одурманенного Урвича, что удалось сделать им так, что он не проснулся, но когда они вломились в каюту шкипера, тот, вероятно, менее поддавшись действию снотворного зелья, услыхал и начал бороться, пустив в ход нож, потому что не успел схватить пистолеты.
Борьба, однако, хотя он двух ранил и одного убил, всё-таки оказалась слишком неравною. Его одолели тем, что выкинули за борт.
Упав в воду, Нокс благодаря своему поясу быстро выплыл и увидал, что мчавшаяся на всех парусах «Весталка» достаточно далеко от него.
Оттуда не могли заметить его на воде и вернуться, чтобы доконать его.
Да и едва ли бы они вернулись, впрочем, если б и заметили; ясно было, что долго продержаться невозможно человеку, а спасти его не только вскорости, но далее и после было некому, потому что нельзя было ждать, что в этом месте появится какое-нибудь судно.
Так рассуждал и сам Нокс, когда огляделся, выплыв на поверхность.
Но он, разумеется, решил держаться, пока сил хватит.
Оглядевшись, он заметил, что на некотором расстоянии от него плыло что-то белое, освещённое луною.
Он поплыл навстречу и увидал, что это была большая пробковая, обтянутая набелёной парусиной шляпа Урвича, какие обыкновенно носят в тропиках, уплывшая в суматохе за борт.
Нокс обрадовался находке и взял её.
Пояс отлично держал его на воде, и он сообразил, что шляпа поможет ему при благоприятных обстоятельствах если не спастись, то, во всяком случае, продлить свою жизнь.
Он был слишком опытный моряк и слишком хорошо знал море, чтобы не понять, какое могла она иметь для него значение.
Дело в том, что очутившиеся почему-нибудь вплавь в открытом море — упавшие или выброшенные за борт, или потерпевшие крушение — прежде, чем потонуть, погибают обыкновенно от недостатка пресной воды.
Когда им начинает хотеться пить, наступают для них неимоверные, невообразимые мучения, превосходящие мифические муки Тантала.
У Тантала вода отбегала от губ каждый раз, как он хотел отведать её, мучимый жаждой, а тут кругом вода, всюду вода, сам держишься на воде, она плещет, переливается под руками, мочит их, брызжет в лицо, пить хочется, во рту сохнет, плеск и влага увеличивают, дразня, жажду, но пить нельзя, потому что вода горько-солёная и каждый глоток её не утоляет, а ещё более распаляет томительную, ненасытную жажду.
Нокс продержался до утра на воде, стараясь не думать о ней и не глотнуть морской воды, первый же глоток которой служит гибелью, вызывая за собой новые.
Новички в море решаются с отчаяния пить и гибнут. Нокс владел собою. Над ним собирались облака, и он ждал благодетельного дождя. Наконец дождь действительно пролился, Нокс набрал дождевой воды в пробковую шляпу, и она дала ему возможность два дня плавать на его поясе и поддерживать свои силы. Не будь этой шляпы, не во что было бы собрать воды, вот отчего Нокс заявил Урвичу, что был спасён благодаря его шляпе.
— Дело, значит, было в шляпе! — сострил доктор.
На третьи сутки Нокс увидел на горизонте три мачты, показавшиеся из воды. Они росли. К несказанной радости своей шкипер мог удостовериться, что идёт трёхмачтовое судно. Но куда?..
Легко было, что оно пройдёт краем, показавшись только издали, не увидит несчастного и исчезнет так же внезапно, как появилось.
Минуты, пока Нокс распознавал, в какую сторону идёт судно, были ужасны и показались ему вечностью.
Наконец, он удостоверился, что трёхмачтовая яхта держит курс прямо на него.
Тогда начались новые сомнения: а вдруг курс изменят, не дойдя до него?
Но яхта приближалась. Ход её без парусов был очень силён, и скоро уже Нокс мог различить все подробности на ней: круги иллюминаторов, бугшприт, капитанский мостик и вахтенного на нём.
Яхта шла мимо. Шкипер видел уже её левый бок.
Всё зависело от того, обернётся ли вахтенный в его сторону и заметит ли его.
Чтоб обратить на себя внимание, он стал выпрыгивать из воды и махать шляпой, стараясь разбрызгивать вокруг себя воду.
Он кричал, больше, впрочем, подбодряя себя этим, потому что едва ли рассчитывал, что до яхты долетит его крик.
Вдруг яхта уменьшила ход, и вместо бока её Нокс увидел форштевень. Сомнения уже не было: его заметили и повернули на него.
Нокс был принят на борт яхты сравнительно в хорошем положении, то есть насколько может быть в хорошем положении старый моряк, свыкшийся с волнами с детства, считающий их своей стихией, но проведший на них двое суток вплавь без пищи.
Силы, однако, не оставили его, он выпил грогу, съел кусок говядины, его обсушили, переодели, доктор дал ему своё платье, которое было узко ему, но эта неприятность ничего, конечно, не значила.
Едва отошёл Нокс в сухом платье, он машинально сунул руку в карман, чтобы достать свою трубочку. Её не было.
Это сильно огорчило шкипера, но помог доктор: он отыскал у матросов подходящий инструмент для курения, отыскал табак, к которому привык старый шкипер.
Когда Нокс закурил, он воскрес окончательно и рассказал всё, что случилось с ним.
По его словам, шхуна, повернув на север, должна была идти по тому же курсу, по которому спускалась на юг, только в обратную сторону, так как это был самый короткий путь для неё.
Он уверял, что догнать «Весталку» не представит затруднения, потому что на юг она шла попутным ветром, а обратно должна была лавировать и за двое суток не могла уйти далеко.
Нокс полагал, что паровая яхта свободно настигнет злодеев и выручит от них Урвича или, во всяком случае, воздаст им должное за их вероломство.
Но яхта была электрическая и потому могла ещё скорее нагнать «Весталку», чем рассчитывал Нокс.
Князь сейчас же приказал повернуть и идти по курсу, указанному Ноксом.
В самом деле, исключительно быстрый ход «Марианны» сделал то, что в тот же день на море показались мачты. Это была шхуна «Весталка» с опущенными парусами и стоявшее возле судно черномазых пиратов.
«Марианна» подошла как раз в то время, когда черномазые были все пьяны, кроме начальника, а Урвич лежал в обмороке.
Окровавленный старый Джон, привязанный к мачте, был уже мёртв.
Как спасли Урвича и как обошлись с пиратами, об этом Нокс не рассказывал, потому что не видел этого: он лежал в отведённой ему каюте и спал.
Доктор тоже не сообщил Урвичу никаких подробностей, сказал только, что с пиратами обошлись, как следовало.
Урвич не расспрашивал.
Склянки пробили двенадцать часов, и доктор сказал, что пора идти завтракать.
На шканцах у люка в кают-компанию стоял князь, окружённый офицерами «Марианны».
Капитан был русский, а из офицеров только старший помощник и штурман были тоже русские, остальные — индусы.
Князь познакомил со всеми Урвича, и пока они здоровались и осведомлялись, как он теперь себя чувствует, подошёл штурман, только что сделавший наблюдения на мостике для определения полуденного места.
— Где мы? — спросил его князь.
Штурман назвал широту и долготу, и Урвич невольно вздрогнул и переглянулся с Ноксом.
Стали спускаться в кают-компанию, Урвич подошёл к шкиперу «Весталки» и задержал его.
— Вы слышали? — сказал он.
— Широту и долготу? — переспросил Нокс.
— Да, широту и долготу, на которых мы находимся теперь.
— Ну, да! Они те самые, которые были означены в записке француза Дьедонне, по его уверенно здесь должен быть остров, а что же мы видим?
И Нокс оглянулся на море.
Горизонт был чист, и ни кусочка земли не виднелось на всём пространстве, какое можно было охватить глазом.
— Значит, Дьедонне ошибся, — сказал Урвич. — Но как же это так?..
— Уж не знаю, — заключил Нокс, — ошибся он или с ума сошёл, только никакого Острова Трёх Могил тут нет, и хороши бы мы были, если бы пришли сюда на «Весталке», надеясь найти здесь пресную воду!
— И вышло всё к лучшему! — подтвердил Урвич. — Потому что мы найдём сейчас отличный завтрак и отличное вино!
И они отправились вслед за другими в кают-компанию.

XXXIII
За завтраком в челе стола поместился князь, по одну его сторону — капитан, а по другую села ждавшая их в кают-компании женщина, или девушка, сплошь закутанная с головою в индийскую шаль, так что только оставались видны одни её большие чёрные глаза.
Она сидела за столом, но не отворачивала своей шали и ничего не ела.
Урвич с Ноксом сидели на противоположном конце и не могли ни разглядеть её как следует, ни даже слышать того, что она говорила, потому что она сказала всего несколько слов в продолжение всего завтрака и то очень тихо.
— Кто это? — спросил про неё Урвич у сидевшего рядом с ним офицера-индуса.
Тот ухмыльнулся и промычал что-то в знак того, что не понял сделанного ему по-русски вопроса.
Тогда Урвич спросил по-английски.
Заслышав английскую речь, офицер с неудовольствием круто отвернулся от него.
Урвич перешёл на французский язык, офицер понял и ответил ему по-французски же.
— Это дочь князя Марианна, в честь которой носит своё название наша яхта.
Урвич счёл неделикатным расспрашивать, почему дочь князя закутана на индийский манер в шаль, к тому же и офицер поспешил переменить разговор.
Когда встали из-за стола, князь представил Урвича дочери, но она не открыла лица и проговорила только:
— Очень рада, что вы поправились.
Голос её показался знакомым Урвичу, но где и при каких обстоятельствах он слышал его, он не помнил.
После завтрака — таково было обыкновение на яхте — все расходились по своим каютам и ложились отдыхать, так что всё погружалось в сон.
Обыкновение это было следствием долгого пребывания в тропиках, где от двенадцати до трёх становится так жарко, что только и можно отделаться от жары сном.
Все разошлись, но Урвич, не успевший приобрести привычку спать в это время дня, остался на палубе, спросив предварительно у доктора, может ли он это сделать.
Доктор ему сказал, что на яхте ничего принудительного нет, и всякий может делать, что хочет; если ему нежелательно идти спать, он может спуститься в библиотеку или в музей, или оставаться на палубе.
Урвич выбрал последнее и стал ходить по шканцам, довольный, что он остался один и без помехи может обдумать и сообразить некоторые подробности из сегодняшнего разговора с князем.
Его имя, отчество и фамилию князь, конечно, мог узнать от Нокса, который мог ещё рассказать князю о том, что Урвич кончил курс в университете, и о том, как он уехал из России, мог рассказать, как они отправились на «Весталке» и что с ними случилось потом.
Этому был Нокс свидетелем или слышал от самого Урвича, которого расспрашивал о России; но каким образом мог узнать князь о том, когда Урвич встретился с Дьедонне, и о том, что француз обыграл его в домино и, лишив таким образом последних средств, почти насильно заставил согласиться на странное путешествие к воображаемому острову, которого, как знал теперь Урвич, не было на указанном французом месте.
Урвич отлично помнил, что ни о знакомстве своём с Дьедонне, ни о проигрыше, ни об условиях, на которых он согласился на путешествие, он ни словом не обмолвился Ноксу, и, таким образом, тот не имел решительно никакой возможности знать об этом и не был в состоянии ничего сообщить князю.
Урвич самым добросовестным образом восстановил в своей памяти все свои разговоры с Ноксом и ещё раз убедился, что тот не мог знать ничего о его отношениях с Дьедонне.
Но в таком случае откуда же этот князь взял все эти подробности?
Урвич стал невольно в тупик и развёл руками.
Загадка, которая, казалось, получила вполне определённое и естественное разрешение тем, что неожиданно, воспрянув из волн морских, явился Нокс, оставалась такой же загадкой, как и прежде, и появление шкипера только на время как бы объяснило её, а вот теперь она снова встала перед недоумевающим и удивлённым Урвичем.
…Все спали на яхте, и матросы. Движение на ней замерло, и только вахтенный офицер ходил по мостику, глядя вперёд.
Рулевой стоял у колеса, не сводя глаз с компаса, да Урвич на шканцах сидел, задумавшись, на скамейке, напрасно стараясь разрешить себе необъяснимую для него загадку.
Вдруг словно его толкнуло что, он обернулся назад и увидал, что там, где было под ютом помещение князя, тонкая струйка голубоватого дыма вырывалась из двери.
Он вскочил; в это время дым пыхнул целым клубом, и Урвич услыхал отчаянный, испуганный крик.
Не соображая того, что он делает, Урвич кинулся к двери, из неё обдало его жаром.
Там внутри деревянная обшивка и занавеси, и ковёр были в огне, но Урвич ясно слышал, что крик был именно оттуда, и кинулся в огонь, жмурясь и затаив дыхание от едкого дыма.
На вахтенном мостике свистели тревогу, ударили в колокол.
Урвич, не чувствуя ничего, пробежал через объятую пламенем каюту в другую, находившуюся за ней.
Там лежала на полу закутанная шалью дочь князя.
Урвич быстро огляделся, и одного мгновения достаточно ему было, чтоб убедиться, что ни люка наверху, ни другого выхода, как через горевшую каюту, не было.
Большая ваза стеклянного аквариума стояла в углу с золотыми рыбками, а может быть, не золотыми, а ещё более дорогими и ценными, Урвич не разбирал; он схватил аквариум, облил из него закутанную девушку, остальную воду вылил на себя и, схватив на руки дочь князя, пронёс её через огонь и выскочил на палубу, где тревога подняла уже всех на ноги.
Урвича с его ношей встретила струя воды; никто не знал, что дочь князя была за горевшей каютой, и никто не видал, как вбежал туда Урвич.
Струя пришлась как раз вовремя, обдав его с головы до ног.
Урвич тяжело дышал, жадно вбирая в себя воздух.
Ещё миг — он не выдержал бы и задохся бы от дыма, и теперь голова его кружилась, и в виски стучало, сильно билось сердце.
Дочь князя, благодаря тому, что она была закутана в шаль, которую Урвич, не потеряв присутствия духа, смочил водой, была цела и невредима и лежала только в обмороке.
Её взяли из рук Урвича, и доктор хлопотал возле неё.
Прибежал князь. Уверившись, что дочь в безопасности, он стал распоряжаться тушением пожара.
Когда Урвич отдышался и опомнился, оказалось, что платье его во многих местах затлелось, и кое-где он получил ожоги, впрочем, несерьёзные, благодаря тому, что его окатили из брандспойта сейчас же, как он выскочил из огня.
Его поздравляли и называли подвигом то, что он сделал.
Он, очень довольный, и сам был рад, что отделался так легко и вместе с тем спас девушку от опасности, серьёзность которой понял только уже теперь, когда всё миновало.
Князь подошёл к нему, жал ему руки и благодарил.
Княжна Марианна очнулась довольно скоро, и Урвич увидел её уже не закутанную в шаль.
Он узнал её личико, которое грезилось ему будто в бреду.
Это была она же, та, которую он видел, когда проблеск сознания явился в нём; она вместе с доктором ухаживала за ним, и теперь ему пришлось заплатить ей за её заботы спасением её от смертельной опасности.
Не останься Урвич на палубе, как бы скоро ни собралась команда по тревоге, было б уже поздно. И промедли Урвич хотя немного, опоздал бы и он.
Самый пожар в каюте не угрожал ничем серьёзным яхте, построенной из железа.
Самое большее — могли сгореть две каюты, потому что на яхте было много железных переборок, не допускавших распространение огня.
В каюте обгорела деревянная обшивка и была уничтожена мебель: больше там не было ничего воспламеняющегося, но дерево горело, как в железной печи, и из этой печи спас Урвич княжну Марианну.
Брандспойты, пущенные в ход почти мгновенно, как поднялась тревога, быстро залили огонь; дым рассеялся благодаря скорому ходу яхты, и от пожара остались только две обгорелые каюты.
Причиной пожара послужили электрические провода, положенные под обшивкой, сухое дерево которой вспыхнуло, как порох, от накалившихся проволок.
Среди матросов яхты были всякие мастера: нашёлся обойщик, в трюме нашлись шёлковые материи, и к следующему же дню обгоревшие каюты были красиво обиты и задрапированы, так что несчастный случай стал уже воспоминанием, и о нём говорили, как о прошлом.

XXXIV
Красота княжны поразила Урвича, воображавшего, что такое лицо, как её, можно увидать только в грёзе, в той грёзе почти райского блаженства, которое испытывал он, когда очутился в тепле и в холе после всего перенесённого им на «Весталке».
Теперь он ждал появления её за обедом, как светлого, милого и желанного видения; он считал минуты, когда увидит её снова, был рассеян, путался в ответах на обращённые к нему вопросы, задумывался и застывал, глядя в одну точку, и видел перед собой княжну.
Такое его состояние окружающие объяснили потрясением, которое должен был произвести на его нервы случай во время пожара.
Доктор предлагал ему нервных капель, но не лекарство нужно было Урвичу: ему нужно было видеть княжну, чтобы смотреть на неё и любоваться ею.
К обеду она, однако, не вышла.
Урвич загрустил и сидел за столом, как в воду опущенный.
Вечером доктор хотел занять его тем, что повёл в музей и показывал находившиеся там редкости.
Урвич старался делать вид, что слушает внимательно, вполне искренне хотел даже заинтересоваться, но мысли его помимо воли были заняты другим, и он старался только об одном, чтобы доктор не заметил этого.
— А скажите, — прервал он вдруг совершенно неожиданно объяснения доктора, увлёкшегося своим красноречием, — как себя чувствует княжна?
— Отлично, — сказал доктор, — к счастью, она упала в обморок и всего ужаса не испытала.
— Отчего же она не вышла к обеду?
— Не знаю. Это часто с ней бывает. Она обыкновенно ест у себя и сходит в кают-компанию только для того, чтобы посидеть за столом.
И, сказав это, доктор продолжал объяснения природы морского конька, которого показывал Урвичу.
Тот опять стал слушать и опять совершенно некстати перебил через некоторое время и спросил:
— А как по вечерам, у вас к чаю собираются в кают-компанию?
Доктор сказал, что собираются. Княжна не показалась и к чаю. Так Урвич и ушёл к себе в каюту на ночь, не увидев её.
XXXV
На другой день он проснулся довольно поздно, потому что с вечера долго ворочался, не смыкая глаз.
Был девятый час.
Урвич вскочил и начал одеваться. Подойдя к иллюминатору и взглянув в него, он увидал, что яхта стоит, и что зелёная полоска берега окаймляет небольшое пространство воды, отделяющее от него яхту.
«Батюшки, да мы на стоянке!» — весело подумал Урвич и, быстро одевшись, побежал наверх, чтобы узнать, где они остановились и что это за земля.
Он позвонил Крамаренко и спросил у него, что это за земля.
— Так что не могу знать! — ответил Крамаренко. — Остров!
— Да как зовут его?
— Не могу знать.
Урвич побежал наверх и, отыскав на палубе доктора, ещё издали крикнул ему:
— Доктор, где мы?
— В бухте! — ответил доктор.
Яхта действительно стояла в удобной, по-видимому, глубокой бухте.
— Это я вижу! — воскликнул Урвич. — Но как называется этот остров?
Доктор сказал, что это один из группы островов Маккари, и Урвич вполне удовлетворился этим.
— Что же, поедем на берег?
— Если угодно! — сказал доктор. — Шлюпки спущены, вы можете взять любую и отправиться.
— Остров населён?
— Нет, на нём никто не живёт. И диких зверей тоже не имеется. Можете отправляться одни в полной безопасности. Будьте только осторожны относительно змей; если хотите поохотиться на птиц, возьмите у меня ружьё, я дам.
Урвич не был охотником, стрельба в живое существо ради своего удовольствия никогда не нравилась ему.
Он поблагодарил доктора и предложил отправиться на берег вместе.
— Хорошо! — согласился доктор. — Вот управлюсь только, тогда и поедем.
Урвич на «Весталке» читал «Лоцию» — книгу, составленную для моряков и дающую подробное описание всех известных берегов.
В «Лоции» упоминалось об островах Маккари, но там было сказано, что они населены, и Урвича поразило, что доктор говорил теперь совершенно обратное.
XXXVI
Когда доктор освободился, они вместе с Урвичем спустились в шлюпку, дежурную, как сказал доктор, с готовыми, сидевшими уже на вёслах четырьмя гребцами.
Как только спустились они и отвалили, сверху по трапу в другую лодку сбежало ещё четыре человека и приготовились на случай, если опять кто-нибудь сойдёт с яхты и пожелает отправиться на берег.
Тихий, спокойный залив, защищённый от моря небольшою косой, был как зеркало, и, глядясь в него, красовалась красавица яхта, вполне достойная той, в честь которой она носила своё имя.
Когда они отошли настолько, что можно было окинуть яхту всю целиком, Урвич, в первый раз увидевший её очертания с воды, потому что очнулся он в каюте и видел лишь яхту с палубы, не мог не залюбоваться правильностью и изяществом её линий.
— Что, хороша наша яхта? — спросил доктор, сам любуясь в свою очередь.
— Прелесть! — ответил Урвич. — Но я смотрю на неё и думаю, в чём, собственно, заключается секрет её необычайно быстрого хода. Неужели только в том, что она действует электричеством?
— Конечно, это главное, хотя суть в том, что на яхте не один винт, а несколько, причём они расположены не только под кормой. Вы знаете, — спросил доктор, — как на пяти пальцах пять человек могут поднять на воздух шестого? Если двое подсунут ему пальцы под ноги, двое — под локти, один — под подбородок и все сразу дёрнут пальцы кверху, то человек поднимется легко, как пёрышко.
Урвич помнил, что давно ещё в гимназии проделывал этот опыт с товарищами и учитель физики объяснял им его.
— Да, — подтвердил он, — я знаю. Но что же вы хотите этим сказать?
— Ну, так вот, — продолжал доктор, — так же, как при этом опыте распределяются силы, так и на яхте винты расположены в подводной её части таким образом, что при наименьшей затрате силы дают наибольшую скорость.
— Но ведь это целое открытие! — возразил Урвич.
— Не только это, но и весь механизм яхты является ещё не сказанным миру словом машинной техники.
— Где же расположены эти винты?
— Этого я вам не могу сказать.
Урвич помолчал с минуту, подумал, потом опять взглянул на доктора.
— Скажите мне, пожалуйста, — заговорил он, — подобных яхт я нигде не встречал и нигде не читал даже описания их; отсюда я заключаю, что всё устройство яхты «Марианны» составляет секрет?
— И совершенно верно заключаете! — подхватил доктор. — И секрет этот сохраняется довольно тщательно.
— Но ведь не может же яхта постоянно находиться в открытом море, надо же ей когда-нибудь зайти в порт, тогда как?..
— В порту в машинное отделение никого из чужих не пускают, а по внешнему виду яхту нельзя отличить от обыкновенной паровой.
— Но в случае починки, в доке?
— У нас свой док.
— Вы думаете, что секрет яхты никому из посторонних не известен, хотя вы так легко говорите о нём?
— То есть как легко? — переспросил доктор.
— Ну, да! Хотя бы, например, со мною.
— Так разве вы посторонний?..
— А разве нет? Вы меня совсем не знаете, нашли всего третьего дня среди моря…
— И всё-таки вы не посторонний, — протянул доктор, — судьба вас послала к нам, почему вам и не остаться с нами и на будущее время? Вы человек одинокий, средств у вас нет, а энергия, сила и смелость есть; вы проживёте у нас лучше, чем где-нибудь. Отчего же вам не остаться? По-моему, от добра добра не ищут!
— Да я всей душой! — обрадовался Урвич. — Только как же это? В качестве чего я останусь на яхте? К сожалению, я не моряк!
— Князь найдёт для вас занятие и положит вам жалованье.
— Да неужели вы говорите правду и не шутите?
— Нисколько!
— И князь, вы думаете, возьмёт меня?
— Отчего же нет?
Урвич закрыл лицо руками, посидел так некоторое время, потом отнял руки, весёлыми, счастливыми, радостными глазами посмотрел на доктора, помотал головой и проговорил:
— Нет! Это было бы слишком большое счастье.
XXXVII
Урвич вчера ещё оттого так долго и не мог заснуть, что думал о своей судьбе, о том, что же будет с ним дальше.
«Хорошо, — рассуждал он, — ну, я пробуду на яхте до тех пор, пока не зайдёт она в такой порт, откуда существуют рейсы в Европу. Князь (он, вероятно, очень богат), может быть, даст мне на дорогу… И счастливый сон мой исчезнет, и померкнет видение, явившееся в нём. Неужели я больше не увижу её?»
Под видением счастливого сна, конечно, подразумевалась княжна…
Урвич думал не о том, что будет с ним впоследствии и как устроить ему свою жизнь, единственно его смущало в будущем, что должен он расстаться с княжной и наступит минута, когда ему придётся проститься с ней.
Что минута эта наступит, он не сомневался, не находя никаких причин, чтоб остаться навсегда на яхте.
Он только беспокоился, скоро ли придёт эта минута, и всеми силами души желал отсрочить её на сколь возможно долгий срок…
И вдруг теперь не по его, а по собственному их почину говорят с ним о том, что он может остаться на яхте навсегда…
Слова эти показались Урвичу гласом небесного вестника, и доктор, произносивший их, — неземным существом по своей доброте и душевным качествам…
«Ах, какой он славный и милый! — повторял Урвич, глядя на доктора. — Конечно, — стал сейчас же соображать он затем, — он не мог так говорить со мной по собственному соображению, но был уполномочен на то самим князем. Очевидно, у них это дело решённое: взять меня, если я соглашусь, значит, остановка только за мной, ну, я-то колебаться не стану…»
И он снова повторил доктору:
— Нет, это будет слишком большое счастье!..
— Отчего же уж слишком большое?
— Да помилуйте, всю жизнь у меня было одно только желание и стремление — путешествовать, и вдруг я после, правда, целого ряда несчастий попадаю в круг симпатичных мне людей на яхту, представляющую из себя чудо техники и без устали переходящую с места на место, и не по изъезженным путям, а посещающую неизведанные страны, и хозяин — русский человек, и вокруг него русские, и я буду находиться среди русских… И потом…
— Что потом? — переспросил доктор.
— И потом ничего! — вдруг, как бы спохватившись, сказал Урвич и замолчал.
Доктор, улыбнувшись, посмотрел на него:
— Однако?..
— И потом, — продолжал Урвич, — мне кажется, что князь человек не совсем обыкновенный и быть с таким человеком большое…
Он хотел сказать «счастье», но не сказал и произнёс:
— Преимущество…
— Почему же вы думаете, что князь не совсем обыкновенный человек?..
— Так… Он в разговоре со мной… удивил меня…
— Чем?
— Тем, что он знает обо мне такие подробности, то есть о моём прошлом, которые не мог ему никоим образом сообщить мистер Нокс…
— Ну, вот видите, — опять улыбнулся доктор, — а вы говорите, что мы о вас ничего не знаем…
— То есть я говорил о вас, а не о князе…
— У нас на яхте всё сводится к нему: если мы говорим «мы», то это значит, что подразумеваем его. Здесь всё делается по его воле…
— Значит, и то, что вы сказали, что я могу остаться на яхте, сделано с его ведома?..
— Тут ничего не делается без его ведома…
— Ну, в таком случае я не знаю, как благодарить его и, конечно, рад ужасно…
— Вам нечего благодарить. Напротив, князь считает себя обязанным перед вами…
— Чем?
— Вы спасли его дочь…
— А разве он не спас меня? Да и она сама разве не ухаживала за мною…
— Вы почём это знаете?
— У меня были проблески сознания, и в один из них я, как во сне, видел её лицо…
— Вы не ошибаетесь? Может, это действительно был сон?
— О, нет, — уверенно сказал Урвич, — я отлично помню, вот как вас вижу теперь…
— А как она, на ваш взгляд, красива?
Урвич густо вдруг покраснел.
— Лучше её не видывал никого никогда!..
И оба они задумались…

XXXVIII
Разговаривая, Урвич с доктором давно уже вышли из лодки и, вступив на берег, гуляли по твёрдой земле.
Урвич, восхищённый до восторга в душе своей, испытывал и чисто физическое удовольствие, которое всегда невольно чувствуешь, ступая на берег после более или менее продолжительного плавания.
Почва была неровная, и ноги, успевшие привыкнуть к гладким доскам палубы, спотыкаясь, повиновались плохо, но скоро обошлись, и самые неровности стали приятны, потому что служили признаком, что внизу земля, к которой у каждого человека инстинктивная привязанность.
Берег был каменистый и потому не сливался с морем песчаной отмелью, тянущейся в далёкое и пустынное пространство.
Растительность начиналась довольно близко от воды, росли деревья, кустарник и трава. За деревьями очень скоро скрылось море, и Урвич с доктором скоро зашли в перелесок, если не совсем в лес.
В этом лесу были как будто протоптанные тропинки и ясно обозначенные прогалинки, что очень удивило Урвича, потому что доктор говорил ему, что остров необитаем.
Иногда заходили они в чащу, так что ветви деревьев смыкались над их головами.
Доктор шёл смело, видимо, нисколько не боясь заблудиться, и был в этом лесу, как дома.
Урвичу несколько раз приходила в голову мысль, а как они выберутся отсюда?
Они столько сделали поворотов, что Урвич решительно не знал, в которой стороне море, и будь он один, наверное бы не вышел не только к тому месту, где ждала их шлюпка, но и вообще к берегу.
— А мы тут не заблудимся? — спросил он у доктора.
Тот махнул рукой и ответил спокойно:
— Найдём дорогу, когда захотите…
И, действительно, когда по часам было время возвращаться на яхту к завтраку, он очень быстро и уверенно вывел Урвича по тропинке к лодке, словно местность и тропинка были знакомы ему, как переулок в Москве, в котором он жил.
Это опять удивило Урвича, и он должен был вывести заключение, что доктор, а следовательно, и яхта не первый уже раз пристают к этому острову.
Вернулись они на яхту как раз вовремя. Все уже собрались в кают-компании, но за стол не садились, вероятно, потому, как подумал Урвич, что князя не было.
Но капитан, опускаясь на кресло, которое обыкновенно занимал князь, пригласил садиться за стол, сам поместясь за хозяина.
— А князя и княжны разве не будет? — спросил Урвич у доктора, рядом с которым ему пришлось сидеть сегодня.
— Нет, — ответил тот.
Урвич заметил, что вместе с князем и его дочерью отсутствовало за столом ещё два офицера-индуса.
Расспрашивать он, однако, побоялся. Он и раньше не желал вовсе сделать какую-нибудь нескромность, а теперь, когда его обнадёжили, что он останется на яхте навсегда, он желал доказать своим тактом и обходительностью, что вполне достоин этого.
Завтрак прошёл весьма оживлённо.
Для Урвича, впрочем, он показался особенно весёлым.
После завтрака, по обыкновению, все разошлись, чтоб отдохнуть.
Этому примеру последовал и Урвич, утомлённый немного ходьбой по острову.
Освежившись и подкрепившись сном, он, пройдя к доктору в каюту, спросил его, что же будут они делать дальше и отправятся ли на берег ещё раз сегодня? До берега было рукой подать…
Доктор заявил, что у него дело на яхте и на берег он не поедет.
— А вы, — добавил он Урвичу, — если хотите, отправляйтесь один: вы пока свободный человек…
Это «пока» показалось Урвичу особенно лестно и приятно.
— Да мне совестно, — проговорил он, — тревожить из-за одного меня матросов.
— Так поезжайте один, — посоветовал доктор, — возьмите одиночку и на вёслах собственными средствами… когда только вздумается вам, хоть ночью… Я уже говорил вам, что у нас стеснений никаких…
Урвич предложил было Ноксу съехать на берег, но тот заявил, что на воде чувствует себя гораздо лучше.
Урвич прошёл тогда в библиотеку, чтоб отыскать какое-нибудь описание островов Маккари, но все тома, какие брал он и где, по его понятию, он мог найти желаемые сведения, ничего не говорили именно об этих островах.
Так он и не сошёл с яхты вплоть до вечера.
XXXIX
Поздно вечером, или вернее, уже совсем ночью, когда зажглись звёзды и засветил только что народившийся полный месяц, он стоял один на палубе и смотрел на бухту.
И вдруг его поразило, словно чешуя упала с глаз, что бухта ночью при луне поразительно стала похожа на ту, которую описал ему Дьедонне в своём рассказе об Острове Трёх Могил.
Вот коса, низменный берег, а направо в мутном сиянии тёмным профилем отчётливо вырисовывается небольшое плоскогорье с отвесной скалой в море.
Это так заинтересовало Урвича, что он, помня слова доктора, что одиночку можно взять, когда угодно, хоть ночью, сошёл по трапу, кликнул вахтенного матроса на лодках, велел подать одиночку и, сев в неё, взялся за вёсла и начал работать ими.
Он поплыл по направлению к скале, к её середине, казавшейся совершенно отвесной и неприступной.
Любопытство его было задето так сильно, что он, не щадя себя, налегал на вёсла и скоро был у середины скалы.
Там он нашёл небольшую площадку, от которой начиналась тропинка вверх.
В камень было ввинчено кольцо, к которому можно было привязать лодку.
Осмотрев площадку на скале и удостоверившись, что не только сама бухта была похожа на описанную Дьедонне, но что в ней очутилась и скала с площадкой, кольцом и тропинкой, Урвич поспешно вернулся на яхту.
Он оставил одиночку у трапа, сказав, что сейчас отправится опять на берег, что он забыл только захватить с собою пистолет, возьмёт его и поедет.
Но не за пистолетом, собственно, вернулся он, хотя положил и его в карман на всякий случай.
Вещи его, отнятые у диких, были ему возвращены в полной целости. В этих вещах оказался сохранным потайной фонарь. Ключ, переданный французом, тоже лежал невредимый в шкатулке.
За этим-то ключом и фонарём и вернулся на яхту Урвич.
Забрав вещи, он побежал к трапу, спустился к лодке, сел в неё и стал обратно грести к скале.
На пути к ней он оглянулся на яхту, чтобы посмотреть, как скоро плывёт он, и заметил, что с капитанского мостика сигналили фонарём, должно быть, давая знать о чём-то на берег.
Урвич, однако, не обратил на это внимания и продолжал подвигаться вперёд. На берег съехали офицеры, может быть, князь был там, и весьма естественно поддерживали на яхте сношения с берегом сигналами.
Пристав к площадке у скалы, Урвич привязал к кольцу лодку и стал подниматься по тропинке.
Сначала подъём был очень удобен и вовсе не крут, так что Урвич невольно в душе посмеялся предупреждениям Дьедонне о том, как трудно будет подниматься по тропинке.
Урвич уже не сомневался, что остров, у которого остановилась яхта, был тот самый, куда посылал его Дьедонне.
Такого поразительного совпадения во всех подробностях не могло быть.
Мало-помалу тропинка суживалась и по мере этого становилась не так полога, как прежде. Урвич уже не шёл по ней, а карабкался. С каждым шагом делалось труднее цепляться ногами и приходилось очень внимательно ставить их. Тут только понял Урвич, что напрасно усмехался он в начале подъёма. Теперь, наоборот, он должен был сознаться, что действительность превосходила то, что говорил француз.
Местами крутизна была почти отвесная, и взобраться дальше можно только было благодаря маленьким выступам, высеченным в скале.
Дьедонне называл эти выступы ступеньками, но на самом деле оказывалось такое название вовсе не подходящим. Это были не ступеньки, а кронштейны скорее.
Приходилось отыскать такой кронштейн, осторожно поставить на него ногу, упереться и подняться с большим усилием.
Проделывая это, Урвич прижимался инстинктивно грудью к скале, потому что малейшее отклонение грозило падением. Он не только не шёл, но и не карабкался уже, а полз, стараясь прилипнуть, как муха, чтобы не сорваться.
«Однако кто-нибудь подымался же тут до меня, — рассуждал он, — отчего я не могу сделать того же самого?»
И с упорством, настойчивостью и терпением он передвигал ноги, цеплялся руками и полз вверх.
Он, поднимая изредка голову, видел над собою заветную цель своего стремления, край скалы и видел тоже, как приближался к нему медленно, тяжело, но приближался, и сокращалось расстояние между ним и светлой полосой неба, синевшего в лунном сиянии над тёмным абрисом скалы.
Урвич вспомнил, что Дьедонне говорил ему, чтоб он не оборачивался.
И именно потому, что тот говорил ему об этом и он вспомнил, Урвичу страстно, неудержимо захотелось поглядеть назад…
А как он теперь высоко над водой и где эта вода, и какой вид имеет стремнина?
«Лучше не надо!» — словно шепнул ему какой-то внутренний голос, но он не послушался.
Он хотел только заглянуть углом глаза и чуть-чуть повернул голову.
Сердце вдруг так и упало в нём. Это был один миг, но Урвич успел увидеть, что он почти на воздухе, что залив провалился в огромную глубину, и что между ним и водой нет ничего; скалы, на которой держался он, он не мог видеть, потому что для этого надо было нагнуться.
Урвич сделал невольное, порывистое движение, вздрогнул…
Нога его оступилась и скользнула…
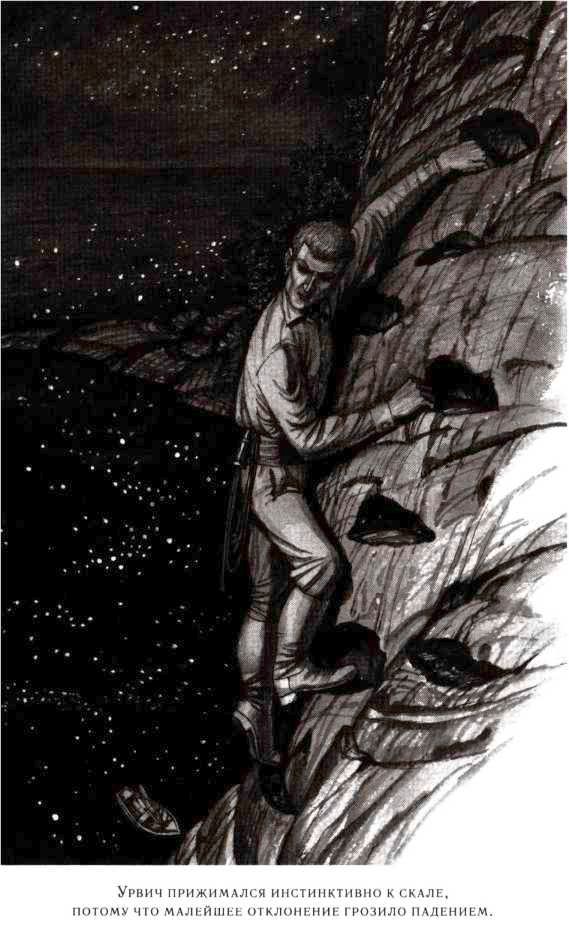
XL
Урвич чуть не оборвался, но, к счастью, в этом месте тропинка пошла отлогими уступами, и Урвич, сделав усилие и рванувшись вперёд, в несколько прыжков, не останавливаясь, достиг верха скалы.
Он стал на ровную почву и вздохнул свободно. До сих пор всё было так, как говорил ему Дьедонне. Он очутился наверху небольшого плоскогорья, никакого признака растительности тут не было: ровная, как бы искусственно сглаженная площадь чернела, освещённая луной, как бы усыпанная углём.
Урвич наклонился: это был действительно каменный уголь, площадь была вымощена им, и ни кустика, ни травки не пробивалось.
Жуткое впечатление производил вид матовой черноты, и в
середине её, как уже знал Урвич заранее, блестело тяжёлым, как на чернилах, блеском тёмное озеро.
Урвич, забравшийся на скалу, думал, что самая неприятная часть пути уже пройдена, миновать озеро ему казалось пустяками. Он смело пошёл к нему широкими, уверенными шагами.
Он был на плоскогорье один, только месяц и звёзды видели его.
Подойдя к озеру, Урвич остановился в сомнении.
Как он ни напрягал зрение, как он ни вглядывался, блестящая, тёмная поверхность озера была совершенно гладкая, и он решительно ничего не мог различить на ней.
Чуть было благоразумное решение вернуться назад не восторжествовало в нём, но зачем бы тогда было выносить тяжесть подъёма на скалу?.. И потом, до сих пор слова Дьедонне оправдывались на деле без малейшего уклонения и ошибки, значит, нужно было ожидать, что и на середине озера Урвич найдёт три могилы.
К тому же француз предупреждал его, что с берега озера нельзя различить каменного выступа с могилами, потому что поверхность его сливается с уровнем воды и отшлифована.
Дьедонне говорил также, что озеро было искусственное, и этому поверить было легко, потому что озеро имело геометрически правильное очертание круга.
Природа не могла создать столь отчётливо правильную форму водовместилища.
Урвич, взяв фонарь, пистолет и ключ в руку и подняв над головой, чтобы не замочить их, вошёл в воду.
Дно под его ногами (он сразу почувствовал это) имело уклон, но настолько постепенный, что не представлялось опасности поскользнуться.
«Странные дела бывают на свете!» — думал Урвич, не без труда передвигая в воде ноги и невольно усмехаясь своему довольно, в сущности, нелепому путешествию.
Вода уже была ему по колено, он всё шёл, не смущаясь, наконец, погрузился по пояс.
Тогда идти стало совсем тяжело, он остановился, чтобы вздохнуть, и оглянулся кругом.
Нужно было иметь большое присутствие духа, чтоб остаться спокойным на месте Урвича.
С того места, где он остановился и оглянулся, вода сливалась с поверхностью нагорной площадки, и впечатление, которое должен был испытать Урвич, было, что будто он стоит по пояс в воде и вокруг него берегов не видно, а только густо чёрная вода и небо над ней.
Урвич знал, что это только впечатление, и всё-таки ему стало как-то очень не по себе.
Он решил, что пойдёт вперёд дальше, не останавливаясь.
Дальше вода дошла ему до горла, и тут двигаться было вольготнее.
Но только Дьедонне сказал ему, что дно начнёт сейчас же повышаться, как только он замочит свой подбородок, а вот уже уровень озера подходит ему под шею… выше… выше… он готов был сделать шаг назад, удерживаемый безотчётным страхом, но как бы махнул рукой — «была не была», шагнул вперёд и с удовольствием ощутил, что дно начинает подыматься.
Всего этого он должен был ожидать, и обо всём он был предупреждён, но — странное дело — всё время испытывал колебание, двигаться вперёд или нет, и должен был усилием воли побеждать в себе это колебание.
Мокрый, с льющейся с него ручьями водой вылез Урвич на каменную середину озера, встряхнулся, но от этого ему не стало лучше; тут он пожалел, хотя и поздно, что не снял платья, прежде чем войти в воду.
Маленький налетавший ветерок обдул его, ему стало холодно, и единственно скорый способ согреться был поскорее найти могилы и спуститься в подземелье, где должно было быть теплее.
XLI
Три плиты трёх могил с их тремя надписями Урвич легко различил при лунном сиянии.
«Всего девять!» — почему-то сосчитал он.
Одна была надпись железная, другая золотая, третья высечена в самом камне.
Буквы были незнакомы Урвичу, и что обозначали они, разобрать он не мог, но в каждой надписи было по двадцать две буквы.
Урвич наклонился над средней плитой с золотой надписью и нашёл на плите отверстие, как бы составляющее точку возле последней буквы.
Он сунул туда, как учил его Дьедонне, ключ и повернул от левой руки к правой.
Потом надавил первую из букв надписи и последнюю.
Плита легко, плавно, без скрипа повернулась и открыла ход со ступеньками вниз.
Урвич поспешил, чтоб укрыться от ветра, который был очень неприятен ему в мокрой одежде, спустился по лестнице и очутился в темноте.
Он зажёг фонарь, присел на ступеньку, снял с себя платье и выжал его насколько возможно сухо.
Отдохнув и оправившись, он продолжал спускаться.
От последней ступеньки длинной, показавшейся бесконечной лестницы начиналась подземная галерея. Здесь было тепло, и воздух вовсе не казался, к удивлению Урвича, спёртым и удушливым.
Продрогши там наверху после импровизированной ванны, Урвич с удовольствием ощущал тепло и, свободно дыша, двинулся в путь по галерее.
Галерея была высечена в скале, и гладкие, ровные стены её и пол были чисты до щегольства: ни паутины, ни мха, ни даже пыли не было заметно.
Урвич шёл и не спугнул ни одного гада: очевидно, в цельных стенах не было трещин, и ни ящерица, ни мышь не могли пробраться сюда.
Фонарь красным светом освещал круглый свод, терявшийся впереди и сзади в далёкой темноте.
Мало-помалу свод стал понижаться; скоро, чтобы двигаться вперёд, Урвичу нужно было наклонить голову, потом совсем согнуться, потом ползти на коленях, на четвереньках и, наконец, совсем лечь на живот.
Галерея превратилась в узкую трубу, в которой с трудом можно было протискиваться вперёд.
Урвич, переставляя перед собою фонарь, постарался разглядеть при его свете, что было впереди. Казалось, что впереди труба суживалась и сходила на нет.
И вдруг Урвичу пришло в голову: а что, как он завлечён в ловушку и что эта могила, где не было покойника, станет могилой ему?
Положим, до сих пор сбывалось как по писаному всё, что говорил Дьедонне, и не было основания думать, что именно подземный ход будет устроен не так, как он предупреждал.
Урвич миновал благополучно скалу и озеро, то есть воздух и воду, отчего же в земле будет угрожать ему опасность?
А что, как скала и озеро соответствовали рассказу француза только для того, чтобы лучше скрыть обман и вовлечь его?
Урвич задумался, не зная, на что ему решиться: продолжать ли ползти вперёд, или идти назад?
Но там сзади, может быть, повернулась и захлопнулась каменная плита, с тем чтобы похоронить его тут навсегда.
«Какая цель была, однако, — сообразил Урвич, — французу завлекать меня сюда и снаряжать целую шхуну для того только, чтобы погубить ни в чём не повинного перед ним человека?»
Конечно, нервы его были напряжены, и вследствие этого в голову лезли ненужные и несуразные мысли.
Приглядевшись внимательно к своему положению, Урвич сделал вывод, вполне успокоивший его: труба, по которой он полз, была так узка, что он мог пробираться, только опираясь на локти и упёршись, подтягиваясь телом вперёд.
Воздух же между тем, несмотря на горевший тут же фонарь, был вовсе не спёртый, а его не могло хватить надолго, если бы на конце трубы не было выхода.
Это соображение придало Урвичу новые силы, и он смело пополз дальше.
Труба стала расширяться, скоро он мог опять встать на четвереньки, потом, постепенно подымаясь, стать на ноги и идти по просторной галерее.
XLII
До сих пор Дьедонне не солгал ни в чём. Не солгал он также и в описании того подземелья, в которое Урвич должен был войти по подземной галерее.
Француз говорил ему, чтоб он призвал всё своё самообладание, когда увидит груды золота, хранящегося в подземелье.
И Урвич постарался себя приготовить, но когда он вошёл и увидал, какое количество золотых монет осветил его фонарь, заблестев на них, он остановился и невольно тронул себя за голову, чтоб убедиться, что он не спит, а видит всё наяву.
Он и представить себе не мог ничего подобного!
Море… море золота было перед ним, и он не мог выразить того, что представилось его глазам.
Какие это были деньги, какой чеканки и какой страны — разобрать он не мог, но это были золотые монеты, везде и повсюду одинаково ценные.
Урвич никогда не был жаден от природы, никогда не страдал пороком любостяжательности, но тут глаза у него разбежались, и он залюбовался чистым блеском светившегося вокруг него золота.
Он помнил, что не за этим золотом пришёл сюда, что тут есть сокровище более ценное, и посмотрел в тот угол подземелья, где должен был стоять, по указанию Дьедонне, бронзовый сундук.
Сундук с круглой верхней крышкой, без замка и петель стоял на своём месте.
Урвич, наглядевшись на золото, хотел двинуться к сундуку, но в это время сильный удар вышиб из рук у него фонарь.
Фонарь упал, разбился и потух.
Не успел Урвич опомниться, как множество рук облепило его, и он не мог распознать, были ли это человеческие руки многих, неизвестно, как и откуда взявшихся, словно из-под земли выросших людей, или какое-нибудь многолапое чудовище сразу в темноте охватило его.
За голову, за плечи, за руки, за грудь и за спину, и за ноги держали его тёплые, мягкие руки, держали осторожно, бережно, не стискивая и не причиняя ему боли.
Поражённый, испуганный неожиданностью, он замер, не пытаясь высвободиться, потому что как-то слишком уверенно сознавал, что всякое движение будет напрасно и что он в полной власти этих невидимых, облепивших его рук.
Темно было так, что увидеть, даже привыкнув к этой темноте, ничего, казалось, нельзя было.
Урвич, когда прошло первое мгновение испуга, невольно всё-таки рванулся; руки поддались, не отставая от него.
Он рванулся и повис в воздухе на этих руках.
Ужасное щекотное чувство чужого, неизвестного прикосновения в полном мраке было ни с чем не сравнимо. Урвич хотел крикнуть, но звук его голоса был заглушён такой же мягкой, как руки, повязкой, закрывшей ему рот.
Говорят, существовала пытка, в которой щекотали человека до смерти и умирал он в невыразимых мучениях.
И вот этой пыткой как будто грозили Урвичу.
Будь он послабее, было от чего лишиться ему чувств, но всё случившееся произошло так быстро, что он как будто не успел даже упасть в обморок.
Послышался нестройный гул голосов, точно раскатилось что-то по подземелью. «Уррр…» — услышал Урвич и словно провалился.
Затем его поставили на ноги, и всё стихло.
Урвич поднял руку и стащил повязку с лица.
Подземелье, золото и сундук исчезли, он был в другом подземелье, гораздо меньшем, чем первое; освещалось оно спускавшимся со сводов фонарём.
Гладкие стены его были голы.
На стене, к которой был обращён Урвич, крупными буквами по-русски было написано на большой чёрной агатовой доске белым:
КТО САМОВОЛЬНО ДЕРЗНУЛ ПЕРЕНЕСТИ ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУХА, ВОДЫ И ЗЕМЛИ, НЕ ОЧИСТИВ СЕБЯ ИСПЫТАНИЕМ ОГНЯ, ТОТ ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ В ОГНЕ.
Ниже, вероятно, та же надпись была повторена по-индийски.
Урвич прочёл и понял, что тут написан ему приговор.
Он знал, что ещё в древнем Египте были испытания воздухом, водой, землёй и огнём.
Три первые из них он прошёл, не призванный насильно, и надпись обещала ему за это гибель от огня.
В Индии издревле привыкли практиковать сожжение живых, а тут, на этом таинственном Острове Трёх Могил, царствовали, по-видимому, индусы.
Приговор, который прочёл себе Урвич, означал не более и не менее того, что он будет сожжён заживо.
XLIII
Урвич огляделся, чтоб осмотреть свою тюрьму, уверенный, что его заключили под этот свод как узника.
Но сзади себя он увидел широкое отверстие в виде арки, служившее началом коридора, и в нём человека в белом тюрбане.
Он был с факелом в руках и поманил к себе Урвича, когда тот обернулся в его сторону.
«Неужели сейчас?» — подумал Урвич, но повиновался и пошёл.
Человек в тюрбане повёл его, освещая дорогу факелом. Держался он впереди Урвича на значительном расстоянии.
Коридор, по которому они шли, был не прямой, а имел несколько крутых заворотов.
Когда провожатый заходил за угол, свет факела останавливался, чтобы показать Урвичу, куда идти…
Урвич насчитал шесть поворотов; завернув за седьмой, он уже не видел провожатого, который исчез, и свет здесь шёл не от его факела, а из прохода в освещённую ярко комнату…
Урвич вошёл в неё.
Здесь за столом, покрытым чёрной скатертью, сидело четыре человека.
Трое из них в белых тюрбанах и белых плащах сидели в ряд, четвёртый только в плаще, но без тюрбана — сбоку.
В этом человеке без тюрбана Урвич узнал князя Северного, владетеля яхты «Марианна».
Князь сидел за столом сбоку и не был, по-видимому, главным здесь.
Председательствующий был в середине стола и низко наклонил над ним голову в тюрбане, так что лица его не было видно.
Сидевший по правую его руку индус поглядел на Урвича и спросил его по-русски, почти без акцента:
— Что привело тебя сюда?
Урвич, не успевший прийти в себя, ошеломлённый ещё всем случившимся, остановился, собираясь с мыслями, чтоб ответить.
— Что привело тебя сюда? — повторил вопрос и сидевший по левую сторону председательствующего.
Князь ничего не сказал и глядел только на Урвича, но без сердца, без злобы, кротко и внимательно, как бы ободряя его своим взглядом.
Подействовал ли этот взгляд, но Урвич почувствовал как бы некоторое успокоенье.
Всё-таки с ним разговаривали, и присутствие здесь князя, благосклонно смотревшего на него, давало некоторую надежду, что, несмотря на определённость прочтённого Урвичем приговора на стене, не всё ещё было потеряно…
Он не знал, однако, как ответить ему на вопрос, что привело его сюда, и молчал.
— Я вам скажу подробно, как попал этот человек в заветное хранилище Сокровища Родины, — заговорил, поднимая голову, председательствующий.
И как только он заговорил и Урвич услыхал его голос и увидел его лицо, он узнал его.
В белом тюрбане на главном месте за столом, первенствуя здесь, сидел не кто иной, как сингалезец Кутра, слуга француза Дьедонне, приведший к нему Урвича…
Кутра произносил русские слова хотя не без некоторого затруднения, но правильно, совсем не так, как он, очевидно, нарочно коверкал имя Урвича, найдя его посреди тёмной улицы в Сингапуре.
— Француз Гастон Дьедонне, — начал Кутра, не торопясь, как бы припоминая выражения и обдумывая их, — француз Гастон Дьедонне, — повторил он, — встретил этого молодого человека на русском пароходе, сев в Адене. Дьедонне, как известно вам, — французский инженер, который строил здесь, на этом острове, подземное хранилище сокровища по нашему плану, когда целость сокровища стала небезопасна в Индии и когда пришлось перевезти его в более надёжное место, чтобы скрыть от преданных англичанам браминов…
Пока говорил Кутра, Урвич старался сообразить, как этот слуга француза, которого он оставил в Сингапуре, мог попасть сюда…
Сначала ему показалось это невероятным, но потом он вспомнил, что яхта «Марианна» с её из ряда вон быстрым ходом могла не один, а целых два перехода сделать от Сингапура сюда, пока сам Урвич тащился на шхуне, радуясь, когда она при исключительно благоприятном ветре идёт по тринадцати узлов в час.
В то время, как болтался он на своей скорлупке, «Марианна» имела возможность легко пройти в пять раз большее число миль…
Кутра, очевидно, был на борту её, когда попал туда Урвич, но он не видал его, потому что на яхте было достаточно помещений, где мог скрыться сингалезец.
Услыхав, что Дьедонне не был хозяином сокровища, а только инженером, строившим хранилище для него, Урвич с отвращением и брезгливостью вспомнил о клятве, данной ему французом, когда он заставил того поклясться, что, согласившись унести мешок из подземелья, он никому не сделает ущерба.
Дьедонне дал лживую клятву, потому что распоряжаться сокровищем не имел никакого права. Он хотел украсть и, солживив клятву, обманом втянул Урвича в своё воровское предприятие.
«Я не виноват, — подумал Урвич, — я так и скажу им!.. Но кому же принадлежало это несметное сокровище?»
— Когда Дьедонне, — продолжал Кутра, — исполнил свою работу здесь, он был отвезён на яхте «Марианна» в Коломбо, причём яхта шла всё время открытым морем, не заходила ни в один порт и много раз меняла свой курс, чтобы француз не мог знать даже, в какой стороне находится Остров Трёх Могил. Он устроил эти могилы, подземные ходы под ними, устроил все механизмы; волей-неволей ему, как устроителю, были известны все тайны здесь, и только тем, что он оставался в полном неведении, где находится самый остров, мы обезопасили себя от его возможной нескромности. Он был привезён на остров так же, как и увезён отсюда, то есть по открытому морю, где все стороны одинаковы и только капитан, прокладывающий курс, знает, куда идёт. К тому же с француза было взято торжественное обещание, что он будет держать в строгой тайне всё, что ему известно. Он согласился подвергнуться смерти, если кому-нибудь расскажет о своих работах на острове или сам каким-нибудь путём задумает отыскать остров и вернуться на него. Остров Трёх Могил не помечен на официальных картах (потому мы и избрали его) и было мало вероятия, что Дьедонне найдёт его. Однако у нас положено было следить за ним. Донесения, которые стали получаться, показывали, что характер Дьедонне, после того как он растратил большую часть полученной с нас за работу суммы, сильно изменился. Прежде весёлый, общительный француз стал нелюдим, угрюм, задумчив — словом, сделался таким, каков бывает человек, упорно занятый какой-нибудь одной мыслью, которая не покидает его и которою ум его занят постоянно. В его руках была часть слишком важной тайны для нас, чтоб оставлять его нам без внимания. Тогда я сам взялся наблюдать за Дьедонне и нанялся к нему в слуги. Действительно, он сильно изменился. Я заставал его часто погружённым в расчёты, и по записям, которые он делал при этом, и по цифрам ясно было, что рассчитывает он, сколько может обойтись экспедиция на небольшой шхуне… По его выкладкам, ему недоставало около тысячи фунтов стерлингов. По крайней мере, эта цифра часто фигурировала в его записях с вопросительным знаком. О цели обдумываемой им экспедиции нетрудно было догадаться, потому что он заказал по сохранившемуся у него чертежу второй ключ от могилы с золотой надписью. Он был настолько неосторожен, что послал меня за этим ключом к мастеру. Впрочем, он никак не мог предполагать, что под видом бедного сингалезца, слуги его, скрываюсь я. Он слышал обо мне, но никогда не виделся со мною. Конечно, он не знал, что я владею французским, русским, итальянским и немецким языками, и это мне облегчало мои наблюдения за ним. С ним я говорил только по-английски, да и то на жаргоне, установившемся в Коломбо. Являлось подозрительным кроме резкой перемены в его характере и то ещё, что он остался на востоке, не уехал назад в Европу, что должен был сделать по уговору с нами. Заказ же ключа выдал его планы. Он жил в Сингапуре, но часто ездил — преимущественно на русских пароходах — в Коломбо, Аден и Порт-Саид, устраивая какие-то денежные комбинации, чтобы получить нужную ему тысячу фунтов.
Комбинации, однако, не удавались. Следя за ним ежеминутно, я, наконец, сделал важное открытие о грозившей нам страшной опасности. Широта и долгота Острова Трёх Могил была известна Дьедонне. Она оказалась записанной у него в старой книжке, которая была с ним во время работ на острове. Тут же рядом были цифры вычисления, какие нужны, чтоб узнать по полуденной высоте солнца точное обозначение места. В числе инструментов на острове у француза был секстант, и он определил им сам широту и долготу. Таким образом, вся тайна была открыта для него… Он знал всё, был готов снарядить экспедицию, недоставало ему только тысячи фунтов. Он получил их, выиграв в домино на переходе от Коломбо в Сингапур. Обыгранный им молодой человек стоит перед вами. Потеряв свои деньги, он вошёл в соглашение с французом и согласился отправиться на Остров Трёх Могил, чтобы похитить лучшую часть нашего сокровища. Дьедонне был предупреждён, что смерть грозит ему, если он расскажет кому-нибудь об известной ему тайне или сам попытается отправиться на остров. И вот он не рассказал и не отправился сам, а послал своего сообщника, снарядив для этого экспедицию на шхуне.
Кутра приостановился.
— Итак, — сказал сидевший от него по правую сторону, — француз Дьедонне, несмотря на наш договор с ним и вопреки своему обещанию, осмелился похитить нашу тайну, решился воспользоваться своими сведениями как строителя и покусился на похищение… Попытка его не удалась, но ничто не ограждает нас от того, что он возобновит её…
— Если даже он не сможет, — сказал сидевший по левую сторону Кутры, — в скором времени снарядить вторую экспедицию, он способен продать тайну англичанам, что для нас хуже его личных попыток. С ним одним или с его сообщниками мы можем ещё справиться, но когда явятся сюда английские военные корабли, нам не уберечь собранное трудами наших отцов, дедов и нашими Сокровище Родины. Оно будет разграблено и обратится против нас же, если поступит в казначейство англичан…
— Если тайна известна хотя бы одному непосвящённому, — заговорил опять сидевший слева, — она перестаёт быть тайной и становится достоянием общим.
— Никто из братьев не открывал тайны французу, — произнёс сидящий слева, — и не навлекал на него опасности. Он сам похитил тайну, зная последствия…
— Он был предупреждён!
— Он сам согласился на условие…
— Условие это говорило без всяких оговорок, что если он попытается нарушить его, ему грозит смерть…
— И он согласился на это условие…
— И нарушил его…
— Нарушил тайну…
— И заслужил смерть…
— Только заслуженная им смерть, на которую он добровольно пошёл, рискуя заведомо, может восстановить тайну…
— Только когда он умрёт, тайна вернётся снова к посвящённым, и Сокровище Родины может быть охранено.
— Мы сами готовы умереть за Родину, когда час придёт…
— За Родину!..
— За Родину!..
Слова эти звучали под сводами комнаты таинственного подземелья отрывисто, глухо, как бой часов, отбивающих последние секунды жизни, и твёрдость решения их казалась неумолима, как воля неизбежной, неминуемой судьбы.
— За Родину! — повторил и Кутра. — Но пусть не смущается сердце ваше, — произнёс он затем, помолчав, — француз Дьедонне не снарядит второй экспедиции на Остров Трёх Могил и не продаст тайны англичанам. Их корабли, по крайней мере, по его указанию не придут сюда и не разграбят Сокровища Родины. Когда он, проводив шхуну, отправленную им ради задуманного злого дела, вернулся к себе домой в Сингапур, он нашёл слугу своего Кутру, который был возле него целый день, и ночью, когда француз заснул, под утро вспыхнуло его жилище. Он не смог выбраться из пламени. Пламя это, прежде чем явилась помощь, охватило дом со всех сторон, и Дьедонне сгорел вместе со всеми своими записями, расчётами и чертежами. Огонь отомстил нашу тайну. Кто хотел коснуться сокровища, не выдержав испытания огня, от огня погибнет!..
Наступило несколько секунд томительного, тяжёлого, гнетущего молчания.
Так всегда смолкают люди, узнав о смерти другого подобного человека, в особенности, если смерть была неожиданна и ужасна.
Кутра сидел, строго выпрямившись, и сознание своей правоты и уверенности в ней светились в его чёрных, как угли, острых глазах.
Но двое соседей его поникли головами, губы их зашевелились, словно они прошептали молитву.
Ниже ещё опустилась голова князя, он сжался, как от физической боли, наклонился и закрыл глаза рукой.
Участь француза не предвещала Урвичу ничего хорошего.
Если он и мог прежде надеяться на князя, что тот заступится за него, то теперь должен был убедиться, что от князя далеко не всё зависело здесь и что распоряжался тут темнокожий Кутра, приводивший свои решения, как это было, по крайней мере, с погибшим Дьедонне, не спрашивая совета остальных, а действуя по своей, по-видимому, непреклонной, жестокой и не останавливающейся ни перед чем воле.
XLIV
— Француз получил должное возмездие, заслуженное им и на которое сам он шёл, предупреждённый и согласившийся заранее, — спокойно заключил Кутра, — но преступление, совершённое им, оставило следы ещё и после него.
Он обвёл присутствовавших взглядом, как бы ожидая, не возразит ли кто-нибудь, но никто не возразил, и он продолжал:
— Остались люди, не по праву владеющие нашей тайной, такие же непосвящённые, как и сам Дьедонне, но приобщённые к тайне его нескромностью.
— Люди? — переспросил князь. — Разве их много? Разве Дьедонне успел многим разгласить? Я думаю, он побоялся сделать это из самосохранения, сам тоже заинтересованный, чтоб тайна, из которой он хотел извлечь выгоду себе, не распространялась слишком широко.
— Он успел разгласить только двоим, — сказал Кутра, — и эти двое — шкипер Нокс и молодой человек, стоящий перед нами, пойманный в самых недрах хранилища.
— Что же знает первый? — спросил сидевший от Кутры справа.
— Он знает широту и долготу места, где находится Остров Трёх Могил.
— Знает ли он, что на этом острове хранится клад?
— Нет.
— Значит, кроме того, что существует остров в этом месте, он ничего не знает.
— Ничего, — подтвердил Кутра, — но и этого достаточно. Такому, как он, моряку лестно будет найти неизвестный до сих пор на официальных картах остров и дать знать о том в английское адмиралтейство, чтоб связать своё скромное имя хотя тоже со скромным, но всё-таки открытием… И после этого мы можем наверное ожидать сюда в гости непрошенных мореплавателей, которые станут хозяйничать здесь.
— Но этот англичанин ничем не виноват, — проговорил сидевший слева, — он исполнял только своё дело, нанимаясь вести шхуну.
— Он виноват, — перебил правый сосед Кутры, — уже тем, что он англичанин.
Князь вдруг поднял голову.
— Ещё не пришло то время, — заговорил он, — когда Индия может казнить человека только за то, что он англичанин. Нельзя считаться с отдельными людьми, пока не поднят открыто меч против притеснителей, пока не объявлено им, что гнусное иго их сброшено и что началась для Индии новая пора. Настанет время, и придёт такая пора, тогда пусть берегутся англичане, если не захотят подчиниться добровольно, но пока нельзя поднимать меч тайно и скрытно там, где он должен быть поднят явно во славу Родины!
— Святые слова! — согласился Кутра. — Но всё-таки англичанин Нокс знает о существовании Острова Трёх Могил и знает его место, не отмеченное до сих пор на карте.
— Он не знает этого! — возразил князь, покачав головою.
— Как! — воскликнул Кутра. — Разве француз не сообщил, куда должна идти шхуна? Каким же образом иначе шкипер мог узнать курс?
— Дьедонне дал на шхуну запечатанный конверт, в котором была записка с обозначением широты и долготы острова. Этот конверт должен был быть вскрыт после Сиднея.
— Они прошли Сидней, значит, во всяком случае, вскрыли пакет, хотя ничто не мешало сделать им это и раньше.
— Они вскрыли его.
— Тогда Ноксу должны быть известны широта и долгота.
— Они были известны ему.
— А теперь?
— А теперь — нет!
— Каким же это образом?
— Теперь добродушный шкипер готов будет поклясться кому и как угодно, что на широте и долготе, указанных в записке Дьедонне, не существует никакого острова и что француз просто спятил с ума, посылая туда шхуну… Вчера в открытом море, когда кругом не было видно ни клочка земли в полдень, я нарочно при нём спросил у штурмана яхты, какое наше полуденное место, и штурман, наученный мною заранее, ответил мне широту и долготу Острова Трёх Могил. Я видел, как шкипер огляделся и не нашёл никакого острова. Теперь же он уверен, что мы стоим у одного из островов группы Маккари. Инструмента у него нет, и он не может проверить положение яхты, так же, как не мог проверить и вчера. Шкипер Нокс введён в полное заблуждение и не только не опасен нам, но, напротив, будет лишним свидетелем тому, что нет никакой земли на широте и долготе, где на самом деле лежит Остров Трёх Могил.
Кутра вздохнул свободнее, с видимым облегчением.
— Да будь благословенна мудрость князя! — произнёс он, подняв глаза кверху. — Нокс не опасен нам, и от нас ему не будет грозить никакой опасности!..
«Они говорят, — подумал с тоской и безнадёжностью Урвич, — при мне о своих делах, как будто участь моя уже решена у них, и обо мне им беспокоиться нечего!..»
— Теперь, — сказал Кутра, — перед нами молодой человек, сообщник получившего уже возмездие Дьедонне. Этот молодой человек знает теперь тайник Сокровища Родины, самовольно дерзнул преодолеть испытания, вопреки всем нашим установлениям, и, наконец, пойман с поличным в ту самую минуту, когда хотел унести драгоценнейшую часть нашего сокровища, то есть украсть…
— Я не хотел украсть! — воскликнул Урвич, молчавший до сих пор.
Ему как-то теперь было всё равно, что они сделают с ним; он видел, что не удастся ему отделаться от распоряжавшегося здесь жестокого Кутры, без колебаний разделавшегося с французом.
Но он возмутился весь, когда услыхал оскорбительное слово «украсть», и запротестовал против него.
— Я не хотел украсть, — повторил он, — потому что был сам введён в заблуждение, когда Дьедонне уговаривал, чтоб я отправился на Остров Трёх Могил, и объяснял мне все подробности того, как проникнуть в тайник. Выслушав всё, я спросил его прежде всего, имеет ли он право распоряжаться сокровищем и какие он может мне дать доказательства, что он является хозяином тут. Он не был нисколько смущён моим вопросом и сейчас же ответил мне, что ключ от сокровища хранится у него и что это даже по закону служит признаком, что запертая вещь находится во владении того, в чьих руках ключ от замка, под который она заперта. Меня не столько убедили самые слова француза, сколько его спокойный, рассудительный тон, в котором не было и признака смущения. Но всё-таки я ещё колебался до последней минуты и перед самым отъездом заставил поклясться Дьедонне, что, явившись на Остров Трёх Могил и взяв оттуда из тайника мешок с драгоценными камнями, я не нанесу никому ущерба и не заставлю никого сожалеть о драгоценностях. Я нарочно ставил вопросы так, что они не давали возможности увёрткам и фальши, а требовали ясного и прямого ответа, и Дьедонне дал мне ясный и прямой ответ, подтвердив его клятвой. Таким образом, я отправился спокойный, уверенный в том, что я исполняю поручение человека, имеющего право дать мне его, а следовательно, и не делаю никакого бесчестного поступка. На воровство или кражу я не способен, и вы можете сделать со мной, что хотите, потому что я нахожусь в вашей власти, но вы не смеете оскорблять меня гнусными и недостойными подозрениями.
Правда, вы застали меня в тайнике как бы с поличным, но не как вор пробирался я туда, а как посланник хозяина, который дал мне ключ и подробно и точно рассказал мне, как войти и что делать.
Он говорил, постепенно возвышая голос, уверенно, с достоинством, возмущённый несправедливым и позорным обвинением, смело, желая доказать этой смелостью свою правоту.
Его выслушали так, как будто он мог говорить всё, что ему было угодно, но слова его не могли уже изменить ничего.
Только князь всё по-прежнему ободряюще смотрел на него и даже, показалось Урвичу, сделал ему знак глазами, что он говорит хорошо.
— А какие доказательства тому, что всё это правда? — спросил Кутра.
На этот вопрос Урвич не мог ответить. Фактических доказательств у него не было никаких.
— Доказательством, — проговорил он, — служат мои слова, которым все должны верить, потому что я никого ещё не обманывал в своей жизни.
— Этого мы не знаем и не можем знать! — возразил Кутра. — Если нет доказательства, если нет свидетеля, при котором поклялся Дьедонне, уверяя, что он хозяин сокровища, мы не можем верить показанию человека, который был пойман с поличным. Нам нужен достоверный свидетель!
Но свидетеля у Урвича не было; разговор в каюте на шхуне происходил у него с Дьедонне с глазу на глаз, причём француз ещё понижал голос настолько, что даже случайно едва ли мог кто-нибудь слышать, кроме Урвича, то, о чём он говорил.
Урвич опустил голову.
Горечь обиды, сознание своей правоты и полное бессилие доказать её были мучительны; ему хотелось возражать, говорить и доказывать, но возражений у него не было, слов он не находил и не имел решительно никаких доказательств.
XLV
— Свидетеля у меня нет, — проговорил Урвич, — потому что мы разговаривали с французом наедине, да если б и был такой свидетель, откуда бы я взял его теперь, и, кроме того, вы могли бы не поверить ему так же, как не верите мне.
— Свидетель есть! Он тут, и свидетельству его Кутра не может не верить!
Слова эти произнёс чей-то голос позади Урвича, и голос этот был хотя тих, ласков и кроток, как веяние воздуха, но звучен, как музыка.
Урвич обернулся: сзади него стояла дочь князя, как ангел-хранитель, и хороша была она, как ангел!
Она откинула свою шаль, подняла голову и с открытым лицом смотрела строго, прямо и уверенно.
Кутра сдвинул брови, два его соседа, видимо, удивлённые появлением княжны, выпрямились, готовые слушать её.
— Кто же свидетельствует за этого молодого человека? — спросил Кутра.
— Свидетельствует за него, — ответила дочь князя, — моя подруга, которую вы знаете так же хорошо, как и меня! За него свидетельствует Атьмара!
— Сама Атьмара? — переспросил Кутра. — Разве она слышала, как француз Дьедонне уверял, что он хозяин сокровища?
Княжна медленно наклонила голову и снова подняла её.
— Слышала!
— Но как же может быть это, если сам виновный говорит, что он разговаривал с французом наедине?
Урвич и сам не мог понять того, что говорила дочь князя, и недоумевал, каким образом могла слышать её подруга Атьмара его разговор с Дьедонне на шхуне в каюте.
Он в жизни своей никогда не знал и не видал никакой Атьмары.
Но вместе с тем он не мог допустить, чтобы княжна даже для спасения человека решилась бы на ложь, и потому он ждал, что она скажет.
— Ещё никто до сих пор, — сказала она, — не сомневался в правдивости слов дочери князя Северного, и никто не смеет перебивать её вопросами, в которых звучит недоверие. Я также хорошо знала, насколько может быть опасен для нас француз Дьедонне, инженер, построивший тайник и владеющий поэтому самой существенной частью нашей тайны. Кутра следил за ним, нанявшись к нему в слуги, но что может сделать слуга, которому доступны только для наблюдения одни поступки его господина, но мысли скрыты. В то время, как Кутра наблюдал за поступками Дьедонне, я постаралась сделать так, чтобы знать его мысли. Атьмара хороша собою, до сих не было ещё мужчины, увидавшего её, который бы не стал немедленно пленником её красоты.
«Я не видел Атьмары, — подумал Урвич, — но если бы и увидел её, то, вероятно, она бы встретила человека, вполне равнодушного к ней! Я видел и вижу тебя!» — сказали его глаза, с умилением останавливаясь на княжне.
— Мы уговорились, — продолжала та, — с Атьмарой, что она встретится с этим толстым рыжим французом и сделает так, что он увидит её. Я не сомневалась, что если он увидите её, он не захочет смотреть на других женщин и, познакомясь с нею, станет домогаться всеми средствами, чтобы она обратила на него своё внимание. Так и вышло. Атьмара поселилась в укромном коттедже в Сингапуре, почти за городом; на музыке в Ботаническом саду они встретились. Дьедонне был представлен ей капитаном нашей яхты, они познакомились. Дьедонне просил позволения бывать, Атьмара ему ответила, что она рада видеть у себя симпатичных людей. С этого дня француз стал часто посещать её в коттедже.
Очень скоро Дьедонне влюбился в Атьмару без памяти… На это мы и рассчитывали. Человек может самым искусным образом скрыть свои поступки, действия, не говоря уже о намерениях, от самого опытного сыщика, но женщина или девушка, в которую он влюблён, выпытает от него самые сокровенные мысли, и нет такой тайны, которую она бы не узнала от него, если захочет узнать. Когда Дьедонне познакомился с Атьмарой, я была спокойна, что он уже не опасен нам и что ничего не может грозить, по крайней мере, от него Сокровищу Родины. Атьмара принимала его у себя, как хорошего знакомого, и он бывал, видимо, ища случая, чтоб объясниться с ней. Она выдала себя ему за молодую вдову, лишившуюся после смерти мужа прежних средств, вследствие чего ей якобы пришлось изменить образ жизни и из богатства и роскоши перейти в более чем скромную обстановку… Дьедонне, не надеясь на свою внешность, в благообразие которой едва ли и сам он верил, молодости тоже у него не было, рассчитывал привлечь к себе чувство Атьмары своим будущим богатством. Он полагал, что Атьмара, потеряв средства, захочет вернуть их снова и для этого выйдет за него замуж, не глядя ни на его лета, ни на его наружность. Люди хорошие и дурные обыкновенно склонны придавать другим те качества, которыми сами обладают. Хорошие видят и в других по преимуществу хорошие стороны, дурные предполагают, что все так же чувствуют и поступают, как они. Жадный Дьедонне, главным деятелем в жизни которого всегда была алчность, и к деньгам, и богатству, был уверен, что деньгами можно сделать всё на свете, а потому и не сомневался, что в конце концов Атьмара будет побеждена его богатством. Богатство это он надеялся получить, ограбив сокровище, охраняемое нами. В своём увлечении он и не подозревал, что Атьмара сама охраняет это сокровище, а он хотел им же прельстить её! Он искал средств, как выполнить задуманную им экспедицию на Остров Трёх Могил и кому поручить это дело, потому что сам он боялся, разумеется, отправиться на Остров Трёх Могил, рискуя верной смертью, если будет встречен здесь кем-нибудь из охранителей сокровища. Наконец он встретился на пароходе с молодым человеком и решил отправить его, зная, что его посланнику грозит гибель, если он будет пойман. Но об этом он мало беспокоился.
Он уж очень прозрачно и ранее намекал Атьмаре на свою любовь к ней, и она ему, почти не обинуясь, указывала на его года и наружность; он ухмылялся, всё же уверенный в своём успехе. Когда шхуна была готова, он пришёл к Атьмаре и стал говорить ей о том, как она будет относиться к человеку, который будет способен вернуть ей не только прежнее богатство, но дать такие средства, что они позволят пользоваться ей роскошью в сто раз большей, чем прежняя! «Но для этого, — отвечала она, — надо иметь миллионы, даже много миллионов; откуда же вы возьмёте их?» Он стал уверять её, что у него будут миллионы; она, как будто заинтересованная этим, стала расспрашивать, откуда и как. Он ответил, что снаряжает для этого экспедицию на шхуне. Она сделала вид, что не верит, стала говорить, что это невозможно и что какая же это экспедиция на шхуне может дать миллионы? «Может, может!» — повторял он и, одурманенный своей любовью, спросил, что будет, если он даст ей неоспоримое доказательство правдивости своих слов?
Она пожелала узнать, что это за доказательство, и он провёл её на свою шхуну, спрятал в маленькой кладовой за ящиками рома, где было проделано небольшое отверстие в соседнюю каюту; в этой каюте и происходил его разговор с молодым человеком, которого он отправлял и который заставил поклясться его, что он может распоряжаться кладом. Атьмара сама слышала это и готова засвидетельствовать безупречную честность, с которой вёл себя молодой человек. Дьедонне вывел её из кладовой так же ни для кого незаметно, как и ввёл туда, и затем спросил, верит ли она ему теперь. Она отвечала, что верит только тому, что он отправляет шхуну на какой-то неведомый остров, за каким-то неизвестным кладом, но что получит ли он что-нибудь от этого, дастся ли ему клад, в этом она сомневается. «Ну, мы увидим!» — заключил Дьедонне.
Атьмара дала нам немедленно знать по телеграфу на яхту о том, что необходимо спешить в Сингапур; того же самого требовал и Кутра в другой телеграмме. Не теряя времени, мы явились в Сингапур, взяли с собою Кутра и Атьмару и направились на Остров Трёх Могил, чтобы принять меры против покушения на Сокровище Родины. Таким образом, Атьмара здесь и может засвидетельствовать, что этот молодой человек не знал, на какое сокровище покушается он, не знал, что оно накоплено многолетними долгими и тяжёлыми усилиями для освобождения индусами их Родины из-под ненавистного им ига англичан, не знал, что оно нужно для святого дела, когда пробьёт час, с нетерпением ожидаемый несчастными, угнетёнными сынами Индии… Он был уверен, что каким-то образом Дьедонне отыскал клад и что он хозяин его. Так Дьедонне поклялся ему; Атьмара свидетельница! Приведите её и спросите!
— Нам не нужно, — ответил Кутра, — спрашивать теперь свидетельство Атьмары, потому что за неё говорит княжна. Мы верим, что молодой человек не знал, на какой клад покушался он, но теперь он знает, что это за клад, знает, как проникнуть в его хранилище, ему известен Остров Трёх Могил, он побывал в тайнике сокровища, прошёл самовольно и дерзко, не очищенный огнём, испытания воздуха, воды и земли и, непосвящённый, ведает то, что должно быть известно только посвящённому!
И, как эхо, вслед за словами Кутра раздался голос сидевшего по правую его сторону:
— Самовольно испытавши воздух, воду и землю и не очищенный огнём должен погибнуть от огня! Таков наш закон! И нами дано торжественное обещание, что кто не исполнит этот закон, сам должен погибнуть от огня.
И снова зазвучал голос дочери князя Северного, зазвучал твёрдо и повелительно, как будто тому, что она говорила, не должно было и не могло быть возражений.
— Он не самовольно, — заговорила она, — подвергся испытаниям воздуха, земли и воды; на яхте мы знали, куда отплывает он один в лодке, направляясь к скале, о чём было дано знать световым сигналом на берег; мы могли не допустить, чтобы он поднялся на скалу, перешёл озеро и миновал подземную галерею; раз мы допустили это, он вынес испытания с нашего ведома; он был очищен огнём перед этим, но не тем огнём, который вы зажигаете искусственно, испытывая вновь посвящаемых, и который так же безвреден, как сравнительно мало опасен подъём на скалу, переход через озеро и путешествие по подземной галерее; он был испытан настоящим огнём, рискуя своею жизнью, когда спас меня из горящей каюты. Поэтому он не должен погибнуть от огня, выйдя из него не только невредимым сам, но и вынеся меня из пламени и дыма.
Кутра и два его товарища задумались, поражённые словами княжны, видимо, никак не ожидая, что она найдёт возражения им.
Князь торжествующе смотрел на них.
Через несколько времени Кутра поднял голову.
— Он спас тебе жизнь, княжна, — заговорил он, — и потому понятно, что ты хочешь,
в свою очередь, спасти его от смерти; против того, что ты сказала, мы ничего не можем возразить. Правда, он прошёл через огонь, был очищен им, он подвергся с ведома посвящённых испытаниям воздуха, воды и земли, но всё же мы не можем считать посвящённым его и принятым в наше братство, потому что не было за него двух поручителей, как требуется это нашими правилами, которые поручились бы перед одним из четырёх главных хранителей сокровища.
— Отец мой, — ответила дочь князя, — принадлежит к числу четырёх главных хранителей сокровища, и мы, я и Атьмара, поручились перед ним за этого молодого человека, когда он, очищенный уже огнём, направился в лодке к скале для дальнейших испытаний.
— Я, — сказал князь, — получил это поручительство и прошу признать, что этот молодой человек выдержал испытания и достоин быть принятым в наше братство, так как соблюдены все правила, необходимые для поступления в него; он может стать одним из охранителей Сокровища Родины.
Индусы стали совещаться на своём не понятном Урвичу языке и, наконец, Кутра проговорил, обратившись к Урвичу:
— Главные охранители Сокровища Родины признали тебя достойным вступить в наше братство, приблизься же к нам!
Урвич подошёл, и они все трое троекратно поцеловались с ним.
Этим заканчивался обряд принятия новопосвящённого в тайное общество сбора средств на будущее освобождение Индии и хранение их, как Сокровища Родины.

Эпилог
Через год после всех этих событий яхта «Марианна» стояла на рейде в виду Константинополя.
Старый князь ходил по капитанскому мостику с биноклем в руках и часто и нетерпеливо поглядывал на север, в ту сторону, откуда подходят пароходы из России.
Золотой Рог был полон судами, и вдруг из-за их труб и мачт показались две высокие трубы и три мачты с типичным для пароходов «Добровольного Флота» вооружением, только фок-мачты реями.
— «Доброволец»! — сказал капитан князю.
Но тот и без него уже видел.
Большой русский океанский пароход вошёл на рейд, отдал якорь, трап на нём опустился, спустили шлюпку, и в эту шлюпку сошли двое прибывших из России пассажиров: мужчина и женщина.
То были Урвич и молодая жена его, дочь князя Северного.
Они возвращались из поездки в Россию, — поездки, которая была вместе с тем и свадебной.
Ёрш и Пыж
Повесть, основанная на истинном происшествии.
Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь завладевшего им.
Притча Соломона, гл. 1, стр. 19.
I
Труппа играла уже вторую неделю в довольно большом губернском городе, но сборы были не особенно хорошие.
Актёры ходили невесёлые, и только комик Андрей Иванович Козодавлев-Рощинин казался бодр, по обыкновению, не унывал и старался другим придать оживление.
Антрепренёр открыл спектакль весёлой комедией и фарсом, надеясь, что публика охотно пойдёт смотреть их, но ошибся в расчёте. Думали, что причиною этого была жара.
Лето было в разгаре. Стоял июль месяц. Актёры кляли жару и желали дождливого времени. Выдался, наконец, и дождливый день, но публики собралось ещё меньше. Попробовали заменить весёлую комедию и фарс мелодрамой, но и мелодрама не выручила. Тогда решили перейти на серьёзный репертуар и стали репетировать «Отелло» Шекспира.
Самого Отелло играл трагический актёр труппы Ромуальд-Костровский, взятый на роли мелодраматических героев и жаждавший показать себя в настоящей трагедии. По его настоянию, главным образом, и ставился «Отелло».
В успех, однако, никто не верил, и репетировали неохотно. Да и роли не расходились по труппе. На большинство ролей не нашлось актёров, так что предателя Яго пришлось играть добродушному комику Козодавлеву-Рощинину, что вовсе не подходило к его средствам.
Дездемону изображала юная, семнадцатилетняя, взятая на вторые роли актриса Микулина. Премьерша труппы, Надежда Ивановна Донская, наотрез отказалась от этой роли, заявив, что она будет играть Дездемону разве лишь в том случае, когда из «Отелло» сделают оперетку.
Эта мысль, впрочем, понравилась антрепренёру, и он обещал со временем поставить шекспировского «Отелло» в виде оперетки…
Спектакль должен был идти с одной репетиции. Больше возиться с этим делом было некогда. Репетировали без ролей, по суфлёру, у которого имелся единственный экземпляр пьесы, находившийся в театре.
Самый главный исполнитель, трагик Ромуальд-Костровский, знал стихи текста лучше других, но всё-таки отчаянно перевирал, хотя не хотел сознаться в этом, ссорился с остальными, упрекал их в незнании ролей и стремился заранее свалить на них неудачу.
Одна Микулина каким-то чудом успела выучить роль Дездемоны, но она докладывала её таким почти детским, беспомощным лепетом, что её не было слышно даже в первом ряду…
— Громче, громче! — кричал на неё Ромуальд-Костровский.
Микулина старалась говорить громче, но из этого ничего не выходило, кроме чуть внятного щебетания…
Ромуальд-Костровский, по мере хода репетиции, приходил всё в большее и большее отчаяние, выражавшееся у него в том, что он всё чаще и чаще направлялся к буфетной стойке и требовал там себе рюмку водки сначала с бутербродами, потом просто с куском селёдки, а затем и вовсе без закуски…
Театр находился в городском саду, состоявшем из двух аллей и площадки пред верандой, примыкавшей к театру. Тут, на веранде, помещался и буфет, то есть стояли столики и буфетная стойка, за которой сидел вечно сонный буфетчик. Он имел удивительную способность засыпать моментально, и Ромуальд-Костровскому приходилось будить его для каждой рюмки водки.
Мало-помалу буфетчик, казалось, до того привык к этому, что при звуке голоса приближавшегося трагика вскакивал сонный, хватался за графин с водкой, наливал и отмечал в тетрадке против фамилии Ромуальд-Костровского лишнюю палочку для счёта, сколько ему отпущено рюмок.
Премьерша Донская, не принимавшая участия в репетиции, завтракала, заняв отдельный столик вместе с антрепренёром, державшим себя очень мрачно и необщительно.
Актёры то и дело бегали в кассу, чтоб узнать, как идёт продажа билетов, и возвращались с вытянутыми лицами. Продажа никак не шла, ни одного билета ещё не было продано.
II
По-видимому, «Отелло» обещал сбор ещё худший, чем давали предыдущие представления.
Донская злорадствовала, трагик пил, антрепренёр как будто махнул на всё рукою и заявил, что если ещё один такой день без сбора, как сегодня, то он «не выдержит». Это значило, что он перестанет платить деньги актёрам, и они рискуют сесть на мель.
Комик Козодавлев-Рощинин подошёл к столику, где сидела Донская с антрепренёром, и заявил:
— Антон Антонович, составляйте афишу на завтрашний день…
Антрепренёр Антон Антонович мутно поглядел на него, как бы желая узнать, шутит он или говорит серьёзно.
— Пишите! — подмигнул ему Козодавлев.
Антрепренёр отвернулся.
— Вы вечно со своими шуточками, — раздражённо произнёс он, — а мне теперь не до смеха.
— Я вам говорю, пишите афишу на завтрашний день, — повторил комик. — Я вам ручаюсь за полный сбор…
В тоне его вовсе не было слышно шутки. По-видимому, он говорил совершенно серьёзно.
— Что же вы думаете поставить? — спросил Антон Антонович.
— А что хотите; поставьте хотя фарс какой-нибудь.
— Да ведь уже ставили…
— А вы опять…
— И в этом вся штука? — безнадёжно протянул антрепренёр, готовый было уже оживиться.
— Нет, — возразил Козодавлев-Рощинин. — Вся штука в водевиле, который пустим под конец…
— Какой же это водевиль?..
— «Тёмно-синий муж, или Наказанная неверность».
— Я не знаю такого водевиля.
— Всё равно, пишите.
— И вы ручаетесь за сбор?
— Ручаюсь.
— Но на каком основании?
— Увидите.
— Но вы объясните…
Несколько актёров подошли уже к столику, чтобы послушать, в чём дело. Они верили в изобретательность старого комика, выручавшую их не раз и прежде.
— Да пишите, составляйте афишу, — послышались голоса. — Андрей Иванович зря говорить не станет, если дело серьёзное. Ведь всё равно, что ставить… А уж если он говорит…
Антрепренёр вынул из кармана лист бумаги и стал писать афишу.
— Прикажите только, чтоб в типографии набрали «Тёмно-синий муж» самым жирным и крупным шрифтом, какой только найдётся, — сказал Козодавлев-Рощинин.
В то время, как антрепренёр Антон Антонович выводил чернильным карандашом огромными буквами: «Сенсационная новинка, небывалый до сих пор водевиль „Темно-синий муж“», по дорожке сада, ведшей к веранде, от входа приближался высокий, почтенного вида господин в отличном пальто и серой мягкой шляпе. Лицо его было бледно, походка неровна, шляпа надета кое-как набок, пальто расстёгнуто… Всё это в соединении с торопливостью, совсем не соответствовавшей летам и почтенному виду господина, обличало его крайнее волнение.
Он подошёл в упор к перилам веранды, остановился, тяжело дыша, и, прежде чем заговорить, быстро оглядел группу стоявших у столика актёров.
— Что вам угодно? — обратился к нему антрепренёр.
— Простите, — заговорил господин, — но дело в том, что у меня со вчерашнего вечера…
— Что со вчерашнего вечера?
— Пропала дочь…
В первую минуту все подумали, что они имеют дело с сумасшедшим.
— Вы не сочтите меня за рехнувшегося, — продолжал господин, — хотя, в самом деле, есть, отчего и с ума сойти… Вчера вечером моя дочь…
— Но позвольте, — перебил Антон Антонович, — если ваша дочь, как вы говорите, действительно… исчезла, — выговорил он, не найдя другого слова, — то прежде всего это дело полиции…
— Ах, конечно! — воскликнул господин. — Это дело полиции, и она ищет…
— Тогда что же вас привело к нам?
Господин развёл руками и, как бы отрезвлённый этим вопросом, словно опомнился.
— Не знаю, — произнёс он, смутившись, — не знаю, простите. Я потерял голову… Но я всюду ищу… Я думал, может быть…
— Что — может быть?
— Она у вас?..
— Почему же вы это думали?
— Не знаю…
— Что же вы полагали, — возмутился Антон Антонович, — что мы — бродячие цыгане, что ли, которые воруют детей?
Лицо почтенного господина болезненно сжалось.
— Нет, ничего я не полагал, — снова заговорил он, — я вовсе не хочу обижать вас… Я просто потерял голову и не знаю, куда кинуться…
— Да позвольте, милостивый государь, — вспомнил, наконец, Антон Антонович и то, с чего ему следовало начать, — с кем мы имеем честь?..
Господин приподнял шляпу.
— Я Тропинин, — отрекомендовался он, — здешний фабрикант…
Услышав имя Тропинина, антрепренёр встал, обнажил голову и даже склонился слегка.
Когда он, приехав в город, наводил, по обычаю всех антрепренёров, справки о том, кто тут самые богатые люди, ему назвали Тропинина, как человека, обладающего состоянием не менее миллиона. Миллион — даже в чужих руках — не только звучал приятно для Антона Антоновича, но и внушал ему уважение.
— Поверьте… — начал было он, расшаркиваясь, но не договорил, потому что совсем пьяный Ромуальд-Костровский, шатаясь, подошёл к Тропинину и протянул руку.
— Сочувствую! — произнёс он заплетающимся языком.
— Что? — переспросил Тропинин.
— Сочувствую! — повторил Ромуальд-Костровский. — Это значит, что я более сочувствую…
Тропинин удивлённо поглядел на него, потом на его протянутую руку, повернулся и, не сказав больше ни слова, направился к выходу. Делать тут ему было больше нечего.
Надежда Ивановна Донская фыркнула. Но никто не разделил её весёлости.
Козодавлев подошёл к Костровскому и дёрнул его за рукав.
— Поди, проспись, ведь играть сегодня нужно…
— А ты меня не учи, — огрызнулся на него трагик, — ты лучше свою роль учи…
— Вот подумаешь, — рассудительно покачал головою антрепренёр, — у этого человека ни больше ни меньше, как миллион!
И он показал вслед Тропинину.
— Вот такую рыбку да на удочку бы поймать! — подмигнул один из актёров Донской.
Та сейчас же нахмурилась и отвернулась.
— А какой он несчастный… сам не в себе совсем, — сказал ещё кто-то.
— Ещё бы, дочь пропала!
— Да как же она могла пропасть?..
— Как! Нынче то и дело в газетах подобные случаи…
— Ох, всяко бывает! — вздохнул Козодавлев-Рощинин. — Чего на свете не бывает!..
— Однако чего ж он к нам именно пришёл? — продолжал недоумевать Антон Антонович.
— Голову потерял, слышали?.. А какой важный и видный, на купца совсем не похож…
— Сейчас видно, человек просвещённый и комильфо, что значит: «как следует», — решил маленького роста актёр на роли простаков и лакеев, любивший в обиходе употреблять французские и, вообще, иностранные словечки, хотя применял их и не всегда кстати…
III
Валериан Дмитриевич Тропинин, обладатель одной на обширнейших мануфактур, поставивший её на широкую ногу и развивший до таких пределов, что состояние его, действительно, можно было оценить около миллиона, был человек именно комильфо и совсем не походил на тех прежних купцов, которые держались старинного правила «не надуешь, не продашь».
Отец его, известный всему торговому миру Дмитрий Тропинин, основатель фирмы, ходил ещё в длиннополом сюртуке и в сапогах бутылками и считал по пальцам, но своего сына он отдал в гимназию. А затем, кончив курс в гимназии, Валериан Дмитриевич по собственному желанию поступил в университет и блестяще сдал экзамен на кандидата по естественному факультету.
При жизни отца он часто ездил за границу, где изучал своё дело, так что, когда ему пришлось, похоронив родителя, стать во главе своего обширного предприятия, он явился не только вполне подготовленным, но и знатоком, поведшим мануфактуру так, что доходы его сразу стали расти, увеличиваться, и из тысячника он быстро сделался миллионером.
Смерть отца, которого он уважал и любил, была сопряжена для Валериана Дмитриевича с другим неожиданным и ещё более тяжёлым, именно вследствие своей неожиданности, горем.
Валериан Дмитриевич женился по любви на молодой красивой девушке. Она была из хорошей семьи, образованная, милая… Она осталась сиротой без всяких средств и поступила на службу в контору Тропининых. Здесь увидел её Валериан Дмитриевич. Они познакомились, узнали друг друга и полюбили.
Ему было тогда тридцать лет, ей шёл двадцать первый. Красивый, статный, образованный, владевший тремя иностранными языками Валериан Дмитриевич понравился ей и, чем больше узнавала она его, тем больше любила. Старик Тропинин охотно благословил этот брак, и счастливые молодые уехали за границу в свадебное путешествие.
Не думала и не гадала молодая Тропинина, что вместо нищеты, горя и забот о хлебе насущном, которых покорно ждала она от судьбы, на её долю выпадут богатство и счастье с любящим и любимым мужем.
Но это счастье было для неё непродолжительным.
В конце первого года их супружества, отец Валериана Дмитриевича отправился по делам в Лодзь,
[11] и оттуда вдруг пришло известие о внезапной смертельной его болезни. Валериан Дмитриевич, разумеется, собрался сейчас же ехать; молодая жена его, несмотря на то, что была в девятом месяце беременна, решила последовать за ним. Никакие уговоры и убеждения не подействовали на неё, и она отправилась сопровождать мужа. Но в дороге она почувствовала первые приступы родов. Пришлось остановиться в маленьком польском городке.
Положение Валериана Дмитриевича было безвыходное. Ему нужно было выбирать между умирающим отцом и женою, которую тоже нельзя было оставить в её положении одну в чужом городе.
Здесь она выказала замечательную силу воли и присутствие духа. Она со страстностью стала убеждать мужа, что кругом виновата пред ним в этой поездке, что ввиду этого должна остаться одна, что роды — вполне естественное дело, что она нисколько не боится и что она должен ехать к отцу, который умирает.
Она, несмотря на приступы начавшихся болей, говорила так убедительно, что Валериан Дмитриевич, наконец, согласился. В самом деле, нельзя было оставлять умирающего отца в совершенно чужом городе одного.
Валериан Дмитриевич рискнул оставить жену, согласно её просьбам, и скоро должен был раскаяться в этом. Отца он уже не застал в живых и, поспешив к жене, нашёл её без сознания, при последнем издыхании. Она скончалась, не придя в себя, у него на руках через несколько часов после его приезда.
Родила она девочку, но Валериан Дмитриевич не захотел даже посмотреть на ребёнка, послужившего причиною смерти его любимой жены.
Эти двойные, одновременные похороны отца и жены он перенёс как бы в тумане, не сознавая хорошенько, что происходило вокруг.
За него всё делали другие. Боялись, что он не очнётся от своего оцепенения, походившего на столбняк.
В себя он пришёл нескоро, мало-помалу.
Наконец, к жизни его вернуло именно то, что послужило к его, как он думал, несчастью, то есть ребёнок. Он вспомнил о нём и пошёл посмотреть на дочь, бывшую до сих пор на попечении польки-кормилицы, взятой впопыхах в городе, где скончалась жена Валериана Дмитриевича.
IV
Девочка была здоровая, крепкая. Она лежала в обшитом кружевами тюфячке, очень нарядном.
Всё приданое для ребёнка было заготовлено стараниями покойной жены Валериана Дмитриевича, и кормилица нашла это приданое в отдельном комоде.
Кто-то поместил ребёнка с его кормилицей в бывшую спальню. Кто-то распорядился принести туда дорогую атласную люльку. Откуда-то появились там грелки, спиртовки, ванная, пеленальный столик, — словом, всё, что было нужно…
Валериан Дмитриевич, войдя, не узнал прежде хорошо знакомой ему комнаты. Он всё время проводил безвыходно в своём кабинете, спал там и ел.
Нагнувшись над люлькой, где лежала закутанная в тюфячок девочка, Валериан Дмитриевич сначала не ощутил к ней никакого чувства — ни отталкивающего, ни нежного. Он понял, что боялся до сих пор глядеть на ребёнка именно потому, что думал, что возненавидит его окончательно, как только увидит.
Девочка повела большими чёрными глазами на него, её личико сморщилось, и она чихнула…
Во всём этом было что-то жалкое и беспомощное.
«Чем она, правда, виновата?» — подумал Валериан Дмитриевич и, вместо ненависти, почувствовал жалость.
Затем ему стало стыдно, что он так долго оставлял дочь — свою дочь, единственно теперь близкое ему существо на свете, без всяких забот со своей стороны… Он даже не спросил ни у кого, всё ли у неё есть, что нужно!
Он оглядел ещё раз комнату и должен был вторично убедиться, что, по-видимому, всё было сделано…
— Кто ж это сделал всё? — спросил он у кормилицы.
— Что, проше пана? — переспросила она.
— Да вот устроил тут детскую?
Кормилица как будто смутилась.
— Так приказал пан доктор, проше пана, — словно оправдываясь, проговорила она.
— Значит, здесь есть всё, что нужно?
— О да, всё, что нужно, пусть пан будет спокоен, проше пана! — с гордостью объявила кормилица.
Она оказалась удивительной женщиной. Такую преданность, такую любовь трудно было найти в чужом человеке.
Валериану Дмитриевичу подтвердил это доктор, потом и сам он увидел это.
Девочку окрестили и назвали Елизаветой, крестины были справлены торжественно, хотя многолюдства гостей не было.
Жизнь Валериана Дмитриевича снова получила смысл. Он сознал, наконец, что должен жить и работать для своей дочери. И он стал жить, работать и увеличивать своё состояние для неё.
Годы младенчества дочери провёл он, переходя из кабинета в детскую и выезжая из дома только на фабрику или в контору.
Юзефа, кормилица, или панна Юзефа, как стали звать её в доме, осталась при маленькой Лизе, откормив её, в нянях и ходила за своей питомицей, буквально не доедая куска и не досыпая ночей.
Стоило Лизе заболеть, чтоб она просиживала ночи у её постельки.
Впрочем, болела девочка редко. Она оказалась таким здоровым краснощёким крепышом, что завидно было смотреть на неё. Правда, и уход за ней был образцовый. Кроме панны Юзефы, у неё было ещё две подняни и особая горничная.
Лиза росла, и с годами стал обозначаться её характер — неукротимый, властный, деспотический, капризный и своевольный.
Было ли причиной этого то, что с колыбели она не знала ни в чём себе отказа, или от природы уродилась она такая, — Валериан Дмитриевич распознать не мог.
Впрочем, если судить по её родителям, ей не в кого было уродиться такой. Сам Валериан Дмитриевич был человек кроткий, добрый и мягкий, а что касается покойной жены его, то она была образцом смирения.
Валериан Дмитриевич чувствовал, что дочь его выходит такая, благодаря баловству, но не имел силы противоречить ей ни в чём, тем более, что панна Юзефа была всегда на стороне Лизы и потворствовала её капризам.
Когда Валериан Дмитриевич пробовал протестовать, у Юзефы было готово возражение, что Лизаньке, дескать, не нужно будет в чужих людях жить, что, благодаря её состоянию, она может позволять себе, что ей угодно, и что пусть другие люди применяются к ней и стараются быть ей угодными, а самой ей нечего заискивать в ком бы то ни было…
Лиза выросла и стала деспотом всего дома. Она понукала отцом, понукала Юзефой, делала, что хотела, и не только никого не слушалась, но привыкла, чтобы её слушались и подчинялись её воле.
В гимназию её не отдавали. К ней приходили на дом лучшие учителя в городе. Больших хлопот стоили им занятия с такой непослушной ученицей, какова была Лиза.
Она занималась только тем, чем хотела.
С раннего детства она отличалась физической силой, из ряду вон выходящей для девочки. Она бегала не хуже — если не лучше — всех погодков из мальчиков, лазила по деревьям, любила играть в городки, делала гимнастику…
Затем с летами она пристрастилась к велосипеду. Она усвоила себе привычку уезжать на велосипеде одна из дома, никого не спрашивая и никому не отдавая отчёта, куда и как.
Когда ей говорили, что это может быть опасно, что она не должна делать это, хотя бы для спокойствия своего отца и домашних, которые каждый раз в волнении ждут её возвращения, она отвечала, что ничего не боится и что улетит на своём велосипеде от всякой опасности…
Казалось, ей именно и нравилась возможность этой опасности и, чем больше стращали её и уговаривали, тем охотнее уезжала она, как бы наслаждаясь тревогой ожидавших её и тем, что отец встречал её бледный, а панна Юзефа в слезах.
Мало-помалу к её самовольным поездкам привыкли.
Всё шло хорошо, пока, наконец, она, уехав, по обыкновению, одна на велосипеде, вовсе не вернулась назад… Послали во все стороны людей на розыски, дали знать полиции, но всё оказалось напрасным — Лиза как в воду канула, нигде не было и следа её.
У Валериана Дмитриевича оставалась слабая надежда, что, может быть, это — со стороны Лизы неуместная шутка, что она сама нарочно скрылась где-нибудь, и он на другой день после вечера, когда исчезла дочь, мыкался по городу, объездил всех знакомых, побывал даже в таких местах, как театр — мало ли что могло прийти в голову этой девчонке! — но нигде ничего не мог узнать про свою дочь…
Не было сомнения, что с ней случилось что-то страшное, ужасное и что её нет в живых, потому что живая она уж вернулась бы или дала бы знать о себе…
V
В театре «Отелло» дал такой плохой сбор, какого не было и в самый неудачный, дождливый, день. Стулья и кресла совсем были пусты, даже даровые места оказались незанятыми. В скамейках и галерее набралось человек двадцать да ещё какая-то подкутившая, пьяная компания взяла ложу, видимо, относясь совершенно безразлично к тому, что представляли, и явись в театр просто ради того, чтобы деться куда-нибудь всем вместе, не разъединяясь, после шумного и весёлого обеда… Для этих двадцати человек и для пьяной компании в ложе пришлось играть.
Играли очень плохо. Трагик, хотя успел отрезвиться к представлению, но всё-таки не твёрдо держался на ногах и плёл такую ахинею, что путал вконец актёров, и без того совсем не знавших своих ролей…
Маленькая Микулина в роли Дездемоны была очень мила в своём самодельном платьице, единственном парадном, бывшем у неё. Она выпорола из него рукава и вставила на место их кисею, что и должно было изображать великолепный наряд венецианской дамы.
Пьяная компания в ложе одобряла её очень шумно, аплодировала и вызывала.
Конечно, эти вызовы и аплодисменты производились не ради игры Микулиной, а ради её молоденького, хорошенького личика.
Пьяная компания вовсе не следила за тем, что происходило на сцене, разговаривала и смеялась во время действия и, когда опускалась занавесь, громогласно вызывала Микулину. Она должна была выходить, кланяться и отвечать улыбками на бессмысленную овацию подкутивших, пьяных людей, не знавших, что выкинуть ради своего удовольствия.
Когда в исступлении ревности Отелло задушил на сцене Дездемону и роль Микулиной таким образом кончилась, пьяная компания демонстративно покинула театральный зал и уселась на веранде, потребовав себе ужин и шампанского.
Микулина, сконфуженная своим первым выходом в ответственной роли, чувствовала, что он не удался ей, и эту неудачу особенно ещё подчеркнули неуместные и унизительные рукоплескания из ложи.
Она была обижена до слёз. Она так надеялась на эту роль! Теперь для неё было ясно, что она — не актриса и никогда не станет ею.
Она переодевалась в крошечной уборной и делала это торопливо, чтобы поскорее снять с себя личину неудачной Дездемоны и стать снова самой собою.
В дверь раздался стук, определённый и требовательный.
— Кто там? — спросила Микулина.
— Это я, — ответил голос Антона Антоновича, антрепренёра.
— Я переодеваюсь, не могу впустить! — сказала Микулина, инстинктивно накидывая на себя платок, как будто он через дверь могли увидеть её.
— Так одевайтесь скорее, я подожду, — прозвучал снова антрепренёрский голос.
— Что такое? Что случилось? Зачем вам меня надо? — удивилась Микулина.
— Надо, так надо! — проговорил антрепренёр, вдруг изменив прежний ласковый тон на строгий и сердитый.
Микулина поспешила одеться и отперла дверь.
— Ну, поздравляю вас с успехом! — заговорил антрепренёр, распустив свой большой рот в широкую улыбку.
— С каким успехом? — снова удивилась она. — Кажется, никакого успеха не было…
— Однако вам аплодировали и вас вызывали!
— Пьяная компания в ложе?
— Всё равно, кто б ни вызывал! А теперь вас ужинать приглашают.
— Кто?
— Те, что были в ложе.
— Эти пьяные люди?
— Ну, отчего же пьяные… просто навеселе.
— Я не пойду к ним! — вырвалось у Микулиной как бы помимо неё.
— Отчего же вам не пойти? — возразил Антон Антонович. — Авось вас не убудет, и корона не свалится с вашей головы! Потому не свалится, — пошутил он, — что её никогда и не было на вашей голове, даже картонной! Вы ведь королев не играли!
— Я не пойду! — повторила Микулина. — Так и скажите им.
Лицо антрепренёра нахмурилось.
— А я вам говорю, что вы должны идти и пойдёте! — почти крикнул он. — Сборов совсем нет! Нужно хоть чем-нибудь заманивать публику; играете вы из рук вон плохо, так обходительностью возьмите! Это — мой вам совет; а не послушаетесь его, так я вам вот, что скажу: если вы не пойдёте сейчас ужинать, так завтра я вас из труппы выгоню. Я дармоедов у себя в труппе держать не могу!
— Что?.. Что?.. Каких дармоедов?.. — спросил, подходя, комик Козодавлев-Рощинин.
При виде его антрепренёр как будто несколько смутился.
— Вам что за дело? — обернулся он к комику.
— Как… что за дело? — вдруг, густо краснея, подступил к нему Козодавлев-Рощинин.
— Антон Антонович требует, чтобы я пошла ужинать с компанией, которая сидела в ложе! — сказала Микулина.
— То есть я не требую, — перебил Антон Антонович, — а передаю только приглашение…
— Я вам передам! — рассердился комик. — Это ещё что за новости вы выдумали? Разве мы для ужинов пошли к вам в труппу?.. И как вы осмелились!..
Козодавлев-Рощинин вспыхнул весь и лез на антрепренёра почти с кулаками.
— Вы не кричите, я не глухой! — стараясь сохранить собственное достоинство, стал возражать антрепренёр. — А если вы начнёте у меня буянить, так я и на вас не посмотрю и вас вместе с ней выгоню! — и, проговорив это, он повернулся и ушёл, ворча ещё себе под нос.
— Посмотрим! — пустил ему вслед Козодавлев-Рощинин. — Ты не беспокойся, Манюша, — обратился он к Микулиной. — Я тебя в обиду не дам! Эдакое грубое животное! Пойдём домой!
И, взяв молодую актрису под руку, Козодавлев вывел её из театра через заднюю дверь, миновав веранду, где пьяная компания шумела и кричала, требуя немедленно к себе хорошенькую Дездемону.
VI
Маничка Микулина была не только наперсницей и воспитанницей комика Козодавлева-Рощинина, но и его, так сказать, приёмной дочерью.
Он её взрастил, воспитал, и принята она была в труппу исключительно ради него.
Звала она его с детства «дядя Андрей», и он с чисто отеческой лаской отзывался на такое обращение, и как ни бедствовал сам, но делал всё возможное для своей Манички, отказывая себе часто в необходимом.
Она была для него приёмная дочь, и он был бы вполне счастлив ею, если бы этому счастью не мешал родной отец Манички, у которого Рощинин взял её ребёнком, подобрав на улице.
Сначала отец Манички, казалось, был очень рад и доволен, что освободился от обузы, которую представлял для него ребёнок, но потом нашёл себе источник некоторого дохода в том, что вытягивал деньги у Козодавлева-Рощинина, являясь к нему и требуя назад своего ребёнка.
Это был бесшабашный гуляка и пропойца, не знавший никакого ремесла и вечно сидевший без дела.
Отдать ему назад Маничку Рощинин не решался и предпочитал откупаться от него, чтобы иметь право, как говорил он, считать, что хоть одному созданию он мог даровать свободу в своей жизни.
По мере того как росла Маничка, он всё больше и больше привязывался к ней, ухаживая за ней и перевозя её с собой из города в город.
Отец девочки следовал за ними, часто каким-то чутьём узнавая места, где играл Рощинин. Впрочем, это и не представляло особых затруднений, потому что обыкновенно в Великом посту провинциальные актёры съезжаются в Москву для заключения контрактов, и там, зная хоть немного театральные порядки, легко можно узнать, куда какой актёр приглашён.
Отец Микулиной изучил эти порядки, потому что всю свою жизнь вертелся при театре то бутафором, то афишёром.
Неизвестно было, каким образом он устраивался, чтобы переезжать из города в город, и чем он жил ещё, кроме подачек Рощинина.
Однако случалось, что вдруг он появлялся в более или менее приличной паре и каком-нибудь котелке или широкополой шляпе; но затем эта более или менее приличная пара исчезала у него, и он снова превращался в оборванца, грязного и пьяного.
На какие ухищрения ни пускался только Козодавлев-Рощинин, чтобы скрыть, с какой труппой отправляется он играть, всё оказывалось напрасным — отец Манички вырастал точно из-под земли.
Его преследования стали особенно назойливы с тех пор, как сама Маничка сделалась актрисой и начала получать заработанные собственным трудом деньги. Жалованье она получала небольшое, но она шила на других актрис и имела на этом заработок. Однако почти все деньги отбирал у неё отец, а если она успевала потихоньку от него купить себе какие-нибудь вещи, то он и их отнимал у неё, продавал, закладывал и пропивал.
Иногда Рощинину с его питомицею удавалось провести некоторое время в покое, и, когда выдавались такие недели, что они, приехав в новый город, не видели этого человека, они радовались, что могли вздохнуть спокойно, но знали, что это ненадолго, и что он появится вновь.
И чем длиннее был «светлый промежуток», как они называли это, тем невозможнее и неисполнимее были впоследствии требования оборванца. Он доходил иногда до того, что являлся во время представления в театр и шумел, и кричал, требуя свою дочь обратно и обвиняя Козодавлева-Рощинина в самых гнусных преступлениях.
Хорошо, если была возможность заставить его замолчать, то есть имелись деньги, чтобы дать их ему.
Но, когда дела, как теперь, шли плохо, сборов не было и денег было мало, тогда положение становилось отчаянным.
Матери своей Маничка никогда не знала и никогда ничего не слыхала о ней. Отец иногда, являясь к ней пьяным за деньгами, плакал, говоря, что мать подкинула её ему на руки, что она бежала от него, обманув его… Но кто была эта мать и почему она бежала, трудно было понять из его несвязных пьяных слов. Невозможно было разобрать также, насколько являлся правдивым его спутанный рассказ.
По паспорту он значился холостым.
Случай был вполне исключительный, потому истинный бич в жизни Манички и её воспитателя, жизни и без того далеко не сладкой и полной всяких огорчений и лишений.
VII
Едва только вышел Козодавлев-Рощинин с Микулиной через заднюю дверь из театра, пред ними появился, как зловещее видение, освещённый висевшим у двери фонарём, отец Манички.
Только этого недоставало!..
— А-а-а, вот-с и накрыл я вас! — проговорил он тихим, но пьяным голосом. — Честь имею кланяться, каково поживаете? Иль не рады видеть родителя, сударыня?..
Маничка дрогнула и крепче ухватилась за Козодавлева-Рощинина, державшего её под руку.
— Не скандальте, пожалуйста, не скандальте… — начал было Рощинин, но эти слова, вместо того, чтобы укротить отца Манички, только взволновали его.
— Скандалить! — вдруг громко завопил он. — Коли ежели я почну скандалить, так весь ваш балаган переверну!.. Иль вы забыли, как скандалит Галактион Корецкий? Забыли вы Галактиона Корецкого?..
Фамилия Манички по сцене была Микулина. Отца её звали Корецким.
— Мамочка, да ты пьян совсем, — спокойно произнёс Рощинин, никогда не терявший присутствия духа и при всех случаях сохранявший в речи юмористические обороты, заключавшиеся, главным образом, в употреблении ласкательных слов вроде «мамочка», «милушка» и так далее.
— И пусть пьян! — горделиво согласился Корецкий. — Пусть я трижды пьян — не тебе учить всё-таки Галактиона Корецкого… Кто ты такой, а?.. Кто ты такой, спрашиваю я тебя! Актёришка и больше ничего. Дам я тебе денег, заплачу, сам напьюсь пьяным, а ты представляй мне, потешай, то есть… Ты из моей дочери тоже актёрку сделал — разве я на то тебе отдал её?.. Давай рубль сейчас…
Рощинин, услыхав, что дело идёт о рубле только, поспешно стал шарить в карманах. Это занятие, впрочем, оказалось напрасным — в его карманах со вчерашнего уже дня не было ни копейки…
Корецкий протяжно свистнул.
— Не ищи — не найдёшь, — снова заговорил он, — да если б и нашёл — ты думаешь, я теперь рублём удовольствуюсь? Как же! Обрадовался! Рублём вздумал отделаться… По моим, брат, делам теперь мне тысячи нужны, и они будут у меня, эти тысячи… Вот они, где у меня, эти тысячи, — он хлопнул себя по груди. — Я душу свою продал, — продолжал он, пошатнувшись, — а ты рубль… Ну, давай рубль… пока… а там поговорим пока что… Давай рубль, говорят тебе…
И он протянул к Рощинину руку.
Тот невольно отстранился от него.
— Теперь у меня, голубушка, нет ни одного мораведиса в кармане… — начал он.
— Что-о? — грозно переспросил Корецкий.
— Ни одного сантима, — пояснил Рощинин, — а приходи завтра — завтра я дам тебе рубль…
— Завтра! — захохотал Корецкий. — Завтра… Я сегодня хочу…
— Сегодня нет…
— Дядя Андрей, уйдём, спрячемся! — стала просить Маничка, в ужасе следившая за происходившим.
Хотя подобные сцены не раз уже происходили при ней, но она не могла привыкнуть к ним и всегда её охватывал новый ужас при появлении пьяного отца… Она тянула Рощинина к двери…
— Не дашь рубля, — кричал, между тем, Корецкий, — так я дочь отниму… подавай мне назад Маньку, подавай!..
Никогда он ещё не был так буен в своём опьянении, как сегодня… Это было тем более страшно, что хмель охватил его как будто вдруг, сразу, потому что начал он разговор очень осторожно и тихо…
— Подавай Маньку! — во весь голос крикнул он, наконец, наступая на Рощинина.
Таких выходок, обещавших разрешиться насилием, Корецкий никогда ещё не позволял себе.
Рощинин, видя, в каком он состоянии, быстро увлёк Маничку назад в театр, захлопнул дверь и запер её на крючок.
Теперь они очутились кругом в осаде.
Оставаться на сцене им было неудобно из-за рассерженного антрепренёра, который, завидев их, снова стал бы приставать и браниться, чтоб сорвать хоть на ком-нибудь свою злобу за плохой сбор. Пришлось бы отвечать ему, а из этого могла выйти неприятная история.
Со стороны веранды угрожала пьяная компания. У задней двери буянил отец.
Оставался один выход — через зрительный зал, и Рощинин хотел воспользоваться им, чтобы уйти со сцены незаметно, но это не удалось ему…
Корецкий стал, что было мочи, барабанить в дверь кулаками и ногами и поднял такой шум, что даже трагик вздрогнул, изображая в это время последнюю картину, которая ещё шла на сцене…
Появился антрепренёр.
— Что тут за шум, кто тут шумит? — спрашивал он на ходу, кидаясь к двери.
Он отпер дверь. Корецкий вломился, но, увидев пред собою незнакомого человека, оторопел и остановился на пороге.
— Что тебе нужно? — задал на него окрик Антон Антонович.
Он умел обходиться с пьяными и сразу понял, что пред ним пьяный.
— Дочь! — проговорил Корецкий.
— Какую дочь?..
— Мою, вот эту, — показал Корецкий на стоявшую рядом с Рощининым Маничку.
Микулина в первый раз ещё играла в труппе Антона Антоновича, и тот не знал, что судьба наделила её таким отцом. Он поглядел на Маничку, а она закрыла лицо руками. Это было всё, что могла она сделать. Говорить она была не в силах.
— А в полицию желаешь? — вдруг резко произнёс Антон Антонович.
При слове «полиция» Корецкий вдруг дрогнул весь, съёжился, повернулся и бегом исчез в темноте сада.
Антрепренёр подошёл к Микулиной.
— Это ваш отец? — отрывисто проговорил он.
Маничка молчала.
— Я вас спрашиваю, отвечайте… — повторил антрепренёр.
Маничка опять не ответила.
— Вы языка лишились? — грубо спросил Антон Антонович и тронул её за плечо.
Козодавлев-Рощинин мягко отстранил его руку.
— Вы, прелестный гидальго, языком болтайте, сколько угодно, а рукам воли не давайте, — остановил он Антона Антоновича.
— Я в третий раз спрашиваю, это её отец? — проговорил вконец рассерженный антрепренёр.
— Ну, отец! — протянул Рощинин. — Что ж из этого?..
— А то, — сказал Антон Антонович, — что она может уходить теперь, куда угодно. Мне таких актрис не нужно. Требований моих она не исполняет, а приводить на сцену пьяного отца, который буянит тут… Она больше не служит у меня… Я ни отца её, ни её не велю больше пускать сюда…
— Соломон милостивый, судия праведный, — всплеснул руками Козодавлев-Рощинин, скорчив гримасу, — ведь у неё с вами контракт подписан…
— Я нарушаю контракт, — решительно возразил Антон Антонович.
— А на каком основании? — прищурился Козодавлев-Рощинин.
— На том основании, что поведение её безнравственно… Я не могу иметь дело с пьяницами…
Рощинин покачал головою и сказал:
— Джентльмен благородный, подумайте только, что вы говорите. Идти ужинать с пьяной компанией, по-вашему, не безнравственно и то, что негодяй-отец мучает ни в чём не повинную девушку — тоже не безнравственно?
— Да, впрочем, я вам не препятствую, судитесь, если хотите, — заявил антрепренёр.
Он не боялся суда, потому что знал, что, пока там будут разбирать дело, он успеет с труппой уехать в другой город, а потом ищи его по России…
— Я судиться не буду, — успокоил его Рощинин, — а если вы действительно отказываете ей, то и я уйду…
Антрепренёр махнул рукою.
— Скатертью дорога… Другого найду…
— Так и запишите так, розанчик сладкий!..
— Ну, а теперь уходите вон! — крикнул Антон Антонович.
— Уйдём, уйдём, — заключил Козодавлев-Рощинин и, взяв опять Микулину под руку, увёл её из театра через зрительный зал.
VIII
— Ты, Манюша, не тревожься! Всё это вздор и пустяки, — успокаивал Козодавлев-Рощинин свою воспитанницу, когда они вернулись домой, то есть в гостиницу, где занимали два номера рядом.
Номера были дешёвые, те, что предназначались для лакеев, приезжавших с важными господами, останавливающимися в больших комнатах с окнами на улицу.
— Как же пустяки? — тоскливо возражала Микулина, вытирая платком заплаканные глаза, — ведь нас выгнали, дядя Андрей…
Она уже несколько раз принималась плакать и делала усилия, чтобы удержаться.
— Ну, какое там выгнали! Это пустяки, — повторил Козодавлев-Рощинин.
— Да ведь он прямо сказал, что не велит меня пускать, а из-за меня и тебя прогнал, за что же ты-то терпишь?.. И как же мы теперь будем, ведь у нас денег нет…
— Нет, Манюша; это ты истинную правду сказала!..
— Так как же? Ведь надо уезжать в другой город?
— Никуда мы не уедем, а останемся служить по-прежнему здесь… И деньги будут… Завтра хороший сбор будет, ручаюсь за это, а тогда я возьму у антрепренёра…
— Да ведь он же сказал, что мы не служим… И из-за меня это!..
— Пустяки, милая, ему не обойтись без меня, да и завтрашний сбор от меня зависит. Увидишь — завтра же он за мною пришлёт. Я ему нарочно свой фортель не открывал. Без меня ничего не сделают, а сбор-то необходим. Антон-то этот самый Антонович знает, что публику приучить надо, чтоб она ходила в театр: заманить сначала, а потом уж и пойдёт… А сам он это сделать не умеет. Вот я и выручу…
— А выручишь? — спросила Микулина немного уже более спокойным голосом.
— Непременно выручу! — убедительно произнёс Козодавлев. — Вот увидишь. Ты не беспокойся; если тебя только эти пустяки тревожат, то служить мы будем по-прежнему — и ты, и я, — с голода не помрём с тобою…
— Именно только с голода не помрём! — протянула Маничка.
— И слава Богу! Чего ж тебе больше, Манюша? — вздохнул комик.
— Господи, чего! — возразила девушка. — Да спокойствия хочется. Я многого не хочу. Я не о богатстве, не о роскоши мечтаю, но ведь есть же счастливые люди, которые знают, что они будут сыты и завтра, и послезавтра… За что же мы-то мучаемся, чем мы хуже других,
что мы сделали, что нам в жизни дано одно мученье?..
— Будет, будет, Манюша, перестань, не ропщи! Верь, что много людей на свете и больше нашего терпят…
— Но ведь от этого мне не легче. Пусть всем хорошо будет и нам вместе с ними!
— Не знаем мы, Манюша, что хорошо для нас, а что дурно, — утешал девушку Козодавлев-Рощинин. — Почти всегда мы думаем, что вот так было бы лучше, а на самом деле оно к худшему выходит. У меня так всю жизнь было, а я дольше тебя жил на свете, гораздо дольше. И спроси у любого, кто пожил, но сознательно пожил и наблюдал свою жизнь, он тебе скажет то же самое: никогда сам человек не знает, что ему нужно. Просишь у Бога, чтоб случилось то или то, настоятельно просишь, и, бывает, случается, но никогда в пользу не служит. Поэтому единственная просительная молитва и есть: «хлеб наш насущный даждь нам днесь», а во всём остальном «да будет воля Твоя!»
Козодавлев-Рощинин говорил вполне искренне, а не только, чтоб утешить бедную девушку.
Правда, трудно было предположить, что этот человек, проведший весь свой век за кулисами, среди актёрской богемы, был в душе глубоко верующий и религиозный, но Микулина, знавшая всю его подноготную, постоянно бывшая с ним, давно имела возможность убедиться, что он и думал, и чувствовал именно так, как говорил.
— Ну, а когда и хлеба насущного нет? — спросила она.
Козодавлев-Рощинин покачал головою и с упрёком сказал:
— Грех тебе говорить, Манюша! Мы до сих пор, слава Богу, без хлеба не сидели. Правда, бывали случаи, что на одном только хлебе и сидели, но всё-таки он был у нас… Не гневи Бога…
— Знаешь, дядя Андрей, — раздумчиво произнесла девушка, — я так думаю, что Богу до нас, маленьких людей, нет дела, а просто сами мы должны выбиваться из сил, чтоб не умереть с голода, и сыты мы, пока здоровы, а там, если заболеем, не сможем работать, так и помрём. Ведь, в самом деле, времена чудес прошли; сколько ни молись о хлебе насущном, а если не заработаешь его или кто-нибудь другой не даст его тебе, так сам он не придёт… с неба не свалится…
— И с неба свалится, Манюша, если что нужно будет, — с твёрдостью проговорил Козодавлев-Рощинин, — и ты не смей думать, что Господь не видит нас или кого-нибудь и что Ему нет до малых людей дела! — продолжал он, и глаза его блеснули. — Нет, малые люди — Его дети, и если человек в горе думает, что Господь оставит его, ошибается он, потому что именно в часы горя-то Господь ближе всего. Он тут, Он возле, Он всё видит и знает. Он оставляет тех, которые в гордыне своей считают себя счастливыми, а на самом деле мучаются сами собою и не имеют выхода. Ты не знаешь, до каких чисто физических мучений и истязаний доходят разврат и излишество, но верь мне, что это так… Ты говоришь, времена чудес прошли; неправда, потому что всё чудесно вокруг нас в мире, как и прежде, и вместе с тем каждое чудо можно истолковать так, якобы всё это вполне естественно. Вот что в наше время, на наших глазах было. На Стеклянном заводе, в Петербурге, была икона Божией Матери всех скорбящих радости. Икона не была украшена драгоценною ризой. Местность, отдалённая от центра, где богатые живут. Молиться приходили у иконы бедняки и приносили свою лепту в кружку, бывшую у иконы… Вдруг ударила гроза в эту кружку, разбила её и одиннадцать копеечных монет ударились в икону и вкропились в неё, вкропились венцом вокруг изображения Богоматери, заметь, не коснулись лика, но словно украсили образ, как украшают ризу драгоценными камнями. Знать, благочестивы были эти копеечные приношения и стали они равноценны дорогим каменьям! Ты посмотри, какая поэзия в этом и какой глубокий смысл! Это красиво, велико, прекрасно и вместе с тем чудесно, а, в сущности, всё как будто совсем обыкновенно: ударила молния — вот и всё тут!.. Знал я тоже одну вдову с дочерью. Жила она при муже в достатке, он служил, получал много, но на частной службе. Умер он. Остались они без средств. Дальше — хуже… и дошли они до того, что есть им было нечего. Голодали они так, что завешивали окно, чтобы не видеть мяса, которое продавалось напротив, в мясной лавке… Словом, были они в таком положении, что ложись да помирай. И что же? Стала на колена дочь пред образком, висевшим высоко в углу, и начала молиться. Долго молилась, горячо, о хлебе насущном молилась… Встала она. Показался ей образок запылённым очень. Она его сняла, вытерла и хотела опять повесить; только глядит, — гвоздь, на котором висел образок, обмотан бумажкой, и бумажка тоже запылилась. Сняла она бумажку, а это — двадцать пять рублей… Вот и суди тут. Конечно, кто-нибудь из раньше живших в этой комнате хотел спрятать эти деньги и придумал им место на гвозде за образом, потом не взял, может быть, умер… Всё это очень просто, но для бедной вдовы с её дочерью эти деньги словно с неба упали…
— Ну, хорошо, — сказала Маничка, очень внимательно слушавшая рассказ Козодавлева-Рощинина, — пусть будет так, как ты говоришь, но за что же всё-таки страдала эта вдова, за что голодала она?
Комик не смутился этим вопросом и ответил:
— За что голодала она или почему, мы не знаем. Так, видно, надо было, но только опять-таки, кто присмотрелся к жизни, скажет тебе, что зря ничего не бывает, что каждый человек в старости, если оглянется на прожитое, увидит, что были и у него случаи, когда он мог сделаться счастливым, но не сумел этого… И истинная правда, что сам человек кузнец своего счастья…
Маничка сидела, задумавшись, и, комкая платок в руках, глядела, уставившись пред собою, мимо сидевшего пред нею Козодавлева.
Тот замолчал и она молчала.
— Ну вот, — заговорила она, наконец, — я добросовестно сейчас постаралась припомнить всю нашу, то есть мою жизнь… И, право, в ней не было такого случая, о котором говоришь ты… Нет просвета в прошлом и нет надежды в будущем…
— Почём ты знаешь, Маня, — живо перебил ей Рощинин, — что ожидает тебя в будущем? До сих пор ты знала, не спорю, в жизни одно только горе, и не спорю также, что была виновата в этом… Судьба, значит, в долгу пред тобою… Ну, что ж, она должна заплатить свой долг и, поверь мне, заплатит…
Маня улыбнулась, и эта улыбка вышла у неё безнадёжною.
— Нет, дядя Андрей, — тихо проговорила она, — мне нечего ждать в будущем; единственно, на что я могла рассчитывать, — на удачу на сцене, если б у меня был талант; а я сама вижу, нет у меня таланта… какая я актриса!..
На это Козодавлев-Рощинин не мог ничего ответить. Он не мог лгать. Актриса она была плохая, и сегодняшний вечер окончательно доказал это. Она выступила сегодня в ответственной роли Дездемоны и играла совсем бездарно. Против этого ничего нельзя было сказать.
IX
На другой день рано утром — Козодавлев-Рощинин ещё спал — в дверь его постучали… Он вскочил, накинул на себя халат и отпер дверь.
— Там вас спрашивают, — довольно бесцеремонно заявил ему заспанный номерной, не стесняясь с таким постояльцем, как актёр, и почёсываясь.
— Кто спрашивает? — засуетился Козодавлев-Рощинин. — Из театра?
— Может, и из театра, я почём знаю! — проворчал номерной, повернулся в коридор, сказав туда: — Идите, здесь, — и, оставив дверь отворённою, удалился, найдя, вероятно, что исполнил свои обязанности.
В сумерках тёмного коридора обрисовалась фигура, которую Козодавлев-Рощинин сейчас же узнал. Это был Галактион Корецкий.
— Ах, это вы! — произнёс Козодавлев-Рощинин и, во избежание неприятностей, которые могли произойти в гостинице, в случае если бы Корецкий и здесь набуянил, поспешил добавить: — Войдите.
Корецкий вошёл. Однако по его виду сразу можно было успокоиться, что сегодня он никакого буйства не произведёт. Он, видимо, выспался. Его лицо было помято, глаза он держал опущенными. Сегодня он был в смирном настроении.
— Вы меня извините, что я без галстука, — начал Козодавлев-Рощинин, запахивая халат, шаркая туфлями, надетыми на босую ногу, и принимая тот шутливо-насмешливый тон, с которым он обращался ко всем, за исключением только Манички, и то, впрочем, когда разговаривал с нею по душе. — Впрочем, я могу и приодеться, — вдруг решил он, отправляясь за ширмы, где стояла его кровать. — Садитесь, — сказал он из-за ширм Корецкому.
Он суетился и не знал, как ему быть со своим незваным гостем.
— Я уже сел, — спокойно ответил Корецкий.
Козодавлев-Рощинин выглянул и увидел, что Корецкий действительно сел, не ожидая к тому приглашения.
«Нет, оставлять его там одного нельзя», — решил комик.
Хотя все его драгоценности, то есть часы, запонки и серебряный портсигар (подношения от публики), были тут, за ширмами, на ночном столике, а там, в комнате, лежали на столе только тетрадки ролей, всё-таки Козодавлеву-Рощинину показалось опасным оставлять Корецкого одного и он вышел к нему снова, как был, в халате и в туфлях на босую ногу.
— Знаете ли, что вы сделали вчера, господин хороший? — спросил комик, опустившись на стул против Корецкого.
Тот помотал головой и ответил:
— Не знаю, а что?
— Вы наскандалили вчера в храме искусства…
— В каком храме?
— Искусства, душенька, театром называемом…
— Я не был в театре вчера, — возразил Корецкий.
— Значит, так были упимшись, что не помните?
— Не помню! — подтвердил Корецкий.
— Хорошо. Тогда я вам объясню положение, коего вы причиной: вы наскандалили вчера в преддверии театральном, затеяв там шум. Этот шум был услышан нашим милостивым антрепренёром, Антоном Антоновичем, человеком очень солидным и почтенным, как вы изволите знать…
— Не зна-аю! — выговорил, икнув, Корецкий.
— Вы вчера познакомились с ним, однако… Достойный гражданин и столп театрального дела в России. Ну, так вот он, как достойный гражданин и столп, поступил с мудростию Соломона и изгнал нас, то есть меня и дочь вашу, из своей труппы… Теперь мы находимся между небом и землею. Без дела, а значит, и без денег… Если вы, мой бутон невинности, пришли ко мне за презренным металлом, то извините, его у меня нет и взять его неоткуда. А причиной тому вы сами…
— А мне нужны деньги, — проговорил Корецкий.
— Они всякому дураку нужны, — деловито согласился Козодавлев-Рощинин и добавил: — Вы только, милостивец, конечно, не принимайте на свой счёт этого моего замечания, ибо тут под «всяким дураком» я самого себя подразумеваю… Мне тоже деньги нужны…
— Мне бы рублей двадцать пять, — смиренно, даже робко проговорил Корецкий.
Когда он не был пьян, как сегодня, что, впрочем, очень редко случалось с ним, он обыкновенно держал себя тихо и именно смиренно и робко.
Однако такой суммы он никогда не запрашивал.
— Что так мало? — улыбнулся Козодавлев-Рощинин. — Вы бы сразу уж двадцать пять тысяч рублей запросили! Ведь всё равно — взять мне их неоткуда… И зачем вам такой капитал понадобился?
Корецкий поморгал глазами, побарабанил пальцами по столу и ответил:
— Хочу начать новую жизнь.
— Дело хорошее, — согласился Козодавлев-Рощинин. — Зачем же вам для начала новой жизни именно двадцать пять рублей нужны?
— Во-первых, чтоб приличное платье купить себе…
— Вы его всё равно пропьёте, — значит, ваше «во-первых» не выдерживает критики, а «во-вторых»?
— Во-вторых, чтоб уехать отсюда…
— Уехать? Вот это на дело больше похоже. Куда же вы хотите уехать?
— Далеко.
— Прекрасно, золотой мой. И как скоро?
— Чем скорее, тем лучше…
— Вот как? И это вы говорите серьёзно?
— Совсем серьёзно.
— Ой ли?
— Я подписку готов дать.
— Какую подписку?
— Что больше вы обо мне никогда не услышите, и больше я угнетать вас не буду…
— Предложение заманчивое. И как это вы, прелесть моя, верно выразились: «угнетать», — именно угнетать…
Корецкий хотел было ещё что-то сказать, но икнул только и затем раздумал.
Козодавлев-Рощинин опустил голову и долго молчал, соображая.
— Вот что, — заявил он, наконец, — если вы мне такую подписку, действительно, дадите — то, может быть, я достану деньги… Но только ставлю и некоторые свои условия…
— Ка-акие? — полюбопытствовал Корецкий.
— Что денег на руки вам не отдам. Платье мы купим вместе, а затем я отвезу вас на железную дорогу и возьму сам билет прямого сообщения до станции вашего назначения, выражаясь официальным языком. Согласны?
— Не согласен, — сказал Корецкий.
— А, вот видите! Отчего же вы не согласны?
— Никто не должен знать, куда я еду…
— Вот оно что? Почему же вдруг такая романическая тайна?
— Так надо.
— Да ведь я никому не скажу… А уж сам вас разыскивать не буду, в этом вы можете быть уверены… На других же условиях я вам денег не дам…
Корецкий подумал с минуту, видимо, колеблясь.
— Я согласен, — вдруг произнёс он. — Когда ж я могу уехать?..
— Завтра. Завтра в двенадцать часов дня я назначаю вам свидание. Только не здесь, не у меня. Здесь, знаете, неудобно… Приходите в трактир «Лондон» на Дворянской улице. Я там буду вас ждать и дам вам ответ.
— «Лондон» знаю, — сказал Корецкий.
— Ну, вот и превосходно. Вы уж были там?
— А меня на чистую половину пустят?
— Зачем на чистую? Мы с вами и на чёрной переговорим… Так до завтра?
— Мне бы сегодня выпить, — сказал опять Корецкий, — опохмелиться только…
Козодавлев-Рощинин развёл руками и произнёс:
— Ну, уж этого не очистится. Сегодня ничем не могу служить, сокровище моё. Завтра — другое дело. И помните только, завтра можете рассчитывать на меня, если сегодня о вас слышно не будет. Пожалуете опять в театр со скандалом — сами всё дело вконец испортите… А теперь честь имею кланяться. До свидания, милейший мой!..
И комик встал и расшаркался.
Корецкий тоже поднялся. Он поднялся и остановился, не желая сразу уйти, как будто ещё хотел сказать что-то, но забыл.
— Вот что, — вспомнил он, — дайте мне хоть папиросу…
— Это я могу, — подхватил Козодавлев-Рощинин, — это я могу…
Он отправился за ширмы, взял портсигар и высыпал в руку Корецкого все папиросы, какие там были.
Их было не много — всего четыре штуки… «Бабочка», шесть копеек десяток, что значило, что комик «находился под конём», как говорил он обыкновенно. Когда же он находился «на коне», он курил не дешевле, как в двадцать пять копеек двадцать пять штук!..
Получив папиросы, Корецкий удалился, а Козодавлев-Рощинин остался в раздумье.
Всё зависело теперь от того, пришлёт за ним антрепренёр или нет…
«А если не пришлёт, — подумал комик, взвешивая в руке портсигар, — вот эта вещь выручит. За него в закладе дают тридцать рублей!»
Серебряный портсигар — подношение публики — не раз уже «пускался в оборот» и теперь более, чем когда-нибудь, стоило, в случае чего, прибегнуть к этому обороту, потому что он мог принести важный результат — полное освобождение от господина Корецкого…
Козодавлев-Рощинин положил портсигар, прищёлкнул пальцами, подошёл к запертой и заставленной комодом двери в соседний номер и постучал в неё:
— Маничка, ты проснулась?
— Проснулась, встала, — ответил голос Манички.
— Ну, так поздравляю, всё хорошо, милушка… Всё хорошо будет…
— А что, разве из театра присылали? — спросила она.
— Нет, но, в случае чего, портсигар у нас есть!..
Маничка ничего не ответила.
Она знала, что портсигар — последнее их средство…
X
Козодавлев-Рощинин заходил по своему номеру.
Вчера он очень определённо, чтоб успокоить Микулину, уверял её и приводил доказательства, легко находя их, что антрепренёр наверное обратится к нему, но сегодня он в душе немножко беспокоился, будет ли это так. Он знал, что Антон Антонович упрям, пожалуй, чего доброго, захочет поставить на своём и рискнёт распустить труппу, если дальнейших сборов не будет, но не придёт с повинной.
Если даже он и надумает прийти, но опоздает, то сегодняшний фортель может не удастся…
Козодавлев-Рощинин посмотрел на часы.
Было десять часов утра — теперь ещё можно было что-нибудь сделать, а через два часа время будет уже упущено…
«Ну, тогда портсигар, тогда портсигар!» — волновался Козодавлев-Рощинин, принимаясь быстро умываться и одеваться на всякий случай.
Но ему не пришлось закладывать портсигар.
Он, уже совсем готовый, завязывал у зеркала галстук, когда в дверь просунулась голова маленького актёра Волпянского на роли простаков — того самого, который любил употреблять иностранные словечки.
— К вам можно, Андрей Иванович? — спросил он.
Козодавлев-Рощинин, понадеявшийся, не сам ли это антрепренёр, поспешно повернулся, но, увидев Волпянского, поджал губы и равнодушно произнёс:
— Милости просим, сокровище моё.
— Как же сегодняшний сбор, Андрей Иванович? — заговорил Волпянский, войдя.
Козодавлев-Рощинин пожал плечами:
— А мне что! Я со вчерашнего дня не служу, отставку получил.
— Абшид, то есть, — сказал Волпянский. — Ну, вот я по этому поводу и объявился к вам. Вчера, как вы ушли, мы все на Антона Антоновича насели: как же так, говорим, без Андрея Ивановича? Ну, он туда-сюда, говорит, что он не серьёзно…
— Да я-то серьёзно, мамочка моя, — остановил его не без некоторой смелости Козодавлев-Рощинин, почувствовав уже почву под своими ногами.
— Ну, что там, — перебил его Волпянский, — ну, стоит ли, Андрей Иванович? Мне поручено вчерашнюю интермедию кончить, исчерпать то есть…
Он хотел сказать «инцидент», но вместо этого махнул «интермедию».
— Я к вам метеором послан, — продолжал он, опять некстати употребив словцо «метеор», которое совсем не шло сюда, — Антон Антонович говорит, что если уладится, и сегодня вы дадите хороший сбор, он вам флакон вина поставит…
— Когда же он это говорил?
— Вчера вечером при всех, он и на разговор меня с вами вчера при всех уполномочил, чтоб я сегодня утром сходил к вам.
— Значит, он желает, чтоб я служил?
— Желает, Андрей Иванович! Такого комика, как вы, не найти ему, — польстил Волпянский.
— Только я ведь один не пойду без Микулиной, — сказал Рощинин.
— И об этом прелиминарий нет. Антон Антонович говорит, что желает пред Микулиной извиниться. Вчера ему трагик Ромуальдов-Костровский сказал, что за Микулину ему морду разобьёт. Он деликатность понимает. Да и мы сочувствовали, только госпожа премьерша Донская фыркнула…
— Ну и пусть её, — весело заключил Козодавлев-Рощинин. — Так Антошка извиниться желает и просит, чтоб всё было по-прежнему?
— Вот, именно, по-прежнему, Андрей Иванович, мы все — свидетели тому…
— Ну, хорошо ж, я не я буду, если сегодня сбора ему не будет! — воскликнул Козодавлев-Рощинин.
— Ах, если бы был! — вздохнул Волпянский.
— Будет, будет, милашка моя, теперь идём!..
— Куда?
— Сбор делать, ненаглядный мой, сбор…
— Сейчас?
— Ну да, сейчас! Теперь самое время…
— И я должен идти с вами?
— Пойдём, вдвоём сподручнее…
Волпянский выказал нерешительность.
— А это не опасно? — спросил он.
— Что, радость моя?
— А вот то, что вы затеяли для сбора-то? Ведь, может, это — такой кабриолет, что неприятности выдут…
— Ничего «не выдут», — передразнил Козодавлев-Рощинин, — идём!
Волпянский повиновался.
XI
Они вышли из гостиницы и тут же завернули в бывший в том же доме магазин колониальных товаров.
— Что прикажете? — услужливо встретил их приказчик.
— Вот видите ли, — стал очень деловито и серьёзно объяснять ему Козодавлев-Рощинин, — нам нужно пять пудов синей краски…
Приказчик разинул рот.
— Синей краски? — переспросил он.
— Да.
— Пять пудов?
— Да.
— Зачем же это вам?
— Нужно. Сегодня у нас в театре идёт пьеса «Наказанная неверность, или Тёмно-синий муж», так для неё нужно пять пудов синей краски…
— Занятная, значит, пьеса?..
— Кажется.
— Мы краской не торгуем, — с сожалением извинился приказчик, входя в положение актёров, — вы в москательную лавку обратитесь…
— Благодарим вас, мы непременно обратимся в москательную лавку, — не теряя строгой серьёзности, сказал Козодавлев-Рощинин и раскланялся.
Но, прежде чем направиться в москательную, они зашли рядом в табачную лавку.
Здесь комик повёл речь на ту же тему, только в несколько ином тоне.
— Мы, извините, актёры, — начал он, — люди приезжие; у нас сегодня в театре идёт замечательная пьеса «Тёмно-синий муж», так нам нужно пять пудов синей краски, будьте добры, укажите, где достать нам её?..
Продавец в табачной лавке тоже заинтересовался и стал расспрашивать, зачем же именно пять пудов, но Козодавлев-Рощинин стал уверять, что меньше никак нельзя.
Волпянский, понявший уже, в чём дело, стал поддерживать его.
В следующую лавку — свечную — они влетели второпях и, запыхавшись, наперебой стали спрашивать пять пудов синей краски для сегодняшней пьесы в театре.
В галантерейном магазине, в котором они тоже озабоченно справлялись, где можно купить пять пудов синей краски, в расспросах приняли участие и покупательницы, случившиеся в это время…
Словом, Козодавлев-Рощинин с Волпянским обошли почти все лавки в городе, но даже в москательных не нашлось сразу пяти пудов синей краски…
Так они и не купили её. Однако продавцы стали рассказывать покупателям, что вот-де какая пьеса идёт сегодня в театре, и быстро весь город узнал интересную новость.
По всему городу к тому же были расклеены афиши на синей бумаге, извещавшие о пьесе.
Словом, когда во втором часу дня Козодавлев-Рощинин и Волпянский, усталые и измученные, явились в театр, — «фортель» их оказал уже своё действие. Продажа билетов в кассе шла довольно бойко.
— Андрей Иванович, батюшка, что же вы это делаете? — Встретил антрепренёр комика. — Не идёте — мы репетиции без вас не начинаем, продажа билетов пошла, а мы не можем репетировать без вас… Я посылал за вами, сам был у вас, вас дома нет… Помилуйте, первый день сбор обещает быть хорошим, а мы из-за вас репетицию не начинаем… Если вы насчёт вчерашнего инцидента, то ведь я извиниться рад… Вам Волпянский передавал?
— Передавал, передавал, — успокоил Козодавлев-Рощинин Антона Антоновича, — оттого мы с ним с десяти часов утра и бегаем по городу да о сборе хлопочем… Репетиция не уйдёт, не в ней, моя милашка, штука!
— Всё-таки пора начинать…
— Успеем, дайте перекусить чего-нибудь, красавец мой… говорю вам, с десяти часов бегаем…
Козодавлев-Рощинин велел у буфета наскоро сделать себе и подать яичницу-глазунью.
— Так это вы, действительно, о сборе-то похлопотали? — стал спрашивать Антон Антонович, желал узнать, в чём заключался секрет того, что с утра уже публика повалила в кассу.
Козодавлев-Рощинин ничего не ответил, он в это время с аппетитом жевал бутерброд с ветчиной, а Волпянский, облупливая яйцо вкрутую, поднял брови и только значительно произнёс:
— Гениальный человек Андрей Иванович! Ему бы на столичной сцене место!..
Гениальный человек отёр платком вспотевшую лысину, выпил залпом полбутылки содовой воды, сел к столику на веранде и позвал антрепренёра:
— Антон Антонович, пожалуйте-ка сюда, разурлюмоночек мой!..
XII
Антон Антонович подошёл.
— Вот что, голуба моя, — заговорил Козодавлев-Рощинин, — у меня дело к вам; присядьте, почтеннейший…
Антон Антонович сел.
— Я вам сбор сегодня сделал? — спросил Рощинин.
— Как будто сделали, — согласился антрепренёр, — хотя я и не знаю ещё как.
— Об этом, радуга моя золотистая, хотя радуги такой и не бывает, но всё равно, узнаете после; но я униженно прошу иметь в виду, что если я сбор вам сделал, то и разделю его… с лёгким сердцем, родной мой…
— Зачем же это? — испугался Антон Антонович.
— А видите ли, мне сейчас необходимы тридцать рублей!
— Тридцать рублей?
— Да, приятный мой кавалер, тридцать рублей! Извольте послать в кассу сейчас, возьмите оттуда тридцать рублей или сами сходите и выдайте их мне…
— Зачем же?
— В счёт жалованья…
— Авансом?
— Каким авансом, милостивец? Ведь заслуженные…
— Но я никому ещё не платил.
— От этого мне не легче. Я вам говорю, вы мне мои отдайте.
Глазки антрепренёра забегали в разные стороны.
— Как же это сейчас? — запротестовал он. — Уж если вы так хотите, то вечером и когда сбор определится…
— Нет, мамочка, — протянул Козодавлев-Рощинин, — знаю я вашего брата, антрепренёра! Вечером флакон вина вы мне поставите, как обещано через Волпянского, а сейчас пожалуйте тридцать карбованцев российскою монетою, не то, право, пьесу сорву и сбор уничтожу. Повторяю, ведь о заслуженных хлопочу…
Антрепренёр сдался не сразу. Он пробовал отговориться и так и эдак, но Козодавлев-Рощинин твёрдо стоял на своём.
Наконец, Антон Антонович вынул бумажник.
«Ишь ты, — сообразил Козодавлев-Рощинин, — уж успел прикарманить деньги из кассы, обрадовался!»
— Только для вас делаю это ради исключительного случая, — заявил антрепренёр, доставая деньги и передавая.
Однако он постарался достать их и передать так, чтобы никто из остальных актёров не видел, что он делает.
Но от зорких глаз маленького Волпянского не ускользнуло это, и он опять проговорил:
— Положительно, Андрей Иванович — гениальный человек!..
А Козодавлев-Рощинин спокойно взял деньги, спрятал их и принялся доедать яичницу-глазунью.
— A-а, вот и Маничка, — успокоительно протянул он, увидев входившую на веранду Микулину, за которой антрепренёр посылал особого гонца, — ну, теперь пойдёмте репетировать…
Микулина участвовала в водевиле «Тёмно-синий муж» и приехала на репетицию, узнав от гонца, что дядя Андрей в театре и что всё обстоит благополучно.
— Ну что, Манюша, — шепнул ей Рощинин за кулисами, — говорил я тебе, что всё хорошо будет! А ты ещё не знаешь, ещё лучшее у меня есть: мы с тобой полное спокойствие, может быть, найдём; у меня тут, — он показал на карман, — средства к тому уже имеются, но об этом я после расскажу тебе…
На репетиции пьесу прошли несколько раз.
Разумеется, для неё никакой синей краски не требовалось.
Относительно краски это был только придуманный Козодавлевым-Рощининым «фортель», чтобы завлечь публику.
Публика, действительно, поддалась на удочку и наполнила театр.
Сбор был блестящий. Водевиль «Тёмно-синий муж» оказался смешным, и все смеялись и аплодировали.
Все были довольны.
Только трагик Ромуальд-Костровский, посмотрев в дырочку в занавеси пред началом на полный зал, произнёс загробным голосом:
— Вот оно, чистое искусство-то! Чего не мог сделать «Отелло» самого Шекспира, то сделала синяя краска!.. За человечество обидно…
И, обидевшись за человечество, он отправился в буфет и пил там всё время с горя.
Ни в фарсе, ни в водевиле он занят не был, потому что не признавал их. К концу представления он напился до того, что шатался и приставал ко всем, спрашивая заплетающимся языком, правда ли, что Тропининым был телеграммой выписан из Москвы опытный сыщик для разъяснения дела о его пропавшей дочери…
XIII
На другой день, в двенадцать часов, Козодавлев-Рощинин отправился на Дворянскую улицу, в трактир «Лондон», где было назначено им свидание Корецкому.
Он нарочно пришёл раньше, чтобы явиться до прихода Корецкого, но тот предупредил его. Комик застал Корецкого сидящим за столиком. Пред ним стояли водка и солёный огурец.
Трактир «Лондон» не считался первоклассным и на чистой-то половине его публика бывает не Бог весть какая, а чёрная как раз была приноровлена к таким гостям, как Корецкий.
Это было сразу видно и по грязи, царившей в ней, и по стойке, огороженной крепким, солидным медным прутом, и по стоявшему за этою стойкой в розовой ситцевой рубахе буфетчику со сложением, по крайней мере, Соловья-разбойника, пред которым мог присмиреть всякий покушающийся на буйство посетитель.
Здесь отпускали водку и другое довольство, не спросив заранее денег, только тем, у кого шляпа или одежда были таковы, что могли пойти в уплату, в случае если бы не оказалось в наличности денег.
Козодавлев-Рощинин знал это и удивился, увидев пред Корецким водку и огурец. По его виду ему не могли отпустить без уплаты вперёд, значит, у него были деньги, чтоб спросить эту водку. Водка была, по крайней мере, до половины уже выпита.
— Вы уже, сердце моё, угощаетесь? — участливо спросил Козодавлев-Рощинин, подходя к Корецкому, занявшему укромный уголок в сторонке.
Тот не без труда поднял посоловевшие глаза и мрачно проговорил:
— Деньги принесли?
Вчерашнее смирение спало уже с него под влиянием хмеля, но он всё-таки был ещё не настолько пьян, чтоб забыть, зачем пришёл в трактир и зачем явился сюда к нему Козодавлев-Рощинин.
— Как же это вы, — невольно воскликнул последний, — вчера говорили, что хотите новую жизнь начать, а сегодня я вас застаю за водкой?
Корецкий почмокал губами.
— Водка новой жизни не мешает, — пояснил он, — я в новой жизни не только водку буду пить, шампанское тянуть стану — вот, какая новая жизнь предстоит мне!.. Ну, чего ж вы рот разинули? Садитесь, пейте!..
Козодавлев-Рощинин сел.
— Я не пью, — сказал он.
— Не пьёте водки, так велите шампанского подать. Выпьем шампанского, а?
— А у вас на шампанское есть деньги?
— Зачем у меня? Пока ещё у меня нет. У меня будут. А у вас ведь есть. Вы принесли?..
— У меня деньги готовы на билет вам и на платье. Но я их с собой не взял, — соврал Козодавлев-Рощинин, найдя, что Корецкий в положении неудобном для немедленного окончания сговоренной сделки.
— На билет? — медленно произнёс Корецкий, вытягивая губы.
— Ну да, радость моя, ведь вы предположили уехать отсюда…
Корецкий налил себе водки в рюмку, опрокинул её в рот, крякнул, помотал головою и упрямо сказал:
— Я не поеду теперь…
— Что так? — спокойно произнёс Рощинин.
Он видел, что Корецкий успел уже напиться, и понимал, что с ним пьяным нечего разговаривать о деле и что надо теперь не отпускать его от себя, пока он не отрезвеет, а затем заключить сделку.
— Не поеду! — повторил Корецкий и поднял кулак, чтоб ударить по столу.
— Да как хотите, — согласился Рощинин, — я только спрашиваю, почему так, божественный?
Корецкий, видимо, ожидавший противоречия, сразу осёкся и вместо того, чтобы стукнуть кулаком, расправил руку и стал размазывать по столу ладонью.
— Я не желаю ехать, потому что… потому что… имел вчера встречу…
— Какую, прелесть моя?
— Н-неожиданную!
Корецкий провёл рукою по голове, отчего волосы у него взъерошились и стали похожи на торчащий из куля клок сена.
— У-у, золотце! — насмешливо-любовно улыбнулся ему Козодавлев-Рощинин.
— Х-хочешь, расскажу? — предложил Корецкий.
— Хочу, прекрасный мой, — согласился комик, — только не упускайте из вида, что мы с вами брудершафта не пили и не находимся в такой интимности, чтоб говорить друг другу «ты». Так будем на «вы», как подобает истинным джентльменам.
— Хорошо, — милостиво снизошёл Корецкий и начал рассказывать.
XIV
— Вчера, — рассказывал Корецкий, чаще и чаще прикладываясь к водке, — шёл я по Дворянской улице, вот тут, — он неопределённо показал рукою и помотал ею в воздухе, — шёл я по Дворянской улице… и что же вдруг вижу? Едет карета…
— Ну, это не диво, — вставил Козодавлев-Рощинин, — тут город большой, карет много ездит…
— Карета шикарная, — продолжал Корецкий, — на резиновых шинах — эдак катится легко… Лошади — серые в яблоках, кучер — вот какой, борода и всё как следует… столичный кучер. «Берегись!» — кричит… Я люблю кареты. Я и лошадей люблю. Я на тотализаторе играю. Раз выиграл сто рублей. Какое сто! Чтоб не соврать — двести семьдесят восемь выиграл! Вот как!..
— Да вы не врите, сердечный синьор, — остановил его Козодавлев-Рощинин, — всё равно не поверю; вы про карету рассказывали…
— Да, про карету, — вспомнил Корецкий. — Так вот едет карета и останавливается. Она останавливается у дома. У дома зеркальные стёкла… Я всё думаю иногда зеркальное стекло как-нибудь разбить — много на своём веку стёкол бил, а зеркального никогда. Идёшь мимо магазина, так это руки чешутся… ведь чванство это — зеркальные стёкла, чванство, а? А чего они форсят и чванятся, как будто я не могу зеркальное окно разбить… скажите, могу?
— Можете, Роланд мой неистовый, можете! — подтвердил Козодавлев-Рощинин.
«Пусть он врёт себе, что хочет, — думал он, между тем, — допьёт водку, уведу я его тогда и не отпущу уже от себя, дам проспаться, а там поговорим…»
— Что я говорю? — переспросил Корецкий.
— Насчёт зеркального стекла у вас, джентльмен, фантазия и о карете вы начали…
— Да, карета, — снова вернулся к ней Корецкий. — Дверца кареты отворяется и из неё выходит дама. Платье, это, шёлковое, шляпка и всякие там рюши… Ну, и эта дама — не кто иная, как самая мамаша Маньки…
— Манички? — удивился Рощинин. — Да вы не врёте?
— Галактион Корецкий никогда не врёт. Она, она самая. Она, подлая, удрала тогда в одну ночь, так что и след её простыл, и не мог я концы найти, исчезла… И вдруг теперь встречаю — карета, лошади и всё такое… Сколько времени прошло! А тогда удрала и Маньку мне подкинула…
Козодавлев-Рощинин внимательно приглядывался к Корецкому, желая решить, насколько было правды в его словах. Всего вероятнее казалось, по первому впечатлению, что это была просто игра воображения пьяного человека.
— А как вчера, вы были выпивши? — спросил Козодавлев-Рощинин.
— Вчера? Кажется, был.
— Так, может, вам померещилось, фрукт мой тропический!..
— Что-о! Померещилось? — обиделся Корецкий. — Мне померещилось? Никогда ещё мне не мерещилось, никогда. Она была, она!
— Странно, голубчик!..
— Ничего нет странного. Вы думаете, Галактион Корецкий всегда в таком виде ходил? Было время, носил я и брюки клетчатые, пиджак бархатный… семь рублей аршин, чистый лионский бархат носил. И будет время, опять надену и брюки клетчатые, и пиджак бархатный…
— А вы помните дом, к которому подъехала карета-то? — проговорил Козодавлев-Рощинин, желая навести разговор опять на мать Манички.
— Помню, — сказал Корецкий.
— И можете показать его?
— Могу. Он — третий отсюда по левой стороне, с садом и зеркальными окнами, барский дом, как следует. Я её найду там… я её найду… Беда только — мне ехать нужно… Мне деньги на отъезд обещаны… Я должен уехать…
Корецкого вдруг начало разбирать от водки и он, как это всегда бывает с пьяницами, вдруг быстро начал хмелеть и заговариваться. Он отвалился на спинку стула, на котором сидел, вытянул ноги под столом и в такой непринуждённой позе размахнул рукою.
— Мне всё равно теперь, наплевать!..
— Что, то есть, наплевать, милейший?
— На всё. Я говорю, богатым буду. И смеяться нечего, я не позволю смеяться! — крикнул Корецкий, снова пригибаясь к столу, и, грузно уронив на него руки, уставился на Козодавлева-Рощинина тупыми, бессмысленными, дикими глазами.
— У-у, золотце! — опять повторил комик, не изменяя своей улыбки, с которою всё время разговаривал с Корецким.
— Ты издеваешься надо мной, — продолжал тот, — а если б я захотел — ты сейчас бы вот стал подличать предо мной, потому я сейчас могу доказать, что буду богат — тысячи, брат, у меня впереди… А что? Половой, водки ещё! — обернулся он к половому, приблизившемуся к столику, где они сидели, на случай могущего произойти буйства со стороны опьяневшего посетителя.
Половой прищурился и смерил Корецкого глазами.
— Говорят тебе, водки! — повторил Корецкий.
Половой подошёл, протянул руку и проговорил односложно и тихо:
— Деньги!
— Деньги тебе? — рассмеялся Корецкий. — Деньги? Думаешь, не заплачу… Деньги я сейчас…
И он стал шарить по карманам.
Половой терпеливо ждал.
Корецкий, обшарив себя, взглянул на полового и удивился:
— Тебе чего? Да, деньги… Вот тебе деньги, дай водки, говорят, а деньги вот…
Он с трудом расстегнул единственную пуговицу на рубашке и раскрыл грудь.
На груди на верёвочке висела завёрнутая бумажка. Он распутал её, развернул и разостлал на столе, говоря:
— Вот они, деньги — вернее смерти!
Козодавлев-Рощинин заглянул на бумагу. Это был вексель, написанный крупным почерком.
Сумма была показана в пятьдесят тысяч рублей.
— С нами крестная сила! — прошептал комик, прочтя подпись на векселе.
Корецкий вдруг вздрогнул, словно опомнившись, скомкал вексель, сунул его за пазуху и, упав головою на стол, остался неподвижен, будто заснул.
— Эй, милый! Безобразно… не ладно! — стал тормошить его половой и кликнул подручного; они приподняли Корецкого и стали выводить его вон.
XV
Козодавлев-Рощинин, выйдя из трактира, почувствовал, что голова кружится от спёртой атмосферы чёрной половины «Лондона» и от винного угара, стоявшего там. Он с удовольствием вдохнул в себя пыльный воздух нагретой июльским солнцем улицы и пошёл, раздумывая о том, что только что узнал от Корецкого.
— Берегись! — раздался зычный бас где-то очень близко, и две лошадиные морды очутились у самого его лица.
Он едва успел отпрыгнуть назад — карета, запряжённая серыми в яблоках рысаками, направляясь в ворота, переехала тротуар, чуть не задев его.
В карете сидела барыня лет за тридцать.
Рощинин успел отлично разглядеть её.
В это время сзади он почувствовал, что его хлопнули по плечу. Он обернулся.
За ним стоял, силясь удержать равновесие, Корецкий.
— Она! — показал он на карету.
Козодавлев-Рощинин инстинктивно отстранился от нежданного соседа.
— Я говорю, что это — она! — повторил Корецкий и, пошатнувшись, зашагал через улицу прочь от комика.
Козодавлев-Рощинин оглядел дом, к которому подъехала карета.
Это был барский двухэтажный богатый особняк с зеркальными окнами, стоявший в некотором отдалении от улицы за палисадником с узорной чугунной решёткой и воротами… На воротах была надпись:
ДОМ КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА ВАЛЕРИАНА ДМИТРИЕВИЧА ТРОПИНИНА.
Козодавлев-Рощинин долго стоял пред этою надписью, словно желал как можно лучше запомнить её. Потом он нахлобучил шапку, глубоко засунул руки в карманы и зашагал по направлению к городскому саду, где был театр.
В театре шла репетиция и там все были веселы и довольны. Вчерашний сбор сломил, так сказать, равнодушие публики и благодетельно отозвался на сегодняшнем.
Сегодня опять поставили весёлую пьесу, и билеты продавались в кассе уже достаточно бойко.
Актёры, несмотря на жару, оживились и репетировали с удовольствием; только трагик, не занятый и сегодня, продолжал мрачно пить.
Опоздавший на репетицию Козодавлев-Рощинин не разделял, по-видимому, общего настроения. Это удивило всех, тем более, что комик никогда не унывал, какие бы обстоятельства ни были, а тут, когда дело приняло хороший оборот, он вдруг в первый раз не то что заскучал, а был задумчив и сосредоточен.
Он предупредил, что опоздает сегодня на репетицию. Пьеса ему была хорошо известна, он играл её много раз.
Придя в театр, Козодавлев-Рощинин не пошёл на сцену, а сел на веранде у самого отдалённого столика, нахмуренный, мельком поздоровавшись с товарищами и даже не пошутив ни с кем. Антрепренёр, угощавший завтраком помощника пристава, предложил было ему подсесть к ним, но он на ходу пробурчал лишь:
— Благодарю!..
Микулина, завидев Андрея Ивановича, подошла к нему и спросила:
— Дядя Андрей, что с тобой?
— А что? — переспросил Козодавлев-Рощинин и сейчас же добавил: — Ничего, Манюша, мне надо обдумать многое и разобраться…
— Да ведь ты говоришь, что, слава Богу, всё хорошо…
— Теперь как будто не совсем хорошо выходит, но это, впрочем, нас с тобой не касается. Дело идёт о твоём отце…
— Что же он?
— Вот в том-то и вопрос: что он — пропойца, несчастный, слабый человек?..
— Или? — проговорила Микулина.
— Или хуже этого ещё, — сказал Козодавлев-Рощинин. — Я сейчас виделся с ним…
— Что-нибудь очень серьёзное, дядя Андрей?
— Для него — да, очень серьёзное, может быть… Я говорю тебе об этом, чтобы ты теперь постаралась всегда со мною быть, хотя это трудно сделать; мне нужно будет, вероятно, пойти разузнать кое-что… Ну, да мы примем меры… Только ты будь осторожнее, чем когда-либо… Ты завтракала? Хочешь поесть что-нибудь?..
В это время — так что Микулина не успела ещё ответить — дверь со сцены на веранду отворилась, показался трагик Ромуальд-Костровский и, беспомощно прислонившись к притолоке и опустив руки, громко, тем голосом, которым гремел со сцены, произнёс:
— Я убил её, вяжите меня!..
Раздался общий взрыв хохота. Все приняли это за пьяную выходку не в меру нагрузившегося трагика, но завтракавший с антрепренёром помощник пристава насторожился и спросил:
— Что это говорит он?
— Это известная фраза из Островского, — пояснил Антон Антонович, — он пьян вдребезги и, видно, воображает себя на сцене…
— Та-а-ак! — протянул помощник пристава. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», — сообразил он. — А скажите, на всякий случай, вы не знаете, где провёл этот человек ночь с пятнадцатого на шестнадцатое июля?
— Что вы хотите этим сказать? — удивился антрепренёр.
— Ничего особенного, так себе, — нето шутливо, нето серьёзно произнёс помощник пристава.
— Право, не знаю. Мои актёры у меня не живут, я не знаю, где они ночи проводят, — стал словно оправдываться, вдруг оробев, антрепренёр.
— Ну, а вечером пятнадцатого июля он был здесь, в театре?
— Позвольте, — постарался припомнить антрепренёр, — что у нас шло? Да, фарс «Нож моей жены». Нет, Ромуальда-Костровского в театре в этот вечер не было.
— Вы наверное это помните?
— Наверное. А что?..
— Нет, ничего, — сказал помощник пристава. — Только знаете, сегодня на реке всплыл труп дочери фабриканта Тропинина. Он найден в обезображенном виде… и до сих пор нет ещё никаких следов этого преступления, хотя из Москвы специально вызван опытный сыщик…
— Так это правда?
— Что?
— Насчёт сыщика?
— А вы слышали об этом?
— Да. Ромуальд-Костровский вчера весь вечер пил и приставал ко всем: правда ли, что из Москвы выписан сыщик?..
«Это важно!» — решил помощник пристава и, быстро собравшись, встал, простился и ушёл очень озабоченный.
XVI
Труп дочери Тропинина, всплывший и найденный на реке, был отвезён в госпиталь, где произвели вскрытие. Затем его уложили в свинцовый гроб и перенесли в собор, где поставили на высокий катафалк и окружили свечами.
На следующий день были назначены
похороны, на которые съехался весь город.
Похоронная процессия была торжественна. Духовенство шло из всех церквей в белых ризах с кадилами и со свечами зелёного воска. Были два хора певчих. Гроб везли под белым глазетовым покровом на колеснице с белым же глазетовым балдахином.
За гробом шло много народа, а сзади тянулись длинною вереницей богатые экипажи.
Впереди всех, сейчас же за гробом, шёл Валериан Дмитриевич с неподвижным, окаменелым лицом, как бы застывшим, и с неподвижно остановившимся взглядом.
С самого вечера, когда пропала его дочь, и до сих пор он не проронил ни одной слезинки. Он и теперь не плакал.
— Это хуже, — говорили кругом. — Ему бы легче стало от слёз… Бедный отец!..
Почти рядом с ним вели под руки убитую горем Юзефу, кормилицу и воспитательницу молодой девушки. Выражение её горя было неистово, почти буйно. Она рыдала навзрыд, с истеричным стоном, закидывая голову назад и трясясь всем телом.
Валериан Дмитриевич исполнил всё, что от него требовалось на похоронах: прошёл через весь город вплоть до кладбища с гробом, отстоял отпевание, проводил дочь до могилы; но, вернувшись домой, не мог уже выйти к собравшимся там, по старому провинциальному купеческому обычаю, на поминки…
В большом зале его дома был накрыт длинный стол. Явились служащие на фабрике, духовенство, участвовавшее в похоронах, кое-кто из купцов и из чиновников города.
Валериан Дмитриевич ушёл к себе в кабинет, чтобы не слышать того, что происходило в зале. Он хотел остаться один.
Впрочем, он был в таком состоянии, что ничего не хотел, а действовал, ходил и двигался совершенно инстинктивно, и инстинктивно ушёл к себе в кабинет, скрываясь от людей.
Однако к нему пробрался полицмейстер, бывший бравый кавалерист с огромными усами.
— А я к вам, Валериан Дмитриевич, — развязно-ободряюще заговорил он, словно хотел обнадёжить, что ему ничего не стоит навести сейчас такой же порядок в душевном состоянии Тропинина, какой он привык наводить на базарной площади вверенного ему города, — я к вам пришёл, чтоб сообщить, что убийца найден…
Валериан Дмитриевич болезненно-страдающе посмотрел, видимо, не понимая, что хотят от него и что этому человеку нужно.
— Убийца найден, — повторил полицмейстер. — Вы знаете?
Лицо Тропинина дёрнулось судорогой и скривилось. Эту судорогу полицмейстер принял за поощрительную улыбку.
— Простой случай открыл, — продолжал он. — Вчера помощник пристава завтракал в городском саду и обратил внимание на странное поведение одного из актёров, человека сильного и, как оказалось, по природе развратного. Сейчас же мы стали следить за ним. И что же оказалось? Вчера вечером он, крайне мрачный, отправился один ходить по берегу реки на то место, где, по всем вероятиям, было совершено преступление. Первый признак: преступника всегда тянет на место преступления. По дальнейшему расследованию оказалось, что он не ночевал дома в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое; мало того, никто не знал, где он был в роковой вечер! Когда его арестовали, он и сам не мог объяснить, где провёл этот вечер, крайне смешался и начал путать… Таким образом, преступник найден. И теперь ясны мотивы преступления, которые мы не могли найти. Об ограблении не могло быть речи, потому что все вещи найдены и они налицо. Значит, мотив ограбления отпадает. Тут мог действовать только эксцесс натуры, что и подходит к такому человеку, как актёр. Ну, повышенность нервной чувствительности, развинченность воли, отсутствие нравственных начал, влияние алкоголизма — всё это сделало из него субъекта во вкусе последнего времени. Такие субъекты находят иногда сладострастие в самом убийстве, в особенности молодых девушек… Для меня теперь картина преступления ясна. Нужно только восстановить её во всех подробностях, что мы и сделаем… Будьте покойны, я ручаюсь вам за это. Ведь вы знаете, как мы производим дознание? Ведь во всех подробностях, сдаём дело следственной власти совсем готовеньким, так что ей и трудиться не надо…
Тропинин слушал рассказ полицмейстера и его рассуждения совсем безучастно, как будто речь шла не о его дочери, а о ком-нибудь постороннем.
Горе его было так велико, что ничто уже не могло изменить его, то есть — ни усилить, ни уменьшить…
Слова полицмейстера действовали на него также, как шум колёс, долетавший с улицы через растворённое окно, так же, как жужжание мухи, кружившейся над ним. Он смотрел на светлые пуговицы полицмейстера, на его усы и думал: «А ведь в последний раз она сидела на этом месте и говорила со мной… А теперь её уже нет… И никогда не придёт она, и как давно-давно нет её!.. Да разве было время, что она была?..»
Валериану Дмитриевичу иногда то казалось, что он вот только что видел дочь живою и здоровою и что всё это — вздор, что её нет больше, и что вот она войдёт сейчас; то, наоборот, время, когда она была с ним, представлялось отдалённым, давнишним, сказочным и неясным, как во сне…
«Что это говорит он? — силился Валериан Дмитриевич уловить смысл слов полицмейстера. — Да… что её убил актёр, и его арестовали…»
Он вдруг поднял голову и, играя попавшимся под руку костяным ножом для книг, спросил:
— Зачем вы мне говорите всё это?..
Полицмейстер смутился.
— Помилуйте, Валериан Дмитриевич, я думал, что это вас может интересовать. Всё-таки преступник найден…
— Но это не вернёт ведь мне моей дочери… — тихо сказал Тропинин, поник головою и умолк.
XVII
Внезапный и, разумеется, совершенно неожиданный арест трагика Ромуальд-Костровского и обвинение его в ужасном убийстве произвели в театре удручающее впечатление.
Большинство, ввиду, так сказать, совершившегося факта самого ареста, поверило в его виновность и удивлялось только, как это так — тот самый человек, который недавно ещё был с ними, играл, разговаривал и вдруг оказался преступником!..
Премьерша Донская ходила, как-то особенно шурша юбками, всплёскивала руками и повторяла:
— А я ему ещё вчера подавала руку!..
Антрепренёр боялся, не отзовётся ли арест одного из главных актёров на сборах, но опасения его не оправдались.
Напротив, весть об аресте ещё не успела попасть в местный газетный листок, но уже распространилась по всему городу; о ней говорили, а вместе, и о театре. Благодаря этому, билеты раскупались. Публика хотела узнать, правда ли, и шла в театр, чтобы удовлетворить своему любопытству…
Маничка Микулина ходила сама не своя. Она долго крепилась; наконец, подошла к Козодавлеву-Рощинину и спросила:
— Дядя Андрей, как, по-твоему, неужели Ромуальд-Костровский, действительно, мог убить?
Козодавлев-Рощинин ответил не сразу:
— Не знаю, милая, мог он убить или нет, но только я почти уверен, что в убийстве дочери Тропинина он не виноват.
Все актёры старались наперерыв друг пред другом вспомнить и придумать хоть что-нибудь, что могло бы служить в пользу обвинённого их товарища. Они добросовестно старались найти, не видал ли кто Ромуальда-Костровского в злополучный вечер. Но все старания были напрасны. Костровский вечером пятнадцатого июля пропадал, неизвестно где.
Особенно знаменательным казалось многим, что Тропинин, разыскивая дочь, пришёл к ним в театр.
«Инстинкт отца!» — говорили шёпотом и вспоминали, что Ромуальд-Костровский подошёл к Тропинину, протянул ему руку и сказал: «Сочувствую!»
Мнения относительно этого факта расходились. Одни говорили, что, будь виноват Ромуальд-Костровский, он не имел бы дерзости подойти к отцу убитой им девушки; другие, наоборот, видели в этом признак его виновности и приводили примеры из мелодрамы и уголовных романов, находя, что именно это и соответствует вполне психологии преступника. Ведь никто же другой, кроме Ромуальд-Костровского, не подошёл!
Микулина была в числе тех немногих, которые не верили в преступность их товарища, и потому обрадовалась, когда Козодавлев-Рощинин сказал ей, что тоже не верит.
— Доказательств у меня нет, — ответил он ей. — То есть, может быть, и есть, но они ещё не вполне выяснены.
— Так надо выяснить, во что бы то ни стало! — воскликнула опять Микулина.
— Постараюсь, милая, сделаю, что могу! — сказал ей Козодавлев-Рощинин и сейчас же отправился, чтобы действовать.
Он отправился в дом Тропинина.
Там только что разъезжались после справленных поминок.
Ему нужно было видеть самого Валериана Дмитриевича, чтобы переговорить с ним; но он сообразил, что если он пойдёт с главного входа, то его не пустят, потому что Тропинину теперь, вероятно, не до посторонних посещений.
Через парикмахера, работавшего у них в театре, давнишнего городского жителя, он узнал, что у Тропинина есть камердинер Влас Михайлович; к нему-то он и отправился.
Влас Михайлович сначала принял его неприветливо, но затем, после разговора с ним, пошёл доложить о нём барину.
Ответ, несмотря на ходатайство Власа Михайловича, получился неудовлетворительный. Тропинин не хотел никого видеть и сказал, что судебное дело его вовсе не касается и что пусть по этому делу обращаются не к нему, а к властям, которые производят следствие.
Делать было нечего — Козодавлев-Рощинин отправился к судебному следователю.
Полицмейстер, рассказывая Валериану Дмитриевичу, что всё дело было раскрыто полицией, прихвастнул, потому что раскрытие преступления велось под надзором судебного следователя.
Этот судебный следователь, человек уже не молодой, но и не слишком старый, сидел уже многие годы на должности следователя, не получая повышения; у него не было протекции и ему не везло по службе.
Дело об убийстве дочери Тропинина представляло для него удобный случай, чтобы выделиться, и потому он принялся за него с необыкновенной, страстной энергией.
Он принял Козодавлева-Рощинина у себя в камере сейчас же, как тот явился к нему, усадил и стал расспрашивать.
XVIII
— Вы имеете сообщить мне какие-нибудь факты по делу об убийстве дочери фабриканта Тропинина? — строго спросил следователь Козодавлева-Рощинина.
— Имею, — ответил тот.
— Говорите.
— Прежде всего я должен сказать вам, что арестованный артист Ромуальд-Костровский невиновен!
— Вот как? — сказал следователь и улыбнулся тою улыбкою, которою могут улыбаться разве лишь старообрядческие начётчики, когда их желают уличить в неправильном толковании Священного Писания.
— Он невиновен, — повторил Козодавлев-Рощинин, — потому что для его обвинения недостаёт самого главного — мотива или причины преступлений. С какой стати, и какая выгода ему была убивать эту девушку?
— Об этом мы не будем говорить, — перебил следователь.
И хотя он сказал: «об этом мы не будем говорить», он сейчас же стал выяснять те мотивы, на основании которых, по его мнению, Ромуальд-Костровский мог совершить это убийство.
Он так много думал об этом и так наладил ход своих мыслей, что ему захотелось высказать их для того, чтобы послушать самого себя.
В его воображении Ромуальд-Костровский рисовался безнравственной, пьяной натурой, которая готова совершить убийство ради самого убийства.
Само пролитие крови доставляет-де таким натурам удовольствие, и они являются порождением нашего расшатанного, болезненного времени, когда прежние грубые мотивы преступлений, как выгода, месть и тому подобное, заменяются более тонкими, и психологически безнравственными.
— Но ведь нельзя же обвинять человека, — стал возражать Козодавлев-Рощинин, — на основании только произнесённой им в пьяном виде фразы из драмы Островского! Ведь то, что сказал Ромуальд-Костровский — «вяжите меня, я убил её», — известные выходные слова из драмы Островского и больше ничего!
— Может быть, это и из драмы Островского, — опять перебил как бы задетый за живое следователь, — и сама по себе такая фраза ничего бы не значила, если бы она не являлась звеном в цепи других, так называемых косвенных улик. Обвиняемый не может объяснить, где он находился вечером пятнадцатого июля, затем выяснено, что он вернулся домой только утром шестнадцатого, причём платье его было в грязи, и он также не умеет объяснить, откуда взялась эта грязь.
Судя по разговору следователя, видно было, что недаром он не получал повышения по службе.
Вместо того, чтобы допрашивать свидетеля, каким явился к нему Козодавлев-Рощинин, он разглагольствовал с ним, пускаясь в совершенно ненужные и лишние объяснения. Сам он, однако, видел в этих разглагольствованиях особенно хитрую сноровку, думая путём такого, как бы частного, разговора вмешать истину, которую легче затемнить при вопросах и ответах официального, сухого допроса.
«Ну, полноте, мамочка!» — чуть не сказал ему Козодавлев-Рощинин по своей привычке, но вовремя спохватился и проговорил только:
— Ну, полноте! Нельзя же ведь, правда, обвинять человека, потому, что он пьяный произнёс фразу из роли, или что платье его было в грязи, или что он не может объяснить, где он был вечером пятнадцатого июля! Это доказывает лишь, что человек он пьяный, и больше ничего. Он и есть на самом деле пьяный человек и не помнит, что делает в пьяном виде.
— Позвольте, — остановил его следователь, — да у вас есть какие-нибудь факты?
— Какие факты?
— Которые вы можете сообщить правосудию!
— Да разве то, что я вам говорю, не факты? Я вам докладываю, что он пьёт запоем, что он пьяница, а вовсе не преступник-убийца! Это — факт положительный!
— Нет, сударь мой! — покачал головой следователь. — Это не факты, а собственные ваши рассуждения, может быть, очень почтенные с вашей стороны, потому что вы хотите ими оправдать своего товарища, но они для следствия не пригодны; рассуждать будут судьи, а следствие должно считаться только с фактами.
— Ну, а что вы скажете, — проговорил Козодавлев-Рощинин, — если я вам укажу на другого человека, которого можно с гораздо большею достоверностью обвинить в убийстве дочери Тропинина?
— Что я скажу? — переспросил следователь, хитро и пронзительно взглядывая прямо в глаза комику. — Скажу, что, может быть, вы хотите сбить с толка правосудие и затемнить дело в пользу вашего приятеля. Вероятно, этот артист был вашим приятелем?
— Нет, он моим приятелем не был, и встречались и разговаривали мы с ним только на сцене. Сбивать с толка правосудие мне нет никакого основания, а, напротив, мне кажется, что я могу направить его на истинный путь.
— В таком случае повелевайте! — сказал следователь, взял перо, помакнул его в чернильницу и приготовился слушать и записывать.
— Определённого я ничего не могу сказать, — начал Козодавлев-Рощинин, — но, кажется, мне известен человек, для которого смерть молодой Тропининой является выгодной…
В это время звонок стоявшего на столе телефона резко задребезжал; следователь остановил Козодавлева-Рощинина, сказав:
— Погодите, сейчас! — положил перо, взял трубку телефона и приставил к уху. — Да! Да! — ответил он в трубку и снова стал слушать.
Слушая, он сдвинул брови и сделался очень серьёзен; потом лицо его приняло торжествующее выражение.
— Я сейчас приеду, — проговорил он в телефон, положил трубку и обратился к Козодавлеву-Рощинину. — Ваш приятель сознался в совершённом им убийстве, — произнёс он как бы даже победоносно и добавил: — Извините, мне сейчас надо ехать.
«Не может быть! Нет, не может это быть! — повторял себе Козодавлев-Рощинин, выйдя от следователя и направляясь снова к дому Тропинина. — Нет, тут что-нибудь да не так, — рассуждал он, — пусть он сознался, но всё-таки тут что-нибудь да не так».
Комик был очень взволнован; внутри его дрожало всё и, несмотря на собственное признание Ромуальд-Костровского, о котором сообщил ему следователь, он чувствовал какую-то упрямую уверенность, что его комбинация была более правильна, чем даже собственное признание Ромуальд-Костровского.
Он опять проник к камердинеру Власу Михайловичу, рассказал ему, что был сейчас у следователя, и так стал просить его, чтобы тот опять доложил о нём, что камердинер решился ещё раз побеспокоить барина.
— Скажите ему, что человек безвинно может погибнуть, — повторял Козодавлев-Рощинин, — и что он один может спасти его.
Камердинер пошёл докладывать, долго не возвращался и, наконец, пришёл.
— Пойдёмте, я проведу вас, — заявил он Козодавлеву-Рощинину. — Валериан Дмитриевич велел провести вас к себе.
Он провёл комика по коридору в небольшую, очень просто отделанную спальню, а из неё — в огромный кабинет, такой огромный, что он мог бы служить целым залом.
По одной стене тянулись шесть высоких зеркальных окон, задрапированных гобеленами, посредине противоположной им стены выступал из белого мрамора камин, в виде очага, стены до половины были покрыты дубовою резною панелью, а наверху затянуты такими же гобеленами, какие были на окнах, потолок был тоже дубовый, резной. Посредине стоял письменный стол таких размеров, что он, казалось, мог служить подмостками для маленькой сцены.
На дворе сгущались уже сумерки, гобелены на окнах были спущены, и комната освещалась мягким, ровным светом расположенных по карнизу, у потолка, электрических лампочек, затянутых белой тафтой.
Мягкий, пушистый ковёр покрывал пол комнаты, и вся она была заставлена мебелью, шкафами с книгами, статуэтками.
Дорогих вещей тут было столько, что, несмотря на всё волнение Козодавлева-Рощинина, глаза его разбежались; он оглядел несколько раз комнату, прежде чем увидел сидевшего на диване Тропинина.
Над диваном висел большой портрет молодой женщины в голубом шёлковом платье, написанный масляными красками.
Увидев Тропинина, Козодавлев-Рощинин заметил и портрет и воззрился на него.
— Чей это портрет? — спросил он, не успев поздороваться и отрекомендоваться Валериану Дмитриевичу.
Очевидно было, что бедный актёр так был поражён обстановкою богатого кабинета, что растерялся и не знал, с чего начать.
— Это портрет моей покойной жены, — ответил Тропинин скорее машинально, чем сознательно.
Козодавлев-Рощинин перевёл глаза на него.
— Простите, — начал он, — что я беспокою вас, но дело идёт о спасении человека, по всем данным, неповинного, хотя якобы уже и сознавшегося в преступлении.
— Но что же я-то тут могу? — слабо произнёс Тропинин.
— Прежде всего ответить мне на один вопрос: у вас есть родственник Степан Валерианович Тропинин?
Валериан Дмитриевич провёл рукою по лицу.
— Как вы сказали? — переспросил он.
— Степан Валерианович Тропинин, — повторил Козодавлев-Рощинин.
— Нет… не знаю!.. Впрочем… погодите! У моего отца был брат по имени Валериан, я помню это, потому что он носил одно имя со мной, но только я его никогда не видел.
— Ваш отец был в ссоре с ним?
— Нет, не то что в ссоре, но они не виделись, потому что Валериан Тропинин ничего общего не имел с моим отцом, был праздный гуляка и не хотел его знать.
— А вам неизвестно, был у него сын?
— Ну, да, конечно, был! — вспомнил вдруг Тропинин. — Он мне несколько лет назад писал дерзкие письма, на которые я не отвечал.
В начале разговора Валериан Дмитриевич, подавленный своим горем, говорил, как бы не отдавая себе отчёта в своих словах, но теперь расспросы Козодавлева-Рощинина заставили его овладеть своими мыслями и вспомнить про существование двоюродного брата.
— Так этот Степан Тропинин — сын гуляки? — продолжал расспрашивать комик, — и, по всем вероятиям, сам находится в достаточной степени нравственного падения?
— По всей вероятности! — как эхо, отозвался Валериан Дмитриевич.
— Так я и думал! Так я и думал! — раздумчиво произнёс несколько раз Козодавлев-Рощинин.
Тропинин в это время вдруг будто опомнился, лицо его из совершенно равнодушного и бесстрастного стало осмысленным.
Он спустил ноги с дивана, взглянул прямо в глаза Козодавлева-Рощинина и сказал:
— Почему вы спрашиваете меня о Степане Тропинине и почему вы знаете его?
— Я его не знаю, но случайно видел… — начал было Рощинин и, как бы перебив самого себя, продолжал: — Смерть вашей дочери, как единственной вашей наследницы, могла быть выгодна единственно этому Степану Тропинину; у него мог явиться расчёт, что вы не переживёте смерти дочери и тогда ваше состояние перейдёт к нему, как к наследнику.
Тропинин закрыл лицо руками.
— Не может быть… это было бы слишком ужасно! — сказал он.
— А между тем, я случайно увидел, — опять заговорил Рощинин, — я случайно увидел вексель на пятьдесят тысяч рублей, подписанный Степаном Валериановичем Тропининым, и этот вексель находится в руках человека, которому терять нечего, который заведомо способен на всякое преступление и который появился здесь, в городе, очень недавно. Он пошёл бы на всё и не за пятьдесят тысяч, а тут у него вексель по предъявлению Степана Тропинина на такую сумму!.. Кажется, ясно, что между ними была заключена сделка, и что Степан Тропинин рассчитывает легко заплатить пятьдесят тысяч из миллионного наследства, которое получит после вас.
— Тогда этот арестованный актёр не виноват? — воскликнул, как бы просыпаясь, Тропинин.
— В том-то и дело, что не виноват, милостивец! Потому-то я и решился потревожить вас.
Тропинин вздохнул.
— Но ведь это — не моё уже дело, — снова возвращаясь к своему горю, махнул он рукой. — Это дело следователя, расскажите ему.
— Я был у следователя, пробовал говорить с ним, но из этого ничего не вышло, потому что следователь не хотел даже выслушать меня до конца. Ему сообщили по телефону, что Ромуальд-Костровский сознался, и он поспешил, верно, отправиться к нему, а Костровский, очевидно, допился до белой горячки и бредит; они же принимают бред за подлинное сознание.
Светлый промежуток, вызванный в мыслях Тропинина неожиданным сообщением Козодавлева-Рощинина, затемнился снова надвинувшимся горем и думой об убитой дочери. Что для него были теперь чужие несчастья, когда её не было, а вместе с ней не было и жизни у самого Валериана Дмитриевича?..
— Нет, оставьте меня! — произнёс он даже с сердцем. — Мне не до ваших дел, я не хочу входить в них!
— Может быть, вы не хотите, — с отчаянной решимостью возразил Козодавлев-Рощинин, — но вы должны помочь мне оправдать невинного человека!
— Должен? Почему я должен? — злобно заговорил Тропинин.
— Во имя справедливости!
— Всё равно её нет на свете, этой справедливости!
— Среди людей — вы правы — пожалуй, нет её, но Господь выше людей и Он справедлив.
Тропинин горько улыбнулся и покачал головой.
— Нет, справедливости нет и выше людей! Разве то, что случилось со мной, справедливо?
— Так вы и в Боге отчаялись? Я понимаю теперь, как тяжело вам! Но только напрасно, напрасно вы отчаялись и перестали верить.
— Я поверил бы, пожалуй, снова, разве только если б воскресла моя дочь и была возвращена мне.
— Разве вы думаете, что это невозможно? — вдруг спросил Козодавлев-Рощинин.
Валериан Дмитриевич глянул на него, как будто сомневался, сам ли он сходит с ума, или пред ним находится сумасшедший, который говорит ему такую вещь.
— Да, это невозможно! — сказал он.
— Для Бога нет ничего невозможного! Мы не знаем путей Его, и то, что нам кажется немыслимым, то для Него легко сделать для верующего в Него! Почём вы знаете, убита ли ваша дочь в самом деле или нет? Вы видели обезображенный водой труп молодой девушки, но можете ли вы с уверенностью сказать, что это была ваша дочь?
Тропинин встал со своего места, пошатнулся и снова сел.
— Погодите, я с ума схожу… У меня в голове мутится и путается… — с трудом проговорил он и взялся за голову. — Но если бы даже я ошибся и не узнал обезображенного лица дочери, то платье, которое было на ней, и вещи, несомненно, были её!
— А разве, — перебил Козодавлев-Рощинин, — вещи, принадлежавшие вашей дочери, не могли быть надеты не на вашей дочери, а на другой?
Тропинин снова встал и быстро заходил по комнате.
— Скажите, — остановился он пред Козодавлевым-Рощининым, — вам что-нибудь известно?.. Вы не договариваете чего-нибудь?.. Или просто фантазируете, чтобы заставить меня принять участие в деле вашего товарища?
— Я ничего ещё не знаю, но и не фантазирую; одно только я повторяю вам: верьте, для Бога всё возможно! Не отчаивайтесь и надейтесь!
И, проговорив это, Козодавлев-Рощинин повернулся и вышел из комнаты так быстро, что Валериан Дмитриевич не успел удержать его.
XIX
На другой день в местной газете появилось подробное сообщение об аресте трагика театральной труппы по обвинению его в убийстве дочери фабриканта Тропинина.
Было описано, как ловко приехавший из Москвы сыщик выследил его, и затем была лаконическая, но многознаменательная прибавка: «Преступник сознался уже в содеянном им преступлении».
Корецкий, идя по улице, слышал, как два чиновника, направляясь на службу, разговаривали об аресте театрального трагика и говорили, что об этом нынче напечатано в газете.
У Корецкого не было денег, чтобы купить номер, и он зашёл в трактир, где посетители могли пользоваться газетою даром.
Он зашёл в знакомую ему чёрную половину «Лондона» и, оглядевшись, увидел, что у окна сидел какой-то невзрачный человечек, не то мастеровой, не то так, сам по себе, держал в руках газету и глубокомысленно читал её.
— Читаете? — подошёл к нему Корецкий.
Ему хотелось поскорее самому почитать газету.
Человек глянул на него из-за газетного листа и ухмыльнулся.
— Интересно про убивство? — ответил он, не стесняясь вступать в разговор с таким оборванцем, каков был Корецкий, потому что и собственное его одеяние вовсе не отличалось изысканностью и изяществом.
— А легко разбираете или с трудом? — развязно поинтересовался Корецкий.
— Не особенно бегло, а всё-таки маракуем.
— Может, лучше я прочту? — предложил Корецкий. — У меня глаза хорошие.
Он не был пьян и держался с достоинством.
— А что же, присаживайтесь! — пригласил его новый знакомый, передавая ему газету.
Корецкий быстро схватил её, сел у столика и довольно бегло прочёл вслух сообщение об аресте преступника.
— Так вот он уже и сознался! — как-то особенно блеснув глазами, проговорил он.
— Да, сознался, — подтвердил его собеседник, — а кто это мог ожидать?
— А что ж тут неожиданного? — спросил Корецкий.
— Да всё-таки актёр!
— Ну, так что же, что актёр?
— Значит, человек для серьёзного преступления неподходящий. Я по своему делу при них много болтался, так знаю их! Окончательно пустельга и больше ничего!
— А ваше дело какое?
— По малярной части. Больше при театре всё, и насчёт освещения тоже.
— Понимаю, работа не из трудных.
— Всякая работа трудна, коли горло промочить нечем. Може, на счёт опрокиндоса пройтись желаете? Так я с хорошим человеком всегда очень рад!
Корецкий осклабился. Он был всегда рад выпить, даже и не с хорошим человеком, в особенности, если у него, как сегодня, не было денег.
— Только у меня насчёт пенендзов плохо. Не раздобылся ещё презренным металлом, — заявил Корецкий, небрежно разваливаясь на стуле.
— С этой стороны задержки не будет, — пошутил его собеседник, достал из кармана двугривенный, кинул его на стол и крикнул половому: — Эй, малый, сооруди нам графинчик, с приличною нашему званию закуской, как говорят господа артисты! Я, — обратился он к Корецкому, — терпеть не могу один прохлаждаться, а вот если подвернётся хороший человек, так с большим удовольствием!
— А как вас по имени, по отчеству? — осведомился Корецкий, польщённый, что его второй раз назвали хорошим человеком.
— Крещён Иваном, звали Степаном, а прокликали Ершом. Так на эту кличку и отзываюсь. А вас как?
— Меня-то?
— Да.
— Галактионом зовут, а по прозвищу Стрюцкий.
— Не слыхал что-то!
— Я не здешний.
— Издалека приехали?
— Не то чтобы очень издалека, туда не попадал ещё, а так по белу свету околачиваюсь.
— Сам себе господин, значит?
— Это вот уж именно сам себе господин! Птица перелётная.
— Ну, что ж, курица — тоже птица, а и она пьёт. Не угодно ли? — рассмеялся Ёрш, наливая в стаканчик водку, которую подал половой с двумя солёными огурцами. — Это продовольствие, — пояснил Ёрш, кивнув на водку и огурцы, — на закулисном языке «вино и фрукты» называется! Так у нас и кричат актёры, чтоб им пусто было: «Ёрш, — говорят, — принеси вино и фрукты!..»
— Я театральные порядки знаю, тоже при этих палестинах околачивался, — заявил Корецкий.
— Ну, вот, значит, мы с вами, как это говорится, одного поля ягода, — хихикнул Ёрш. — Выпьем!..
Корецкий тоже хихикнул. Он уже видел, что его новый знакомый «одного с ним поля ягода» и не потому только, что оба они возле «театральных палестин» околачивались.
— Рыбак рыбака видит издалека, — проговорил он.
— Вашими бы устами да водку пить! — произнёс Ёрш.
И они стали пить, а по мере того, как пили, видимо, чувствовали друг к другу всё большее и большее расположение.
— Чудной это народ — актёры, — начал Ёрш, возвращаясь снова к театру, — фантазии имеют разные, фантазией и живут только…
— А что? — спросил Корецкий, очень внимательно потягивая водку и рассеянно слушая.
— Да как же! Ведь, вот хоть бы это дело трагика Ромуальд-Костровского; ведь уж и пойман человек, и сознался, а они, то есть актёрская братья, не верят…
— Как же это не верят?
— А так, в особенности есть там комический актёр — Козодавлев-Рощинин, так он так и кричит: «Не верю, чтоб Ромуальд-Костровский убил, у меня, говорит, есть данные, что убийца — другой совсем человек…» Блажные люди — сами посудите… если он уже сознался…
Корецкий вдруг насторожился, но Ёрш, захмелев немного, сейчас же заговорил о другом, как оно и свойственно человеку выпившему перескакивать с одного предмета на другой. Через некоторое время он уже говорил Корецкому «ты» и задушевным голосом сообщал ему конфиденциально:
— Надоел мне этот театр хуже горькой редьки! Что, в самом деле, они думают? Я и без них проживу, в лучшем виде проживу… Я с ними расплевался сегодня и ушёл. Пусть без меня делают, что хотят. Ты как думаешь, а? Я вот теперь гуляю, потому волю чувствую. Вот и с хорошим человеком встретился. Ведь ты, Стрюцкий, — хороший человек, а?..
XX
Они вышли из трактира вместе и повернули по направлению к реке. Река была большая, судоходная с отлогим песчаным берегом.
— Я тут люблю на солнышке на песочке пригреться и поспать, — сентиментально стал объяснять Ёрш, — а ты реки не любишь?
— Почему ж ты думаешь, что я не люблю реки? — обиделся Корецкий.
— А выкупаться хочешь?
— Чего ж, можно и выкупаться.
— А вдруг утопленник за ногу схватит?..
Корецкий поёжился и возразил:
— Будет вздор болтать! А ты мне вот что скажи: как это ты говорил, что актёр Козодавлев-Рощинин не верит, что трагик виноват, и какие такие у него есть данные?..
Ёрш равнодушно достал кисет с табаком и стал себе крутить из газетной бумаги цигарку.
— А кто его знает! — ответил он. — Слышал я, как он в уборной надрывался, до хрипу кричал…
— Что же он кричал?
— Что видел, дескать, документ…
— Документ?
— Да. Вексель.
Ёрш опустился на землю и сел. Корецкий тоже подсел к нему. Движения его сделались вдруг нервны. Начинавший разбирать его хмель как будто сразу прошёл.
— Вексель? — переспросил он. — Какой же вексель, у кого он видел его?
— У Корецкого, якобы, оборванца, — нехотя продолжал Ёрш, — он так и говорил «у Корецкого, оборванца», я помню… Он говорил, что докажет, что Ромуальд-Костровский не виноват, непременно докажет, что виноват не Ромуальд-Костровский, а этот самый Корецкий…
— Как же это он докажет?
— По документу, значит!.. Да тебе-то что?
— Мне? Ничего, — спохватился Корецкий и разлёгся на спину. — Я только думаю, что дурак этот Козодавлев-Рощинин.
— Отчего дурак?
— Хочет доказывать, а кричит громко об этом; нешто так доказывают! Нужно это втайне делать, чтоб никто не знал… Не его ума это дело, сразу видно. Так он говорит, что видел вексель?
— Видел.
— Ну, и дурак опять. Кто ж ему поверит, что он видел?.. Уж если он доказывать хочет, так должен доказать прежде всего это, а теперь тот, у кого он видел документ, запрячет его так, что никому не сыскать… Вот и ищи потом…
— В том-то и дело, что запрятать не сможет…
— Отчего ж это?
— Оттого, что вексель у него отобран…
— Кем это?
— Полицией.
Корецкий сунул руку за пазуху, нащупал там висевшую у него на шее на верёвке бумагу и переспросил, усмехнувшись:
— Полицией?
— Да, — подтвердил Ёрш, — полицией.
— Ну, это пустяки, врёт он! — сказал Корецкий.
— Может быть, — широко зевнув, согласился Ёрш, — он всё это в уборной промеж других артистов рассказывал, а я на сцене у самой двери сидел и слушал от нечего делать. Может, он и наврал всё…
— Что же он рассказывал?
— Да говорит, что будто некий сыщик переоделся босяком, разыскал этого Корецкого в ночлежном доме, лёг с ним спать рядом на нарах, да у сонного у него и вытянул вексель с шеи, а на верёвочку пустую бумажку ему навязал…
Корецкий, услышав это, пришёл в необычайное волнение. Он трясущимися руками раскрыл рубашку на груди и, забыв, что он не один, вернее, не обращая уже ни на что и ни на кого внимания, вытащил верёвку, распутал её и развернул бумагу…
Действительно, это был не вексель, а простая, ничего не значащая бумага…
— Батюшки, ограбили! — завопил он, зашатавшись на месте. — Ограбили, утащили у меня проклятые… чтоб их разорвало… ограбили ведь!
— Эге, брат, Стрюцкий, — свистнул Ёрш, — Корецкий-то этот, выходит, ты сам…
Корецкий в своём волнении глянул на него безумными глазами, как иступлённый, и спросил:
— Что ты говоришь?..
— Говорю, что Корецкий-то, выходит, ты сам и что дочь фабриканта убил ты!..
Не успел договорить Ёрш эти слова, как Корецкий, кинувшись и повалив его, был уже на нём, схватил его за горло и стал душить…
— Я тебя убью, гадина! — хрипел он не помня себя.
Но Ёрш, видно, был привычный к такого рода переделкам, ловко вывернулся из-под него и вскочил на ноги.
— Ты чего бесчинствуешь, пёс ты поганый! — накинулся он на Корецкого. — Что ты думаешь, доказчик я, что ли? Да я, может, лучше тебя все эти дела знаю. Ты, дурья голова, не драку теперь среди бела дня затевай, а больше всего думай, как бы тебе сокрыться отсюда из этого города… понимаешь?..
Корецкий пришёл в себя и опомнился.
Тон Ерша и ловкость, с которою тот вывернулся из-под него, убедили его, что это — человек бывалый и бояться его особенно нечего. Промаха в том, по-видимому, не было, что он открылся ему.
— Куда же мне деваться теперь? — проговорил он, сидя на земле, и развёл руками.
— Вот так бы и спросил, — наставительно произнёс Ёрш и, как ни в чём не бывало, снова сел рядом с ним и стал опять разговаривать, так что обратившие было на них издали внимание рабочие на барке, приняли, что промеж них ничего серьёзного не произошло, а так только была милая шутка…
XXI
— А я тебе скажу, куда деваться, — таинственно заговорил Ёрш. — Ежели нет у тебя пристанища — я найду… Пока что я отведу тебя…
— Да тебе-то что? Ты что мне за благодетель выискался? — перебил его Корецкий недоверчиво и всё-таки подозрительно.
— Я не благодетель, — не торопясь начал Ёрш, свернув новую цигарку, закуривая и сплёвывая.
Его невозмутимое спокойствие подействовало на Корецкого.
— Всё-таки какая ж тебе корысть от меня? — спросил он более мирным тоном.
— Может, и корысть есть, — ответил Ёрш, — может, ты мне нужен для дела — вот как ты есть…
— Для дела я не гожусь, — заявил Корецкий, — и ничего не желаю! Я думал раз навсегда сразу сделать, а затем зажить, как следует по натуре своей. Ты думаешь, что я — из острожной братии, что ли?..
— Вижу, брат, — вздохнул Ёрш, — что ни в какой ты академии ещё не бывал, не образовался, как следует. Всё вижу. Смелости в тебе должной нет…
— Ну, положим, смелость-то во мне есть…
— Ой ли! Это что ты девчонку-то в реку спровадил? Так ведь не один, небось, орудовал…
— Не говори ты мне об этом, не смей говорить! — вспыхнул Корецкий.
— Вот в том-то смелости настоящей и нет у тебя, — невозмутимо продолжал Ёрш, — что вот сейчас «не говори» да «не смей»… А не смеешь-то ты сам… Ты только руку приобрёл — это называется, и больше ничего. Да и то не один действовал.
— А ты почём знаешь?
— Вижу, потому и знаю… Он тебя подговорил, и ты ему в помощь был только…
— Кто он?
— А вот векселёк-то чей у тебя был…
— Ну, что ж, он, так он…
— Он, видно, воробей стреляный…
— А чтоб пусто ему было! Жил я без него…
— Вольною птицей, — подсказал Ёрш.
Корецкий махнул рукой и отвернулся.
— Ну, что ж, — вздохнул опять Ёрш, — что было, то прошло. Надо теперь за себя постоять… Прежде всего отсюда стрекануть… На это угольки нужны… Пешком не разбежишься…
— Я денег достану! — вдруг решительно сказал Корецкий.
— Вот это дело, — одобрил Ёрш, — вот такой человек мне и нужен теперь, который желал бы денег достать…
— Так я и без тебя обойдусь…
— Ну!..
— У меня тут дочь есть. Я у неё возьму…
— Много?
— Хватит…
— Это чтоб уехать?
— Чтоб уехать…
— А потом что?..
— А потом — не знаю…
— Вот то-то и оно! Да и что ж, банкирша она, дочь-то твоя? Ты так пойдёшь к ней, она и отсыплет? А пока что где ты будешь? Небось, жрать хочется?
— Пожалуй, хочется…
— А потом к ночи спать захочется?
— Вероятно!
— В ночлежный пойдёшь? А там облава будет. Тебя-то теперь, благодаря документику, уж по городу ищут, стрелочки пущены, а ночью без облавы в ночлежках не обойдётся, так ты и попадёшь прямо-прямёхонько… Ловко рассчитал…
— Так куда ж я денусь, чёрт! Я под мостом, либо в саду на скамейке не привык ночь проводить…
— Что так? Разве дурно на вольном воздухе, в особенности ежели темно совсем, так темно, что будто из этой темноты кто смотрит на тебя, а там вдалеке слышно, как река плещет?..
— Замолчи, говорю, не смей!..
— Опять «не смей»! Ну, идём со мной.
— Куда?
— В уголок укромный, где поесть дадут, а спать ляжешь, так облавы не будет. — Ёрш встал и взял за плечо Корецкого. — Идём, что ль, — повторил он, — я сам жрать хочу, да и горло промочить хочется… Мерзавчика раздавить теперь — разлюбезное дело…
Против «мерзавчика» трудно было устоять Корецкому. Он поднялся на ноги и пошёл за Ершом.
Они с реки повернули в немощёный переулок, потом миновали пустынный огород, перелезли через сломанный, полуразрушенный, гнилой забор и очутились на маленьком заднем дворе большого старого дома. На этот двор выходила нештукатуренная каменная стена с тёмными редкими окнами.
Несколько оконцев, словно слепых, выглядывало у самой земли из подвального этажа.
Ёрш нагнулся и постучал в одно из них.
— Ты, что ль, Ёрш? — послышался глухой голос из подвала, и оконце поднялось невидимой рукой, открыв собою чёрную дыру, в которой ничего нельзя было разобрать.
— Я с гусём, — сказал Ёрш. — Прицепки ищет.
— Меченый?
[12] — спросили из подвала.
— Ни! Ещё не меченый, только руку имеет.
— Почитай, круги пишет?
[13]
— Глянцовитый. Лак с него не сошёл. Темноты боится… натаски просит…
— Стрелок?
[14]
— Какой стрелок! Говорю, руку имеет, только зяблик ещё…
[15]
Затем Ёрш наклонился, прильнув к земле, к самому окну, и, глядя одним глазом на Корецкого, пошептался в окно так, что тот ничего не мог слышать.
— Ну, шагай за мной! — предложил он Корецкому наконец, провёл его за угол и вошёл в дверь такую низенькую, что нужно было нагнуться, чтобы пройти в неё.
Корецкий последовал за ним.
XXII
Стоял жаркий июльский день, такой, какой бывает после долгого, упорного зноя. Воздух, казалось, не только нагрелся солнечными, таявшими в нём и насыщавшими его лучами, но высох и раскалённою недвижною корою облегал припечёную, затвердевшую землю. Небо без влаги потеряло синий цвет и стало прозрачно-серым, как матовое, сильно освещённое стекло. Маленькие перистые облака, предвещавшие приближающуюся бурю, стояли на месте, не двигаясь, и лениво, но заметно изменяли свои пушисто-курчавые очертания. Листва деревьев не колыхалась и повисла недвижная, как резное из бумаги натянутое кружево. Птицы умолкли и попрятались в гущу.
Вся природа притихла, изнемогая в жаре. Суетилась и шумела только людская жизнь. По мостовой гремели экипажи, на железной дороге издали свистел паровоз, на барках слышался гул рабочих, затеявших перебранку, пароход шипел, но и эти отклики неугомонной людской жизни раздавались придавленно и не могли рассеять тяготевший в воздухе тяжёлый, неодолимый гнёт.
Затишье было пред грозою, и всё таинственно ждало этой грозы, чтоб она разрядила насыщенный таинственною силою воздух…
Так парило с утра. К полудню стало совсем душно, и на краю неба показалась наконец надвигавшаяся туча.
Панна Юзефа боялась грозы и с утра чувствовала смятение, тяжесть головы и беспокойство, но это не помешало ей отправиться, как это она делала ежедневно теперь, на кладбище. С самых похорон бедной убитой Лизы, она каждый день проводила на кладбище у её могилы всё время, пока не стемнеет.
Покрытая цветами, свежая могилка Лизы с временным белым крестом была насыпана над склепом между двумя гранитными часовнями с теплящимися лампадами, служившими памятниками старику Тропинину и жене Валериана Дмитриевича. Это срединное место между ними Валериан Дмитриевич готовил для себя, никак не думая, что тут ему придётся похоронить Лизу.
Неутешная панна Юзефа садилась на скамеечку или становилась на колена и молилась, опустив голову на руки…
Приехав, по обыкновению, на кладбище, она забыла про тучу, забыла про грозу; ей уже ничего не было тут страшно, весь страх, весь ужас был тут, в земле, между этими богатыми гранитными часовнями, под обложенною дёрном и покрытою цветами насыпью с белым прямым и молчаливо недвижным крестом, красноречивее всех слов, беспощадно свидетельствовавшим о её горе.
Она привезла и сегодня, как вчера, новые цветы и, не торопясь, разложила их, убирая, как невесту, могилку…
Было красиво, было богато, было хорошо, но было пусто и холодно, несмотря на зной и духоту. Тёмно-лиловая огромная туча разрасталась от края неба, тянулась и плыла,
наползая и изредка глухо как бы готовясь и пробуя свои силы, погромыхивая громом. Туча шла быстрее и быстрее, затемняя небо, навстречу солнцу, как бы кичась, что заслонит его, и, вспыхивая уже полымем молнии, горделиво готовилась заменить этими грозными, прерывистыми вспышками своего света ослепительный зной солнечных лучей.
Но солнечные лучи не сдавались и ещё ярче золотили всё на земле под тёмно-лиловою тучей, сбоку проникая под неё и резко чередуя с тенями без полутонов пятна скользящего света.
Панна Юзефа опустилась на колена, сложила руки по-католически, пальцы в пальцы, и опустила голову. Губы её зашептали молитву, из влажных, покрасневших от плача глаз полились несдерживаемые слёзы, и тело затряслось от рыданий…
Слепящий зигзаг молнии, разрезав тучу, полоснул по ней, и близкий сухой, трещащий удар грома, как ружейный залп, грянул и раскатился, словно земля потряслась…
Панна Юзефа вздрогнула и подняла голову.
Пред ней, у часовни, над могилою жены Валериана Дмитриевича, на тёмном фоне тучи стояла, освещённая лучом солнца, сама эта жена, в таком же голубом платье, как она была изображена на портрете в кабинете Валериана Дмитриевича. Она стояла, опустив руки, и смотрела на панну Юзефу…
Резкий порыв ветра дунул из-под тучи, затрепетали и забились ветви дерев, с земли поднялся столб пыли, в нём закружились подхваченные оборванные листья, и крупные капли дождя ретиво и властно забили в жаждавшую влаги землю.
Панна Юзефа протянула пред собою руки, хотела крикнуть, но, как сноп, повалилась навзничь в обморок…
XXIII
Когда Юзефа очнулась, она увидела себя в маленькой, низкой комнате с большою русскою печкой. Очевидно, это был домик кладбищенского сторожа. У печки стояли лопаты, по стенам висели венки. Панна Юзефа лежала на скамейке. Возле неё суетились люди.
Кроме сторожа и молодой бабы, жены его (их Юзефа признала сейчас же), тут был ещё бритый довольно представительный господин, который распоряжался, выжимал полотенце и клал ей на голову холодный компресс.
— В себя пришли! — сказала жена сторожа.
Юзефа, очнувшись, быстро привстала, словно ей было стыдно за то, что случилось с нею.
— Останьтесь лежать лучше, побудьте так, — посоветовал ей бритый господин.
— Нет, ничего, — возразила панна Юзефа, держась за голову. — Что это было со мною?
— Удара грома испугались, — пояснил господин, — обморок. Хорошо, что я был поблизости и мог принести вас сюда…
— Да, да, я удара грома испугалась! — протяжно произнесла Юзефа.
За окнами гроза уже утихала, дождь ещё лил, но гром гудел отдалённее, и вспышки молний были не так ослепительны, как прежде…
— Ну, вот вы и оправились, — заговорил бритый господин, обращаясь к Юзефе и заглянув в окошко, — скоро нам можно будет и домой ехать, если хотите; ведь у вас карета тут?
— Да, карета…
— Теперь гроза уже не опасна, а дождь в карете ничего не сделает…
— Я хотела бы поскорее домой, — сказала Юзефа.
— Я думаю, можно хоть сейчас…
— Я сейчас бы хотела!..
Сторож сбегал за каретой и велел ей подъехать к своему домику.
Юзефа собралась быстро.
Господин, оказавший ей услугу, пошёл провожать её.
— Позвольте мне отрекомендоваться вам, — проговорил он. — Я актёр театральной труппы Козодавлев-Рощинин, а это вот, — показал он в темноте сеней на молодую девушку, — моя воспитанница, дочь Галактиона Корецкого; может быть, изволили слышать?
В это время сторож отворил наружную дверь, сени осветились, и Юзефа увидела лицо воспитанницы Козодавлева-Рощинина.
— Никакого Корецкого я не знала и ничего не слыхала о нём! — отрывисто пробормотала она и кинулась, не обращая внимания на дождь, в карету, не дав времени Козодавлеву-Рощинину раскрыть зонтик, хотя он и присноровился сделать это, чтобы провести панну Юзефу до экипажа.
Она захлопнула дверцу, серые в яблоках лошади, потемневшие со спины и боков от лившего дождя, рванулись вперёд, и карета покатилась, разбрызгивая грязь резиновыми шинами.
Козодавлев-Рощинин глядел ей вслед, оставшись на дожде с непокрытой головой и с нераскрытым зонтиком в руках.
«Нет! Корецкий не соврал!» — решил он и, вернувшись в домик сторожа, велел позвать извозчика, на котором он приехал с Микулиной на кладбище.
Он привез её сюда сегодня не без умысла, хотя она и не подозревала ничего, а была убеждена, что дядя Андрей просто повёз её на прогулку.
Уже давно Козодавлева-Рощинина поражал странный поступок матери Манички, которая, прикинув свою дочь негодному отцу, исчезла и затем никогда не только не поинтересовалась о своём ребёнке, но и о себе не давала знать, как будто между нею и ребёнком не существовало никакой родственной связи.
Какова бы ни была мать, каков бы ни был отец и каков бы ни был ребёнок, было немыслимо, противоестественно, чтобы женщина, оставив так на руках отца своё дитя, не вспомнила о нём.
Куда исчезла мать Манички, Корецкий не знал сам. Он очень редко говорил о ней с Рощининым и никогда, даже приблизительно, не указывал её следов, потому, впрочем, что они и для него были скрыты.
Когда он, полупьяный, показал Рощинину на улице карету, запряжённую серыми лошадьми в яблоках и подъехавшую к дому Тропинина, и сказал, что сидевшая в карете барыня — мать Манички, Рощинин подумал, что это плод его пьяной фантазии.
На похоронах убитой девушки в шедшей близко за гробом и безутешно рыдавшей женщине он узнал ту барыню, на которую ему указывал в карете Корецкий. Он спросил у провожавших похоронную процессию, кто она, и ему сказали, что это — панна Юзефа, кормилица и воспитательница дочери Валериана Дмитриевича Тропинина.
Затем, когда он был в кабинете у Тропинина, его поразило необычайное сходство висевшего над диваном портрета жены Валериана Дмитриевича с его Маничкой.
От камердинера Власа Михайловича он узнал подробности о смерти жены Тропинина, о том, как она умерла в маленьком польском городке через несколько часов после родов; и о том, что Валериан Дмитриевич не хотел в первое время глядеть на ребёнка и не видел его.
Город, в котором всё это произошло, был тот самый, где проживал Корецкий, где родилась Маничка и где мать подкинула её Корецкому и исчезла.
Всех этих данных было для Рощинина более чем достаточно, чтобы сообразить, в чём было дело. Для него стало очевидным, что взятая в кормилицы панна Юзефа подменила ребёнка, брошенного сначала всецело на её присмотр. Эту очевидность подтверждало сходство Манички с покойной женой Тропинина.
Расчёт Юзефы был довольно простой, хотя и смелый, но на успех его она могла положиться, потому что всё обеспечивало ей безнаказанность. Она должна была уехать с ребёнком в тот же день, когда была взята, уехать далеко и, таким образом, навсегда расстаться с господином Корецким. Но случай предоставлял ей возможность не расставаться со своим собственным ребёнком, и который был тоже девочкой. Стоило только оставить его при себе, а господского ребёнка, которого жалеть ей было нечего, прикинуть Корецкому.
И какая будущность открывалась пред нею и для неё, и для её дочери! Дочь её будет жить в холе, в неге и в богатстве, станет впоследствии наследницей огромного состояния, и сама панна Юзефа, конечно, останется на всю жизнь при ней вместо матери.
Так, очевидно, рассчитала панна Юзефа, так оно и вышло.
Всё это легко представил себе Козодавлев-Рощинин, но ему нужно было окончательно убедиться в справедливости своих предположений, чтобы быть вполне уверенным, что эти предположения верны, и что он не ошибается.
Для этого он, под видом прогулки, привёз сегодня на кладбище Маничку, одев её в такое же, как на портрете, голубое платье.
Он знал, что панна Юзефа проводит тут целые дни и что её можно увидеть у могилы Лизы.
Он повел Маничку по дорожкам кладбища.
Дальше помог случай; или судьба. Маничка заинтересовалась двумя часовнями над тропининским склепом, увидав их издали.
— Если хочешь, поди, посмотри поближе, — предложил ей Рощинин, завидевший тоже издали склонённую над могилой фигуру панны Юзефы.
Маничка подошла.
В это время ударил гром, панна Юзефа увидела Маничку и упала в обморок.
Было достаточно и этого; но окончательно убедил Рощинина ответ панны Юзефы на его напоминание о Корецком. Она сказала, что не знает его, но по тому, как сказала она это и как кинулась под дождём в карету, для Рощинина не было уже сомнений, что его предположения верны.
Теперь оставалось одно: раскрыть всю историю Тропинину и вернуть ему настоящую его дочь.
Но каким образом было сделать это?
Так прямо прийти к нему и рассказать было невозможно, потому что из всех доказательств, кроме поразительного сходства Манички со своею матерью, Рощинин не мог представить ни одно.
Панна Юзефа, конечно, отречётся от всего, а пьяный пропойца Корецкий не может внушить никакой веры в своё свидетельство.
Да и положение Козодавлева-Рощинина, как актёра, то есть человека, не имеющего оседлости, принадлежащего к артистической богеме, не могло сообщить ему такое уважение, чтоб к его словам относились без подозрительности.
Дело было сложное, совсем необычайное, и сходство Манички с покойной Тропининой скорее можно было объяснить простою случайностью, которою-де хочет воспользоваться бродячий актёр для того, чтобы всучить в дочери убитого горем отцу и богатейшему при этом фабриканту свою воспитанницу, такую же бродягу, как и он.
Рощинин понимал это и понимал также психологию отца, для которого неожиданно должна как бы воскреснуть дочь, только что похороненная им. Для такого почти невероятного чуда нужны были неоспоримые, очевидные доказательства, а пока их не было в руках у Рощинина. Но он надеялся, что судьба поможет ему отыскать их.
XXIV
Вечером, в день прогулки на кладбище, Маничка сидела у себя в номере, в гостинице, заперев дверь на замок, по приказанию дяди Андрея.
Она не могла понять, что сделалось с ним в последние дни. Он с утра уходил, оставляя её одну и требуя, чтобы она запиралась на ключ. Появлялся он только для того, чтобы отправиться с нею погулять, причём он ни на шаг не отпускал её от себя, а затем привозил домой и просил, чтобы она запиралась. Он взял с неё слово, что она не пустит к себе никого, в особенности Корецкого, что бы он ни говорил ей и как бы ни уговаривал.
Обед, завтрак и всё, что ей было нужно, приносили ей в номер; в театре она не была занята, и туда дядя Андрей не пускал её. Вечером, вернувшись из театра, он заходил к ней; она ждала его с самоваром, он пил чай, расспрашивал, как она провела день, и довольный, что никто не тревожит её, прощался, благословлял её на ночь, целовал в лоб и уходил к себе.
Маничка сидела у раскрытого окна и глядела на знакомую уже ей, успевшую надоесть, изученную во всех подробностях площадь. Дядя Андрей перевёл её из прежнего маленького номера в более дорогой и лучший, с окнами на улицу.
Одиночество Манички было так томительно и скучно, что казалось длившимся необычайно. Она успела уже привыкнуть сидеть так вечером у раскрытого окна и глядеть на площадь, и знать, что ничто не нарушит её одиночества. Но на этот раз она ошиблась. Ручка двери чуть-чуть шевельнулась, дверь попробовали отворить из коридора, потом постучали. Маничка встала, подошла к двери и спросила:
— Кто там?
— Это я, отец твой, — проговорил из-за двери Корецкий, стараясь придать своему голосу как можно более нежности.
«Вот оно! — мелькнуло у Манички, — что же мне теперь делать?»
— Отвори! — сказал Корецкий.
Маничка металась по комнате. Она не смела ослушаться дяди Андрея, а вместе с тем не знала и боялась того, что произойдёт, если она отворит.
— Я не могу! — сказала она.
— Не можешь?.. Отчего же ты не можешь?
Маничка хотела солгать, что у неё нет ключа. Но она никогда не лгала до сих пор и ей стоило большого усилия, чтобы сказать, что ключа нет.
— Ан врёшь! Ключ в замке, я вижу! — проговорил Корецкий, заглянувший в замочную скважину.
Маничка, уличённая, совсем уже растерялась и, не зная, что ей говорить, бросилась к постели, легла на неё и, уткнувшись головой в подушку, закрыла лицо руками, решив, что пусть будет, что будет!
«Господи, помилуй и сохрани!» — твердила она про себя, стараясь не слушать того, что говорил ей из-за двери Корецкий.
Он сначала просил, приказывал, требовал, казалось, хотел сорвать дверь с петель, но гостиница была полна народом, и он боялся шуметь, боялся даже говорить слишком громко.
— Маничка, Маня! — жалобно просил он. — Отвори, мне нужно сказать тебе два слова только! Твоя мать желает тебя видеть! Я тебя хочу отвести к ней!
Услыхав эти слова, Маничка почувствовала, что борьба не по её силам, и что она не в состоянии владеть собой.
Сколько раз с самого детства думала она о своей матери, мечтала о ней и представляла её себе. Отца она боялась, страшилась; он почти всегда являлся грубым и пьяным и все разговоры с ним кончались тем, что она отдавала ему свои деньги. Спросить у него о матери она никогда не осмеливалась — и вдруг… он сам говорит ей о матери и обещает отвести к ней!
Маничка встала с постели; голова её кружилась, пред глазами как будто туман застлал всё… Она сделала шаг по направлению к двери и остановилась… Она вспомнила запрет дяди Андрея: ни под каким видом не отпирать двери, в особенности, если придёт Корецкий.
«Нет, не отопру!» — спохватилась она и снова вернулась на постель.
— Да чего ты боишься? Смешная, право! — настаивал, между тем, Корецкий за дверью, — ведь я отец тебе и зла не сделаю. Ведь я даже не пьян сегодня, ты по голосу слышать можешь… Маня, отопри, пусти меня! Ну, если я виноват был пред тобою, прости меня… Если не пустишь, я пропаду, Маня, совсем пропаду! Такие дела, что, может, ты меня спасти можешь… то есть твоя мать спасти меня может… Пойдём к ней, попроси её за отца… Она ведь тут, в этом городе, она близко… А пропаду я — на твоей душе грех будет…
Корецкий говорил слезливо и жалобно и говорил такие слова, которых Маничка никогда не слыхала от него.
В самом деле, если он хочет раскаяться? Может быть, дядя Андрей сам велел бы впустить его, если б знал это. А не впустит она отца — он совсем отчаится и пропадёт навсегда, погибнет… и она погубит его, она!.. Потом она всю жизнь будет вспоминать вот эти минуты, когда он просился к ней, хотел раскаяться, измениться, а она не пустила его к себе…
Нет, положительно, дядя Андрей не знал, когда запрещал ей и брал с неё слово. Она должна отпереть!
Маничка подошла к двери и взялась за ключ…
XXV
Корецкому нужно было, чтоб только Маничка впустила его к себе — дальнейший план действий готов был у него, а этот план в случае удачи мог, действительно, спасти его, то есть дать возможность немедленно уехать из города так далеко, как он хотел, и уехать не с пустыми руками, а с деньгами.
Когда, после встречи с Ершом, Корецкий вошёл с ним в подвал, их встретил там маленького роста рыжий человечек с подвязанной щекой.
— Ну, вот тебе гусь, по прозванию Стрюцкий, — отрекомендовал Ёрш Корецкого, — а его Пыжом у нас зовут, — показал он ему на рыжего человечка и добавил: — А до прочих прозваний его тебе дела нет.
Пыж пытливо оглядел Корецкого, ничего не сказал, отошёл в угол и молча сел на лавку.
Самый подвал и оказанный ему тут приём понравились Корецкому по первому взгляду. Ничего не внушало недоверия, напротив, по всему было видно, что он имел дело с людьми бывалыми, солидными, такими, что сами были не трусы, значит, и их трусить было нечего.
— Слышь, Пыж, — обратился к Пыжу Ёрш, — мы насчёт опрокиндоса прошлись, а теперь глотку заткнуть подобает… Алименты найдутся?
Пыж опять ничего не ответил, даже глазом не повёл, но встал и полез под печку.
Подвал был не особенно велик, но поместительный, в два окна, проделанные в самом своде, достаточно высоко. Выходили же они на задний двор внизу стены в ямки в земле, как это видел Корецкий.
Часть помещения занимала большая печь. У стены с окнами стоял стол, почерневший от времени и, вероятно, от накопившейся на нём грязи. У стола были две лавки и табуретка, дальше, к печке, — топчан с грудою тряпья, заменявшего, очевидно, матрас и подушки… Возле двери стоял покосившийся, но прочный и крепкий шкаф. В нём был вделан замок, запиравшийся на ключ. Пол был каменный.
Входная дверь находилась против окон, рядом с печкою. По другой стене была другая дверь, вероятно, в соседнее помещение.
Жил ли ещё кто-нибудь в этом соседнем помещении или вообще в остальных отделениях подвала, если они существовали, — Корецкий разглядеть не успел, да и не мог, потому что в проходе от наружной двери со двора было совсем темно, в особенности после яркого дневного света, с которого он попал туда. Он заметил лишь одно: там были навалены какие-то доски да кадушки. Корецкий наткнулся на них.
Пыж достал из-под печки кулёк и начал вынимать из него такие вещи, увидеть которые никак уж не ожидал Корецкий в подвале.
Прежде всего появилась цельная колбаса, такая аппетитная на вид, что только за окном лучшего гастрономического магазина висеть ей; затем — ветчина, сочная, жирная, нарезанная тонкими кусками, потом — большой кусок сыра, коробка сардинок, рыба копчёная, даже икра, ростбиф кусками. В кульке оказались даже белые французские булки.
У Корецкого слюнки потекли.
— Эх, кабы водочки при этом! — вырвалось у него.
В ответ на его восклицание Пыж опять нагнулся к печке и достал бутылку, но не водки, а дорогого коньяка с французской этикеткой.
— Не видали мы твоей водки! — презрительно проговорил Ёрш и сплюнул в сторону. — Мы, брат, едим не как-нибудь, а тоже понимаем…
— Да откуда же это всё? — воскликнул умилённый и поражённый Корецкий.
— Из лавки, должно быть. Ты думаешь, что там одни только графы покупают? Нет, и на наш паёк хватит…
Ершу, видимо, доставило большое удовольствие удивление Корецкого.
Пыж остался вполне равнодушен и безмолвно стал откупоривать бутылку ножом, который достал из-за голенища. Этот нож был почтенный. Лезвие его было остро, как бритва, но сточено в очень узкую полоску и глубоко вставлено в самодельный, обвёрнутый в грязную тряпку черенок…
Откупорив бутылку, Пыж достал стаканчик из ящика стола, налил коньяка, выпил, поставил стакан и бутылку на стол и принялся открывать своим ножом сардинки.
То, как он держал себя, невольно внушало Корецкому уважение, несмотря на маленький рост Пыжа и невзрачную наружность с подвязанной щекой…
За бутылку взялся Ёрш, тоже наполнил стакан и передал его Корецкому, сказав:
— Пей, Стрюцкий, авось веселее станешь!.. Вот как у нас…
Корецкий припал к стакану и с наслаждением потянул крепкую, жгучую влагу. Он никогда не пил такого коньяка…
XXVI
Они стали есть.
В особенности Корецкий, дорвавшись до «сладкого», как называл Ёрш разложенные на столе закуски, пожирал их с жадностью. Он уже не спрашивал и не допытывал, откуда явились все эти вкусные вещи, а считался, так сказать, с совершившимся фактом и набивал полный рот.
Поев, Ёрш ушёл, сказав на прощанье Пыжу:
— Ты побереги гуся-то, за ним след есть, так ему хорониться надо…
Корецкий остался у Пыжа.
Отношения у них сразу установились, по-видимому, самые удобные для того и другого. Пыж ничем не стеснял Корецкого, предоставляя ему полную свободу. В подвал к ним никто не заглядывал. Не было речи, разумеется, и о прописке или о каких-нибудь формальностях.
На ночь Пыж ушёл, пропадал неизвестно где. Наутро он вернулся опять с кульком, где был новый запас провизии.
Корецкий попробовал уйти — Пыж не только не удержал его, но даже не спросил, куда он направляется.
Когда Корецкий, побродив по берегу реки, вернулся, Пыж и к этому остался совершенно равнодушен.
Наведывался Ёрш.
Он, между прочим, напомнил Корецкому, чтоб тот был осторожнее, потому что у него, Ерша, в полиции «глаз» есть и этот «глаз» сообщил-де ему, что Галактиона Корецкого ищут…
Так прошло несколько дней.
Корецкий чувствовал себя до некоторой степени в безопасности в подвале, под кровом у Пыжа. Никто его не беспокоил до сих пор, и не было признаков, что побеспокоят в будущем. Сообщение подвала с внешним миром происходило через пустырь и огород.
Ел Корецкий не только сытно, но и сладко. Выпить тоже всегда было что.
Но, несмотря на всё это, Корецкий всё время находился в странном, необъяснимом смятении.
С тех пор, как другие, совсем посторонние люди, то есть Ёрш и Пыж, узнали о его, Корецкого, деле, то есть о приобретённой им «руке», как они называли это, он словно сбился и не знал, как удержаться. Прежде ему было трудно совладать с собою, но всё-таки он чувствовал если не твёрдую почву под собой, то, по крайней мере, хоть какую-нибудь опору. Эта опора была ненадёжная, всё равно, что тоненькая жердь через пропасть, но он нравственно балансировал на этой жерди; теперь же он точно потерял равновесие и готов был свалиться в пропасть.
И не то, чтобы он боялся Пыжа с Ершом. Напротив, они внушали ему полное доверие, хотя он ничего и не знал про них, или, во всяком случае, очень мало. Они же знали про него.
Кроме того, Корецкого искали, ему приходилось скрываться.
Однако ему казалось, что именно это обстоятельство не причиняло ему никакой досады. Оно даже было как будто весело. Он испытывал совершенно такое же щекочущее чувство в груди, как в детстве, когда играл в прятки. Это было скорее приятно.
Но его мучила неизвестность.
Если б ему нужно было действовать, ухищряться, напрягать мозги для собственного спасения, избегать непосредственной опасности — ему было бы легче. А то так жить изо дня в день на всём готовом и сравнительно в покое и вместе с тем не знать, что завтра будет и что потребуют от него эти люди, с которыми связала его судьба, — это он не мог вынести.
Минутами он чувствовал непреодолимое желание пойти в участок и повиниться там, рассказать всё, но исключительно ради того, чтоб посмотреть, что из этого выйдет.
Он с некоторым злорадством представлял себе, какие там все скорчат лица, когда он придёт и скажет, что Ромуальд-Костровский не виноват ни в чём, а что всё сделал он, Галактион Корецкий.
И всё тогда будет кончено разом!
По внешности — хотя он не замечал этого — он тоже изменился. Прежняя его пошлость, в особенности после выпивки, сбежала с него. Он стал трусить, вздрагивал при малейшем случайном стуке, по ночам спал плохо, вскакивал и вглядывался в темноту. Ему чудилось, что в этой темноте река плещет…
К водке и даже коньяку его перестало тянуть. Он и хотел бы напиться, как прежде, до бесчувствия, до самозабвения, но страшился, сам не зная почему. Ему казалось страшно. И страх был настолько велик, что вино претило.
Все его помыслы и все его желания всё более и более сосредоточивались на одном: поскорее так или иначе выяснить что-нибудь определённое, кончить…
И вместе с тем его влекло в те места, где для него грозила опасность, но где он мог узнать те или другие новости относительно хода тропининского дела.
Может быть, Ромуальд-Костровского уже выпустили, убедившись как-нибудь в его невиновности, хотя он и сознался?.. Ведь документ, вексель, в руках полиции… Может быть, их будут обвинять вместе с Ромуальд-Костровским!
Но когда Корецкий мысленно натыкался на это определённое «будут обвинять», он содрогался всем телом и торопливо хотел найти выход.
Выход для него был и мерещился ему, как мелькавший огонёк вдали: его могла спасти панна Юзефа. Она могла дать ему денег.
Корецкий не пытался ещё обратиться к ней, потому что раньше, по весьма понятным причинам, избегал дома Тропинина. Но теперь его именно влекло к этому дому.
Теперь, когда, благодаря перехваченному у него векселю, подозрение пало на него, идти в тропининский дом и искать там панну Юзефу для него было равносильно тому, что добровольно выдать себя… Но, может быть, панна Юзефа, вспомнив старое, поможет ему? Он напомнит ей о дочери, которая тут теперь, в одном с ними городе!..
В день, когда разразилась гроза (над городом она была сильнее ещё, чем над кладбищем), нервное состояние Корецкого дошло до последних пределов…
Он не выдержал и вечером — будь, что будет! — отправился в дом Тропинина, к панне Юзефе.
XXVII
Панна Юзефа, вернувшись с кладбища, прошла к себе в комнату и заперлась в ней, зажёгши восковые свечи пред иконами, которыми у неё был полон целый киот.
Она была не просто религиозна, но и суеверна.
В своём поступке, совершённом ею семнадцать лет тому назад, она никогда не только не раскаивалась, но не считала его вовсе грехом. Впрочем, на всякий случай, она была потом на исповеди у ксёндза, и тот дал ей отпущение и советовал делать добрые дела благотворения.
Панна Юзефа делала эти дела, то есть благотворила, подавая бедным гроши из тех денег, которые получала от Тропинина.
В доме Валериана Дмитриевича она из кормилицы сделалась нянюшкой, из нянюшки — наперсницей и, наконец, благодаря своеволию не знавшей себе запрета Лизы, которой она потворствовала во всём, стала на положение управительницы.
Панна Юзефа тратила деньги бесконтрольно, посылая свои счета в тропининскую контору, каталась в экипажах, садилась за общий стол обедать, причём разливала суп, заказывала себе, какие хотела, платья, выгоняла не нравившуюся ей прислугу, — словом, держала себя почти наравне с хозяином.
Однако пред Тропининым она умела быть подобострастной, старалась угождать ему, изучила его привычки, и он видел в ней испытанного друга и верил в её не раз доказанную преданность.
Панна Юзефа не считала своего поступка грехом потому, что видела в нём не нарушение общей, так сказать, справедливости, а лишь замену одного существа другим.
Положим, она обрекла истинную дочь Тропинина на нищету и бедствие, обрекла безвинно, отняв у неё жизнь довольства и богатства, для которой она была рождена. Но ведь и её малютка, её собственная дочь была тоже ничем не виновата, а, между тем, нищета и бедствие предназначались ей. За что? Чем она была хуже тропининской дочери?
Пред ней, Юзефой, были тогда два ребёнка. Одному из них предстояло богатство, другому — бедность. Один был её собственный, другой — чужой. И от неё зависело сделать так, чтоб дать богатство тому, которому она захочет. Сделать же богатыми обоих она не могла. Ей приходилось выбирать. Она выбрала, разумеется, своего.
О «праве» она не думала. Ей казалось, что если дочь Тропинина, по законам, имела право на богатство, то её дочь, по её материнскому чувству, не должна была иметь право на бедность!..
Так рассуждала панна Юзефа, входя в сделку со своею совестью и убаюкивая её.
Её религиозность вполне утешалась этим, но суеверие всё-таки мучило её. Она верила, что мёртвые входят в сношения с живыми, и боялась мести со стороны умершей матери девочки, которую она подменила.
В чём может выразиться эта месть — она не знала, но ждала, что мёртвая будет приходить к ней видением, мучить её, упрекать, нашлёт на неё болезнь или и саму смерть… Она на всё это была согласна, лишь бы хорошо и вольготно жилось её Лизе!..
Мёртвая, однако, не приходила к ней, не мучила её, но вдруг совершенно неожиданно, когда всё, казалось, шло вполне прекрасно, Лиза была зверски убита…
Это был страшный удар, поразивший панну Юзефу, но у неё оставалось ещё утешение, что всё-таки дочь её хоть семнадцать лет провела в довольстве и что вместе с нею умерла и тайна её происхождения.
И вдруг сегодня на кладбище панна Юзефа увидела над могилой видение, которого боялась всю жизнь.
Она упала в обморок.
Очнувшись, она узнала, что то, что было на самом деле, оказалось страшнее видения. Она должна была иметь дело не с мёртвыми, а с живыми, и в данном случае живые были для неё опаснее мёртвых.
Жена Валериана Дмитриевича пришла-таки к ней, но пришла не видением, а в образе своей живой дочери, похожей на неё до полного обмана зрения…
У этой дочери был покровитель и защитник — какой-то актёр, но он как будто что-то знал уже. Это было видно по тому выражению, с которым он сказал, что его воспитанница — дочь Галактиона Корецкого и добавил: «Может быть, изволили слышать?» Он, конечно, не ограничится этим вопросом, он будет действовать, и тогда прежнее выступит наружу, и ко всему горю прибавится ещё ужас ответственности.
Панна Юзефа ответила этому актёру первое, что пришло ей тогда на язык, не думая, что говорить, ответила почти инстинктивно, из чувства самосохранения, что никакого Корецкого не знает, но теперь понимала, что ей нельзя сидеть сложа руки и надо тоже действовать со своей стороны. Но весь вопрос был в том, как действовать.
Что она могла сделать?
В то время, когда она раздумывала об этом, ей пришли сказать, что её спрашивает какой-то человек, который называет себя Галактионом Корецким.
XXVIII
Сказать о Корецком ей пришёл сам камердинер Валериана Дмитриевича, Влас Михайлович.
В первую минуту у панны Юзефы занялось дыхание, она не могла перевести его, ей недоставало воздуха. Но всё-таки у неё хватило сил встать и отойти к столу, чтобы отвернуться и не показать своего лица.
Приходилось сейчас дать ответ, но она не знала, что ответить.
— Какой Корецкий?.. — наконец проговорила она.
— Пришёл с чёрного хода! — пояснил Влас Михайлович. — Требует, чтобы непременно сказали о нём вам!
— А вид у него?..
— Невзрачный.
— Плохо одет?
— Оборванцем.
«Оборванцем, — стала соображать панна Юзефа, — значит, деньгами, и даже небольшими, можно повлиять на него!»
Она была рада отдать теперь все свои сбережения, а сбережения эти составляли довольно крупную сумму.
К тому же вовсе не пустить Корецкого к себе было опасно: он мог начать скандал, мог кричать; его крик услыхали бы тропининские люди, среди которых у панны Юзефы было больше неприятелей, чем друзей, и одним из самых главных неприятелей был камердинер Влас Михайлович, не любивший её, несмотря на все её ухищрения, чтобы обойти его.
— Проведите его ко мне, это, вероятно, какой-нибудь бедный, — сказала она.
Влас Михайлович молча повернулся и ушёл.
Когда вошёл Корецкий, панна Юзефа, прежде чем оглядеть его, подошла к двери и как бы машинально заперла её на задвижку.
При взгляде на Корецкого первое, что испытала она, было чувство гадливости и отвращения. Она никак не ожидала, что увидит пред собой в таком отталкивающем виде человека, который когда-то был близок с нею.
Корецкий не лгал, рассказывая Рощинину, что носил когда-то клетчатые брюки и бархатный пиджак. В этих клетчатых брюках и бархатном пиджаке знала его панна Юзефа. Тогда он к ней снисходил, теперь же она была окружена недосягаемой для него роскошью, а он был, в полном смысле слова, оборванец, как его назвал Влас Михайлович. Теперь разница между ними была неизмеримо большая, чем тогда, и по первому же взгляду панна Юзефа убедилась, какая пропасть лежит между ними.
Черты лица Корецкого сильно изменились, он обрюзг, полысел и поседел, но всё-таки Юзефа узнала его.
Он боязливо оглянулся на замкнутую ею задвижку и, как затравленный зверь, стал озираться кругом, как будто только ожидая, с которой стороны посыплются на него удары.
Он не был пьян, твёрдо стоял на ногах, но от него пахло очень сильно и, главным образом, спиртом.
Вид Корецкого показался благоприятен для панны Юзефы, и она смело подступила к нему, желая этой показной смелостью заглушить охватившую её внутреннюю дрожь.
— Ты давно здесь, в этом городе? — строго сдвигая брови, спросила она.
— Ннн-не знаю… — начал было он и сейчас же сказал, что недавно.
— Нарочно приехал, чтоб меня искать?
— Нет, Юзя, не нарочно! — взмолился Корецкий. — Я попал сюда… я попал сюда… — быстро заговорил он, видимо, приготовленные, затверженные слова, — случайно… для того, чтобы быть вместе с дочкой нашей!..
— Она тут? На сцене?.. В актрисах? — произнесла со странным наружным спокойствием панна Юзефа.
— А тебе… а вам известно уже это? — удивился Корецкий, решив по тому, как говорила с ним и как глядела на него панна Юзефа, что лучше обращаться к ней на «вы».
— У неё есть воспитатель что ли, какой-то актёр? — продолжала она.
— Козодавлев-Рощинин, панна Юзефа!
— Ну, а ты причём?
— Я при своём деле, панна!.. То есть, не то что при деле, потому что теперь я без дела…
— Да нет, я спрашиваю, причём ты относительно Маньки?
— Я вообще ннн… наблюдаю!
— Ну, вот видишь ли, — деловито и серьёзно заговорила панна Юзефа, — ты видишь, как я живу, ты знаешь, что в этом доме случилось несчастье: только что убита и похоронена дочь владетеля этого дома!
— Знаю! — вставил Корецкий, выпрямился и блеснул глазами.
Из этих слов панны Юзефы он увидел, что ей не известно о перехваченном у него векселе и о том, что подозрение может пасть на него.
— Ну, так вот, — продолжала Юзефа, — хозяин этого дома находится в страшном горе; единственно, кто его может утешить, это я; он ко мне привык, и обстоятельства могут повернуться так, что вы с дочерью можете помешать мне именно в настоящую минуту. Не надо, чтобы вы именно теперь показывались тут, а потом я сама могу выписать к себе дочь и устроить твою жизнь.
Она довольно прозрачно намекала на то, что может выйти замуж за Тропинина, но боялась сказать это прямо, потому что это была неправда, пришедшая ей сейчас в голову, для того, чтобы как-нибудь обосновать необходимость немедленного отъезда из города Корецкого и дочери.
Прежде всего ей необходимо было как можно скорее удалить их из города, где, вероятно, были люди, помнившие жену Тропинина и могущие обратить внимание на сходство с нею молодой актрисы.
— Понимаю, — сказал Корецкий, — ты хочешь, чтобы мы уехали.
— И как можно скорее.
Этого желал и сам Корецкий, он для того и пришёл к панне Юзефе.
— И я хочу того же самого! — обрадовался он. — Я хочу отнять дочь от этого актёра, но не имею на это средств.
— Средства я дам, — проговорила Юзефа. — Я дам средства, — повторила она, — с тем, чтобы вы уехали… ну, хоть в Одессу… и там ждали от меня письма! Как скоро вы можете собраться?
— Хоть сейчас!
— Сейчас? С вечерним поездом?
— О да!
Панна Юзефа говорила очень торопливо, а Корецкий — ещё торопливее её. Обоим им, по совершенно разным причинам, хотелось того же самого и потому они, сходясь в главном, не обращали внимания на логику, подробности и на строгую последовательность своих слов.
Они быстро уговорились и установили план немедленного действия.
Корецкий должен был отправиться в гостиницу и, если найдёт там Маничку одну, вызвать и вывести её к панне Юзефе, которая в закрытом наёмном экипаже должна была ждать их на перекрёстке с деньгами. Она обещала Корецкому выдать на первое время немедленно тысячу рублей.
Сама она показаться в гостинице боялась, но ей достаточно было, чтобы Корецкий вывел Маничку к ней, а там она была уверена, что сумеет разыграть подходящую сцену, одурманить девочку нежностью, слезами, всем, чего потребуют обстоятельства, рассказать ей какую-нибудь нелепую, выдуманную историю, отвезти её на поезд и отправить с мнимым отцом «хотя бы в Одессу», как сказала она Корецкому.
Корецкий, приводя в исполнение этот план, и явился у двери маничкиного номера, стучал и просил, чтоб она отворила. Он был уверен, что, как только скажет ей, что её мать ждет её тут, близко, на перекрёстке, Маня последует за ним.
XXIX
Корецкий, на своё счастье, попал в гостиницу в вечерний час, когда коридоры пустуют, и поэтому свободно мог стоять у двери и переговариваться с Маничкой.
Впрочем, на всякий случай у него был готов ответ, что он прислан из театра за артисткой Микулиной. Он так швейцару и сказал на лестнице, и тот поэтому пропустил его, несмотря на его вид оборванца. Из театра всякие могли прийти…
Расчёт Корецкого относительно Манички оказался безошибочным. Как только она отворила ему дверь, и он успел только сказать ей, что её мать ждёт её тут, на перекрёстке, она надела шляпу, схватила накидку и, не раздумывая и не рассуждая, сказала:
— Идём!
Козодавлев-Рощинин был в это время в театре. Он участвовал в двухактной комедии, шедшей для начала представления, и, как только кончилась эта пьеса, поскорее поспешил переодеться, чтобы, не теряя времени, отправиться домой в гостиницу, где именно сегодня, после прогулки на кладбище, можно было ожидать какого-нибудь неприятного посещения.
Да и предчувствие торопило его.
Но, к несчастью, его задержали в театре. Когда он, переодетый, вышёл из уборной, чтобы пройти через сцену к выходной двери, его в полутьме и тесноте кулис остановила одна из статисток, одетая в пейзанский костюм для следующей пьесы.
При взгляде на неё Козодавлев-Рощинин сразу увидел по её резко несимметричному лицу, слегка раскошенным глазам и подёргиванию рта, скривлённому на одну сторону, что это была одна из тех бедных, жалких, загнанных женщин, больных истерией, страдающих безволием и развращённых, которые часто попадались в той среде, где ему приходилось вращаться. Она была некрасива и худа, но её некрасивость и худоба были именно такие, какие нравятся современным мужчинам.
— Вы — как будто тот, который хотел хлопотать за господина Ромуальд-Костровского? — заговорила она, обращаясь к Рощинину и поводя в сторону глазами, подёрнутыми поволокой и бессмысленно бледными.
— Да, я тот, который… моя милашка! — ответил Рощинин и хотел пройти, но она удержала его.
— Погодите! Я знаю, за что была убита дочь фабриканта…
Рощинин остановился.
— Я знаю, — продолжала статистка, — куда она ездила на велосипеде.
— Куда же?
— К Минне Францовне. Она была ведьма и её за это убили. Она, как ведьма, ездила на шабаш.
— Какая ведьма?.. Какая Минна Францовна?.. Ты что-то врёшь, розанчик мой!
— Я не вру! Я всё видела.
И в не совсем связном рассказе, переполненном вычурными и не подходящими к делу оборотами, статистка сообщила Рощинину весьма важную для тропининского дела подробность.
Из этого рассказа он мог понять и уяснить себе следующее.
Статистка жила в горничных у Минны Францовны, в тех особенных горничных, какие бывают у этого сорта женщин.
Минна Францовна занимала хорошенький домик на берегу реки, по шоссе, в довольно пустынной дачной местности, известной в городе под названием Нагорного. В этом домике у неё по вечерам происходили оргии, куда съезжались женщины, и куда на своём велосипеде приезжала убитая девушка. Минна Францовна познакомилась с ней в купальне и завлекла её к себе.
Для Рощинина вовсе не была удивительна такая податливость к порочности этой девушки, потому что он знал, от каких родителей она происходила на самом деле, и ему казалось вполне правдоподобным, что её наследственность толкала её на дурное. На оргии из мужчин участвовал только один, которого статистка называла бароном. Он был, по-видимому, богатый человек, доставлявший средства Минне Францовне.
Он тоже приезжал по вечерам на велосипеде, но днём иногда подкатывал на городском извозчике. Деньги, однако, у него были не всегда и, когда их не было, между ним и Минной Францовной происходили ссоры, но затем он почти всегда являлся с туго набитым бумажником.
Жил он, кажется, в гостинице и был приезжий; больше о нём ничего не знала статистка.
Ушла она от Минны Францовны потому, что та её сильно избила.
Дочь Тропинина в тот вечер, когда была убита, была у Минны, и статистка выпустила её в одиннадцатом часу, видела, как она села на велосипед и уехала.
Оргии продолжались, обыкновенно, гораздо дольше, но «дочь фабриканта», как её звала статистка, уезжала всегда раньше. Ей не позволяли засиживаться, очевидно, из боязни, что её хватятся дома.
В этот последний вечер она особенно не хотела уезжать, и Минна Францовна почти насильно вытолкала её.
— А не знаете ли вы, как скоро уехал после неё этот барон? — спросил Рощинин. — Вы не помните этого?
— Нет, помню! — подхватила статистка. — Он, по-моему, был дьявол, ему и служили все у Минны Францовны, как дьяволу; он принёс себе в жертву дочь фабриканта; он за ней уехал следом, а затем она оказалась убитою. Это он убил её, а Ромуальд-Костровский не виноват!
— Вы сами провожали барона вслед за дочерью фабриканта?
— Нет! Он отправился через сад потихоньку, но только я видела.
Всё это было очень важно для Рощинина.
Выходило, как будто объявился ещё новый, третий убийца, и дело, на первый взгляд, запутывалось ещё больше. Но это было только на первый взгляд; для Рощинина же, напротив, рассказ статистки выяснял многое, и он имел возможность воспользоваться им.
Он подробно расспросил, где находился дом Минны Францовны. Статистка объяснила ему, и, нахлобучив шапку, он отправился домой.
XXX
Маничка, в сопровождении Корецкого, вышла из гостиницы. Он следовал за ней, затем перегнал её, чтобы показать дорогу.
Она забыла о том, что прохожим может показаться странным, что сравнительно нарядная и хорошо одетая девушка идёт вместе с оборванцем, но Корецкий, видимо, подумал об этом и опередил Маню так, будто шёл сам по себе.
На перекрёстке он остановился и в недоумении огляделся: извозчика, в котором должна была ждать его панна Юзефа, не было.
Прежде чем войти в гостиницу, Корецкий ждал на этом перекрёстке, когда подъедет панна Юзефа; так они условились. И он видел, как она подъехала, остановила своего извозчика и из-под поднятого верха колясочки сделала ему знак.
А теперь ни панны Юзефы, ни извозчика не было, и Корецкий напрасно искал их. Было ясно, что панна Юзефа уехала, не дождавшись; но почему — Корецкий не мог сообразить.
Ничего не понимая, он стоял, растерянно оглядываясь.
Маничка остановилась неподалеку и удивлённо следила за ним, а он не знал, что ему делать.
— Ты что тут стоишь? — окликнул его знакомый голос и, оглянувшись, он увидел Пыжа с его подвязанной щекой.
Корецкий съёжился и присел, словно пойманный на месте преступления не своим приятелем, а кем-нибудь, на чьей обязанности лежит ловить людей именно на месте преступления.
— Дурья голова, — быстро заговорил Пыж, — иль ты в ловушку захотел попасться? Ведь тебя вокруг пальца обвели! Чего буркалы выпучил? Стрекай за мной, не то поздно будет!
И он схватил Корецкого за руку и повлёк за собою.
Тот, захваченный врасплох и испуганный неожиданностью, послушно последовал за Пыжом.
Маничка видела, как вдруг Корецкого потащил за
собою такой же оборванец, как и он, неизвестно откуда взявшийся. Они быстро замешались среди прохожих, сновавших по тротуару, и исчезли с её глаз.
Маничка немного постояла, подождала и вернулась к себе в гостиницу. Больше ей ничего не оставалось делать.
Пыж, между тем, всё не выпуская руки Корецкого, юркнул с улицы в ворота большого каменного дома.
— Куда ты меня ведёшь? — осведомился, наконец, Корецкий, упираясь в темноте ворот.
— Тсс… молчи! Это — проходной двор, — шепнул ему Пыж на ходу.
Корецкий тут только понял, что ему грозит какая-то ещё неведомая опасность и что Пыж хочет увести его от неё через проходной двор. И, не спрашивая уже дальнейших объяснений, он кинулся было бежать в глубь двора, но Пыж опять ухватил его.
— Куда? Не туда, сюда! — показал он и, повернув в сторону, подбежал к помойной яме и присел за неё.
Корецкий последовал его примеру, хотя и не понял, почему это нужно было.
— Сиди молча! — шепнул ему Пыж, приложив палец к губам.
Корецкий затаил дыхание.
Прошло некоторое время.
— Ну, вот теперь вставай, идём! — сказал Пыж. — Теперь поле чисто вокруг нас… А чуть было ты не попался на прицепку…
И он направился, на этот раз уже не торопясь, не крадучись, а вполне развязно и открыто, но не в сторону, где в проходном дворе можно было ожидать другого выхода, а опять в те же ворота, куда они вошли.
— Куда ж ты? — спросил его Корецкий. — Ведь ты говорил, что двор проходной, чего ж мы не идём скрозь?
— «Скрозь»! — передразнил его Пыж. — Ты пойми, за тобою «глаз» был…
— Сыщик?
— Ну да! Ты, видно, не знаешь их?
— Не знаю.
— Ну, вот и было б тебе быть на верёвочке… «Глаз» за тобой следил, а теперь мы его надули. Понял?
— Ничего не понял.
— Мы в эти ворота вошли?
— Вошли.
— Как ты думаешь, если «глаз» следил за нами, видел он это или нет?
— Должно, видел.
— А как ты думаешь, знает ли он, что это — двор проходной?
— «Глаз»-то?
— Да.
— Не ведаю…
— Знает, брат, не хуже нас все проходные дворы знает… Ну, так он вошёл за нами да и сиганул «скрозь», чтоб догнать нас по ту сторону, а мы в прятках сидели в это время… Утямил теперь? Он нас по ту сторону догоняет, а мы с прохладкой по прежней дороге пойдём… Теперь он прозевал нас…
Корецкий не мог не удивиться изумительной находчивости и сообразительности Пыжа.
— Да откуда ты взялся? — спросил он.
— Откуда бы ни взялся, да вовремя поспел! — ответил Пыж.
— Вовремя!
— Ещё бы! Свою шкуру спас.
— Как — свою?
— Ну ещё бы! Ты мекаешь, я о тебе хлопотал? У тебя своя голова, ты её и береги сам. А только пока что голова-то у тебя дурья. Ты к нам «глаз»-то привёл бы в вертеп, а там бы и меня накрыли…
— Я бы никуда не привёл «глаза»! — мечтательно вздохнув, произнёс Корецкий. — Я не хотел к тебе возвращаться…
— Так. В академию захотел, значит, наметиться!..
— В какую академию?
— Когда ты понимать научишься? В острог!
— Я совсем уехал бы вон из города…
— Так бы тебя и выпустили! Ведь, ехать-то, небось, по рельсам собрался?
— По железной дороге.
— Через вокзал?
— Ну!
— Ну, а на вокзале жандармы! Они тебя приласкали бы… Разговаривая таким образом, они, не спеша, дошли к себе. Очутившись снова в гостеприимном подвале — надо было отдать справедливость Корецкому, — он вздохнул облегчённо, почувствовав себя в безопасности. Как ни несносно, как ни томительно было в этом подвале, всё-таки на улице, где, как знал теперь Корецкий, шныряют «глаза», чтоб следить за ним, казалось хуже.
XXXI
На этот раз у Пыжа в запасе были приготовлены целый окорочок копчёной вестфальской ветчины, кусок сливочного масла и консервы фаршированного перца. Он любил поесть не только хорошо, но и разнообразно.
Кроме коньяка, он достал ещё бутылку дорогого бенедиктина.
Ужин вышел на славу, и Корецкий не мог отказать себе в удовольствии сделать ему должную честь.
Пыж, вернувшись в подвал, стал снова молчалив и неразговорчив.
Корецкий жевал и ел задумчиво, тоже не произнося ни слова. Он думал о том, куда и почему вдруг исчезла панна Юзефа и как ему быть теперь — идти опять завтра к ней или нет?
Было, действительно, похоже на ловушку, из которой он спасся, может быть, только благодаря внезапному появлению и находчивости Пыжа. Значит, идти к ней было опасно.
— Куда же девалась она? — произнёс он вдруг вслух, занятый своими мыслями.
— Кто — она? — переспросил Пыж.
— Нет, ничего, я так… — ответил Корецкий и принялся жевать.
Входная дверь хлопнула.
Корецкий вздрогнул.
В проходе к подвалу послышались шаги.
— Идёт кто-то! — испугался Корецкий и протянул руки к стоявшему у них на столе фонарю, чтоб потушить его.
— Кому ж быть?.. — спокойно остановил его Пыж, отстраняя от него фонарь. — Ёрш, видно, пришёл…
В самом деле, пришёл Ёрш.
— Эге, да у вас тут сладкое! — сказал он, садясь к столу, и, не ожидая приглашения, принялся за еду.
— Я сейчас из театра, — обернулся он к Пыжу, не обращая внимания на Корецкого, как будто того тут и не было, — дело наклёвывается!
Пыж только глазами повёл в его сторону.
— Филёночка
[16] одна рассказывала в кулисах про домик в Нагорном. Я за пратикоблем стоял, слышал.
— Может, вздор? — усомнился Пыж.
— Нет, дело. Надо на просвет пойти. Может и интерес выйти…
— Сухой интерес-то?
— Никогда не известно. Может, и мокрый; помочить придётся.
Пыж взял со стола свой нож, которым они только что резали ветчину, вытер его о свою рубашку и стал водить им по ребру стола, как бы играя.
— Идти сейчас нужно. Домик крайний… В одиночестве стоит… — пояснил Ёрш.
— Да, уж если идти, так сейчас, — согласился Пыж.
— И ты?
— И я.
— А воздух-то разве чист?
— Чи-ист!..
— Ну, стрекаем…
— Иди, я сейчас…
Ёрш вышел.
Пыж засунул за голенище свой нож, взял картуз, напялил его, налил из бутылки коньяка, выпил залпом, повернулся, подошёл к двери, толкнул её ногой и вышел, оставив её отворённой, нисколько не заботясь о Корецком.
Ёрш ждал его на огороде.
Они оба, оглядываясь, не следит ли за ними Корецкий, молча выбрались на берег реки и тут только, убедившись, что за ними нет никакого соглядатая, заговорили.
— Ты дверь запер? — спросил Ёрш.
Пыж помотал головой отрицательно и сказал:
— Нарочно распахнул настежь.
— Надёжнее припереть бы было!
— Он там с бутылками остался! Они его лучше замка удержат! Не уйдёт!
— А сегодня ушёл.
— Я его сам выпустил. А теперь напьётся и заснёт.
— А как он ушёл, ты за ним смотрел?
— Он сегодня с утра до самой грозы всё метался, потом притих и стал глядеть в одну точку. Я уж сразу понял, что он задумал что-то! Потом, как он вышел…
— Ты за ним?
— Нет. Я на площадь к гостинице.
— Дело!
— Ждал долго.
— Он у Юзефы был.
— А и ты знаешь, что у Юзефы?
— Знаю. «Глаз» мне голос подал, только я не ожидал, что он сейчас в гостиницу пойдёт.
— А он пошёл. Я стою, жду; вдруг вижу, он на перекрёстке стоит и осматривается. Подъехал извозчик и остановился; он туда знаки подал, а сам вошёл в гостиницу; извозчик остался стоять; в коляске кто-то был, но не вышел; я выждал, не покажется ли он из гостиницы, а потом подошёл к извозчику, там сидела панна Юзефа…
— Ну! Так она, правда, была там?
— Правда.
— Ну, и ты что же?
— Я догадался, в чём дело, подошёл к извозчику и говорю: «Галактион Корецкий просил передать, что сегодня птичка улетела, но, что отложено, то не потеряно! До завтра, пани Юзефа! Завтра удачнее будет».
— Ну, а она?
— Она, не знаю. Я крикнул извозчику: «Пошёл скорее, откуда приехал», он хлестнул лошадь, а Юзефа его не остановила и укатила. Потом вижу, выходит из гостиницы Корецкий, а за ним филёночка; подвёл он её к перекрёстку и руками развёл: извозчика-то и нет! Тут я к нему подскочил…
И Пыж подробно рассказал всё, что было дальше.
— А и жулик ты, Пыж! — сказал ему Ёрш, когда он кончил.
— А и ругатель ты, Ёрш, — ответил Пыж.
XXXII
Дорога в Нагорное, куда направились Ёрш и Пыж, шла по берегу реки и вовсе не была освещена фонарями. Луны не было на небе, но звёзды светили настолько ярко, что видно было достаточно.
Сначала тянулись огороды, потом они сменились садами находившихся тут дач. Иные из дач были освещены и у их ворот были зажжены фонари.
Ёрш давно уже объяснил Пыжу, в чём должно было состоять предположенное им дело, на которое они шли.
Теперь они держали путь, не разговаривая, а посвистывая и покуривая, причём во рту Пыжа была пахучая сигара, настолько тонкая по аромату, что ему позавидовал бы любой банкир.
Дачи стали попадаться реже; наконец, почти уже в поле, зачернела купа деревьев, и между ними заблестел огонёк.
— Этот дом и есть, — сказал Ёрш. — Ишь, как река плещет!
— Она недалеко отсюда, рукой подать!
— Да, недалеко; может, на этом месте они и расправились…
Они повернули в сторону и по полю, наперекоски, направились к светившемуся огоньку.
Купа деревьев оказалась довольно обширным садом, окружавшим дом. Ограда была невысокая.
Ёрш перелез через неё, а Пыж остался настороже.
— Так в случае чего — два свиста по-сычиному! — проговорил Ёрш, скрываясь по ту сторону ограды.
В саду дорожки были расчищены, и Ёрш, держась их направления, неслышно подкрался по траве между деревьями к самому дому.
С одной стороны отпиравшиеся внутрь, окна были отперты, но ставни на них затворены. Сквозь щели ставен проникал свет и слышались голоса.
Ёрш приблизился к окну, взлез на фундамент и заглянул в щель.
В комнате, освещённой довольно ярко, были двое: мужчина и женщина. Он сидел как раз против окна, на оттоманке, а она ходила из угла в угол. Она казалась разгорячённою и рассерженною.
— Я тебе говорю, Минна… — говорил он.
— Слышу я: «Минна» да «Минна», а никакого толка из этого не выходит!
— Я тебе говорю: нужно подождать!
— А я тебе говорю, что нечего ждать, если всё можно обставить очень естественно.
— Да ведь само собою придёт!
— Пока ещё придёт, а время будет упущено!..
— Он и не может и не должен пережить смерть своей дочери; это психологически верно!
— У тебя всегда фантазии! Раз ты заберёшь что в голову, так ничем нельзя выбить это!
— На то я и барон, чтобы были у меня фантазии, — проговорил мужчина, лениво потягиваясь на диване.
— Ах, эта пёсья порода мужчин! — воскликнула Минна. — Будь я на вашем месте…
— Ты и на своём месте хороша.
— И всё-таки господин Тропинин жив и состояньице у него, а не у тебя!
— Оно будет у меня, подожди!
— Опять «подожди»! Да когда, когда это будет? Ты говоришь «психологически», а я тебе говорю, что он как будто чем-то утешился. Я сведения о нём имею верные. Он по церквам ездит и с попами возится.
— Да, если по церквам и с попами, тогда дело дрянь! Я думал, что он тянуть не станет! Энергичный человек, он сразу должен был покончить с собой. Что ему оставалось делать?
— А вот не кончил же!
— Да, если сразу не кончил да по церквам, тогда ждать — действительно только время терять!
— Я и говорю, что время упустишь и уж тогда трудно будет симулировать самоубийство; никто не поверит, чтобы он ждал столько времени, а потом вдруг, ни с того ни с сего… А между тем, теперь это так легко! Спальня у него выходит в сад; она в нижнем этаже…
— Да уж как это сделать, ты меня не учи, я сам лучше тебя знаю; мне нужно только этого идиота Корецкого опять найти!
— Связался ты с ним, очень нужно было!
— Ну, это не твоё дело; у тебя моё платье близко?
— Ты переодеваться хочешь?
— Ведь не так же идти, в виде барона, в накрахмаленной рубашке! Тащи сюда платье!
— Ты сейчас хочешь идти?
— Отыскивать Корецкого пойду! Он, наверно, теперь в одном из трактиров заседает; бояться ему нечего, по делу другой арестован и сознался даже! Мне вчера в клубе прокурор говорил, что скоро и судить его будут. Хотят поспешностью доказать свою деятельность!
Барон встал, подошёл к окну и распахнул ставни так быстро, что Ёрш едва успел отскочить.
— Тут точно кто-то был! — сказал барон, выглядывая в окно. — Как будто тень мелькнула! — и он занёс ногу на подоконник, чтобы вылезти.
— Ну, уж тени у тебя замелькали! — насмешливо возразила Минна. — Кому тут быть?
Эта женщина была очень красива той дерзкой, величественной красотой, которая не только даётся женщинам от природы, но и поддерживается ими искусственно, когда они умеют делать это.
А Минна, видимо, умела, — умела держаться и показать свою красивую фигуру.
На ней был почти прозрачный капот, лежавший, как античное одеяние, складками, и барон, свесив ногу за окно и сев верхом на подоконник, невольно остановился и поглядел на неё, любуясь ею.
— Куда же ты лезешь? — спросила она.
— Надо же достать, — пояснил он, — немножко земли, чтобы натереть руки и рожу; с такими руками и физиономией в трактир не объявишься, в костюме мрачного санкюлота.
Минна одобрительно улыбнулась ему и махнула рукой.
— Ну, что ж, — воскликнул барон, сидя верхом на подоконнике и подняв руку, должно быть, чтобы изобразить чугунную статую, — не станет Тропинина Валерьяна, явится Тропинин Степан!
И он соскочил в сад, захватил из клумбы горсть земли и снова влез в комнату.
XXXIII
Не прошло и четверти часа, как из того же окна вылез человек, которого по купечеству определяют: «субъект подозрительной личности».
Скрывавшийся в кустах Ёрш легко узнал в нём барона, который обещал на подоконнике, что «не станет Валерьяна Тропинина, явится Тропинин Степан».
Переодетый барон направился в сторону реки, а Ёрш проскользнул к ограде, где ждал его товарищ, и перелез через неё.
— Будет дело! — заявил он Пыжу. — Теперь не зевать только. На самого Степана Тропинина наткнулись мы!
— Наконец-то! — одобрительно протянул Пыж.
— Он, переодетый, идёт сейчас в город Корецкого отыскивать! Дело можно ловко сладить! Надо его на дороге перехватить! Он к реке спустился и, видно, кругом обойдёт.
— Может, лучше одному к реке, другому на дорогу? — предложил Пыж.
— Ничего, вместе на дорогу пойдём! Он всё равно туда выйдет, — решительно сказал Ёрш, и они двинулись в путь.
Они пошли очень быстро, с тем расчётом, чтобы насколько возможно взять переда, а затем замедлить ход и дать нагнать себя.
И в самом деле, когда они вышли на дорогу, за ними послышались шаги.
Ёрш оглянулся и узнал в сумерках звёздной летней ночи фигуру переодетого самозваного барона.
— Он! — шепнул Ёрш Пыжу чуть слышно и громко спросил: — А что, брат, нет у тебя серничек? Страсть курить хочется!
— И сернички, и цигарки есть! — в тон ему сейчас же ответил Пыж.
Они остановились и стали закуривать, причём осветились от зажжённой спички их лица.
Это, разумеется, было сделано с целью, чтобы внушить доверие мнимому барону.
Тот в это время поровнялся с ними.
— А могу я спросить? — смело обратился он к ним, отлично владея подходящей к его одежде интонацией. Он и в виде подозрительного субъекта держался так же хорошо и соответственно, как владел манерами барона.
— Чего? — переспросил у него Ёрш.
— Ничего того, а всяк игумен своих попов знает! — отрапортовал барон совершенно развязно. — Я спрашиваю, в город по этой дороге идти?
— А ты не здешний?
— Летал по кряжам, а в здешнем омуте не был!
Он, по-видимому, легко владел воровским жаргоном и пустил его, чтобы узнать, с кем имеет дело.
— Ну! И на каруселях катался?
[17] — спросил Ёрш, принимая вызов словесного экзамена и отвечая на том же жаргоне.
Барон издал неопределённое мычание, которое могло означать и «да», и «нет».
— А вы здешние? — полюбопытствовал он, переходя на обыкновенный язык.
— Здешние.
— Небось, своих от чужих отличаете?
— Иногда и чужой своим становится! — философски заметил Пыж.
— Я много слышал про здешние места, — обратился барон к шедшему рядом с ним Ершу, видимо, пренебрегая Пыжом за его маленький рост и подвязанную щёку.
— Город хороший! — отозвался тот.
— Говорят, трактир «Лондон» тут есть?
— Есть и «Лондон».
Барон пристал к повстречавшимся ему двум оборванцам, разговорился и пошёл с ними, желая воспользоваться этой встречей, для того, чтобы разузнать, какие в городе существуют притоны, где, по его предположению, он мог найти Корецкого.
Он сразу узнал, что это были за птицы, и, будучи хорошо осведомлён относительно обычаев подобных людей, мог предположить, что весьма легко они и сами встречались уже с Корецким, потому что в их обществе встреча и знакомство возможны и часты более, чем в другом. В каждом городе, даже в столичном, существует для этих людей довольно ограниченное число притонов и там они сходятся, как речки в море.
— У меня тут должен быть товарищ, — пояснил барон. — Он вперёд меня пошёл, мы должны встретиться.
— Где?
— Да вот он что-то про «Лондон» говорил. Как будто, кажется, там.
— «Лондон» знаем, бываем там часто, много народа перевидали там — и своего, и пришлого. Как товарища звать?
— Стрюцкий.
— Стрюцкий по прозванию, а по фамилии Корецкий?
— А вы его знаете?
— Галактиона-то?
— Галактион Корецкий, он и есть!
— Знаем. Не только знаем, а и очень близко даже.
— Близко?
— Приткнулся у нас.
— У меня, то есть, — вставил вдруг Пыж, нарушая важное молчание, которое хранил до сих пор.
— У тебя? — переспросил барон.
— Н-да.
— Где же?
— В вертепе. Капернаум имею, он у меня там и находится.
— С чего же это?
— По благодушию моему! — усмехнулся Пыж.
— А уж будто ты благодушный?
— Ну вот, что твой хлеб!
— Чёрствый, небось?
— А ты испытай!
— А что если и впрямь испытаю?
— Ну!
— Вот и мне пристать некуда. Может, и мне в твоём вертепе место найдётся?
Барон, узнав, что Корецкий находится у одного из новых его знакомых, весьма понятно, стал налаживать разговор на то, чтоб и самому попасть туда же. Он мог таким образом, вместо того, чтобы искать Корецкого по городу, сейчас же свидеться с ним и переговорить. Судьба благоприятствовала ему, как он полагал, и он легко поверил этому, потому что до сих пор, в общем, ему везло в жизни счастье и, хотя и бывали неприятности, и очень сильные, но они всегда кончались благополучно.
XXXIV
Результатом разговора переодетого барона с Ершом и Пыжом было то, что барон был приглашён в «блестящее жилище», которое занимал такой джентльмен, как Пыж, то есть в его подвал.
Они провели его через огород на задний двор.
Окно подвала светилось.
— Огонь-то не потушен. Должно, тут, — заметил Ёрш, показывая на окно.
Они застали Корецкого сидящим за столом на том же месте, где они оставили его; только он опустил голову на стол и крепко спал. Пред ним стояли зажжённый фонарь и почти опорожнённые бутылки.
— Вот так пейзаж! — усмехнулся Ёрш. — Ну, вот тебе твой товарищ, — сказал он барону, — только неизвестно, годен ли он к общественной или даже частной жизни.
Барон подошёл к столу и посмотрел на бутылки.
— Ого! — удивился он. — Коньяк финшампань и бенедиктин — настоящий, заграничный!
— Что, брат, и тебе знакомы подобные сосуды? — проговорил ему Ёрш и добавил: — Ну, вот что, благоприятель новоявленный, ты тут оставайся, если хочешь, приводи, как знаешь, в чувствие своего птенца, а нам с товарищем надо на дело ещё идти, у нас время занято…
— Спите-то, небось, днём? — подмигнул барон.
— Уж там, когда б ни спали, а только недосуг нам теперь…
— Да вы что ж, идите, я останусь…
— Ну, и оставайся. В случае чего, фонарь потуши…
— Знаю. Учёного учить…
— Академик! — протянул одобрительно Ёрш, уходя вслед за Пыжом.
Барон остался один с глазу на глаз с сонным Корецким в уединённом подвале и мог с ним разговаривать так, что их никто не подслушивал. Да большего он и желать не думал.
Это было именно то, что ему казалось нужным в данную минуту.
Он, идя сюда, сомневался насчёт своей встречи с Корецким при посторонних. Тот мог назвать его по имени Стёпкой, да и не просто Стёпкой, а Тропининым! Это было бы ему во всяком случае неприятно, и даже очень…
Кроме того, барону необходимо было переговорить с Корецким наедине, без свидетелей, и он ломал себе голову, как избавиться от этих двух своих провожатых?
Впрочем, он по всем признакам видел, что это — люди дельные
[18] и поэтому, вероятно, они не станут сидеть ночью дома.
Он надеялся на это, и надежда его оправдалась. Словом, всё вышло даже сверх ожидания хорошо. Они ушли.
Барон-Тропинин прислушался к их удаляющимся шагам и до него донёсся звук захлопнувшейся входной двери. Но он не удовлетворился этим. Он последовал за ушедшими, дошёл до этой входной двери, приотворил её, высунулся и в темноте ночи видел, как две тени перелезали через забор на огород.
Убедившись, что они ушли действительно, он вернулся в подвал.
Тут коньяк соблазнил его, и он с большим удовольствием выпил полстакана. Затем он подошёл к Корецкому, взял его за плечо и начал трясти.
Сначала его усилия не привели ни к чему. Голова Корецкого моталась из стороны в сторону, но он не подавал признаков жизни, даже глаз не открывал.
— Тьфу ты, пьяная мерзость какая! — рассердился барон и снова, ещё сильнее, стал трясти Корецкого.
Тот, наконец, во сне дёрнул плечом, вырвал его из рук барона и повалился на стол в прежнее положение.
— Да проснись ты, Галактион! — воззвал барон, но безуспешно.
Он увидел, что одной тряской ему не привести в чувство Корецкого, а потому оглядел помещение подвала — не найдёт ли где-нибудь воды; но её нигде не было. Местные жители, по-видимому, вовсе не употребляли её и обходились без неё.
Но барон вспомнил, что сегодня был дождь, даже ливень и, вероятно, на дворе где-нибудь стоит кадка у водосточной трубы, наполненная водою.
Он стал искать тогда ковшика или хоть какой-нибудь посудины, но в подвале не только не оказалось воды, но даже и вместилища для неё.
Барон вышел на двор, отыскал кадку, зачерпнул воды в картуз, принёс и облил Корецкого.
Этот лёгкий душ подействовал: Корецкий открыл глаза…
— Галактион! — снова окликнул его барон.
Корецкий с усилием поднял голову и глянул, но бессмысленно — не человеческими, животными глазами…
Барон поднёс фонарь к его лицу. Корецкий отстранился, а потом шевельнул зрачками и, случайно остановившись на лице барона, уставился на него…
— Чур, чур меня! — забормотал он, отмахиваясь рукою.
Ему казалось, что он ещё спит и видит во сне неприятную ему рожу.
XXXV
Не скоро ещё пришёл в себя Корецкий настолько, чтобы понять и сознать, кто был пред ним.
— А где же Пыж? Тут Пыж был? — спрашивал он.
— Он ушёл, — старался втолковать ему барон.
— А где же мы теперь?
— У него, у Пыжа, в подвале…
— А ты кто?
— Да ты посмотри! Иль не узнаёшь?
— Так как же ты сюда попал?
— Как? Через дверь я пришёл сюда.
— А где же монеты?
— Какие монеты?
— Которые я считал сейчас… Много было монет… золотые…
— Это ты во сне видел, а я наяву.
— Наяву?
— Ну да! Проснись ты, наконец!
И барон, по крайней мере, в двадцатый раз принялся встряхивать его.
— Да ведь ты… ты… Стёпка! — вдруг вскрикнул Корецкий, как будто очнувшись, наконец.
— Тс… не смей называть меня так!..
— Стёпка Тропинин!..
— Не смей, говорят тебе! Я приказывал тебе звать меня Поддубный… я для тебя Поддубный и есмь…
— Да, да, Поддубный… Но как же ты здесь?
— По щучьему веленью, по моему прошенью…
— Ты, значит, знаком с Ершом?..
— Знаком.
— И с Пыжом?
— Тоже…
— Хорошо. Теперь понимаю…
— Понимаешь ли?
— Всё отлично. Всё могу понять, всё, — повторил несколько раз Корецкий, а сам всё-таки на всякий случай потрогал стол, пощупал свои коленки и оперся на лавку, на которой сидел, чтобы окончательно удостовериться, что не спит.
— Ну, если можешь понимать, так слушай, что я тебе скажу! — сказал ему барон.
— Слушаю.
— Ты мне опять нужен…
— Опять? Что значит — опять?
— А то, что если раз начато, так нужно кончать…
— Да ведь уж кончено… Совсем кончено… Всё…
— Кончено, да не совсем…
— Нет, совсем! Слышишь?
— Что?
— Вода плещет…
— Какая вода?
— Плещет, плещет… в темноте плещет…
— Ничего не плещет.
— Ты слушай, что я тебе говорю…
— Слушаю.
— Пойми ты, что дело наполовину только сделано…
— А вместе с тем, всё кончено…
— Как, то есть, кончено?..
— Так. Там ведь всё теперь известно. И за мной «глаз» есть…
— За тобой «глаз» есть?..
— Да…
— Ты проболтал что-нибудь, пёсья печёнка?
— Ничего я не болтал… Постой, что я хотел тебе сказать? Да… выпить бы…
Корецкий потянулся к бутылке.
— Нет, — остановил его барон, — пить я тебе больше не дам… Ты объясни, отчего «глаз» за тобой? Это ведь значит, что следят за тобою.
— Следят.
— А вексель у тебя?
— Вот в том-то и штука, что нет… Да так я и хотел тебе сказать! Ты мне напиши новый… на всякий случай, чтоб надёжнее было…
— А старый где?..
Корецкий свистнул.
— Говори, подлец, старый где?
— Пропал… в руки правосудия!..
— Какого правосудия? Что ты врёшь! Не очухался ты ещё?..
Степан Тропинин выдал Корецкому вексель на огромную сумму, чтобы побудить его стать себе помощником, и подписал этот вексель именем Степана Тропинина, не страшась этого потому, что под этим именем никто не знал его. Он жил под видом барона и вращался в таком обществе, куда Корецкому нельзя было попасть.
Корецкому же он, конечно, не открывал, что живёт под видом барона, а встретился с ним, как и теперь, переодетый. Он переодевался часто для того, чтобы находить себе помощников для своих дел. Помощники знали его, главным образом, как Стёпку Поддубного, и никак не подозревали, что этот Стёпка может быть щеголеватым бароном.
Дела же были у него разные.
Жил он широко, не отказывал себе ни в чём — одна Минна чего ему стоила!.. Для этого нужны были деньги; он доставал их игрою в карты, игрою на бирже, афёрами; а когда на этих поприщах терпел неудачу, то прибегал к другим способам, не разбирая средств.
Чаще всего он прекрасно одетым барином садился в купе на железной дороге, с заранее выслеженной жертвой, а потом печаталось в газетах, что на такой-то дороге опять похищены у усыпленного наркотическими средствами пассажира первого класса такие-то и такие-то ценности и что преступник разыскивается.
Таким образом, вексель, сам по себе, не мог быть опасен барону в руках Корецкого.
Если бы он каким-нибудь образом и попал «в руки правосудия», то пусть ищут по белу свету Степана Тропинина! Если же пришло бы время Степану Тропинину объявиться и стать наследником миллионного состояния дяди, как он рассчитывал, тогда вексель был бы опасен ещё менее, потому что из миллионного состояния легко можно было уплатить его и уничтожить.
Для барона опасен был сам Корецкий, в том случае, если бы узнали, где следует, или, вернее, где не следует, о существовании векселя.
Корецкого могли допросить по этому поводу, и он мог разболтать и выдать, при каких обстоятельствах был написан вексель.
А неудобно было для барона выяснение именно этих обстоятельств и только они грозили ему; сам же по себе вексель не представлял ничего угрожающего.
XXXVI
— Нет, я вполне очухался и всё понимаю, — настойчиво твердил Корецкий, к вящему неудовольствию барона, для которого лучше было бы, если б его слова оказались лепетом пьяного человека.
— Покажи мне вексель сейчас! — приказал барон.
— Я же тебе говорю, — улыбаясь, словно это было очень радостно, протянул Корецкий, — что он попал в руки правосудия.
— Каким образом?
— В ночлежном у меня вытащили его, а вытащил переодетый «глаз»!
— Откуда же ты это знаешь?
— Мне Ёрш сообщил; у него есть свой «глаз» в полиции.
— Да откуда же узнали про этот вексель, что он есть у тебя?
— А я показывал его тут спьяна актёру одному, товарищу этого самого арестованного.
— Дурак!
— Ну, конечно, он дурак! — согласился Корецкий.
— Да ты дурак!.. Где же ты сошёлся с этим актёром?
— В трактире.
Барону вдруг только теперь представился весь ужас его положения.
Ужас заключался в том, что теперь, откройся даже тропининское наследство, он не мог бы немедленно заявить на него свои права, потому что выданный им Корецкому вексель, очевидно, безденежный и на огромную сумму, должен был вызвать неминуемое подозрение.
— Нет, этого не может быть! — невольно воскликнул он.
— Чего? — удивился Корецкий.
— А тебя этот актёр давно знает? — спросил барон, не отвечая на вопрос.
— Давно.
— Как Стрюцкого или как Галактиона Корецкого?
— Как Галактиона Корецкого. Моя дочь у него.
Час от часа барону становилось не легче. Будь Корецкий неизвестен никому, его было бы можно выдать за богатого коммерсанта и сказать, что вексель выдан этому богатому коммерсанту, а что оборванец Стрюцкий украл у него этот вексель и выдаёт только себя за Корецкого. Но все ухищрения падали сами собой, когда действительно Корецкого, как оборванца, давно знал актёр, у которого была его дочь.
Оставалась одна надежда, что Корецкий врёт спьяна, чтобы либо напугать, либо выманить ещё что-нибудь.
— Нет! Этого не может быть! Ты врёшь! — повторил опять барон. — Покажи сейчас вексель!
Корецкий развёл руками.
— Н-н-н-е м-м-могу!
— Я говорю тебе, чтобы ты достал сейчас вексель, или я с тебя шкуру спущу!..
Барон встал и приблизился к Корецкому.
Тот рефлективным движением стал шарить у себя на груди.
— Да нет же! Вот он тут был, на верёвочке, а теперь его нет! Видишь?
— Я ничего не хочу видеть и знать не хочу! Вексель!.. — крикнул барон и ударил по столу кулаком, так что стоявшие на нём бутылки задребезжали.
Корецкий откинулся назад и вытянул руки.
— Ты чего же кричишь на меня! Услышат.
— Тут никто не услышит! Мы одни с тобой!.. Вексель, говорят тебе!..
Бешенство гнева уже охватило барона. Расчёты о тропининском наследстве и вообще о будущем отодвинулись на второй план и затуманились этим бешенством. Он видел только настоящее, а в настоящем пред ним был человек, который мог выдать его с головой; глупый, пьяный человек, оказавшийся совсем не таким, каким счёл его барон, когда взял себе в помощники.
В первый раз в жизни он ошибся в человеке; надо было во что бы то ни стало поправить эту ошибку и уничтожить этого человека.
Глаза барона налились кровью, он наступал на Корецкого.
Тот оробел пред ним и, оробев, стал слезливо и подло искать спасения в унижении и мольбе.
— Вот тебе клятву даю, — завопил он, — что, будь только у меня этот вексель, я отдал бы тебе его, пропади он совсем!.. Но его нет у меня, нет… что хочешь, делай…
Сомнения не оставалось: у Корецкого векселя не было.
Барон кинулся на него, но не рассчитал своего движения; они скатились на пол, перевернули скамейку.
У барона сверкнул нож в руках, выхваченный им из-за пазухи, и подвал огласился отчаянным криком Корецкого.
Барон был сильнее его, гораздо сильнее и знал наверное, что справится с ним. Он и не с такими справлялся! Помощи же Корецкому ждать было неоткуда!
Но тут случилось нечто совершенно неожиданное ни бароном, ни Корецким. Неизвестно откуда выскочили, словно из-под земли выросли, двое людей, бросились на барона и высвободили из-под него Корецкого.
Барон вскочил на ноги, рванулся и бросился к двери.
Эти двое были Ёрш и Пыж, явившиеся на выручку Корецкого, хотя и не совсем вовремя.
Корецкий лежал на земле, рубашка у него была окровавлена, барон успел нанести ему рану ножом.
Ёрш и Пыж не преследовали бежавшего барона, у них было дело гораздо более серьёзное — возле раненого Корецкого.
В только что происшедшей свалке бородка у Ерша оказалась сорванной с левой щеки. Явно было, что она у него не своя, а поддельная, но Корецкий не мог это заметить: он недвижным пластом лежал на земле с закрытыми глазами.
Ёрш, не обращая уже внимания на свою отставшую бороду, наклонился над Корецким и осмотрел его.
Рана была в живот, большая, и из неё лила кровь. От потери крови Корецкий впал в беспамятство.
— Эк он хватил! — сказал Ёрш.
— Надо доктора! — сказал Пыж. — Ты иди, я останусь, сделаю перевязку. У меня тут в шкафу есть чистая рубашка, её изорву для бинта…
— Не выживет, пожалуй.
— Авось!
— А ведь если умрёт, всё пропало…
— Ну, не всё. Теперь и без него довольно известно… Иди за доктором.
И Ёрш пошёл, но не в ту дверь, которая служила сообщением для обыкновенного выхода из подвала и в которую бежал барон, а в ту, которая была в боковой стене и казалась наглухо запертою.
XXXVII
На другой день утром барон сидел с Минной на балконе загородного домика, где она жила.
Они пили кофе.
Стол был накрыт новою цветною скатертью, на серебряном подносе шипел серебряный кофейник, чашки были фарфоровые с голубыми цветочками и к ним весь прибор такой же.
Кофе был подан на английский манер — с холодным мясом, ветчиной, яйцами всмятку, сливочным маслом. Это был целый завтрак. Даже вишни стояли в хрустальной, игравшей на солнце вазочке.
Утро было великолепное. От вчерашней грозы и помина не осталось. Только земля ещё не совсем просохла и была влажна, но эта влага убила пыль и давала свежесть, способствовавшую прелести утра.
Барон в белом фланелевом, с полосками, костюме, в мягкой цветной рубашке и жёлтых туфлях сидел, положив ногу на ногу, и медленно тянул дым папиросы, вставленной в янтарный мундштук с серебряным вензелем и короной. Он был немного бледен, но по виду очень спокоен и невозмутим.
Минна злилась и кусала себе губы.
— Я тебе говорю, что ты сделал глупость! — авторитетно заявила она, взяв ножичком масла и намазывая его на хлеб.
Барон покачивал ногою и смотрел через перила балкона на видневшуюся сквозь деревья сада реку внизу, под спуском.
— Может быть, — ответил он, выпуская струю дыма, — но что сделано, то сделано.
— Не надо было давать этот проклятый вексель, я говорила!..
— А что же было делать?
— Придумать что-нибудь другое…
— Что ж ты не придумала?
— Ты меня не спрашивал. Вот и вышло глупо, очень глупо!
— Но во всяком случае глупость наполовину поправлена. Если он не умер на месте, то всяком случае не выживет. Удар должен быть смертелен. Мой боном
[19] изъят из обращения…
— Но вексель не изъят…
— Немая бумага!
— Однако её достаточно, чтоб проститься с расчётом на наследство.
— Нисколько. Придётся отложить это наследство на несколько месяцев, самое большое, на год, и только…
— Ты разве уже имеешь план действий?
— Имею. Представь себе, что я иду на какую-нибудь фабрику и нанимаюсь рабочим по паспорту Степана Тропинина. Это имя нигде не скомпрометировано. Там, где я бывал Степаном Тропининым, я безукоризнен. Все неприятности происходили для меня под другими именами. Хорошо. На фабрику нанимается Степан Тропинин, честный рабочий, и служит и работает безукоризненно. Он не пьёт, послушен, словом, образец добродетели. Так проходит год. Он зарекомендовал себя. В это время умирает богатый фабрикант Валериан Тропинин…
— Умирает?
— Это подробность. Тут ты можешь подействовать или там, смотри по обстоятельствам… Это не важно. Он умирает. Ищут наследников. Является двоюродный брат, честный рабочий с такой-то фабрики. Общее сочувствие на стороне рабочего. «Как, дескать, богатый Валерьян Тропинин оставлял в нищете своего родича!.. Вот он был каков, а мы и не знали…» Документы все в порядке. Идёт процедура утверждения в наследстве. Она не долга. Всплывает вексель. «Это ваш?» — спрашивают честного работника. «Нет». — «Подпись ваша?» — «Нет». — «Корецкого знали?» — «Нет». — «Откуда же этот вексель?» — «Не знаю, вероятно, на моего покойного двоюродного брата был замысел…» Словом, тут варьировать можно на разные темы. Но факт, что в руках честного рабочего миллион, честно пришедший к нему в руки, а с этими деньгами можно обелиться… Если будут у честного рабочего с миллионом враги, то друзей ещё больше найдётся…
— Так ты изменил руку, когда подписывал вексель?
— Ну, разумеется. Ведь, я специалист по графологии. Ни один эксперт не узнает…
— Ты знаешь, тебе бы тенором быть! — покачала головою Минна.
— Что так?
— Поёшь хорошо!.. Только где-то сядешь?..
— Авось на хорошее место…
Барон хотел ещё что-то сказать, но умолк, уловив своим необычайно чутким слухом движение в гостиной, из которой была дверь на балкон, где они сидели.
Из гостиной в самом деле сейчас же показалась горничная, молоденькая, одетая в сатинетовое платье с батистовым передником и в гофрированном чепчике, такая, какие обыкновенно бывают только на сцене.
Она подала Минне на подносе визитную карточку.
Та взяла и прочла:
— «Иван Иванович Козодой, исправник». Что ему нужно? — удивилась она.
— Проси, так и узнаешь, — спокойно посоветовал барон. — С такими людьми нужно быть вежливой. Пригодятся!..
— Проси! — сказала Минна.
Через некоторое время на балкон не вошёл, а ввалился тучный человек в полицейской форме — местный исправник.
— Честь имею рекомендоваться, очень приятно, — заговорил он. — Я к вам заглянул проездом, наведаться, всё ли у вас благополучно… Не терпят ли обыватели каких неудобств!..
— Позвольте… — начала Минна.
— Вы курите? — спросил, перебивая её, барон у исправника и протянул ему портсигар.
— Благодарю вас, у меня свои есть… Нет, шутки в сторону, сударыня, — обратился он к Минне, смотря на неё масляными глазами, — дело в том, что вы живёте одни, почти в поле, а кругом в последнее время неладно… Вот дочь Тропинина убили, нынче в ночь обворовали дачу по соседству. Вы ничего не замечали подозрительного? У вас всё спокойно?..
— Благодарю вас… всё, — ответила Минна. — Хотите кофе?
Она держала себя с исправником так непринуждённо, что даже сам барон мысленно одобрил её.
Исправник поклонился.
— Очень благодарен. Не пью. Мне для здоровья кофе вреден… сердцебиение. Так у вас всё спокойно? Ну, и отлично. А то нынче народ развёлся… Беда, если уезд примыкает к губернии. С городской полицией не оберёшься одной переписки…
— Да, вообще — бумажное делопроизводство! — заметил барон.
— Вот именно, бумажное, — подхватил исправник, и разговор завязался очень беглый и даже интересный.
В разгаре этого интересного разговора барон опять уловил шаги в гостиной, но на этот раз это были шаги не горничной, а чьи-то мужские, что было несколько странно, потому что кучер, дворник и садовник в комнаты не допускались, а в доме, кроме него, барона, других мужчин не было.
Однако ждать не пришлось барону долго.
В дворик явились два коренастых стражника; один из них держал в руках окровавленную одежду, которая вчера была на бароне и которая была спрятана наверху, в комнате Минны.
Для барона сразу всё стало ясно. Пока они сидели и разговаривали с исправником, наверху происходил обыск. Искали эту одежду и нашли её.
Барон вскочил.
Первым движением его было стать поближе к перилам, но и из-за перил в эту минуту показались ещё три стражника.
Барон и Минна были окружены со всех сторон.
Тучный исправник грузно поднялся со своего места и проговорил, обращаясь к барону и Минне:
— Ну, что ж тут делать? Я должен, сами видите, взять вас под стражу.
Минна грохнулась на пол в настоящем или, может быть, притворном обмороке, но барон и тут, когда всё, как казалось, было для него потеряно, владел собой.
— Позвольте!.. За что же?.. — спросил он, пожимая плечами.
— За убийство дочери фабриканта Тропинина и за нанесение тяжкой раны своему сообщнику Галактиону Корецкому! — ответил исправник.
И на это барон не мог ничего возразить ему.
XXXVIII
В то время, как в домике в Нагорном происходил арест барона и Минны, в городе к дому Тропинина подходил Пыж, с подвязанной щекой.
По-видимому, отлично зная дорогу, он смело повернул в фигурные ворота, миновал палисадник, отделявший дом от улицы, и направился вокруг дома к заднему крыльцу, к кухне. Здесь он попросил, чтобы ему вызвали камердинера Власа Михайловича.
Когда старик пришёл, Пыж сказал ему, чтобы он передал панне Юзефе, что он прислан к ней от Галактиона Корецкого и что ему нужно непременно видеть её немедленно.
Панна Юзефа была дома; она не поехала сегодня на кладбище, потому что ждала каких-нибудь известий от Корецкого.
Из того, что вчера к её извозчику подошёл и сказал, что предприятие нужно отложить до завтра, не сам Корецкий, а другой, незнакомый ей человек, она поняла, что он действовал не один. Было весьма вероятно, что вчера ему помешал кто-нибудь, вероятно, этот актёр.
Но Корецкий обещал через своего посланного, что он даст знать ей сегодня, и панна Юзефа ждала.
Увидав Пыжа, она, конечно, сейчас же узнала в нём того человека с подвязанной щекой, который вчера подходил к её извозчику и который сказал ей: «Что отложено, то не потеряно».
— Ну, что? — встретила она его. — Вы от Корецкого? Есть какие-нибудь новости?
— Есть… Большие… — ответил Пыж. — Сегодня можно кончить дело.
— Слава Богу! — сказала панна Юзефа.
— Только нужно, — пояснил Пыж, — чтобы вы сейчас отправились за мной.
— Куда?
— Куда я вас поведу. К Корецкому. Сам он прийти не может.
— Ну да, понимаю, — решила вслух панна Юзефа, — он не может оставить девочку и боялся привести её сюда. Это хорошо с его стороны.
— Так вы пойдёте?
Панна Юзефа подумала и спросила:
— Это за городом или тут где-нибудь, в городе?
— Тут, в городе, близко, — успокоил её Пыж, — пешком легко пройти.
Было утро, местность была самая людная во всём городе. Поэтому панне Юзефе нечего было бояться. Да и, кроме того, она всегда могла остановиться и не пойти, если б место, куда её звали, оказалось слишком подозрительным.
Она надела мантилью и шляпу, опустила вуаль и отправилась вслед за Пыжом.
Они сделали несколько поворотов по улицам (он шёл впереди, она сзади, как будто не было между ними ничего общего) и подошли к трёхэтажному дому.
Панна Юзефа сейчас же
узнала этот дом. Он принадлежал Валерьяну Дмитриевичу Тропинину и здесь, между прочим, была небольшая литография, поставлявшая ярлыки на фабрику Тропинина. Остальное население дома составлял торговый и мастеровой люд. Со стороны улицы два этажа были заняты магазинами.
Пыж повернул в ворота этого дома.
— Разве здесь? — спросила панна Юзефа, нагоняя его воротах.
— Здесь, — ответил Пыж.
Им повстречался дворник и, узнав панну Юзефу, поклонился ей.
Это окончательно убедило её, что она в полной безопасности и может следовать за Пыжом.
Они перешли большой первый двор, миновали вторые ворота, затем, через второй двор и маленький узкий закоулок, очутились у двери в тот самый подвал, где проживал у Пыжа Корецкий и куда они проникали с другой стороны — через огород и забор.
Хотя панна Юзефа и чувствовала себя в безопасности, потому что этот дом принадлежал Валерьяну Дмитриевичу Тропинину, но всё-таки её сердце сжалось, когда она входила в подвал.
Войдя, она увидела лежавшего на топчане Корецкого, покрытого новым байковым одеялом.
У его изголовья стояла табуретка со стеклянками разных медикаментов.
Корецкий был очень бледен. Голова его неподвижно лежала на подушке. Подушка была удобная, с чистой хорошей наволочкой.
Эта чистота постели и медикаменты несколько успокоили панну Юзефу.
Она не успела ещё решить, как было бы лучше: чтобы ушёл провожатый, приведший её сюда, или, напротив, остался. Но Пыж сам решил этот вопрос: он ушёл.
Панна Юзефа оглянулась и увидела, что она одна с Корецким в подвале.
В это время Корецкий открыл глаза, взглянул на панну Юзефу и узнал её. Мертвенная бледность его лица делала это лицо более симпатичным и похожим на то, каким его знала Юзефа. Губы его судорожно шевельнулись, и он не сразу, с усилием выговорил:
— Умру…
— Что с вами? — спросила его панна Юзефа. — Что всё это значит? Почему вы лежите? Почему эти лекарства?..
— Это значит, что я умру…
— Но ведь вчера ещё я видела вас… вы были здоровы…
— А сегодня… вот… — и он не договорил.
— Что же случилось?..
— Один удар ножа — и всё…
— Вы ранены?
— И, говорят, насмерть!.. Да и сам я это чувствую… Я поэтому и призвал вас… Спасибо, что пришли…
— Я не знала, что с вами случилось несчастье! Я думала, что вы меня зовёте для дочери!
— Да… я вас и призвал для дочери… именно для неё… Мы с вами были плохие родители, панна Юзефа… я был дурной отец… вы были мать ещё хуже… Впрочем, может быть, и я был хуже… но бедная девочка, чем же она виновата?.. Хорошо ещё, что нашёлся добрый человек, который приютил её, взрастил… полюбил… и пожалел… А ведь без него пропала бы она… панна Юзефа!.. И как вы мне тогда подкинули её?..
— Ну, оставим прошлое! — остановила его панна Юзефа.
— Да… оставим… — продолжал Корецкий. — Надо спешить… о настоящем… и о будущем… в будущем вы уже не оставляйте её… заботьтесь о ней… заслужите пред нею свою и мою вину… потому что я уже не смогу это сделать… Со мной уже кончено… Пусть она не очень… того… клянёт своего отца… а главное… пусть никогда она не узнает… что её отец… был виноват… Да и не был я виновен… я ведь помогал только… Правда, я кинулся к её велосипеду… и свалил её… но он задушил её… Он её убил… а потом… мы вместе отнесли её к реке.
Панна Юзефа нагнулась к Корецкому. Она ничего не понимала, не могла уловить связь в его словах и думала, что у него начинается болезненный бред.
— Да, да, хорошо! — проговорила она. — Только какой велосипед? Про кого это вы?..
— Да… вы этого ещё не знаете, но я уже признался во всём и всё рассказал: Ромуальд-Костровский не виноват… я про вашу воспитанницу говорю… про дочь фабриканта Тропинина…
Панна Юзефа глубоко забрала в себя воздух, вытянулась и почти безумными глазами уставилась на Корецкого. Бледная, как смерть, она задвигала посиневшими губами, задёргала головой и замахала рукой, как будто хотела отстранить от себя что-то надвигавшееся на неё.
— Нет! — отступая, судорожно захрипела она. — Нет!.. Ты убил свою дочь!.. Свою дочь!.. Ведь это была не Тропинина, а твоя и моя дочь… Я подменила ребёнка… и ты… ты… отец… убил её!..
Она зашаталась, упала на землю и стала биться в страшных истерических рыданиях, перемешанных с диким, отчаянным хохотом.
Дверь в боковой стене подвала отворилась и из неё вышли Пыж, Козодавлев-Рощинин, камердинер Влас Михайлович и Валерьян Дмитриевич Тропинин. Он, стоя рядом, за дверью, слышал всё!
Козодавлев-Рощинин достиг своего вполне.
Он представил Тропинину полное и неоспоримое доказательство, что его дочерью была не убитая и похороненная Лиза, а живая и благополучно здравствовавшая Маничка.
XXXIX
Да, это сделал Козодавлев-Рощинин и не кто другой, как он нашёл тайну запутанного дела.
Если кто-нибудь раньше уже сделал то, что было невдомёк Корецкому, то есть узнал в оборванце Ерше комика Козодавлева-Рощинина, тот не ошибся.
Оборванец Ёрш был не кто иной, как переодетый Козодавлев-Рощинин, а его товарищ Пыж — актёр-простак Волпянский, с которым Рощинин подружился и сблизился после того, как они вместе ходили покупать пять пудов синей краски.
Роли у них были распределены таким образом, что, пока Козодавлев-Рощинин, под видом Ерша, ходил и распутывал запутанные нити сложного дела, Волпянский, в качестве Пыжа, должен был наблюдать за Корецким и в случае чего оберегать от него Маничку.
Он это и сделал с удивительною находчивостью, когда одурачил не только Корецкого, но и панну Юзефу.
Пришедший ему в голову рассказ про «глаз», то есть про сыщика, и комедия, разыгранная якобы на проходном дворе, были положительно гениальны. Он ведь и город-то знал мало, и завёл Корецкого на первый попавшийся двор, который вовсе и не был проходным. Он мастерски разыграл свою роль и всё предусмотрел до мелочей, даже подвязанную щёку, повязка на которой ему была нужна для того, чтобы (всего можно было ждать) в случайной драке не свалилась искусственная бородка, как это случилось в последний момент у Ерша.
Впрочем, Ершу не представлялось необходимости брать такие предосторожности, потому что он не был в таком постоянном общении с оборванцем Корецким, как Пыж.
Козодавлев-Рощинин появлялся, переодетый Ершом, лишь тогда, когда это было необходимо, но действовал также и под своим собственным видом комика-актёра.
В ночлежном приюте стащил у Корецкого вексель тоже он, Козодавлев-Рощинин, а вовсе не сыщик, как говорили они Корецкому, чтобы подействовать на его трусость и держать его этим в своих руках.
После своего разговора со следователем, Рощинин решил действовать самостоятельно и обратиться к властям только тогда, когда всё уже будет достаточно выяснено. Он позвал к себе в пособники своего брата-актёра Волпянского и тот согласился помогать ему, разумеется, совершенно бескорыстно, главным образом, из любви к искусству, чтобы проверить себя, достаточно ли хорошо он играет на сцене, проверить, разыграв довольно сложную роль в жизненной драме.
Превращались они в Ерша и Пыжа на сцене при помощи парикмахера, работавшего в театре и посвящённого в тайну.
Был ещё человек, посвящённый в эту тайну, — камердинер Тропинина Влас Михайлович. Ему Козодавлев-Рощинин открылся после своего посещения Тропинина, когда его поразило сходство Манички с портретом.
Оказалось, что Влас Михайлович и раньше, не имея никаких ещё данных, только по одному чутью, зная, какова была убитая Лиза, смутно подозревал, что не могла уродиться такая дочь у Валерьяна Дмитриевича, человека безукоризненного во всех отношениях, и его кроткой жены.
Когда Козодавлев-Рощинин сообщил ему свои соображения и те данные, ещё не ясные, которые он имел в пользу их, Влас Михайлович изъявил готовность содействовать выяснению истины, условившись с Козодавлевым-Рощининым открыть её Тропинину только тогда, когда никаких сомнений уже не будет.
С тех пор он в доме следил за панной Юзефой и не зря приходил сам, чтобы сообщить ей о приходе Корецкого. Он постоянно сносился с Рощининым и давал ему знать, что происходило в доме, а тот, в свою очередь, говорил ему о том, что приходилось узнать ему.
Благодаря же Власу Михайловичу, было устроено и помещение в подвале, который служил якобы жилищем мнимому Пыжу. Этот подвал находился на задах одного из домов, принадлежащих Валерьяну Дмитриевичу, и управляющий домом, поставленный, кстати, на своё место Власом Михайловичем и приходившийся племянником ему, конечно, беспрекословно исполнил всё, что приказал ему дядя: отвёл подвал и строго-настрого запретил дворникам не только беспокоить чем бы то ни было поселившихся там жильцов, но и показываться к ним.
Дом был старинный, или, вернее, старинной постройки, ещё XVIII века; в нём был надворный флигель, где помещался подвал. Когда-то он принадлежал, должно быть, какому-нибудь масону или члену какого-нибудь другого тайного общества. Это было очевидно по потайной лестнице, сохранившейся из верхнего этажа флигеля в подвал.
Эта лестница пригодилась теперь и сослужила свою службу. По ней спустились Ёрш и Пыж, чтобы, притаясь за дверью, услыхать разговор Корецкого с бароном.
Они слышали весь этот разговор, конец которого был так неожиданно поспешен, что они не могли прийти вполне вовремя на помощь Корецкому.
К властям обратились они только тогда, когда рана, нанесённая «бароном» Корецкому, делала невозможною дальнейшую тайну. Впрочем, тайна уже была тогда не необходима, потому что дело представлялось вполне выясненным.
Козодавлев-Рощинин отправился за доктором, привёз его и сейчас же поехал к полицмейстеру и судебному следователю.
Он застал их в клубе и рассказал им всё.
Немедленно же был снят допрос с Корецкого, которому доктор вернул сознание, и было отдано распоряжение об аресте барона и Минны.
Корецкий дал вполне чистосердечное показание.
XL
Арестованный «барон», то есть Степан Тропинин, оказался по антропометрическим данным судившимся уже, сосланным в Сибирь и бежавшим оттуда, так что, кроме последнего убийства девушки, у него уже были давнишние счёты с правосудием.
Рижская мещанка Минна Францовна Кукольгам судилась как его пособница.
Галактиону Корецкому не пришлось фигурировать на суде: он умер от полученной им раны прежде, чем кончилось даже следствие по делу. Таким образом, приняв Божью кару, он избёг людского возмездия за свою вину…
Избежала также земного правосудия и его бывшая сожительница панна Юзефа, но Провидение наказало её: после страшного припадка, поразившего Юзефу у одра умирающего Корецкого, она уже не приходила в себя и мало-помалу впала в помешательство. Она сидела целый день и нянчила завёрнутое в тряпку полено, обращаясь к нему со всякими ласкательными наименованиями, и говорила, что это — её дочь.
«Безнадёжный» трагик Ромуальд-Костровский в тюремном лазарете вылечился от припадка белой горячки, во время которого он сделал своё несуразное признание в убийстве. Его освободили, как совершенно невиновного и не причастного к делу.
Антрепренёр Антон Антонович намеревался было вычесть у него из жалованья за всё время невольного пребывания его в заключении, но публика так повалила в театр, чтобы посмотреть на невинно пострадавшего артиста, что он потребовал и добился от антрепренёра прибавки.
Но такой шумной овации, какая была устроена публикой Козодавлеву-Рощинину и простаку Волпянскому, когда они появились на сцене в первый раз после тропининского дела, не было, кажется, никогда. Зал стонал, хлопал, стучал, ревел от восторга; на них сыпались цветы, вызывали их бесчисленное множество раз…
Сезон, хотя и летний, вышел для антрепренёра по сборам блестящим. Он уехал из города со значительной суммой чистого барыша.
Валерьян Дмитриевич Тропинин заболел после перенесённых им потрясений. Его болезнь была «на нервной почве», как говорили лечившие его доктора. Он поправлялся медленно и своим выздоровлением был обязан не столько врачебным средствам, хотя, разумеется, недостатка в них не было, сколько уходу не разлучавшейся с ним дочери. С ним была его дочь, его единственная, любимая.
* * *
Прошло пять лет.
На заграничном дорогом курорте, куда съезжаются люди, собственно, не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы весело и приятно провести время, всё общество не могло не обратить внимания на удивительно милую русскую семью, занимавшую лучшее помещение в лучшем и самом дорогом отеле.
Семья состояла из почтенного дедушки, пившего воды больше для порядка, но, в сущности, вполне бодрого и весёлого, добродушного дяди, вечно возившегося с ребятами — даже чужими и накупавшего им лакомства и всяких безделушек, молоденькой женщины, её мужа и двух их деток — мальчика и девочки…
Эта семья жила так дружно, их жизнь была так полна, что они не знакомились и не сходились ни с кем.
Любопытные, справлявшиеся в курортном листке, где помещался список всех приезжавших, читали там: «Валерьян Тропинин из России, коммерсант; Козодавлев-Рощинин, артист…», затем стояла одна из старинных русских дворянских фамилий с приставкою «фон» и прибавкою «с женою и семейством».
Женою этою была Маничка, дочь Валерьяна Дмитриевича, а её муж был не кто иной, как бывший простак Волпянский, взявший это имя псевдонимом для сцены, а на самом деле принадлежавший к старинному роду. Он покинул театр, бросил привычку говорить иностранные слова, которую, впрочем, привил себе больше ради дурачества, чем по незнанию, и был серьёзным помощником Тропинина в его делах.
Маничка по-прежнему звала Козодавлева-Рощинина «дядя Андрей», и он не разлучался с ними. Но сцены он не бросил; Тропинин арендовал для него театр, он стал держать антрепризу и в первый же год выплатил Валерьяну Дмитриевичу всю до копейки театральную аренду. Дела у него шли блестяще. В денежных вопросах он был щепетилен до того, что даже теперь за границей путешествовал на свой счёт. Одно, что он дозволил себе — переехать на житьё в дом Тропинина, чтобы не разлучаться с Маничкой.
Само собой разумеется, что она с мужем и детьми жила в доме своего родного отца Валерьяна Дмитриевича.
Капитан «Дедалуса»
1
Стоявший на мостике при вахтенном офицере ученик прошёл на ют и убрал оттуда лаг — особый аппарат, служащий для определения скорости парохода в открытом море. Это служило первым признаком приближения к берегу, особенно приятным после семидневного морского перехода.
Затем к борту подошла лоцманская шлюпка, и на вахтенном мостике, куда вышел капитан из своей каюты, появился в белой чалме араб-лоцман.
Мы подходили к Порт-Саиду. В самом названии этом мне чудилось нечто особенно поэтическое. Воображению представлялись пальмы, сады, постройки в восточном вкусе, минареты и золотые купола мечетей.
Береговая полоса подвигалась всё ближе и ближе. Показался мол, образующий гавань, и вырисовывалась башня маяка, белевшая издали. Мы прошли вход в гавань. Берег был уже близко, но напрасно всматривался я, думая найти созданную воображением картину.
Неуклюжие, похожие на сараи постройки, теснились на набережной, чёрной от копоти каменного угля.
Замедлив ход до самого тихого, мы чуть заметно, осторожно вползли среди леса мачт и труб, и огромный пароход наш, найдя себе удобное место, бросил якорь.
Порт-Саид обманул всецело мои ожидания. Ни пальм, ни садов, ни строений — ничего мало-мальски ласкающего глаз нельзя увидать в нём. Портовый город, выросший у начала Суэцкого канала: он не имеет даже вида города, а походит скорее на обширную ярмарку, состоящую из рядов лавок.
Это не более, как утоптанное, попорченное человеческим жильём место, куда скучились люди ради наживы, с тем чтобы при первой же возможности переселиться отсюда.
Дома, похожие на балаганы, теснятся плотно друг к другу. Вместо всяких садов и зелени торчат два пыльных деревца, не дающие тени, а кругом песчаная пустыня, неприветливая и ровная.
Осматривать в Порт-Саиде решительно нечего. Но в первую минуту после семи дней морской качки всё-таки приятно почувствовать под ногою твёрдую почву даже здесь.
Ничего характерного, восточного нет в Порт-Саиде. В лавках торгуют итальянцы, греки и более всего евреи. Лавки устроены наподобие европейских магазинов. Достать в них можно всё, что угодно. Есть хороший книжный магазин, где полная свобода торговли всеми запрещёнными европейской цензурой книгами.
Единственно, на что пригоден Порт-Саид: в нём можно приготовиться к путешествию в тропиках и запастись всем необходимым для этого.
Первым делом я остригся под гребёнку у итальянца-парикмахера. Затем пошёл по лавкам и купил себе по указанно опытных людей пробковый шлем, обтянутый полотном, три тропические костюма, фланелевый набрюшник, широкий кушак и холстяные туфли.
Покончив с покупками, мы пообедали в гостинице, называвшейся «Европейской» и содержавшейся греком. К закуске подали сардинки с маслинами. Обед состоял из нескольких блюд, по качеству немногим отличавшихся от того, чем кормят в петербургской греческой кухмистерской где-нибудь на Гороховой.
Мы сидели ещё за обедом, когда стемнело, как темнеет на юге: то есть вдруг, быстро и неожиданно, без постепенного перехода от света к мраку; сумерки настолько коротки тут, что их почти не заметно.
Вечером в Порт-Саиде можно идти в любой из кафешантанов, которые теснятся на набережной, или же в залу, где играл, когда я был там, дамский оркестр и вертелась рулетка. Всё это было ужасно бедно и грязно и нищенски обставлено. У рулетки действовали какие-то подозрительные личности.
Так называемые кафешантаны состояли из ряда балаганчиков, где пели и кривлялись французские, потерявшие голоса певцы и певицы и танцевали итальянские балерины. Публика сидела на самой набережной под открытым небом за столиками и пила пиво и вино.
Царил обыкновенный в портовом городе разгул, где почему-то нравы свободнее.
Это не только не представляло ничего интересного, но просто было противно. Жаркий неподвижный воздух, несмотря на «открытое небо», был душен, как под низким потолком, и пах вином, пивом и табачным куревом, к чему примешивалась ещё копоть от пароходных труб. Певцы и певицы визжали, музыка барабанила и фальшивила отчаянно, публика громко кричала. Я убежал с набережной, куда глаза глядят…
Возвращаться на пароход было ещё рано. Хотелось подольше погулять по земле, от которой отвыкли ноги.
II
Шум и гам были только на набережной. Остальной Порт-Саид был безмолвен и тих, погружённый в ночную тьму.
Казалось, что идёшь вечером по запертому гостиному двору, где нет жилья, а только закрытые ставнями и болтами лавки. Было за полночь…
Очередь нашего парохода войти в Суэцкий канал приходилась в два часа ночи. Опоздать я не боялся. Я шёл и глядел на звёздное небо, ярко горевшее надо мною. По сторонам глядеть было не на что.
Сначала грохот музыки доносился до меня с набережной, потом он стал всё тише и тише. Я с радостью заметил, что ушёл от него достаточно далеко и был почти на рубеже города, противоположном набережной.
Строения здесь дальше отстояли друг от друга. Впереди виднелась степь. Прохожих и встречных не было. То есть, может быть, — и вероятно даже — и были они, только я не заметил их.
Мне казалось, что я иду по вовсе вымершему городу: до того он был безлюден.
Вдруг словно меня толкнуло что — я оглянулся. Мне почудилось, что за мною вблизи, тут вот есть кто-то. У тёмной стены дома, действительно, глаза разглядели закутанную платком фигуру. Она приостановилась, прижалась и съёжилась. Она шла за мною. Не знаю, почему пришло мне это в голову, но я был уверен в ту минуту, что она шла за мною. Первым моим движением было вернуться назад. Потом мне стало стыдно. Положим, я был безоружен, но и пугаться, в сущности, причины не было. У стены дома в нескольких шагах от меня стояла девочка-арабка, подросток. Теперь я разглядел её. Она стояла и пристально смотрела на меня, видимо, робея и не решаясь, что делать ей дальше.
Наконец она, как бы взяв себя в руки, зацокала несколько вперёд и махнула рукой, поманив меня.
— Москов, карашо, москов, карашо… — повторила она несколько раз.
Я достал кошелёк, вынул монету и протянул ей. Она замотала головой, сделала несколько шагов и снова стала манить.
— Москов, карашо!..
Я направился к ней, не понимая совершенно, что ей было нужно от меня.
Она радостно закивала и мелкой рысцой побежала, оборачиваясь, чтобы удостовериться, иду ли я за нею.
Я шёл. В том, что она признала во мне «москова», то есть русского, не было ничего удивительного. Приход каждого большого парохода сейчас же становился известен всему Порт-Саиду, и едва успеет судно бросить якорь, как на палубу его является целая разношёрстная толпа торговцев, комиссионеров и разного сорта людей, предлагающих свои услуги и желающих так или иначе поживиться чем-нибудь от пассажиров.
Самая большая нажива перепадает от русских, и «москов» — желанный гость во всех портах Востока.
Девочка, видимо, следила за мною давно и не без колебания решилась заговорить со мною. Было что-то беспокойное, торопливое в её походке и в том, как она оборачивалась и манила меня.
Сделав первый шаг за ней, я уже не думал о том, чтобы обратиться в постыдное бегство.
«Пусть она ведёт меня, — подумал я, — ничего особенного стрястись не может, и во всяком случае это интересно».
В ту минуту я вовсе забыл рассказы о разбойничьих притонах, куда заманивают неопытных проезжих в далёких городах. Да и всегда как-то кажется, что ваши рассказы сами по себе, а жизнь, то есть то, что окружает вас, что вы видите и что вас касается, тоже само по себе, и всё, что кругом — так просто, что не может представлять ни страха, ни опасности.
Девочка, довольная, что я послушно следую за ней, бодро бежала вперёд.
Мы двигались по прямому направлению. Город остался позади. Местность была ровная, точно укатанная: без рытвин и пригорков. По сторонам дороги попадались шалаши и маленькие, плохо сколоченные домики.
К одному из них вдруг круто и быстро повернула девочка, подбежала к двери, подняла завешивавший её ковёр и остановилась, как бы приглашая меня войти.
В треугольнике двери с поднятым ковром виднелся свет. Внутри горела лампа.
III
Я вошёл, наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолоку двери.
Убранство комнаты, в которую я попал, не совсем соответствовало внешнему виду убогого домика и казалось как будто даже слишком роскошно для него. Правда, состояло оно почти исключительно из ковров, но ковры были очень хорошие, и покрывали они сплошь стены, потолок и пол.
Лампа стояла на низеньком столике у широкой тахты. На тахте лежала бледная больная женщина. Исхудалое лицо её с большими чёрными глазами, почти совсем синие губы и совсем сквозные руки служили несомненным признаком, что больная страдает давно и истощена очень сильно своею болезнью.
Девочка опустила за мною ковер на двери и, сама проскользнув мимо меня, прошла к больной. Она сказала ей что-то на непонятном мне гортанном языке. Больная с трудом перевела на меня глаза и, сделав усилие, произнесла:
— Вы русский?
Услышать родную речь здесь я ожидал всего менее.
— А вы, вы тоже русская? — невольно спросил я в свою очередь.
Девочка-арабка замахала мне рукой и приложила палец к губам в знак того, чтобы я молчал. Больная тяжело вздохнула и стала шевелить губами. Я прислушался.
Мне показалось, что она шепчет какое-то незнакомое слово, что-то вроде «Тотелос».
— «Тотелос?» — повторил я за нею.
Она качнула головой и снова зашептала.
— «Даделус!» — расслышал я наконец, снова повторил, но всё-таки ничего не понял.
Она закрыла глаза, показав этим, что я произнёс верно.
— Что это такое? — спросил я. — Я не знаю.
Лицо больной конвульсивно подёрнулось.
— Маяк, маяк!.. — произнесла она настолько громко, что девочка-арабка, испугавшись, дрогнула и протянула к ней руки.
Я понял, что мне хотят объяснить что-то, может быть, дать какое-нибудь поручение относительно этого маяка. Значит, он должен лежать на моём пути.
— «Даделус»… маяк, — повторял я, — он стоит в Красном море?
Глаза закрылись и ответили мне: «Да».
— Хорошо, я иду теперь в Аден, — стал спрашивать я, — «Даделус» попадётся на нашем пути?
— Да!..
— Я не морской офицер, — пояснил я, — плаваю в первый раз и потому не знаю маяков. Но «Даделус» запомню, будьте уверены… Что же дальше?
Губы больной делали новые усилия. Наконец я едва расслышал:
— Махните три раза платком…
В первую минуту я опять ничего не понял. Мне показалось сначала, что она хочет, чтобы я сейчас стал махать платком зачем-то.
Больная, видя, что я не понял, забеспокоилась.
— Вы хотите, — вдруг сообразил я, — чтобы я, проезжая мимо этого маяка, махнул платком три раза, да?
Больная радостно улыбнулась.
— Да, да!..
— Я обещаю вам, что сделаю это. Что вам ещё угодно?
Глаза остались закрытыми, губы были неподвижны. Я выждал некоторое время, чтобы дать ей отдохнуть. Девочка-арабка не спускала с неё глаз. Я тоже молча смотрел и ждал.
— Что же дальше, что ещё хотите вы, чтобы я сделал? — снова спросил я.
Больная опять открыла глаза и глянула на меня, зашевелив губами.
Но как ни вслушивался я, ничего не мог разобрать.
Я приблизился к тахте, нагнулся почти к самому лицу больной, она заметалась на своём ложе и замотала головой. Говорить она, видимо, не могла.
— Больше ничего, только махнуть три раза платком, проезжая мимо «Даделуса»? Или ещё что-нибудь? — проговорил я, желая помочь ей.
Она затихла.
— Больше ничего?
Она закрыла глаза.
Что значили эти закрытые глаза, на этот раз я не мог объяснить себе. Неужели вся её просьба состояла в том, чтобы я махнул три раза платком у «Даделуса»?
Больная снова стала метаться по постели, но видно было, что теперь делает она это непроизвольно. Судорога исказила её лицо, и руки стали вскидываться, вздрагивая.
Девочка-арабка вдруг заволновалась, заговорила на своём гортанном языке, обращаясь ко мне и показывая на дверь.
Я стоял, не зная, что мне предпринять. Припадок больной усиливался. Арабка подбежала ко мне, схватила за руку и потянула к двери. Ясно было, что она хочет, чтобы я скорее ушёл, оставив её одну с больной, с которой она знала, что делать, и знала, как успокоить её. Она старалась, как только умела, показать мне это жестами. И почти насильно вытащила она меня за дверь и там поклонилась низко, приложив руку к голове. Она благодарила меня. Вероятно, по её мнению, всё, что от меня требовалось, я исполнил.
Она протянула руку по направлению, куда мне идти, и исчезла за ковром, бесшумно опустившимся за ней.
Я остановился, прислушался: всё было тихо. Звёздное небо сияло, освещая рассеянным, сумрачным светом землю. Вдали чернели здания Порт-Саида.
Послышался отдалённый свисток парохода. Он мне напомнил, что к двум часам я должен быть на палубе.
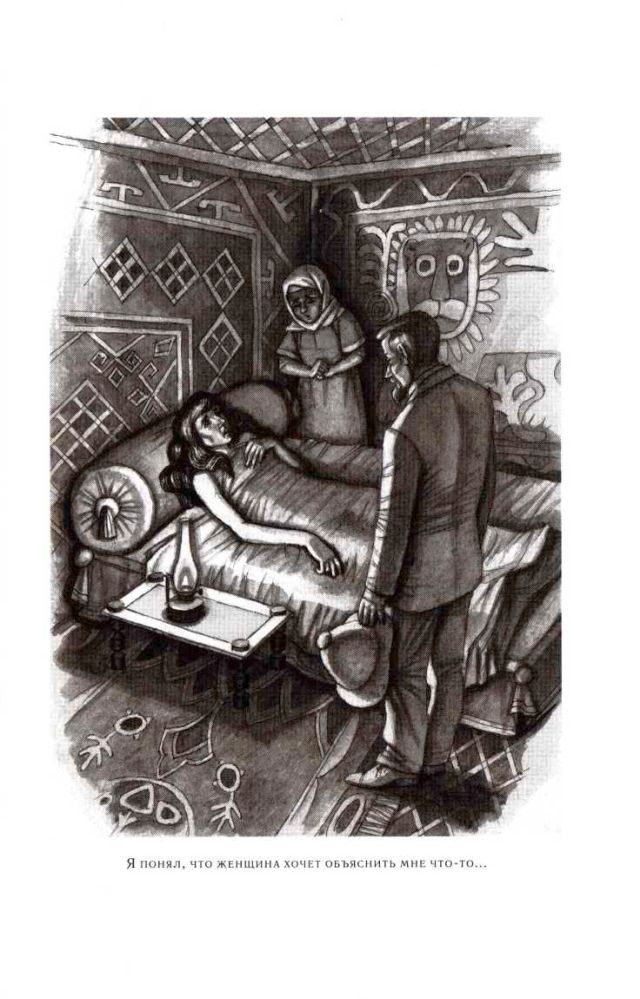
IV
На обратном пути я только заметил, что был заведён достаточно далеко и что мне приходится сделать довольно значительный переход. Я ускорил шаг. Тёмные постройки Порт-Саида приближались, однако, медленно. По моим часам было уже два, а я ещё не достиг построек. До меня донёсся новый свисток. Я не сомневался, что это отходит наш пароход. Ждать меня он, разумеется, не мог. Будь это ещё в другом порту, можно было бы рассчитывать на любезность капитана, но тут при входе в канал требовалось соблюдать очередь и задерживать её не представлялось возможности. В два часа пароход должен был тронуться. Было несомненно, что я опоздал.
Это было очень неприятно, но никаким, впрочем, не грозило особенным несчастием. Я сообразил уже, что мне надо было делать, и успокоился.
Я мог сесть на первый же хотя бы товарный пароход, который отходил в канал вслед за нашим, и завтра догнать наш в Суэце на другом конце канала, где он должен был остановиться часа на два перед тем, чтобы идти дальше в Красное море. Вся неприятность, значит, заключалась только в том, что переход по каналу мне приходилось сделать на чужом судне и заплатить за это.
Беда выходила невелика.
Когда я достиг набережной, оказалось, что наш пароход ушёл полчаса тому назад. Следующим отходил маленький американский, нагруженный керосином. Лоцман, проводник по каналу, явился уже на пароход, и на баке был уже прилажен огромный электрический фонарь для освещения пути.
Капитан-американец, которому я объяснил, в чём дело, охотно принял меня на палубу за довольно скромное вознаграждение.
После нашего щегольски опрятного, комфортабельно приспособленного для пассажиров судна американский керосинщик показался мне очень непривлекателен, но делать было нечего, приходилось провести на нём эту ночь в надежде, что завтра утром я снова попаду к себе.
Надежде этой, однако, не суждено было осуществиться.
Суэцкий канал настолько узок, что два судна разойтись в нём не могут. Поэтому при встрече один пароход должен притянуться на канатах к берегу, вплотную прижаться к нему, чтобы пропустить другой.
Весь канал разделён на участки, или станции, и швартоваться, то есть притягиваться к берегу, должно то судно, которое позже вошло в участок. Лоцманы знают очередь и следят за нею.
При благополучном случае можно пройти канал часов в двенадцать-четырнадцать, а при задержках переход может затянуться до двадцати двух часов.
Все суда, несмотря на силу своих машин, уменьшают в канале ход до самого тихого, чтобы по берегам не слишком осыпался песок, и без того засоряющий канал, так что приходится постоянно расчищать его землечерпательными машинами.
Машины эти только и делают, что переходят с места на место и работают без устали день и ночь.
Мы на американском керосинщике поползли тихо-тихо по каналу, освещая себе путь широким снопом электрического света. Ночь стояла жаркая, в каюте было душно. Я улёгся на палубе и заснул. Меня часто стала будить возня и брань небольшого экипажа при остановках и швартовании. Мы шли очень неудачно и попадали в очередь швартующихся.
Это узнал я, проснувшись на другое утро, когда ещё и половина канала не была пройдена нами.
Экипаж был измучен ночной работой и бессонницей. К тому же по составу он был очень немногочислен.
— Если пойдём так дальше, — заявил мне капитан, — то вы рискуете не застать вашего парохода в Суэце. Если он вас не будет ждать, то уйдёт наверное.
В этих словах было мало утешительного.
— Едва ли, — ответил я, — меня будут ждать. Ведь никто не знает, что я иду вдогонку на вашем пароходе.
— А вы из Порт-Саида не послали телеграммы в Суэц?
Сделать это мне не пришло в голову. Я не подумал, что можно было послать телеграмму.
— Как же теперь быть? — недоумевал я. — Может быть, мы ещё успеем?..
Капитан пожал плечами.
— Если не будет ещё остановок, — проговорил он, — такого неудачного перехода по каналу я не запомню. Всё нам приходится останавливаться, у меня люди из сил выбились… Авось больше не будет…
Но как нарочно встречные суда входили раньше нас на станцию, и нам приходилось возиться с остановками.
Не предвидя из этого ничего хорошего, я, злой и недовольный, стоял, опершись о борт, не обращая даже внимания на окружающее. Окружающее это было, правда, не особенно живописно. Спереди и сзади узенькая, как шоссейная дорога, лента воды, а по бокам жёлтый песок, то ровный, то холмистый, телеграфные столбы и деревянные тумбочки, особенно ненавистные, потому что они поставлены по протяжению всего канала, чтобы удобнее было останавливаться и закидывать на них канаты.
Самое оригинальное в Суэцком канале то, что тут соединяются все способы передвижения: сидишь на пароходной палубе и видишь, подходя к Суэцу, поезд железной дороги, отправляющийся в Александрию, а по другую сторону идёт караван верблюдов.
V
В Суэц я опоздал. Пароход наш давно уже ушёл.
— Я так и думал, — сказал мне капитан, — я предупреждал вас.
Но от этого мне не стало легче.
Теперь моё положение стало уже серьёзно неприятным. Я остался без вещей и денег, которые плыли теперь без меня на пароходе в Аден.
Следующий русский пароход должен был пройти Суэц только через две недели, и это время мне приходилось просуществовать здесь в ожидании. О вещах можно было телеграфировать в Аден. И оставить там для передачи мне. Но пока? Пока единственное, что оставалось мне, — терпеливо ждать. Были бы у меня деньги, можно было бы с приятностью и пользою провести время, поехать в Александрию, оттуда на пирамиды… Но с тем, что оставалось в моём кошельке, можно было едва-едва прожить в маленьком, не особенно приглядном жарком Суэце.
В первую минуту я растерялся настолько, что, когда мой капитан-американец, чтобы утешить меня, предложил продолжать путешествие на его пароходе, я согласился на эту комбинацию.
Капитан, впрочем, уверял, что его «Колумбия» — отличный пароход, быстрый ходок, что я увижу, как он пойдёт в открытом море, где не надо швартоваться при встречных судах, и что (это было главное) мы несомненно нагоним наш пароход, на котором я ехал в Аден, где он должен простоять сутки, чтобы запастись углём.
— На эти сутки можно смело рассчитывать, — уверял капитан, — они там простоят, запасаясь углём, а мы в это время и подойдём, непременно подойдём.
— Вы обещаете мне?
— О, без сомнения обещаю.
Я повеселел и согласился.
Американец взял на этот раз с меня довольно солидную плату.
Мы вышли в Красное море, самое жаркое, потому что в нём вода — как в огромном котле, нагреваемом с одной стороны пустынной Аравией, с другой — накалённым материком Африки. Жара стояла как на полке́ в бане. Воздух был густо насыщен водяными парами. Влаги в нём было до девяноста пяти процентов. Вечером она осаждалась, покрывая пароход как испариной и, собираясь на тентах, лилась с них ручьями. На палубе натекали большие лужи, как после сильного дождя.
Здесь, в Красном море, в первый раз увидал я летучих рыбок: маленьких, словно бабочки. Они стаями неслись над водою, ныряли и снова выпархивали.
В первый же вечер странное зрелище представило из себя освещение неба: с одной стороны алел, как зарево, румяный закат, с другой — светила луна с ярким зелёным отражением в море.
Спал я на циновке на палубе, с наслаждением растянувшись на досках и подложив, не под голову, а под шею только, гуттаперчевую надувную подушку. О тюфяке и думать было нечего, о пуховой подушке тоже: они слишком увеличивали жар и слишком грели.
Мы прошли мимо маяка, название которого оказалось не «Даделус», как неверно расслышал я, а «Дедалус».
Положение его поистине замечательно и в высшей степени своеобразно. Стоит он среди открытого моря. По горизонту не видно ни клочка земли: вода и небо только. Под самым маяком тоже нет земли, плещут волны, и высовывается он прямо из них на тонких железных подставках, как на паутинных ножках.
Скала, на которой утверждён он — подводная, на несколько футов ниже поверхности моря. На этой скале сделаны железные устои, а на них — железная будка с фонарём. Вот и всё.
И там, в этой раскалённой солнечными лучами будке, среди воды всё-таки живут люди и руководят освещением маяка.
Мы прошли мимо него настолько близко, что простым глазом можно было различить не только переплёт устоев, фонарь и перила балкончика, окружающего будку, но окно в ней и два стоявших на нём цветочных горшка с зеленью.
Я стоял на палубе и смотрел во все глаза. Ни в окне, ни на балкончике нельзя было различить живого существа.
Вероятно, люди спрятались от солнца, но конечно не пропустят идущий мимо пароход и смотрят на нас откуда-нибудь из глубины в бинокль или подзорную трубку.
Но кто эти люди, и зачем больная в Порт-Саиде поручила мне махнуть им платком три раза? Что это значит?
Кто эта больная русская, какая связь у неё с жителями маяка, и какое имеет она к ним отношение?
Напрасно любопытство дразнило меня этими вопросами. Они казались мне настолько таинственными и непонятными, что я не мог даже сделать по этому поводу хоть каких-нибудь предположений или догадок.
Мне оставалось только точно исполнить данное мною обещание.
И, проходя удивительный по своему положению маяк «Дедалус», я махнул три раза платком, как мне это было указано.
Тогда я не мог узнать, видели мой сигнал или нет, и только впоследствии пришлось мне удостовериться, что видели.
VI
На другой день с утра море заволновалось, и подул горячий, не принёсший никакой прохлады ветер. Мало-помалу палубу и всё, что было на ней, стала покрывать мельчайшая пыль, нежная, как пудра. Воздух вдруг сделался сухим и пожелтел. Жар усилился. Волнение развилось такое, что вода начала захлёстывать через борт. Наконец совсем жёлтые сумерки окутали всё кругом, и только солнце виднелось сквозь них большим медно-красным кругом. Пыль неслась вместе с ветром, застилая горизонт и затрудняя дыхание. Кожа сохла и морщилась. Ни до чего нельзя было дотронуться — всё покрывал густой слой пыли.
Это была гроза внутренних степных пространств Африки, так называемый хамсин, гораздо менее, правда, опасный на море, но всё-таки очень неприятный.
Маленький пароход-керосинщик, на который попал я по воле судьбы, болтался на волнах, как ванька-встанька. Его неумолимо бросало из стороны в сторону, и качка вызывала невольную досаду и увеличивала дурное расположение духа, в котором я находился и без неё. Морскою болезнью я не страдал. Это казалось большим облегчением.
Нас качало и обдавало пылью в течение, по крайней мере, трёх часов. Затем ветер начал стихать, и волны — укладываться.
К вечеру настолько стихло, что мы, ощутив оттого достаточную приятность, решили провести время весело. У капитана нашлись апельсины и белое лёгкое вино. Сделали крюшон, который имел серьёзный, впрочем, недостаток, потому что его приходилось пить тёплым. Льду не было. Американцы, однако, нашли напиток слишком слабым и стали прибавлять к нему коньяку.
Не рассчитали ли они своих сил, или уже чересчур усердно сдабривали тёплый крюшон коньяком, только через некоторое время они сильно захмелели.
У меня тоже голова слегка закружилась. Я прилёг отдохнуть.
Помню, заснул я быстро, словно камень в воду канул. Меня охватил какой-то тяжёлый, давящий сон…
Проснулся я от неожиданного толчка. Пароход дрогнул и остановился.
Я открыл глаза. На небе светил серп месяца, линия горизонта была в тумане. Волны лениво поплёскивали. Пароход стоял на месте и не двигался, несмотря на то, что машина работала, напрасно пеня воду за кормою.
Послышались крики, команда и брань.
Несколько человек кинулось к лодкам.
Оказалось, мы наскочили на риф, и нос парохода со всего маху крепко врезался в коралловый слой, на фут скрытый под водою.
Пароход стал твёрдо. Осмотрели трюмы. Пробоины, по счастью, нигде не оказалось. Дали машине задний ход. Попытка вышла совершенно напрасной.
Капитан топал ногами и отчаянно ругался. Он обвинял во всём своего помощника, помощник кричал на него. Дело чуть не дошло у них до рукопашной. Наконец, накричавшись вдоволь, они сошлись и стали обсуждать положение. Машину остановили.
Звёзды и луна светили безмятежно, и также волны плескали, как будто не случилось ничего особенного, но я понимал, что теперь для меня не было никакой физической возможности догнать наш пароход. В первую минуту это меня беспокоило более всего, потому что непосредственной опасности на рифе не предвиделось. Керосинщик оказался настолько крепок, что выдержал толчок, не дал течи, и с этой стороны всё обстояло благополучно. Мы могли стоять здесь в безопасности. Вопрос заключался лишь в том, как выбраться отсюда.
Прислушавшись к разговору капитана с помощником, я увидал, что они не могут определить место, где мы находимся. Надо было ждать завтрашнего полдня для наблюдения.
Капитан настаивал на том, что нас снесло течением с правильного пути в сторону. Помощник же доказывал ему, что он неверно проложил курс и что, по его расчёту, мы были у самого берега Африки.
Земли, однако, не было видно, и это служило главным основанием возражений капитана.
Он говорил, что берег в этих местах на карте гористый, и будь мы у берега, мы непременно видели бы горы.
Мне это казалось совершенно справедливым, но на рассвете пришлось убедиться, что не всё справедливо, что кажется таким.
До рассвета мы не спали. И как только появились первые лучи солнца, стали вырисовываться очертании высоких гор с западной от нас стороны. Ночью их застилала особая, свойственная Красному морю мгла, тем более предательская, что при ней горизонт кажется совершенно открытым. К утру мгла эта рассеялась, и сначала верхи гор, потом самый берег ясно выступили из неё и оказались совсем близко.
VII
В полдень было определено наше место с точностью. Мы стояли на рифе, всего в четырёх милях от берега и настолько удалились в сторону от обычного пути пароходов, что они не могли увидать нас. Всякие сигналы, стало быть, оказывались напрасными.
На мачту всё-таки подняли шар для очистки совести, что по международной сигнализации означает «прошу помощи».
При дневном осмотре выяснилось, что пароход своими средствами сняться с рифа не в состоянии. Всякие попытки в этом отношении были бы ненужной и совершенно лишней тратой сил. Но стоять в бездействии и ждать тоже было нельзя, потому что не предвиделось, чтобы сюда могло заглянуть какое-либо судно.
Капитан решил отправить своего помощника на парусной маленькой лодке в открытое море в надежде, что он встретит какой-нибудь пароход и даст знать о нашем несчастии.
Помощник взял с собою четырёх человек из экипажа, захватил пресной воды в бочонок, провизии на семь дней и отправился.
Мы долго смотрели вслед уходящей лодочке до тех пор, пока не скрылся на горизонте её парус.
Сели обедать, потом легли спать. Проснулись вечером. Солнце стояло низко. Все были не в духе. Разговор не клеился. Жара стояла сильная. Запах керосина, которым был пропитан пароход и к которому я было принюхался, снова начал беспокоить меня. Было скучно и несносно. Обречённые на бездействие люди слонялись по палубе, как сонные мухи.
Вдруг из-за выдавшегося от берега мыса с севера показались косые паруса, похожие
на те, что египтяне изображали на своих барельефах.
Они медленно и плавно приближались к нам. Можно было различить, что под парусами двигалось пять барж. Одна из них на виду у нас повернула назад и ушла на север, обратно в море. Остальные четыре разделились на две пары и направились к концам рифа, имевшего вид огромного полукольца. Мы приткнулись к нему в самой середине. У концов рифа баржи остановились.
Не было сомнения, что это туземные африканские суда и что едва ли они пришли с мирными целями.
Мы собрали у себя нечто вроде военного совета.
Численность экипажа, уменьшенная на пять человек, отправившихся в море на шлюпке, была очень невелика. Нас вместе с поваром и тремя кочегарами осталось всего восемь душ. Тут только, сосчитавшись, заметили мы, что нас шло на пароходе тринадцать — несчастное число, и все недружелюбно посмотрели на меня, потому что я был тринадцатым.
Общее нервное, раздражительное состояние, по-видимому, не знало уж, к чему придраться.
— Знал бы я, что нас будет тринадцать, ни за что не взял бы вас, — сердито проворчал мне капитан.
Я ему напомнил, что он сам меня уговаривал и что мне было бы гораздо лучше, если б я не поддался его уговорам.
Стемнело. На баржах зажглись огни и стали сигналить, как бы переговариваясь между собою. На берегу тоже показался огонёк. Он то вспыхивал, то угасал, и на баржах в ответ ему махали фонарями.
На нашем военном совете выяснилась только полная наша слабость и совершенная невозможность противостоять какому-нибудь нападению.
В качестве огнестрельного оружия на пароходе было два револьвера: у меня и у капитана. Маленькая сигнальная пушка не могла идти в расчёт, потому что зарядов к ней не оказалось. Из холодного оружия были только ножи — перочинные и кухонные.
С таким арсеналом трудно было организовать защиту, да ещё всего только из восьми человек. Неприятель же, по-видимому, был довольно многочисленный.
Решено, однако, было не сдаваться сразу и сделать всё возможное, чтобы защищаться. Мы вооружились ломами и тяжёлыми тентовыми стойками.
Затем, и это казалось нам самым существенным, были проведены брандспойты из машинного котла, с тем чтобы обдавать кипятком нападающих.
Это было всё, что мы могли сделать.
Более всего мы надеялись, конечно, на помощь, которая должна была подоспеть к нам, если наша шлюпка встретит пароход в море. Но вопрос заключался в том, встретит ли она его и явится ли он к нам вовремя…
Мы делали всевозможные предположения, высчитывали вероятность, и, как всегда в таких случаях, одним казалось, что всё окончится к лучшему, другие, наоборот, ничего хорошего не ждали.
VIII
Мы не спали всю ночь. На восходе солнца все четыре баржи, за которыми мы зорко наблюдали, пришли в движение. Они поставили паруса и стали подходить, по две с каждой стороны, к пароходу.
Было уже настолько светло, что можно было различить двигавшихся на них людей. Это был черномазый сброд. Большинство были голые, иные были в белых бурнусах. Толпа состояла из негров, абиссинцев и арабов. Женщин и детей не было видно. На парусах сидели мальчики-подростки.
Мы начали считать неприятеля. Их было по крайней мере до ста человек.
Подойдя довольно близко к пароходу, баржи спустили долблёные челноки. Челноки эти лежали грудою у них на палубах.
В каждом челноке помещалось по двое человек. Они спустились вдруг на воду, словно их из мешка высыпали, и засновали вокруг парохода, постепенно стягиваясь к нему. Впереди других был челнок араба с такими выразительными, горящими глазами, что я их помню и по сей час. Он быстро ворочал головой, покрикивал что-то остальным и оглядывал пароход и его палубу, стараясь, видимо, распознать, сколько у нас народа.
Мы, все восемь человек, стояли на виду, не зная хорошенько, что начать.
Мы ясно видели, что опасность надвигается на нас, но пока ничего ещё не могли предпринять.
— Командуйте! — сказал я капитану, безмолвно смотревшему на приближавшиеся челноки.
— Что ж вы хотите, чтобы я командовал? — улыбнулся он. — Самое большее, что мы можем, выстрелить из наших двух револьверов. Такой залп едва ли устрашит их. Напротив, только рассердит.
— Пошлите людей к брандспойтам!
Капитан приказал отправиться двум матросам к насосу.
Но по тому, как они пошли исполнять его приказание, почувствовалось уже, что всякий из нас в душе сознаёт бесполезность сопротивления.
Восьми безоружным трудно было противостать целой сотне.
Челноки приближались, и сидевший на них народ гудел, переговаривался и покрикивал.
Вдруг гул их голосов слился в общий неистовый, дикий крик, они хлынули к бортам, и не успел я опомниться, как вокруг меня на палубе замелькали чёрные рожи, затопали босые пятки и замахали голые руки.
Это был буквально один момент. Как они взобрались так быстро со своих челноков на всё-таки более или менее высокие борта парохода, я до сих пор понять не могу.
Как рой пчёл, облепили они нас, произошла сумятица, в которой немыслимо было разобрать ничего. Я поднял руку с револьвером и выстрелил наугад, ни в кого не целясь, кажется, на воздух даже.
В ту же минуту меня больно ударили по руке, схватили сзади, стиснули мне локти, повалили и насели на меня.
Я делал отчаянные усилия, чтобы освободиться, выворачивался и выбивался, защищаясь, впрочем, бессознательно, так, в силу какого-то нелепого упрямства.
Мне казалось, что я долго боролся и непременно высвободился бы, если бы не тяжесть, которая давила мне грудь и ноги. Я не сразу распознал, что тяжесть эта была трое человек, сидевших на мне и обвязывавших меня верёвками.
Вероятно, на самом деле всё это произошло гораздо скорее, чем мне думалось.
Меня связали, отнесли на ют и положили лицом вверх, к небу.
В виски у меня стучало, в ушах стоял шум; я не знал, что сталось с остальными моими товарищами по несчастью.
«Вот оно, — думал я, лёжа на спине, глядя в небо и не имея возможности, благодаря опутавшим меня верёвкам, двинуть ни рукой, ни ногой. — Вот оно, случилось!..»
А что, собственно, случилось? Меня схватили, связали, положили, ну, а потом что?
«Убьют?» — спросил я себя, и сейчас же сообразил, что если бы хотели убить, то уж покончили бы, вероятно, со мной теперь, а не стали бы связывать.
И решив, что меня не убьют, я нашёл, что это очень хорошо, и испытал даже некоторое удовольствие.
Строго говоря, мне положительно нечего было жалеть в этой жизни. И на восток я отправился, потому что жил на свете один-одинёшенек. Ни особенных связей с землёй не было у меня, ни родных, ни близких, и жизнь никогда не улыбалась мне особенно, а между тем, когда явилась опасность расстаться с этою жизнью, я радовался, что опасность эта миновала.

IX
Я не знаю, какая судьба постигла капитана несчастного керосинщика и остальной экипаж. Больше мне не пришлось увидеть их.
Меня, связанного, снесли с юта на баржу, которая была уже подтянута к борту парохода, и опять положили на палубу лицом кверху.
Кто-то накинул мне на голову тряпку, очевидно, в предупреждение солнечного удара.
Смерти моей положительно не хотели.
Тряпка, однако, закрыла мне глаза. Вскоре по лёгкому крену зашевелившейся баржи я понял, что мы пошли под парусами.
Вокруг слышался говор на непонятном мне языке. Говорили довольно тихо. Вероятно, делёж добычи был окончен, и не было причин для спора…
Утомлённый бессонною ночью, пережитыми впечатлениями, борьбою и непроизвольным положением связанных рук и ног, я впал в полузабытьё, сквозь которое перестал сознавать окружающее…
Мне казалось, что я, покачиваясь, несусь в воздушном пространстве, и несусь куда-то далеко-далеко, откуда и вернуться нельзя…
Вернула меня к действительности остановка баржи.
Судя по толчку, с которым она остановилась, мы приткнулись к песчаной отмели берега.
Здесь меня развязали. Я мог расправить тело и оглянуться.
Баржа стояла действительно у отмели, шагах в пятнадцати от берега. Впереди высились горы, сзади расстилалось море.
Я посмотрел направо и налево: парохода нашего не было видно. Они отвезли меня достаточно далеко, и теперь я был всецело в их власти. Теперь, если бы даже и вернулась на риф наша шлюпка с помощью, помощь эта была для меня не действительна. И тут только, поняв, что исчезла для меня всякая надежда на спасение, я увидел, что до сей минуты верил ещё в него и ждал.
Я ждал бессознательно, но обманувшись в своём ожидании, глубоко почувствовал это, и в первый раз мне стало тоскливо и страшно.
Один из черномазых дал мне пинка и показал знаком, чтобы я слез вслед за другими в воду…
У этого черномазого в руках был круглый деревянный, обтянутый кожею щит и копьё, которым он пригрозил мне на всякий случай, для вящего, вероятно, внушения…
Я снял купленные в Порт-Саиде холщовые башмаки, взял их в руки, засучил панталоны и сошёл в воду, послушно зашлёпав по ней по направлению к берегу…
Черномазый со щитом шёл за мною по пятам.
На берегу он потребовал от меня, чтобы я отдал ему башмаки. Я, конечно, отдал. Он поставил их на песок, влез в них ногами, потоптал, сделал несколько шагов, остался недоволен и махнул рукою. Он скинул башмаки и показал мне, что я могу взять их обратно.
Босиком ему было удобнее…
Я этому очень обрадовался, потому что мелкие ракушки, усеявшие песок, пребольно давили и резали подошвы…
Платье и рубашка на мне были изорваны. Вместо шляпы, утраченной ещё во время борьбы, была пожертвованная мне неизвестным милостивцем тряпка, которую я обвязал наподобие чалмы.
Мы вышли на берег у пригорка, довольно высокого, и теперь направились к нему.
Приближаясь, я увидел, что попал в страну не вовсе пустынную, но с известными признаками общественной жизни.
По крайней мере, на пригорке торчало сооружение человеческих рук — нечто вроде устроенной из жердей вышки, служащей, вероятно, береговым знаком.
В самом пригорке была сделана пещера с входом, защищённым земляным валом. Из пещеры вышли нам навстречу люди — как оказалось впоследствии, проводники верблюдов. Верблюды лежали по другую сторону пригорка в тени…
В пещеру вошли не все, вероятно, главные только. Остальные расположились на берегу и стали раскладывать костёр. Меня посадили тут же поодаль и снова связали мне руки, закрутив их назад.
Одну минуту у меня мелькнула мысль: «А что как этот костёр — не для кого иного, как для меня, чтобы сделать из меня жаркое?»
Но над костром устроили небольшой треножник из палок и привесили к нему маленький котелок, куда налили воды из принесённого с баржи бочонка, очевидно, захваченного с парохода…
Воду засыпали крупою и, когда она вскипела, заправили её кусками сала.
Удушливый чад от этого варева доносился до меня ветром и вовсе не возбуждал аппетита. Впрочем, есть мне не хотелось…
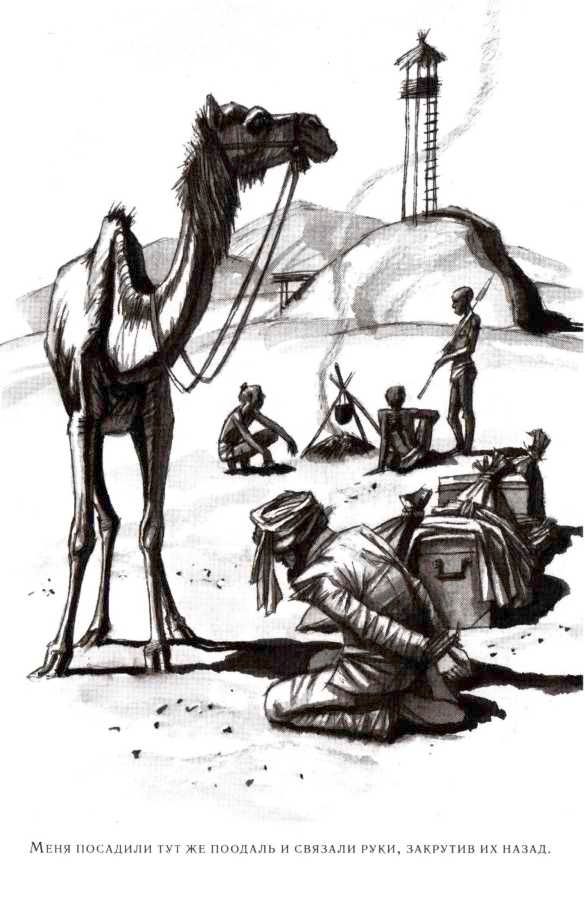
X
Позавтракав, или пообедав (уж Бог их знает), черномазые принялись переносить с баржи на берег награбленные на пароходе вещи. Поживиться им там пришлось немногим. Керосина, составлявшего груз, они не тронули и удовольствовались, очевидно, имуществом капитана, его помощников и матросов.
Они вынесли несколько сундуков, узлы с платьем, тюфяки, мотки верёвок и свёртки парусины.
Когда всё это было уложено на верблюдов, караван тронулся прочь от моря.
Часть народу осталась на барже.
Приставленный ко мне воин погнал меня перед собою вслед за караваном.
Верблюды были одногорбые, маленькие и шли не особенно быстро, так что следовать за ними было не трудно.
Мы направились наискосок от лукоморья к горам, высившимся вдали. Местность была песчаная и холмистая. Зелени не было никакой.
Растительность состояла из деревьев-кустов, тёмно-коричневых, покрытых колючками, цеплявшимися беспрестанно за платье.
Сначала мне казалось, что мы идём без дороги, потому что под ногами расстилался повсюду одинаковый серый, усыпанный раковинами песок.
Но потом я увидел по попадавшимся обветренным верблюжьим костям, что направление выбрано не случайно и что мы двигаемся по торному пути.
Изредка я оглядывался на видневшееся вдали море, мысленно прощаясь с ним. Там, где-то далеко в этом море, шли европейские суда и пароходы, могшие спасти меня и вернуть к своим… И вернуться я мог только через это синевшее море, от которого с каждым шагом теперь удалялся всё больше и больше… Наконец оно вовсе исчезло за холмами.
Потеряв его из виду, я потерял последний признак связи своей с прежнею жизнью. Всё, что было, ушло безвозвратно, а что будет и что ждёт меня впереди, было для меня таинственно, неизвестно и определённо в одном только смысле — мне грозила несомненная неволя…
Мы долго шли по песку между колючими кустами. Холмы становились выше. Дорога извивалась между ними.
За одним из холмиков открылась куща кустов несколько повыше, и тут мы остановились.
Мы сделали, судя по солнцу, довольно большой переход, но я не чувствовал усталости. Мне казалось, что я могу ещё долго идти. Вероятно, нервы у меня были настолько приподняты, что я вследствие внутреннего волнения не замечал физического утомления.
Я не сразу разглядел и понял, что остановились мы возле колодца.
Колодец представлял из себя широкую круглую яму с ровными краями, спускавшимися воронкой к середине. На дне зеленела покрытая тиной и плесенью вода. Вокруг колодца были устроены из глины, тщательно смазанные, круглые корыта, имевшие вид пирожков, какие делают дети из формочек.
В эти корыта налили воды для верблюдов, а люди спускались к воде, становились на колени, поднимали глаза к небу, шептали, очевидно, молитву, потом черпали воду деревянными ковшами и бережно пили…
Я бы тоже был не прочь напиться, но зелёная вода казалась мне настолько отвратительной, что я не решился попросить, чтобы мне дали её попробовать… Впрочем, жажды особенной я не ощущал, голода — тоже, однако мне не доставало чего-то. Я вспомнил, что не курил всё время, и мне ужасно захотелось покурить…
Это было первое лишение, которое мне пришлось испытать в плену.
Я попытался было объяснить — как мог — своё желание провожатому. Он серьёзно выслушал меня, кивнул головою, посоветовался со своими, развязал мне руки и успокоился… Очевидно, он понял мою попытку в том смысле, что я прошу, чтобы меня развязали…
Я и за это остался благодарен.
Мы тронулись опять в путь после недолгого отдыха.
С развязанными руками идти мне стало гораздо легче.
Я бодро зашагал сначала, но мало-помалу ноги дали себя почувствовать. Прежде я шёл и не замечал их, теперь они словно отяжелели, и приходилось уже при каждом шаге сознавать усилие, необходимое, чтобы сделать его.
Я изо всех сил, однако, старался бодриться. Я понимал, что чем я окажусь сильнее и выносливее, тем лучшее вызову к себе отношение.
Я не знал, долго ли ещё придётся идти, и не мог соразмерить свои силы, но делать было нечего, и я шёл, напрягая все свои способности, чтобы делать это как можно лучше…
XI
Черномазые, видимо, привычные к ходьбе, спокойно шагали, выворачивая босые пятки.
Сначала мне казалось, что тяжесть в ногах у меня временная, проходящая, что стоит только перетерпеть её, и привыкнешь. Но чем больше передвигал я ногами, тем становилось труднее и мучительнее. В коленях начала ощущаться боль, ступни горели, во рту пересохло. Я боялся, однако, остановиться, потому что меня могли погнать насильно, ударить, побить…
Они сами шли, значит, и я должен был идти…
Жара стояла в воздухе, почва была накалена…
Этот день моего пленения был для меня целою вечностью: точно с незапамятных времён меня заставили идти, и я, как Агасфер, в течение столетия не знал покоя и отдыха.
Суставы начали ныть до того, что каждый шаг становился пыткою… И пытка эта продолжалась неумолимо и безжалостно.
Когда-нибудь и куда-нибудь мы должны же были, однако, прийти. Я утешал себя этим, но сильно сомневался, что выдержу до конца.
Минутами я готов был упасть: сил не было, но тут мне пришлось убедиться в выносливости и живучести человеческой природы. Несмотря на то, что сил у меня не было и я готов был упасть, я всё-таки шёл.
Один из черномазых приблизился ко мне и сунул мне в руку морской сухарь.
Сухарь был твёрд, как дерево, и пах керосином. Я попробовал грызть его — больше для развлечения, чем для утоления голода. Но когда я отгрыз, разжевал и проглотил первый кусок, я почувствовал, как мне хотелось есть…
И я с жадностью принялся за твёрдый, пахнувший керосином сухарь и съел его с удовольствием…
Солнце давно уже клонилось к западу и вдруг исчезло за высокими горами. Стало темно. В небе зажглись звёзды. Луна ещё не всходила…
Мы остановились.
Мне показалось, что остановились мы как раз в ту минуту, когда последние мои силы истощились, и я больше не мог сделать ни шагу.
Я не опустился, а буквально повалился на песок, растянулся на нём и закрыл глаза.
Боль в ногах была похожа на зубную. Сердце сильно билось, в виски стучало.
Как только закрыл я глаза, так с поразительной ясностью представилась мне картина нападения на пароход. Замелькали голые руки, чёрные лица, и я увидел снова свалку со всеми подробностями: как будто она вторично происходила вокруг меня…
Голова закружилась. Я поднял веки. Надо мной блестели тихие звёзды чужого мне южного неба, ещё более прекрасного, чем северное. В самой середине горело яркое созвездие Скорпиона с изогнутым хвостом и лучистым, заметно светящимся глазом.
Черномазые разложили костёр и прилаживали котелок над ним.
Мысли у меня путались, но я старался сообразить, остановились ли мы на ночлег или только для отдыха, после которого опять начнётся для меня пытка ходьбы?
Подняться и снова идти я был решительно не в состоянии.
Пусть делают со мной, что хотят — я не встану, и не только не встану, не шевельнусь даже, потому что и подумать не могу о малейшем движении.
Ноги и руки у меня были налиты, словно свинцом.
«Пусть меня бьют, — думал я со злобой, доставлявшей мне даже своего рода удовольствие, — пусть делают, что хотят, со мной — я не тронусь!..»
Меня, однако, не тревожили, словно забыли обо мне.
С верблюдов снимали вьюки, распаковывали их и доставали ковры. Было похоже на то, что мы заночуем здесь.
«Слава Богу! Но завтра снова идти!»
«Завтра», однако, было не близко. До завтра оставалось несколько часов, в течение которых, вероятно, меня не тронут…
Глаза снова сомкнулись, и на этот раз так, что я не мог уже и их открыть. Шевельнуть веком не мог я от усталости и заснул, думая о том, что завтра снова станет жечь яркое солнце и снова мне придётся идти…
Заснув, я погрузился в состояние полного забытья, которое продолжается очень долго. Я ничего не видел, ничего не чувствовал, ничего не ощущал.
Потом мне привиделся сон, довольно беспорядочный и нелепый: передо мною тянулись рельсы железной дороги бесконечной, уходящей в пространство нитью. Под рельсами лежали шпалы, ровные и обточенные, словно они были сделаны, как фортепианные клавиши, из слоновой кости. И вот я должен был идти по этим клавишам, но сколько ни шёл, всё-таки не подвигался. Клавиши бежали вперёд под моими ногами и оставляли меня на прежнем месте…
И вдруг взошло солнце и ослепительно блеснуло мне прямо в глаза…
Я открыл их.
XII
Я открыл глаза и сощурился от ослепительного блеска, только это было не солнце, а электрическая лампочка.
Я лежал на мягком тюфяке в каком-то странном, очень узеньком, но вместе с тем очень уютном помещении. Это было что-то среднее между каютой, каретой и отделением вагона.
Двое людей, оборотись ко мне спиной, стояли нагнувшись над столом-полочкой, на котором были разложены бумаги, и спорили.
Они говорили по-английски. Речь у них шла о каких-то вычислениях, касающихся тяжести и соответственной силы для её подъёма.
Ни черномазых, ни их костра, ни звёздного неба не было… Рельс и клавишей тоже.
Я знал, что черномазые были наяву, а рельсы и клавиши во сне, но не мог никак понять, в грёзах или в действительности было то, что я видел теперь перед своими глазами.
Я совершенно определённо чувствовал под собой мягкий тюфяк, видел свет электрической лампочки, слышал разговор двух людей, но вместе с тем помещение, в котором я очутился, было совсем не похоже на что-нибудь виденное мною до сих пор, и если это не во сне, то каким образом попал я сюда прямо с ночлега в пустыне, куда загнали меня насильно?
Я попробовал ущипнуть себя. Щипок вызвал ясное ощущение боли, как это бывает, только когда бодрствуешь…
Нет, я не спал.
Мне пришло в голову, что я галлюцинирую. Правда, о такой реальной галлюцинации я не слыхал и не читал никогда, но объяснение это мне казалось самым подходящим… Некоторое время я боялся шевельнуться, даже дохнуть…
Я опасался, что при движении моём галлюцинация исчезнет, и я снова увижу тогда пустыню, костёр и моих мучителей, черномазых.
Несмотря, однако, на это опасение, или именно вследствие него (так уж странно устроен человек), я почти сейчас же постарался, чтобы галлюцинация исчезла. Мне захотелось проверить себя. Я резко двинулся и кашлянул.
— Проснулся! — сказал один из разговаривавших, не оборачиваясь.
Другой обернулся и поглядел на меня. Лицо у него было не старое, с белокурыми усами и умными серыми глазами.
Он приблизился ко мне, пощупал мне голову, вернулся к столику, взял с него фарфоровую кружку и подал мне её…
— Пейте!..
Когда он отходил от столика, я заметил, что над этим столом был целый ряд всевозможных кнопок, рычагов и рукояток.
В кружке оказался крепкий, наварный бульон, похожий скорее на эссенцию.
Я выпил его с удовольствием.
— Пора опускаться, — сказал в это время стоявший ко мне спиною у стола.
— Сейчас! — ответил белокурый, оставил меня и начал повёртывать рычаги и рукоятки над столом.
Другой низко нагнулся над вделанной в стол трубою…
Они начали обмениваться отрывочными и совершенно непонятными для меня словами, похожими по своей краткости на междометия…
— Гоп!
— Тран…
— Вир…
— Вир, вир, гоп!..
«Неужели мне всё это представляется только?» — подумал я.
Эти восклицания, повторяющиеся и бессмысленные, были очень похожи на звуки, чудящиеся в бреду…
Впечатление бреда усиливалось ещё непрерывным гулом, стоявшим где-то близко, словно кругом меня. Я только что распознал этот гул и, распознав его, стал прислушиваться.
Гудело с завыванием, словно ветер в трубе зимою во время вьюги…
И как бы на фоне этого гула продолжали раздаваться непонятные возгласы:
— Вир…
— Трон…
— Лёч!..
— Трон… Вир!!..
«Нет, это бред, это бред», — решил я и вдруг, ощутив страстное желание услышать свой голос, запел…
Я запел тривиальный мотив шансонетки, но мне показалось, что он удивительно подходил к непрерывному гулу, стоявшему у меня в ушах…
Белокурый обернулся ко мне и повелительно произнёс: — Тссс!..
Я замолк.
Повертев рычаги и рукоятки, он снова приблизился ко мне, на этот раз с рюмкой…
— Где я? — спросил я, взяв у него рюмку, которую он мне протягивал.
Он не ответил на вопрос, а опять проговорил только:
— Пейте!..
Больше я ничего не помню. Я вдруг словно погрузился в тёмный мешок, и всё исчезло. Я перестал сознавать и чувствовать…
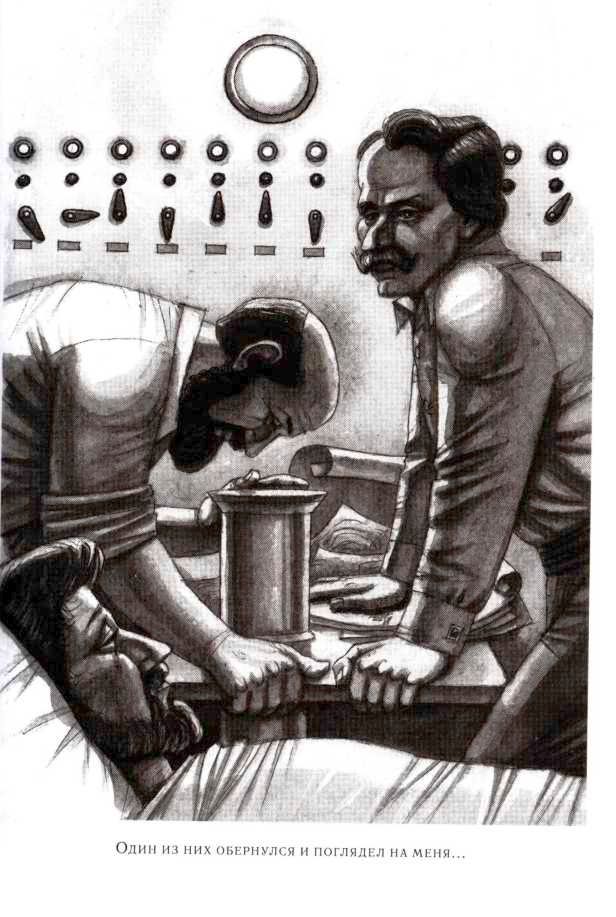
XIII
Неужели всё это оказалось сном?.. Всё с самого начала, с самого Порт-Саида?
И Красное море, и пароход-керосинщик, и Суэцкий канал, и маяк «Дедалус», и дикие, и нападение их, и всё, что было потом — неужели мне грезилось всё это?
— Да неужели? — повторил я себе, очнувшись и вскочив на ноги.
Вдали виднелись постройки города с высокой башней маяка в стороне моря. Я узнал их очертание. Не было сомнения — это Порт-Саид.
Так я проспал и видел всё во сне!
И хотя мне должно было быть всё равно, видел ли я сон или переживал действительность, потому, во-первых, что это уже прошло, а во-вторых, все мои впечатления были совершенно реальны, я очень обрадовался тому, что это был только сон.
Но сколько же времени проспал я?
Судя по солнцу, было ещё утро.
Значит, я вчера с вечера заснул после своего странного посещения больной.
Да была ли ещё и эта больная, может быть, мне и она приснилась?..
Обрадовавшись, я направился к Порт-Саиду.
Платье на мне было изорвано, на голове вместо шляпы была накручена тряпка.
Тряпка была точь-в-точь такая, какую мне дали, как я помнил, черномазые во сне.
Это меня смутило.
По мере того, как я продвигался, меня начинала смущать тоже боль в ногах.
Человек, проспавший ночь хотя бы даже и под открытым небом, не мог чувствовать такой усталости. От сна ноги не заболят.
Я спешил, однако, к Порт-Саиду, как к обетованному месту, где должен был узнать решение загадки.
Попав, наконец, на улицу, я заглянул в окно первого магазина, где было выставлено зеркало, и ужаснулся своему виду. В истерзанном платье, с тряпкой на голове, я был похож на оборванца в полном смысле этого слова.
Я вошёл в магазин.
Меня подозрительно оглядели и спросили, что мне нужно.
Сделано это было так, что я невольно потупился и мне стало стыдно…
— Которое сегодня число? — спросил я по-французски.
Меня не поняли.
Я повторил свой вопрос по-английски…
Приказчики усмехнулись и объяснили мне, что они говорят и по-французски, и по-английски (и прескверно говорили, надо отдать им справедливость), но что они не могут взять в толк, почему для меня тайна, какое число сегодня…
— А между тем это так легко, — сострил один из них, — сегодня несомненно число, следующее за вчерашним.
Я совершенно не привык к такому обращению со мной приказчиков, но вместо того, чтобы рассердиться, я как-то глупо ухмыльнулся и не без труда пробормотал:
— Да, но я не знаю, какое было вчера число.
Это вызвало взрыв хохота.
— Тогда вспомните, что было третьего дня! — посоветовал мне другой приказчик, вероятно, такой же весёлый, как и первый.
— Третьего дня он, верно, пьян был! — решил третий.
И взрыв хохота повторился.
— Я вас спрашиваю, — произнёс я серьёзно и внушительно, — которое число сегодня, можете вы мне сказать это?
— Если ты будешь брать такой тон с нами, — возразил мне первый приказчик, очевидно, старший между остальными, — то тебя отсюда выведут!..
В это время вошёл в магазин покупатель в чистом, не таком, как было на мне, платье.
— Ну, ступай, — махнули мне.
— Да позвольте… — начал было я.
— Ступай, ступай…
Я пожал плечами и, стараясь сохранить достоинство, вышел.
— Много тут таких шляется! — пустили мне вслед.
Я направился в соседний магазин и там повёл себя умнее.
Я начал с того, что объяснил, что я здесь иностранец, русский, что со мною случилось несчастье — меня обобрали, и просил указать, где живёт русский консул.
В объяснении своём я старался держаться общих выражений, не вдаваясь ни в какие подробности.
Наученный уже опытом, я боялся спросить, какое число сегодня, чтобы не подвергнуться снова насмешкам. Я поискал только глазами, нет ли стенного календаря где-нибудь, и нашёл его над конторкой. Это был обыкновенный отрывной календарь, но, взглянув на него, я разинул рот от удивления: на листке календаря стояла большая цифра восемь.
Пришли мы в Порт-Саид второго числа. Это помнил я отлично, потому что записал наше прибытие в записную книжку, оставшуюся с прочими вещами на пароходе.
— Неужели сегодня восьмое число? — спросил я.
Мне ответили, что «да, сегодня восьмое июля». Это значило, что или всё пережитое мною случилось на самом деле, или я проспал шесть дней.
XIV
Но шести дней проспать я не мог. Конечно, это было немыслимо.
По дороге к консулу я подсчитал дни — всё вышло, как по писанному: второго мы пришли в Порт-Саид, в тот же день ночью, в два часа, я ушёл на керосинщике. По каналу мы шли двадцать часов; третьего, в девять часов вечера, были в Суэце — вышли через два часа. На другой день, четвёртого, прошли «Дедалус»; пятого с утра дул хамсин, а ночью мы сели на риф; шестого отправили лодку с помощником, а вечером увидели баржи. На другой день было нападение черномазых… Это было вчера, седьмого. Целый день я шёл…
А сегодня очутился снова в Порт-Саиде. Сегодня же восьмое число. Всё было совершенно верно. Непонятно было одно только, как я попал обратно сюда, в Порт-Саид?
Консул принял меня недоверчиво и подозрительно оглядел с ног до головы.
Он не посадил меня, хотя и сам не сел, и заговорил со мной стоя.
— Вы русский?
— Да.
— Ваша фамилия?
Я назвал себя.
Консул поднял брови, как бы удивившись.
— Вы Николай Александрович Гринёв, дворянин? — переспросил он, сделав большие глаза.
— Да, я русский дворянин Николай Александрович Гринёв, — повторил я, потому что это было моё имя, отчество и фамилия…
[20]
Консул несколько странно улыбнулся.
— Вы шли на пароходе «Добровольного Флота»? — проговорил он.
— И второго числа прибыл в Порт-Саид.
— Совершенно верно, — подтвердил консул.
— Значит, вы слышали обо мне?
— Об вас — не знаю. Капитан парохода заявил мне, что один из пассажиров, Николай Александрович Гринёв, не вернулся на пароход, и отдал мне его вещи и деньги, рассчитывая, что первым делом оставшийся пассажир отнесётся ко мне…
— Слава Богу! — невольно воскликнул я, обрадовавшись, что мои вещи и деньги были у консула. — Удивляюсь, как раньше не пришло мне в голову обратиться к вам.
— В самом деле, отчего вы не обратились раньше?
— Не понимаю. На меня точно нашло затмение. Когда я пять дней назад вернулся на набережную и убедился, что опоздал на свой пароход, я до того растерялся, что упросил капитана американского керосинщика, чтоб он взял меня.
Консул снова улыбнулся.
— Дальше?
— Дальше я отправился, пройдя канал, на том же керосинщике из Суэца, потому что не застал уже своего парохода.
— Куда же вы отправились?
— В Аден. Капитан рассчитывал, что мы можем захватить наш пароход там, потому что пароходу этому нужно было брать в Адене уголь, что задерживало его на сутки.
— Странно! — сказал консул.
— И очень неприятно, — подтвердил я, — мы сели на риф.
— На керосинщике?
— Да.
— Очень странно. Я не слыхал, чтоб за эти дни какой-нибудь американский пароход сел на мель…
— Вы и не могли слышать… Мы сели на риф с пятого на шестое. Шестого отправили лодку с помощником капитана на путь пароходов. В тот же день он, очевидно, не встретил судна, иначе вернулся бы с ним к нам на помощь вчера. А вчера на нас напали дикие…
— Позвольте. Вы говорите, что вчера на вас напали дикие?
— Да.
— На рифе?
— На рифе.
— И об этом не могло ещё прийти известия в Порт-Саид?
— Не только об этом, но и о том, что мы сели на риф. Оно придёт сюда, вероятно, только сегодня, самое раннее…
— Ну, а как же вы-то тут?..
Консул спросил это с таким твёрдым убеждением, что я одним его вопросом уличён уже во лжи, что я растерялся.
В самом деле, всякому должны были показаться мои слова невероятными. Я говорил ему, что известию по телеграфу было рано прийти, а между тем сам был уже в Порт-Саиде…
Только теперь сообразил я всю кажущуюся нелепость своего рассказа. А между тем ничего другого я не мог рассказать. Я развёл руками и ответил:
— Не знаю, как я очутился тут, но уверяю вас, что говорю правду…
XV
Я не мог решить, что было для меня хуже: физическое ли мучение вчерашней подневольной ходьбы или нравственная пытка, которую я испытывал теперь, стоя перед консулом, имевшим полную возможность доказать мне, что я лгу, не верить мне и потому презирать меня.
Со своей точки зрения он был совершенно прав. Поставив себя на его место, я должен был согласиться, что иначе, как с полным недоверием, нельзя было отнестись к моему рассказу.
Мне оставалось только уверять его, что я говорю правду, дать, пожалуй, честное слово, но он не мог придать никакой цены ни моим уверениям, ни моему слову, потому что видел меня в первый раз. К тому же растерзанный вид мой, в котором я предстал перед ним, также не мог внушить ко мне доверия…
— Вот видите, милостивый государь, — наставительно произнёс консул, — как ни странен, чтобы не сказать более, ваш рассказ, но мне кажется ваше появление у меня ещё страннее…
— Это почему? — спросил я, невольно удивлённый. — Что ж тут странного, что я обратился к вам, к кому же мне было прийти, как не к консулу?..
— Но вы пришли слишком поздно…
— В этом моя ошибка…
— И неловкость, — перебил меня консул, — неловкость, потому что настоящий Николай Александрович Гринёв был у меня в тот же день и получил свои вещи, деньги и паспорт…
У меня подкосились ноги, и я сел на подвернувшийся мне стул.
— Как настоящий Гринёв! — воскликнул я. — В какой «тот же» день явился он, и почему вы отдали ему мои вещи?..
— Гринёв явился ко мне, — пояснил консул, — второго числа поздно вечером, после того, что ушёл пароход, на который он опоздал…
— И вы так, по первому слову, отдали вещи и деньги?
Консул с достоинством покачал головою.
— Я не отдал по первому слову. Я просил его прийти на другой день за вещами. И он явился на другой день. Других заявлений у меня не было. Я, осмотрев предварительно вещи, предложил явившемуся описать мне их; он дал подробные указания и вполне точно определил, какая сумма его денег находилась у меня. Дальнейшие предосторожности мне казались лишними: я убедился, что имею дело с владельцем вещей, и отдал их ему под расписку…
— Но это обманщик! — вырвалось у меня.
Консул ничего не ответил, но по выражению его лица было ясно, что он считает обманщиком, конечно, не того, который явился к нему немедленно и, по-видимому, держал себя очень уверенно и доказательно, а меня, вдруг как бы с неба свалившегося через шесть дней, да ещё с рассказом о том, что вчера я сидел на рифе и был в плену у диких, а сегодня очутился в Порт-Саиде.
Наименее обидное, что он мог подумать про меня, что я сумасшедший.
— Позвольте, — заговорил я, стараясь призвать к себе всё своё хладнокровие, — если вы осмотрели вещи, то помните их. Я их вам тоже опишу в подробности. Денег у меня хранилось у капитана около трёх тысяч. Я сейчас скажу точно: я взял из них сто рублей, потом двадцать пять… Значит, оставалось две тысячи восемьсот семьдесят пять рублей…
— Нет, меньше, — сказал консул.
— Совершенно верно, — подхватил я, — капитан, верно, заплатил ресторатору за то, что я спрашивал на пароходе «extra», на несколько рублей тогда было меньше… А что касается вещей…
И я подробно стал рассказывать, какие были вещи у меня.
Должно быть, не столько описание вещей, сколько искренность моего отчаяния заставила консула отнестись ко мне теперь внимательнее и участливее. Он сел к столу и стал меня слушать, перестав уже улыбаться…
— Если б я желал вас обмануть, — наконец сказал я, — согласитесь, что не стал бы я настаивать, узнав, что настоящий Гринёв получил вещи, но уверяю вас, что я самый и есть Николай Александрович Гринёв… Вы отдали вещи под расписку?
— Да, она у меня хранится… К сожалению, я не мог удостовериться в подлинности руки, потому что на паспорте подписи не было…
Я тут только вспомнил, что на заграничных паспортах есть место для подписи владельца, но я забыл её сделать, как забывают большинство русских путешественников.
Я попросил показать мне расписку. На ней твёрдым, определённым и совсем не похожим на мой почерком были написаны моё имя и фамилия.
Судя по почерку, это был смелый мошенник — рука не дрогнула у него, когда он подписывал.
XVI
Хранившиеся у капитана три тысячи были единственным моим достоянием. Я их собрал, отправляясь на Восток, куда ехал без определённой цели, просто искать счастья.
Одинокий и бездомный, я не оставил в России ни близких родных, ни друзей. Знакомые были у меня, но к кому обратиться из них? Между тем необходимо было написать в Россию тут же при консуле, хотя бы для того, чтоб убедить его, что Николай Александрович Гринёв не кто другой, как я…
Подумав, я написал два письма: одно к бывшему своему начальнику по службе, другое — к товарищу по школе, с которым не видался уже несколько лет. Кроме того, я составил прошение в паспортное отделение в Петербург, чтобы засвидетельствовали мою подпись оттуда нашему консулу в Порт-Саид.
Когда письма были готовы, консул как будто смягчился окончательно и стал спрашивать, что я намерен делать пока? Он предложил мне даже небольшую сумму денег.
От денег я сгоряча отказался, сказав, что не возьму их до тех пор, пока не получатся из России несомненные удостоверения моей личности. Всё, что я просил теперь у консула — отправить мои письма и, если возможно, принять меры к задержанию человека, пользовавшегося моим именем.
Я остался очень доволен тем несколько язвительным тоном, которым я сказал всё это консулу, мстя ему за то, как он разговаривал со мной вначале.
Также я не без удовольствия видел, что консул был немного сконфужен, ибо всё-таки отчасти по его вине я лишился всего, что имел.
— Если вам всё-таки что-нибудь будет нужно, — сказал он, прощаясь, — зайдите.
— Я зайду к вам, когда получатся ответные письма! — гордо заявил я, раскланялся и вышел.
Конечно, ответить так, раскланяться и уйти было легко и очень приятно, но когда, очутившись на улице, я должен был решить, куда же мне деться теперь, положение показалось окончательно безвыходным.
Я находился в чужом, незнакомом городе, без копейки денег, платье на мне было изорвано, и вместо шляпы на голове красовалась тряпка! В таком одеянии единственное занятие, которое я мог получить, была работа на набережной по нагрузке судов и переноске тяжестей. Этой грубой, грязной работой в портовых городах занимаются самые отчаянные, которым больше деваться некуда. Неужели она предстояла и мне, неужели я дошёл до этого?
Пока я ещё, слава Богу, не чувствовал голода, но я знал, что пройдёт несколько часов и я захочу есть.
Значит, в течение этих часов мне нужно было заработать сколько-нибудь, чтобы было чем заплатить хотя бы за кусок хлеба.
Я повернул к набережной, невольно беспокоясь, получу ли там и ту неприхотливую работу, на которую рассчитывал? Главное препятствие, я понимал это, заключалось в незнании моём арабского языка. На набережной едва ли разговаривали по-французски, по-английски или по-немецки, а уж по-русски и подавно…
Но если не примут меня там, то мне оставалось одно — просить милостыню!..
Я шёл, засунув руки в боковые карманы моего изодранного полотняного пиджака. В них ничего не было. Черномазые тщательно обыскали меня и отняли всё, что нашли: портсигар, спичечницу, бумажник и кошелёк.
Набережная была близко. Я вышел на неё и остановился.
Народу тут было много, были и рабочие, грузившие тюки, но как подойти, с кем заговорить и к кому обратиться со своею просьбой, чтоб и мне позволили взяться за работу?
И вот когда я стоял так в нерешительности, кляня судьбу, по-видимому, вовсе отвернувшуюся от меня, вдруг оказалось, что судьба эта послала мне испытание только, но не оставила меня совсем без своей помощи. В грудном кармане пиджака, дотронувшись до него случайно, я нащупал шуршавшую бумагу. Это оказался конверт, а в нём банковый билет на пятьдесят английских фунтов, что равнялось пятистам рублям!..
Пятьсот рублей для меня показались огромным состоянием. Пока я не разбирал, откуда и как явились они. Это мне было всё равно. Совесть моя была чиста. Я знал, что я не украл их. На конверте ничего не было надписано, стояло только на том месте, где обыкновенно делается монограмма, одно слово, напечатанное синей краской: «Daedalus».

XVII
Я разменял билет в конторе банка (их много в Порт-Саиде) и первое, что купил себе — десяток самых дорогих папирос и коробку спичек.
Затем я приобрёл щегольской белый фланелевый костюм, соломенную шляпу, зонтик, туалетные принадлежности и занял недорогой номер, но зато в лучшей гостинице — в той самой, куда водили меня наши моряки обедать.
Вымывшись, переодевшись, взяв ванну, я спустился в столовую и заказал себе завтракать. На закуску принесли мне опять сардинки с маслинами, а на завтрак подали яичницу, рыбу в белом вине, баранью котлетку, спаржу и персики.
Я всё это съел не спеша, просматривая в это время газеты и испытывая чувство необычайной удовлетворённости, что вернулся опять к условиям, к которым привык издавна.
После завтрака я пошёл в свою комнату, разделся и лёг на постель. Жара стояла сильная.
Конечно, мысли мои невольно сосредоточивались на том, что случилось со мною.
Самым удивительным и непостижимым мне казалось, что как это так я, самый простой и обыкновенный человек, и вдруг оказался действующим лицом в таких неожиданных и запутанных событиях!
Запутано и непонятно тут было всё. Но во всём была словно какая-то внутренняя, мистическая связь, на которую указывало стоявшее на конверте слово «Daedalus». Ведь началось с того, что меня просили махнуть платком три раза, когда я буду проходить мимо маяка «Дедалус», и кончилось тем, что я нашёл у себя в кармане конверт с деньгами и надписью тоже «Daedalus»…
Но вопрос был ещё в том, кончилось ли?
Самым благоразумным было, разумеется, бросить всё и с первым же пароходом вернуться в Европу.
Очень может быть, что всякий другой так бы и поступил на моём месте, но надо принять во внимание то ненормальное состояние, в котором я находился. Нервы у меня были развинчены. Я испытывал до некоторой степени чувство зарвавшегося игрока, который давно сознал, что ему пора бросить карты, но не может сделать этого и продолжает ставить последнее, что есть у него…
И вместо того, чтоб успокоиться и думать о скорейшем возвращении в Россию, я вечером, когда солнце пекло не так жарко, пошёл отыскивать домик, куда приводила меня девочка-арабка и где видел я больную русскую, обратившуюся ко мне со своею странною просьбой.
Мне казалось, что дорогу, местность и самый домик я запомнил хорошо. Но это мне казалось только. Дорога была как будто и та, но домики все были похожи один на другой.
Напрасно я приглядывался к ним.
Вдруг у дверей одного из них я увидел сидевшую на ковре молодую женщину и узнал в ней свою знакомую. Да и трудно было не узнать её. Такой худобы я никогда не встречал.
Она сидела, охватив тонкими руками колени, и смотрела перед собою, как бы не видя того, что было перед её глазами.
По крайней мере, когда я подошёл к ней почти вплотную, она не шевельнулась.
Я снял шляпу, поклонился и проговорил:
— Вы не узнали меня?
Она вздрогнула и взглянула мне в лицо. Видно было, что она меня не узнала.
— Я приходил к вам, — пояснил я, — неделю тому назад, вы были тогда больны и лежали.
— Да, я была тогда больна, — вздохнула она, — теперь припоминаю, как сквозь сон… Постойте… Вы тот, которого я просила…
— О маяке «Дедалус»…
— Да, да, теперь помню, вы говорили, что идёте в Красное море, и я просила вас…
Она оживилась и заговорила быстрее.
— А вы остались и не поехали и не могли исполнить моей просьбы? — добавила она.
Я поспешил успокоить её.
— Нет, просьбу вашу я исполнил самым добросовестным образом. Я был в Красном море, проходил мимо «Дедалуса» и вернулся опять сюда.
Она вместо того, однако, чтоб обрадоваться, поникла головою.
— Да, да, вы исполнили её! — повторила она медленно и грустно.
— А разве не надо было исполнять?
— Тогда было надо, а потом вышло не надо.
— Но ведь вы сами просили!..
— Да, просила сама, я должна была просить.
Она замолчала и стала снова смотреть перед собою, отвернувшись от меня.
— Можно мне поговорить с вами?
— Поговорить, — забеспокоилась она, — поговорить…
Но где же поговорить?..
— У вас в домике.
— В домике, да…
— Или здесь, мне всё равно.
— Здесь… лучше здесь…
— Вот, сядем сюда, — показал я на стоявшую у двери скамейку.
— Вы сядьте на скамейку, — сказала она, — а я останусь на ковре. Мне так удобнее.
XVIII
— Вот видите ли, — начал я, усевшись, — тогда вы были больны и взволнованы, я не решился спросить, что означала ваша просьба. Объясните, зачем я должен был махнуть три раза платком у маяка «Дедалус»?
Она повернулась ко мне и улыбнулась одними губами.
— Вы спрашиваете невозможное, — ответила она.
— Почему же невозможное?
— Потому что я вам ничего не могу сказать…
— Но ведь я спрашиваю не из простого любопытства. Дело в том, что я получил конверт неизвестно откуда и на нём стоить надпись «Daedalus».
С ней произошло при этих словах нечто совершенно непередаваемое — так она встрепенулась вся… Она протянула ко мне руку, и рука эта задрожала у неё.
— Этот конверт у вас, у вас? Покажите мне его!..
В голосе её было столько беспокойной мольбы и вместе с тем болезненно-повелительной требовательности, что я, невольно подчиняясь ей, вынул и подал конверт.
Она схватила и стала рассматривать.
Глаза у неё заблестели, губы зашевелились.
— Да, это его конверт! — проговорила она. — Он присылал мне письма в таких конвертах.
— Откуда?
— Не знаю.
— Но кто он?
— Этого знать вам не надо.
— Нет, мне именно нужно знать это потому, что в конверте был банковый билет без всякой записки: я хочу знать, кто дал мне эти деньги.
— А как вы получили их?
— Это для меня непонятно тоже.
— Как всё, что он делает…
— Да кто же «он»?
Она улыбнулась на этот раз, просияв всем лицом, и покачала головою.
— Так как же вы получили этот конверт? — переспросила она.
Я стал ей рассказывать подробно обо всём, что случилось со мною с самого моего свидания с нею.
Своим чистосердечным рассказом я надеялся вызвать её тоже на откровенность.
— Это он, это он! — вскрикнула она, всплеснув руками, когда дело дошло до того, что я видел как бы сквозь сон в последнюю ночь.
— Вы говорите, он белокурый с усами?..
— Да, он несколько раз нагибался надо мною, дал мне бульону и вина, я отлично видел его лицо.
— И глаза у него серые, добрые-добрые!..
— Глаза действительно добрые.
— Таких глаз нет в целом мире, нигде… Да, это он. Так вы его видели, говорили с ним… И не знаете, где?
— Не знаю. Словно во сне. Я заснул на привале диких, которые вели меня в качестве пленника, а проснулся здесь, в открытом месте возле Порт-Саида, в промежуток же видел «его», как вы говорите.
— Да, это был он, и конверт его; он вам дал денег, он вас спас и перенёс сюда.
— Вот это-то мне и непонятно, как он мог это сделать.
— Он всё может. Если он спас вас, он спасёт и меня… О, теперь я буду его звать, я буду его звать! Он услышит и придёт, чтобы спасти меня.
Она вскочила, выпрямилась и запела грудным громким голосом, направляя звуки в высь, в пространство:
Приди, мой желанный,
Мой милый, приди,
Я жду тебя, милый,
Желанный, приди!..
Что-то было совершенно особенное в её пении. Напев казался прост, но она придавала ему столько выражения и страсти, что мне казалось, что я ничего подобного не слыхал до сих пор.
— Это его любимая песня! — обернулась она ко мне, — он услышит и придёт.
И снова запела:
Приди, мой желанный,
Мой милый, приди…
«Да она сумасшедшая!» — пришло мне в голову.
Действительно, глядя на её лицо, теперь можно было вполне подумать, что она не в своём уме. Она повторяла один и тот же куплет и всё с большим и большим исступлением. Наконец её пение перешло в неистовый крик, она вскинула руки кверху, упала на ковёр и задёргалась в судорогах.
Откуда-то из-за домика выбежала девочка-арабка и бросилась к ней.
На этот раз я постарался запомнить домик так, чтобы найти его наверняка, когда будет нужно.
В том, что я имел дело с сумасшедшею, я не сомневался. Безумным её речам нельзя было придавать никакого значения.
Может быть, всё, что она болтала, было только бредом, в котором «Дедалус» явился совершенно случайно. Таинственный же «он» тоже жил, пожалуй, только в её воображении, и она пристегнула его образ к моему рассказу совершенно произвольно.
Но я всё-таки решил узнать, кто эта сумасшедшая русская и почему она здесь в Порт-Саиде. Может быть, ей нужна помощь?
Ради этого я и постарался запомнить домик.
Я хотел завтра вернуться сюда, взяв с собою араба-переводчика, с тем чтобы расспросить девочку, с которой сам мог только разговаривать знаками.
XIX
На другой день, встав поутру, я отправился первым делом к консулу.
Он встретил меня, не скрыв своего крайнего изумления. Я подумал, что изумление это относится к моему изменённому внешнему виду, и поспешил сказать ему:
— Вы удивляетесь, что видите меня в приличном платье? Так ведь я же вам не говорил, что остался вовсе без денег.
Мне хотелось отделаться этою общею фразою, и я положил, что ни за что не стану рассказывать консулу о найденном мной у себя в кармане банковом билете. Довольно и без того мне пришлось в первое моё посещение наговорить ему чудес в решете.
Но он и не допытывался, откуда у меня явилась приличная одежда.
— Вы читали сегодня газеты? — спросил он.
Я ответил, что читал.
— Видели телеграмму?
— Нет, никакой особенной телеграммы не заметил.
— Вы читали европейские газеты?
— А разве есть местная?
— Есть, и в ней сегодня напечатана телеграмма о том, что американский пароход с керосином сел на риф и был разграблен дикими.
— Теперь вы верите моему рассказу?
— Должен верить, несмотря на то, что отказываюсь объяснить себе этот случай.
— Подождём, — проговорил я, — вероятно, он объяснится… По крайней мере, у вас есть некоторые данные считать меня настоящим Гринёвым. Когда придут из России письма, вы убедитесь в этом окончательно.
— Я и теперь уже не сомневаюсь, — сказал консул, — и убеждён, что настоящий Гринёв — вы!..
Мне это было очень лестно, но я всё-таки спросил:
— Почему же вы так убедились? Только потому, что мой рассказ подтвердился газетной телеграммой?
— Нет. Вот видите ли, вы остановились в «Европейской» гостинице и прописали себя Гринёвым.
Оказывалось, он знал уже, где я остановился. Мне это понравилось.
— Совершенно верно, — подтвердил я.
— Ну, а тот, другой, получивший ваши вещи, побоялся прописать себя Гринёвым, потому что иначе в Порт-Саиде оказалось бы два Гринёвых, а пока вы тут один.
— Но он мог уехать, почему вы думаете, что он в Порт-Саиде?
— Не думаю, а уверен в этом.
— Вот как?
— Да. Надобно вам сказать, что я, прежде чем отдать ваши деньги, записал себе на всякий случай номера сторублёвок, из которых состояли две тысячи восемьсот рублей, переданные мне капитаном. Вчера, получив ваше заявление, я дал знать во все банковые конторы по телефону, чтоб они обратили внимание, не принесут ли для размена русские сторублёвки с такими-то номерами. Вечером мне ответили из одной конторы, что вчера же там была разменяна одна сторублёвка на франки… Значит, человек, назвавшийся вашим именем, ещё здесь, если пускает в размен ваши сторублёвки.
Консул был, по-видимому, человек предусмотрительный и осторожный.
Задерживать выдачу денег он, разумеется, не мог, но зато принял все зависящие от него меры, чтоб охранить их.
Это было очень хорошо и почтенно с его стороны, и вместе с тем я видел, что он не хочет оставить моего дела невыясненным, а напротив, принялся за него довольно энергично.
Я поблагодарил его.
— Кто же приходил менять сторублёвку? — спросил я.
— Девочка-арабка…
— Её взяли?
— К сожалению, этого нельзя было сделать так скоро… Я не могу распоряжаться арестами. Это — дело полиции. Я вчера же сообщил ей обо всём.
— Девочка-арабка! — повторил я, задумавшись. — Странно… Положим, в Порт-Саиде много арабок. Но всё-таки странно. Помните, я вам рассказывал, что опоздал на пароход, потому что меня завела за город девочка-арабка… Я нашёл больную русскую… Вам как консулу известно что-нибудь о ней? Я, собственно, и пришёл сегодня к вам, чтобы спросить об этом.
— Я узнавал и о ней, — подхватил консул, — но у здешней администрации решительно нет никаких сведений о том, чтобы какая-нибудь русская жила в пригороде. У меня о ней тоже ничего неизвестно.
— А между тем она здесь ещё, я вчера её видел.
— Так вы думаете, что есть какая-нибудь связь у этой больной с вашим делом?..
— Нет. Но я просто заинтересован ею, кто она и что она?..
Консул махнул рукой.
— Меня вот что интересует, — перебил он, — откуда тот человек мог узнать так точно, какую сумму мне передал капитан и каким образом он описал мне подробно вид ваших вещей?
Я пожал плечами.
— Для меня это необъяснимо.
— Припомните, может быть, кто-нибудь выпытывал у вас эти сведения?
— Решительно никто.
— О деньгах знали только вы и капитан?
— Только.
— Во всяком случае, у нас есть в руках маленькая зацепка, — заключил консул, — будем искать.
— Ну, а та больная?.. — спросил я. — Что же с ней делать?
— Если ей нужна будет моя помощь, скажите мне — я буду к вашим услугам.
XX
От консула я вернулся в гостиницу, где должен был ждать меня переводчик, за которым я послал с утра. Найти его мне обещался содержатель гостиницы.
Переводчик действительно ждал меня. Не теряя времени, отправились мы вместе с ним к домику.
Дорога теперь мне была хорошо известна, и ещё издали я узнал домик. Когда мы подошли к нему, однако, он оказался заколоченным наглухо. Двери и окна были перекрещены досками, крепко забитыми гвоздями…
Домик имел вид, как будто тут никогда и не жил никто.
Молчаливый и таинственный, стоял он, оставляя интересовавшую меня загадку не разрешённой, и словно ещё более затруднил её решение.
Переводчик, увидев, как я остановился с разинутым ртом и, вероятно, очень смущённым видом перед заколоченным домиком, смотрел на меня, усмехаясь.
Я стал ему объяснять, что вчера ещё тут жили, что вчера ещё я был тут и разговаривал с русской молодою женщиной, обитательницей домика.
Он покачал головою и спросил, как её зовут.
Приходилось снова растолковывать ему, что имени этой женщины я не знаю и потому-то и привёл его сюда, чтобы он мне помог выяснить, кто она.
— Как же я вам помогу, — стал спрашивать он, — ведь тут никого нет теперь?
— Можно спросить у соседей.
Переводчик пошёл по соседям, долго пропадал и вернулся ни с чем.
Ближайший сосед был глухой старик, полуслепой. Он ничего не знал. Остальные никак не могли взять в толк, чего хотят от них. Если бы было известно имя, про кого спрашивают, тогда, пожалуй, они поняли бы.
Словом, я ничего не добился.
Расплатившись с переводчиком, я отпустил его и пошёл домой в самом скверном расположении духа.
Делать мне было нечего. Я зашёл в книжный магазин, отобрал себе целую кипу книг и, запасшись ими, повеселел немного. Книга вообще верный товарищ, а в одиночестве — и тем более…
Часто бывает в жизни, однако, что мы ищем напрасно вдали что-нибудь, а оно оказывается у нас под руками. Так случилось со мною на этот раз.
Только что расположился я с книгою в руках у себя в номере, как вдруг невольно прислушался и насторожился — знакомый голос пел:
Приди, мой желанный,
Мой милый, приди…
Это была она. Обмануться я не мог. Я узнал её голос и, главное, то выражение отчаянного призыва, которое она придавала своему пению.
Она пела где-то близко. Я подошёл к окну, поднял жалюзи и высунулся.
Я жду тебя, милый,
Желанный, приди!..
Песня донеслась явственно снизу, из окна, которое было под моим окном.
Так вот оно что… Та, которую я напрасно искал в заколоченном домике, была здесь, под одною кровлей со мною, в гостинице, куда, вероятно, переехала уже с раннего утра.
«Переехала! — подумал я. — Вернее, её перевезли, потому что едва ли распоряжается она сама собою произвольно. Очевидно, кроме девочки-арабки при ней есть ещё кто-нибудь, кто заботится о её судьбе»…
Приди, мой желанный,
Мой милый, приди…
Повторила она снова, и я, уловив мотив, докончил две остальные строки:
Я жду тебя, милый,
Желанный, приди!..
Внизу стукнули поднимающиеся жалюзи, она показалась в окне и стала оглядываться по сторонам.
— Сюда смотрите, наверх, — сказал я ей.
Она повернула кверху лицо и увидала меня.
— Это вы, вы тут, вы услыхали меня! — заговорила она радостно. — Я была уверена, что меня услышит он… Его нет с вами?..
— Со мной никого нет, — ответил я, — я здесь один в своём номере.
— Всё равно он услышит меня через вас… Он должен услышать… Теперь я спасена!..
— Вы спасены, разве вам грозила какая-нибудь опасность?
— И грозила, и грозит…
— Отчего вы оставили домик, в котором жили, и переехали сюда?
— Меня насильно перевезли.
— Кто же посмел это сделать?
— Мой единственный враг.
— Вы хотите, чтоб я защитил вас против него?..
— Нет, вам не защитить меня, меня может защитить только он…
— Кто же ваш враг? Назовите мне хоть его.
— Это трудно сделать.
— Почему?
— Потому что он постоянно меняет имена.
— Хорошо, тогда скажите, какое он теперь носит имя?
— Гринёв.
— Что?
— Гринёв!
XXI
— Не может быть! — вскричал я. — Гринёв это моё имя…
— Вас тоже зовут Гринёв? — переспросила она упавшим вдруг голосом.
— Что значит это «тоже»? — возразил я невольно. — Гринёв моя фамилия, которую я ношу с рождения, а ваш враг, как вы его называете, присвоил её себе. Когда он стал себя здесь так называть?
— С сегодняшнего дня. Сегодня утром он явился и сказал мне, чтоб я его звала Гринёвым и что мы скоро уедем отсюда.
Мы продолжали вести разговор, высунувшись в окна: я в своё — наверху, она в своё — внизу. Удобства представлял такой разговор мало, между тем её слова заинтересовали меня уже лично. Если её «враг» назвался вдруг Гринёвым — он мог оказаться и моим врагом, похитившим мой паспорт и деньги.
— Вот что, — предложил я, — не лучше ли мне спуститься к вам вниз. Там мы можем у вас разговаривать спокойнее.
— Этого нельзя, — сказала она.
— Почему?
— Дверь заперта на ключ.
— И у вас нет ключа?
— Нет. Он унёс его с собою.
— А ваша девочка-арабка?
— Фатьма?
— Её зовут Фатьмою?
— Да. Он увёл её. Они пошли вместе.
— И вы позволили запереть себя так?
— А что же мне было делать?
— Как что! Позвонить, позвать слуг, ведь вы здесь не в домике на краю Порт-Саида, а в гостинице. Здесь могут подать вам помощь.
— Никто не подаст мне её, потому что он выдаёт меня за сумасшедшую. Он, как мы приехали сюда сегодня утром, так напугал слуг, что они боятся меня…
— Тогда обратитесь к консулу.
— Как же я обращусь?
— Через меня. Я сейчас же поеду к нему и попрошу для вас защиты.
— Хорошо, — согласилась она, — только это не главное. А главное, в чём вы можете помочь мне, отправьте моё письмо, я сейчас напишу, а вы отправьте. Надо торопиться. Он может вернуться сейчас. Он мне сказал, что больше не будет отправлять моих писем, что довольно, что теперь я его пленница навсегда.
— Ну, я вам ручаюсь, что вы будете свободны.
— Я верю этому. Так я напишу сейчас, а пока вы приготовьте какую-нибудь верёвочку, чтобы спустить её ко мне. Я напишу письмо и привяжу его, чтобы вы подняли.
— Не лучше ли я сейчас пойду к консулу, чтобы не терять времени? Мы освободим вас, тогда можете писать сколько угодно.
— Это всё потом… потом… Теперь надо написать скорее, потом делайте, что знаете, а теперь послушайтесь меня.
И она скрылась в окне.
Через несколько минута она показалась снова.
— Готово у вас? — спросила она. — Спускайте верёвку.
Верёвочка была у меня готова. Я соединил её из кусков, которыми были завязаны книги.
— Скорее, скорее! — забеспокоилась она вдруг. — Ради Бога скорее, я слышу — подходят к двери, вот… Дверь отпирают, тащите скорей!
Она говорила это и привязывала конверт. Я с улыбкой смотрел на неё, потому что был уверен, что беспокойство её напрасное, что теперь я с помощью консула через полчаса освобожу её и выясню, кто такой этот её враг и почему он вдруг с сегодняшнего дня желает называться моим именем.
Но вышло, что улыбка моя и уверенность, вызвавшая её, были преждевременны.
Бедная женщина была права, что торопила меня и что написала своё письмо.
Когда я втянул верёвку, я услышал, как стукнула дверь и грубый мужской голос спросил:
— С кем ты тут разговаривала?
Я невольно отстранился от окна. Затем хлопнула рама внизу и всё стихло.
Письмо было в заклеенном конверте. На конверте стоял адрес: Маяк «Дедалус» — «Дедалус». И больше ничего.
Я сунул конверт в карман и побежал к консулу.

XXII
Консула я не застал дома. Пришлось ждать его и ждать очень долго.
Он вернулся, наконец, и первыми его словами при встрече со мной было:
— Ну, поздравляю вас, девочка-арабка опять являлась в отделение банка, чтобы разменять сторублёвку, и на этот раз её арестовали.
— Тем лучше, — одобрил я, — у меня есть тоже кое-какие сведения.
И я рассказал ему сцену, которая произошла между мною и женщиной в окне.
— Да может быть, она и правда сумасшедшая? — усомнился консул.
— Во всяком случае, — стал настаивать я, — справедливость требует, чтобы выяснить её положение. К тому же, может быть, это даст лишнюю улику и по моему делу.
Консул вздохнул и сказал мне, взяв шляпу:
— Пойдёмте!..
Мне было немножко совестно перед ним, что я сегодня с утра надоедал ему. Жара стояла сильная, но делать было нечего.
Мы отправились.
— Не взять ли нам с собою полицейских? — предложил я.
— Зачем? — спокойно спросил консул.
Он, видимо, примирился уже со своею участью и шёл по жаре рядом со мною довольно добродушно.
— На случай, если придётся арестовать этого господина, — пояснил я, — ведь он назвался моей фамилией…
— Если он назвался вашей фамилией, то будьте покойны, его арестуют и без нас, потому что полиции даны все нужные указания…
Я торопился, чтобы скорее прийти в гостиницу и освободить несчастную пленницу.
Но, по-видимому, я слишком долго ждал консула, и времени упущено было слишком много.
Мы опоздали. В гостинице не было уже тех, кого мы искали.
Они исчезли, как показал швейцар, почти сейчас же, как я вышел, буквально вслед за мною. Хозяин гостиницы и прислуга рассказали про них всё, что знали: сегодня утром приехали на двух извозчиках усатый господин, молодая женщина, про которую он сказал, что она сумасшедшая, и девочка-арабка; они заняли одну комнату, спросили кофею и завтрак. Потом господин ушёл вместе с девочкой.
Своей фамилии он не прописывал, сказав, что сделает это, когда вернётся. Вернувшись без девочки-арабки, он поспешно велел вынести вещи, вывел бывшую с ним женщину, и они уехали с вещами, расплатившись по счёту. Вещей они, как привезли с утра, не раскладывали.
— Птички улетели! — сказал консул. — Пойдёмте в полицию, посмотрим арестованную девочку-арабку.
Эта арестованная девочка-арабка оказалась Фатьмою, которую я узнал сейчас же. С самого ареста она не проронила ни слова и упорно молчала на все вопросы. Увидев меня, она радостно улыбнулась и кивнула мне головой.
— Ты знаешь этого господина? — спросил её консул по-арабски.
Она не ответила.
— Вот всё время бьёмся так с нею, — сказал нам полицейский чиновник, — молчит, словно немая.
Консул стал её уговаривать, но безуспешно.
Она сидела, потупившись, с крепко стиснутыми губами.
Ничего не добившись от Фатьмы, мы дали полиции известные нам про неё сведения и должны были удовольствоваться этим.
Надо было признать всё-таки, что хотя пока ещё совершенно безрезультатно, но дело моё в смысле ясности значительно подвинулось.
Я знал теперь, что был обворован господином с усами, который держал в своём плену молодую женщину, известную мне. По ней можно было найти и его. Но как и где найти — этот вопрос было очень трудно решить. Очевидно, что он, выйдя вместе с Фатьмою из гостиницы, следил за нею издали, когда в банке она меняла по его поручению деньги. Вероятно, он видел, как её арестовали, побежал домой, схватил вещи и уехал, увезя с собой свою пленницу. В это время я сидел у консула и ждал его.
Бежать из Порт-Саида очень легко на север: стоит нанять лишь первую попавшуюся арабскую баржу, и она на парусах доставит в любой ближайший порт Средиземного моря. На юг же побег почти невозможен, потому что необходимо пройти канал с исполнением формальностей, при которых легко выяснить пассажиров.
На всякий случай были посланы телеграммы в Суэц и по берегу Средиземного моря.
Ветер в этот день был попутный на север.
XXIII
Итак, она была права. Вопреки моим расчётам я не освободил её при помощи консула, и теперь письмо её приобретало новую цену для меня.
На нём имелся адрес, по которому и я мог снестись с неизвестным человеком, знавшим её и, вероятно, знавшим тоже усатого господина.
Я взял большой лист бумаги и стал писать этому неизвестному. Я рассказал всё, что случилось со мною и затем с женщиной, которая, по-видимому, любила его и ждала от него помощи, призывая его к себе своею песней.
Окончив письмо, я положил его в конверт вместе с её конвертом и, написав адрес, сам отнёс в почтовый ящик.
Исполнив это, я твёрдо решить сидеть смирно и ждать.
Действительно, до сих пор из всех моих личных начинаний ничего не выходило или, если и выходило, то только хуже.
«Пусть события текут, — решил я, — сами собою, я не стану ничего предпринимать до тех пор, пока мне не ответит неизвестный или пока консул не пришлёт за мною».
И я, стараясь не думать ни о чём, засел за книги, мало-помалу увлёкшись ими так, что не заметил, как прошло несколько дней.
В дверь моего номера постучали, и затем просунулась голова швейцара.
— Что такое, письмо? — спросил я поспешно и с нетерпением.
— Нет, телеграмма. Сейчас её принесли от консула для передачи вам.
Телеграмма была из России от моего товарища. Он сообщил мне, что высылает для меня на имя консула триста рублей.
Я знал, что товарищ мой не был бедным человеком, но и богатства особенного не имел. Его участливое отношение ко мне тронуло меня до глубины души.
Признаюсь, я писал ему на авось, совершенно не ожидая, что он отзовётся на моё письмо.
Было что-то особенно приятное для меня вдали от Родины получить такое ясное подтверждение, что всё-таки есть хороший человек на свете, который вот побеспокоился ради меня. Значит, там, в далёкой России, всё-таки есть, кто помнит меня.
На другой день мне принесли письмо с почты.
Я сразу узнал конверт с надписью: «Daedalus».
Можно себе представить, с каким любопытством я распечатал его.
Письмо было написано убористым, чётким почерком по-русски.
«Если Вы смелый и предприимчивый человек, — писал мне незнакомец, — то решитесь, вероятно, на моё предложение. Немедленно, по получении этого письма, приезжайте в Суэц, возьмите там хорошего ходока из арабских баржей и отправляйтесь к маяку „Daedalus“. Здесь мы встретимся. Вы найдёте у меня для отыскания обворовавшего Вас человека средства гораздо более надёжные, чем где-нибудь. Не скрываю, что, приглашая Вас сюда, забочусь больше о себе и прямо говорю Вам, что Ваша помощь необходима мне гораздо более, чем Вам моя. По странной случайности судьба Вас поставила так, что в настоящее время Вы очень можете помочь мне. Дело идёт о любимой мною женщине, которую Вы знаете. Не бойтесь встретиться со мною: во мне Вы найдёте знакомого уже Вам отчасти человека. Мы с Вами виделись при условиях несколько, правда, странных, во всяком случае оказавшихся для Вас благодетельными. Из табора диких Вы были перенесены в Порт-Саид не по волшебству, как Вы пишите мне, а благодаря вполне реальным средствам, добытым человеческим разумом. Эти-то средства мы и пустим в ход, чтобы поймать злодея, который отнял у Вас Ваше имущество, а у меня желает отнять счастье. И не будь Вас, он отнял бы его у меня безвозвратно. Приезжайте немедля. Вы подойдёте на барже к маяку и махнёте три раза платком. Вам навстречу выйдет лодка. Назовите свою фамилию, она доставать Вас куда нужно.
Daedalus».
Я уверен, что всякий, находясь в том положении, в котором был я, и получив такое письмо, сделал бы то же самое, что и я, то есть поспешил бы немедленно в Суэц, а оттуда дальше, к маяку.
Предложение было слишком интересно, заманчиво и таинственно, чтобы отказаться от него.
Только трусость могла удержать меня на месте, но я никогда не чувствовал себя трусом.
XXIV
Я подошёл к «Дедалусу» после полудня при хорошем ветерке, споро и ретиво надувавшем косой парус нанятой мною арабской баржи.
Ещё издали махнул я платком, и от маяка тотчас отделилась лодка под парусами, лавируя по направлению к нам.
Я приказал держать на неё, и мы сошлись довольно быстро.
В лодке было два человека. Я назвал им свою фамилию. Сидевший на руле кивнул головою и проговорил:
— All right.
[21]
Я пересел в лодку, расставшись с баржей и отпустив её.
Лодка, быстрая и поворотливая, скользила по воде и понеслась, но не по направлению к маяку, как я думал, а, напротив, в сторону от него, в открытое море…
Баржа повернула и была уже далеко от нас.
— Куда мы идём? — спросил я.
Рулевой в ответ опять кивнул мне и показал рукою вперёд, где, кроме воды, ничего не было видно.
Я с любопытством стал вглядываться и мало-помалу различил что-то белое, похожее на человека в тропическом одеянии. Казалось только, что стоит он как будто прямо на воде.
Мы держали на него и приближались быстро. Скоро увидел я, что из гладкой поверхности моря выступил как бы бугор серого цвета, и на нём стоял человек.
Он махнул мне в знак привета шляпой. Я ему ответил тем же.
Когда мы подошли и остановились, я догадался, в чём дело, но не сразу поверил своей догадке.
Похоже было на то, что мы подошли к подводному судну, как морское огромное чудовище, лежавшему в воде. Оно выставило из воды свою спину, показавшуюся мне издали серым бугром.
Человек в белом одеянии поспешил мне навстречу, помог выкарабкаться из лодки и провёл за руку по мокрой, металлической обшивке, на которой были приделаны небольшие рейки для устоя. Посередине была небольшая площадка с люком вниз. Очутившись на ней, я оглянулся. Парус лодки был уже от нас на расстоянии по крайней мере мили. Высадив меня, она ушла с поспешностью.
— Благодарю вас, что приехали, — сказал мне человек, — вы узнаёте меня?..
Лицо его с белокурыми усами было мне знакомо. Я его видел, как во сне, в ту ночь, когда был перенесён от диких к Порт-Саиду. Он нагибался надо мною и давал мне бульону и вина.
— Да, я помню вас, — ответил я, — но мне казалось, точно я вас во сне видел.
— Сейчас вы увидите, — улыбнулся он, — и всю остальную обстановку вашего сна. Спустимся в этот люк, здесь на солнце слишком жарко.
Мы сошли вниз, и я действительно увидел всю странную обстановку, в которой очнулся тогда ночью. Я узнал стол в виде полки, рычаги и клапаны над ним и диванчик с тюфяком, на котором я лежал. Сильная электрическая лампочка, как и тогда, освещала всё это.
Благодаря вертящейся вентиляции, гнавшей широкой струёй воздух, здесь было в самом деле не так жарко, как наверху.
— Так я был спасён подводною лодкой! — довольно вырвалось у меня, когда я огляделся. — Но как же вы перенесли меня сюда из береговой пустыни?..
— Об этом потом, сначала расскажите мне о главном. Вы её видели, говорили с ней?..
Ему это казалось главным. Видно было, что он так привык к своему подводному судну, что не видел в нём никакого чуда.
— Нет, позвольте, — возразил я, — уж прежде всего познакомимся. Обо мне вы знаете, кто я, но вас я не знаю. Вы хозяин здесь?
— Я знаю только ваше имя, — ответил он, — и если хотите, могу вам назвать своё, но оно ничего не объяснит вам.
— Но всё-таки я тогда буду в состоянии хотя бы называть вас при обращении.
— Зовите меня Капитан «Дедалуса». Это наиболее подходит ко мне.
— А ваше судно носит название «Дедалус»?
— Да. И я здесь не хозяин, но только капитан.
— А тот другой, который был тогда с вами?
— Другой — хозяин. Его нет здесь теперь… «Дедалус» в полном моём распоряжении, и мы можем в нём нагнать и курьерский поезд, если нужно, и самый быстроходный пароход… Вы не боитесь такого путешествия?
— Путешествия-то я не боюсь, — сказал я, — тем более, что уже испытал его, но вопрос в том, кого мы нагонять будем… Вы знаете человека, которого нам нужно найти?
— Нет. Я его никогда не видал.
— А между тем он… — начал было я.
— А между тем он, — подхватил Капитан «Дедалуса», — он, как я вам писал, хочет отнять у меня моё счастье. Та женщина, которую вы видели в Порт-Саиде, моя жена.
— Ваша жена! — воскликнул я. — Но какое же отношение имеет к ней этот человек, которого вы не знаете?
— А вот это мы постараемся разобрать сейчас, — сказал капитан, делая над собой видимое усилие, чтобы скрыть охватившее его волнение… — Вот видите ли, — продолжал он, стараясь казаться как можно спокойнее, — два месяца тому назад жена должна была приехать в Сауким для свидания со мною. О существовании «Дедалуса» она не знает, потому что это тайна, в которую были посвящены по особым причинам только немногие, и от жены я должен был, по условию с хозяином, скрыть всё, что касается нашей деятельности. Под именем «Дедалус» она знает только маяк, через который мы вели с нею переписку. Последнее время мне нужно было находиться в этих местах и я решил вызвать её в Суаким, чтобы повидаться с нею. Мы не виделись около трёх лет. В Суаким она в назначенный срок не приехала. Это меня страшно встревожило, но через маяк я получил от неё письмо из Порт-Саида. Она писала, что её обокрали здесь. У неё пропали все вещи и деньги. В Порт-Саиде она должна была остановиться, чтобы пересесть с русского парохода, на котором пришла из России, на местный, идущий на Суаким. Без денег ей нельзя было двинуться. Я сейчас же ей послал их. В ответ я получил новое письмо с просьбою ещё денег. Это меня удивило и рассердило. Никогда она прежде не была жадна, а тут вдруг вместо того, чтобы после трёхлетней разлуки поскорей спешить ко мне, она требовала ещё денег, очевидно, только для лишних покупок, потому что на всё необходимое у неё должно было хватить с лихвою из того, что я прислал ей в первый раз. Я написал ей довольно мягко, но решительно, что больше денег не вышлю, а буду ждать её в Суакиме.
— Отчего же вы сами не от правились в Порт-Саид?
— Оттого же, отчего я и теперь вас вызвал сюда, а не сам поехал к вам: невозможность оставить «Дедалус»… Суаким такая бухта, что к ней издали можно подойти, и, кроме того, у нас там есть верный человек.
— Но ведь потом вы были в Порт-Саиде?
— Когда?
— Ведь меня же вы доставили туда?
— Мы доставили вас, но сами не были там. Об этом после, впрочем. И потом, когда мы вас доставили, у меня с женою всё было уже кончено.
— Как — кончено?
— Да, я думал так. Наша переписка с нею обострилась до того, что, наконец, она мне написала, что никуда не поедет и вернётся в Россию. Посла этого я перестал получать письма. Как вдруг приходит ваш конверт и в нём — её. Она мне написала всего несколько строк: «Спаси меня, милый, где ты? Писем от тебя нет, моих к тебе не пересылают».
— Что же это значит? — спросил я.
— Это значит, что все письма, которые я получал до сих пор, якобы от неё, были поддельные, кроме первого.
— Очевидно, — подтвердил и я, — если бы вы слышали, как она звала вас… Но кто же подделывал эти письма?..
— Тот самый человек, который обокрал вас, который увёз её теперь и которого мы найдём во что бы то ни стало.
Я опустил голову и ничего не возразил, чтобы не разочаровать бедного капитана. Но мне казалось очень маловероятным, что мы найдём неизвестно кого, неизвестно куда скрывшегося. После его побега из Порт-Саида ушло столько времени, что теперь, чтобы найти его, нужно было искать чуть ли не по всему земному шару. Да если бы знать, кого искать!..
— Будем стараться всё-таки! — сказал я.
— Да, будем стараться, хотя по вашему тону видно, что вы не очень-то верите в успех этих стараний.
— Нет, я не то что не верю, но я думал, по крайней мере, что вам хоть известно, кто этот человек… Тогда всё-таки было бы легче. Но оказывается, что и вы не знаете его…
— Так давайте комбинировать то, что мы знаем. Во-первых, нам известна его национальность… Он русский.
— Откуда вы это заключаете?
— Он слишком хорошо владеет русским языком. В письмах был подделан не только почерк, но и самый слог. Для этого надо хорошо знать язык.
— Пожалуй, я готов согласиться. Дальше?..
— Дальше — это человек, который жил долго в Порт-Саиде и хорошо освоился там. По его поступкам видно это. История с моей женой представляется мне ясно. Она приехала одна в Порт-Саид, он явился на пароход в толпе, которая постоянно покрывает палубу в каждом порту, и предложил свои услуги в качестве комиссионера, объяснив, что он русский и всё знает здесь. Она поверила. Обокрал её никто другой, как он сам же. Она ему поручила отвезти письмо. Он его распечатал, изучил почерк, снял копию, опять запечатал и послал. Затем она оказалась в его власти… Со мной он вёл поддельную переписку, добиваясь разрыва моего с женой, а её спрятал в маленьком домике на окраине.
— И приставил к ней девочку-арабку…
— Это вопрос ещё — он ли приставил её? Тогда она едва ли привела бы вас к моей жене.
— Но отчего же он вдруг перевёз её в гостиницу?
— Ну, это очень просто, — сказал капитан. — Когда появилось в газетах описание случая с керосинщиком, на котором вы ушли из Порт-Саида?
— В тот самый день, когда он перевёз вашу жену и занял номер в гостинице.
— Ну, вот видите ли. Прочтя это описание, он уверился, что вы погибли, что вас взяли дикие, и решил не скрываться более, имея ваш паспорт.
— Так вы думаете, что он знал, что я ушёл на керосинщике?
— Не сомневаюсь в этом.
— Как же это было, по-вашему?
— А вот как. Этот господин явился, вероятно, и на борт вашего парохода в качестве мелкого поставщика, комиссионера или чего-нибудь в роде этого. Он проболтался там вплоть до отхода. Когда вы не явились на пароход, начались разговоры: где вы и как быть?.. Об этом сейчас стало известно, заговорили офицеры, заговорила команда. Он насторожил уши.
— Но как же он мог узнать внешность моих вещей, ведь он описал их консулу подробно, уверяя, что они его?..
— Их выгружали при нём — может быть, даже на его собственную лодку или лодку какого-нибудь его приятеля-араба, такого же мошенника, как и он.
— Ну, а сумму моих денег откуда же он узнал?
— У вас капитанская каюта была на верхней палубе?
— Да, на спардеке, у мостика.
— Разве трудно подслушать, что говорят в ней?
— Нет.
— Капитан, вероятно, передал консулу деньги у себя в каюте, и он подслушал их разговор.
— Но ведь, вертясь на пароходе, он мог попасться на глаза консулу и тот мог узнать его на другой день?!
— Как будто трудно изменить лицо! Сегодня человек с бородою в тёмных очках, завтра борода сбрита, оставлены одни усы и очки сняты.
— Постойте! — воскликнул я, вдруг невольно поражённый осенившим меня воспоминанием. — Вы говорите, в тёмных очках и с бородою?
— Я предполагаю только.
— Но вы знаете, что я именно вспомнил теперь такое лицо.
— Где же вы его видели?
— На набережной, когда вернулся и опоздал на наш пароход. Я стал спрашивать, какой идёт следующий в Суэц, и мне показали на керосинщика. И показал именно человек в тёмных очках и с бородою.
— Он вас, может быть, и проводил туда?
— Не знаю. Не помню. Очень может быть.
— Значит, мои предположения близки к истине. Узнав на вашем пароходе, что вы опоздали, увидев ваши вещи и запомнив их, подслушав разговор капитана с консулом, он остался на набережной в расчёте, что вы всё-таки вернётесь сюда. Расчёт его оправдался, и он свёл вас к знакомому своему капитану, отплывавшему на керосинщике, а сам отправился к консулу, назвавшись вами более или менее спокойно, потому что предполагал, что вы не вернётесь больше.
— Почему вы думаете, что он предполагал это?
— Потому что, по всей вероятности, капитан керосинщика был один из специалистов по крушениям. Такие есть в Порт-Саиде. Владельцы старых судов, которые годятся только на слом, грузят свою рухлядь каким-нибудь товаром, страхуют и нанимают специалиста, удивительно ловко устраивающего крушение. Страховая премия получается полностью и оплачивает с лихвою все расходы.
— Так вы думаете, что посадка на риф керосинщика была рассчитана заранее?
— Уверен в этом.
— Но как же капитан? Ведь он тоже, по всем вероятиям, попал к диким и уведён ими?!
— Откупится. У них свои там счёты. Эти мошенники хорошо знают и Красное море, и берега его. Недаром этот капитан был приятель нашему господину. У них, очевидно, существовал уговор относительно вас. Дело было обработано чисто… И не спаси мы вас на «Дедалусе», вы были бы теперь далеко, а с вашим паспортом гулял бы теперь другой по свету.
— Но он гуляет и теперь, — невольно сказал я.
— Да, но недолго гулять ему. Мы найдём его.
— Вы всё-таки уверены в этом?
— Надо найти во что бы то ни стало!
— Если бы знать, где искать! — улыбнулся я.
— Вот это-то нам и нужно выяснить как можно скорее.
— Мне кажется, у нас слишком мало данных.
— Посмотрим.
— Это любопытно, — сказал я.
— Вы курите? — спросил меня Капитан «Дедалуса».
Я сказал, что курю.
— Так курите, пока мы стоим, и люк открыт, потом на ходу нельзя будет этим заниматься… Доступ внешнего воздуха прекратится.
— Я понимаю, — подтвердил я, — под водой у вас есть приспособления для искусственного обновления воздуха здесь?..
— Здесь всё есть, что нужно, будьте покойны. Вы увидите, когда мы тронемся.
— Но куда, куда тронемся мы? — проговорил я. — Вот в чём вопрос!
— А вот рассудим об этом не спеша. Бежать он мог из Порт-Саида только водою: это удобнее, чем сухим путём. А водою он мог направиться на юг или на север.
— Что он бежал на север, в этом нет сомнения, — решительно сказал я. — Ведь он знает, что девочка-арабка арестована и что его ищут. Чтобы пробраться на юг, ему нужно пройти канал. Здесь при исполнении формальностей его могут легко открыть. Тогда как на север он может отправиться в любой порт на первой же арабской барже, снующей у берега. И ветер в день его побега был попутный на север.
— Так, вероятно, рассуждала и администрация в Порт-Саиде?
— Совершенно верно, и немедленно были разосланы телеграммы во все порты.
— На север?
— Конечно.
— Всё это было бы хорошо и верно, если бы не существовало одного соображения, о котором вы забыли.
— Что же это?
— А то, что мы имеем дело не с совсем обыкновенным мазуриком, а с опытным и смелым пройдохой, которому не раз уже, вероятно, приходилось иметь дело с администрацией и оставлять её в дураках. Как вы думаете: для того, чтобы бежать ему на север, ему нужно было сообразить, что бежать по этому направлению легче?..
— Конечно.
— Но, сообразив это, он мог догадаться, что и администрации придёт такое же соображение и что именно все поиски поэтому будут направлены на север; а что касается юга, то ограничатся лишь мерами, принятыми на самом канале. Итак, ему представляется выбор: идти на север и рисковать, что его ищут там в каждом порту, в каждом городе, или постараться миновать канал и быть за этим каналом свободным от страха преследования…
— Но разве можно пройти канал так, чтобы не поймали?
— Для него, вероятно, можно.
— Каким же способом?
— В трюме, под покровительством такого же добродетельного иностранца, каким был капитан керосинщика, благодаря которому чуть не погибли вы. Если он мог устроить ловушку для вас, то мог, наоборот, устроить и для себя прикрытие.
— Так что вы думаете, что он бежал через канал в Красное море?
— А вы? — спросил меня капитан.
Логика его и последовательность выводов поразили меня и не могли не показаться мне убедительными. Меня удивила его строгая ясность соображения, которая, по-видимому,
никогда, даже в минуты сильного волнения, не оставляла его. Дело касалось его жены, его счастья, и он не потерялся, а рассуждал спокойно, точно решал математическую задачу.
«Да, с ним можно рискнуть и на путешествие в подводной лодке!» — подумал я.
— Так вы согласны со мною? — спросил он, видя, что я молчу и не возражаю ему.
— Хорошо, — сказал я, — положим, он направился на юг, но ведь и юг велик.
— Велик — это правда, но я думаю, что здесь нет большого выбора. Ни один из портов Красного моря не представляет из себя ничего заманчивого для человека, укравшего три тысячи. Здесь нет ни широкой жизни, ни развлечений, ни арены для дальнейших дел, потому что, кроме арабов и турок, отправляющихся в Мекку, других путешественников нет… Если он себя считает, пробравшись через канал, в безопасности, он направится в более людное место.
— Что же, в Индию?
— Там теперь чума и карантин. Тоже мало весёлого. Нет, дорога лежит ему дальше, в Китай, в Японию, в Америку, наконец, в Россию через Владивосток.
— Так куда же идти за ним?
— А видите, если он отправляется в Китай, Японию, Россию или Америку, он должен будет пройти Коломбо, обыкновенную стоянку всех пароходов на Цейлоне. Теперь, по приблизительному расчёту, он может быть на полпути туда. Мы же достигнем Коломбо раньше, и встретим его там.
— А если не встретим?
— Тогда я скажу, что потерял свою смётку, которая до сих пор никогда ещё меня не обманывала! — произнёс Капитан «Дедалуса» с уверенностью.

XXV
Решено было отправляться немедленно, позавтракав только. Для большого и разнообразного запаса провизии на «Дедалусе» не было места, не было также возможности приспособить и кухню, и потому еда тут была ограничена крепким бульоном, вином и питательными галетами. Всего этого, однако, по убеждению капитана, было в его распоряжении столько, что два человека могли прокормиться месяц.
— Ну, курите вашу последнюю папироску, — сказал мне капитан, — теперь вам придётся расстаться с этим удовольствием.
И когда папироска была выкурена, он закрыл люк и принялся, словно пианист по клавишам, надавливать кнопки и поворачивать рычаги и рукоятки над столом.
Послышался глухой шум странной и непонятной мне работы. Металлические стенки «Дедалуса» дрогнули и слегка загудели.
— Что это такое? — спросил я.
— Мы погружаемся в воду, — спокойно ответил капитан.
— И глубоко?
— Нет. Пустяки. Всего на 175 футов. На этой глубине путь изучен нами превосходно, и уверяю вас, что вы здесь в большей безопасности, чем наверху на самом огромном пароходе… Здесь нет ни качки, ни встречных судов, ни ветра. Только вот о чём я прошу вас: на ходу мне много работы, и она требует всего моего внимания, так что не разговаривайте со мной. Вот тут под диванчиком есть несколько книг, возьмите из них любую.
И он, обусловив таким образом моё молчание, снова повернулся к своим рычагам и кнопкам, а я взялся за книгу, но некоторое весьма понятное беспокойство не позволяло мне сосредоточиться на чтении.
Всё-таки немножко жутко было чувствовать, что сидишь, заключённый в металлический снаряд под водой на 175 футов, сидишь и двигаешься в нём, не замечая, правда, этого движения: так оно плавно и спокойно.
«Дедалус» шёл без малейшего толчка, без особенного шума даже, хотя таинственные для меня машины работали в нём.
Мне ужасно хотелось спросить, с какою скоростью идём мы, но я подавил своё любопытство, чтобы не нарушать поставленного мне условия.
Я вспомнил, как увлекался в детстве фантастическим описанием в романе Жюля Верна подводного корабля «Наутилуса» с его капитаном Немо, и странно мне было испытывать теперь в действительности подводное путешествие.
Правда, эта действительность сильно разнилась от фантазии романиста. Здесь не было роскошных отделений «Наутилуса» с его столовой, спальнями, чудовищным машинным отделением и огромным стеклом, через которое капитан Немо любовался жизнью дна морского.
Я сидел в маленькой каюте, где было сосредоточено всё управление «Дедалуса», и она же служила для нас единственным помещением.
Я пробовал несколько раз заинтересоваться книгою, но глаза мои невольно, отрываясь от неё, поднимались, чтобы посмотреть на капитана, по-видимому, всецело отдавшегося напряжённой деятельности.
Он то прикладывался к различным трубкам, через которые, очевидно, наблюдал за тем, куда направляется наше судно и чист ли путь впереди, то внимательно разглядывал лежавшую перед ним на столе карту.
Карта эта была совсем особенная, и что меня удивило более всего — фотографическая.
Она представляла из себя не особенно широкую, но длинную ленту бумаги, с двух концов накатанную на валики.
По тому, как капитан с помощью этих валиков передвигал её, можно было судить, что мы идём очень быстро.
Сначала меня беспокоило многое. И много вопросов хотелось мне задать капитану: хорошо ли виден ему через его трубки наш путь, достаточно ли ясно проникает сквозь слой воды в 175 футов солнечный свет, не можем ли мы наткнуться на растущий со дна моря коралловый риф или налететь на акулу или кита, и что нам делать, если вдруг что-нибудь сломается в механизме «Дедалуса»?
Я понимал, что силу движения он получал от электричества, потому что никакой другой силой он двигаться не мог.
Мало-помалу, однако, я привык к своему положению и, сам того не заметив, увлёкся книгою.
Попалось мне описание современной Индии, очень талантливо составленное…
XXVI
Почти половина книги была прочтена, когда капитан обернулся ко мне и проговорил:
— Вы голодны?
— Очень, — ответил я.
Мне действительно хотелось есть.
— Сейчас, — сказал капитан, — мы остановимся. Я отдохну и поем с вами.
— А во время хода вам нельзя оторваться от ваших трубок и карты? — спросил я его, когда он остановил «Дедалус», достал бульон и галеты и мы принялись за них.
— Нет, на ходу я должен всё время следить.
— Ну, а как же ночью? Или вы ночью не спите?
Я сделал этот вопрос с некоторой опаской. Если было важно следить за ходом судна, то, конечно, казалось очень опасным, если бы капитан вдруг заснул. А он всё-таки был человек и не застрахован, значит, от утомления.
— Ночью я буду спать, — ответил он, — как и вы.
— Значит, мы не будем двигаться?
— Это вы увидите и узнаете об этом после, а пока обсудим, что делать, когда придём в Коломбо.
— Прежде всего, — сказал я, — надо решить, каким образом мы переправимся с «Дедалуса» на берег. У вас есть лодка?
— Есть гуттаперчевая надувная, но её нам не нужно будет. Как нам очутиться в Коломбо — об этом не тревожьтесь. Но дело в том, что вам там придётся действовать одному. Я не могу оставить «Дедалус». В нём вся наша сила. Без него мы обыкновенные люди, которые сравнительно мало что могут сделать. В Коломбо вам нужно явиться, таким образом, одному.
— Хорошо, — сказал я, — но я даже не могу себе представить, с чего начать?
— Надо отправиться на набережную, на пристань, и постараться не пропустить ни одного парохода, пришедшего из Перми или Адена. Их уж не так много приходит, чтоб это было трудно. По моему расчёту, мы будем в Коломбо на сутки ранее самого поспешного перехода туда из Порт-Саида. Постарайтесь попадать на палубу прежде, чем будут спускать пассажиров. Вы наверное встретите того, кого мы ищем.
— Но если я даже и встречу, то как я узнаю его в лицо?
— Узнать его будет нетрудно. Он не один. Кроме того, нам известно, что у него усы. Затем русская национальность выдаст его. Обыкновенно русские идут по этому пути на «Добровольном Флоте», а он придёт на английском пароходе.
— А если он не назовётся русским, а выдаст себя хоть за американца, положим?
— Всё-таки его выдаст его русский язык. Он не утерпит, чтобы при первом же случае не выругаться по-русски. Этого для вас будет достаточно.
— Всё это хорошо, — согласился я, — но ведь он-то знает меня в лицо, как быть с этим?
Для капитана не существовало ничего невозможного.
— Очень просто, — решил он сейчас же, — сбрейте бороду и наденьте тёмные очки. Вы преобразитесь. И ему в голову не придёт, что вы можете явиться в Коломбо раньше его. Здесь он едва ли будет настороже.
— Допустим, — сказал я, — что я его встречу и узнаю, а он меня нет, ну а дальше что?
— Дальше надо будет действовать, смотря по обстоятельствам.
— Что же, обратиться к полиции, чтоб его немедленно арестовали?
— Немедленный арест у англичан невозможен. Там у них слишком большая процедура для ареста. И потом, английская полиция хороша для англичан, но нам, русским, рассчитывать на её расторопность и покровительство нечего. Нам придётся самим управляться.
— А как же я буду сноситься с вами?
— Об этом переговорим потом. Теперь пора двигаться вперёд.
— Никогда я не думал, что попаду в такую переделку! — невольно улыбнулся я.
— Что делать, — сказал капитан, — зато сколько новых впечатлений!
Нельзя сказать, чтобы каюта «Дедалуса» представляла большие удобства для путешественника. Главное, было неприятно то, что нельзя было двигаться в её маленьком пространстве. Приходилось сидеть, лежать или стоять, но для ходьбы совсем не было места. К тому же я боялся приближаться к столу, чтобы не помешать капитану, опасаясь, что каждая помеха ему и ошибка его могут обоим нам стоить жизни.
Одно, что было безусловно хорошо в каюте, это воздух. Он обновлялся непрерывно, и электрическая вентиляция приводила его в движение.
Большие часы над столом показывали уже двенадцать ночи, а капитан с самого обеда ни разу не обернулся ко мне и не сказал мне ни слова.
Наконец, взглянув на часы, он сказал мне, не оборачиваясь:
— Ужинайте, если хотите, и ложитесь спать. В диване есть всё нужное для постели.
Еда «Дедалуса» была настолько питательна, что с обеда я не проголодался и, больше от нечего делать, сгрыз галетку, выпил вина и стакан содовой воды, которой было на «Дедалусе» в изобилии и которая текла прямо из вделанного в столе крана.
Я открыл диван и нашёл там подушки в чистых полотняных наволочках, чистые тонкие простыни и несколько штук одеял.
Я устроил себе постель и лёг.
Никогда в жизни не воображал я, что придётся мне сознательно ложиться спать в подводной лодке. Да и улёгшись, я был уверен, что не засну. Меня интересовал капитан и то, как он устроится на ночь.
Но он, не обращая на меня внимания, продолжал возиться у столика.
Так я и заснул, не увидев для себя ничего более интересного, чем то, что я уже знал.
XXVII
Зато пробуждение готовило мне неожиданность.
Когда я проснулся, электрическая лампочка не горела, а каюта освещалась мягким и ровным дневным светом, так что трудно было разобрать, откуда проникал он. Вентиляция не вертелась. Воздух был скорее прохладен, чем жарок. Никакой качки не было заметно по-прежнему, но слышался знакомый уже мне гул, который я помнил по первому моему пребыванию на «Дедалусе».
Капитан спокойно сидел в кресле, положив нога на ногу, и, когда я открыл глаза, поглядел на меня и улыбнулся.
— Где мы? — спросил я. — Под водой, на воде, откуда это дневной свет?
— Мы на девять тысяч восемьсот пятьдесят футов над уровнем моря, — ответил мне капитан, продолжая улыбаться.
— Как — над уровнем моря! — воскликнул я.
— Ну да, мы летим с вами на высоте девять тысяч восемьсот пятьдесят футов над водою, потому что быть подводным судном не прямое назначение «Дедалуса», а вспомогательное. «Дедалус» по своему устройству — воздушный корабль.
Должно быть, у меня в эту минуту сильно изменилось лицо, потому что капитан рассмеялся добродушным и весёлым смехом; я же вовсе не желал разделять его весёлости и не совсем дружелюбно проговорил:
— Отчего же вы не сказали мне об этом раньше?
— Оттого, — просто объяснил он мне, — что вы, вероятно, не захотели бы рискнуть добровольно на воздушное путешествие. Хорошо и то было, что вы согласились отправиться со мной под водою. Оттого я вчера тщательно избегал разговоров об устройстве «Дедалуса» и останавливал вас каждый раз, как вы начинали расспрашивать.
— Но позвольте — значит, мы летим теперь почти на высоте трёх вёрст?
— И со скоростью ста двадцати в час!..
— И вы так спокойно говорите об этом!
— Отчего же беспокоиться? «Дедалус» теперь в своей стихии, и ничего случиться с ним не может.
— Но вчера вы целый день не отходили от вашего стола, а сегодня сидите и разговариваете?
— Мало того, я сегодня, как говорил вам, даже спал и проснулся незадолго перед вами. Вчера мы были под водой, а сегодня несёмся по воздуху, где ничего не может попасться нам на пути, и путь этот совершенно свободен. Здесь следить мне не за чем!
— Ну, а за ходом машины, если ваш корабль двигается машиной?
— Ход её поставлен, и она не требует за собой наблюдения. Запаса электричества у нас достаточно, смазка автоматическая. Я могу спокойно сидеть.
— И мы держимся на воздухе работой этой машины? Неужели вы так уверены в её прочности, что не боитесь падения? Ведь нам грозит её малейшая неисправность…
— Бояться падения нам нечего!
— У вас устроен надёжный парашют?
— Нет! Я бы не полетел с парашютом. Это и старое, и ненадёжное предохранительное средство. «Дедалус» так устроен, что он плавает в воздухе, как и в воде. И машина даёт ему только движение, а не поддерживает его на высоте.
— Как же это так? — спросил я, недоумевая.
— Вот видите ли, до меня все изобретатели обращали внимание только на механизм снаряда, на его форму и ломали голову над этим. Мне же казалось, что механизм и форма сравнительно пустяки, а прежде всего надо изобрести пригодный материал для постройки снаряда. И вот после долгих опытов я добыл особый металл, который по весу легче алюминия, а по твёрдости не уступит стали, хотя и лишён свойственной ей хрупкости. Тоненькая пластинка его свободно выдерживает высокое давление и вместе с тем имеет относительно малый вес. Только благодаря этому металлу можно было с уверенностью сказать, что теперь решён вопрос воздухоплавания. Получилась возможность построить из него такой снаряд, в котором можно оперировать с воздухом так же, как в подводной лодке с водою, то есть путём выкачивания воздуха достичь, чтобы снаряд плавал в воздухе, как в воде. Достигнув этого, было действительно уже пустяками сообщить ему движение винтами и крыльями.
Поражённый и заинтересованный, слушал я, и хотя в общих чертах я и понимал объяснение капитана, но не отдавал ещё полного себе в нём отчёта.
Мне приходилось знакомиться с теорией после того, как я уже видел воочию её практическое применение, и потому я не мог ни возражать, ни сомневаться, а должен был только слушать и стараться хорошенько понять.
— Так что, если вы захотите опуститься? — стал спрашивать я.
— То стоит мне только, — подхватил капитан, — дать доступ воздуху в отделения «Дедалуса», откуда он удалён, и по мере того, как он будет постепенно наполнять их, мы начнём опускаться, опустимся до уровня моря, а затем, если начнём впускать вместо воздуха воду — и ниже, хоть на самое дно.
— Но мы можем опуститься и на землю?
— Конечно, как мы сделали это, например, когда спасли вас из табора диких и доставили затем в Порт-Саид.
— Но ведь ваше открытие имеет огромное значение и огромную будущность! По-видимому, ваши опыты воздушного корабля осуществлены «Дедалусом» блестяще, и не сегодня завтра произойдёт переворот во всей жизни народов, как только станет известным ваше открытие.
— К сожалению, я должен хранить его в тайне.
— Как в тайне, почему в тайне? Во-первых, оно даст вам огромное богатство, а во-вторых, вы сделаете этим неоценимое благодеяние человечеству: насколько жизнь его подвинется вперёд уже благодаря тому хотя бы, что границы государств уничтожатся сами собой при существовании воздушных кораблей.
— Что касается богатств, то я обогащён уже в достаточной мере. А что касается благодеяний, то, наоборот, в данный момент моё изобретение принесёт гораздо более вреда, чем пользы. Современное человечество слишком малокультурно, чтобы пользоваться воздухоплаванием. Прежде всего, применять его к военным целям: то есть получится новый губительный способ для уничтожения людей. Затем явится целый ряд безнаказанных преступлений, и ничего хорошего не выйдет. Человечество ещё не доросло, чтобы пользоваться такой опасной игрушкой, как «Дедалус».
— Однако же он построен, действует, и вы пользуетесь им — вы как капитан и ещё другой кто-то — как хозяин!..
— Да, мы пользуемся, но только для блага, и на этом условии и были даны мне средства для постройки моего корабля.
— Значит, вы его построили не на свой счёт?
— Нет, таких денег у меня не было. Их едва хватило у меня на предварительные опыты. Когда я сделал своё открытие, я написал о нём одному из богачей, предложил ему купить мой секрет. Он прислал ко мне доверенное лицо, а потом вызвал меня к себе и по причинам, о которых я только что говорил вам, потребовал от меня безусловной тайны для моего изобретения.
— Так этот богач и есть хозяин вашего корабля?
— Да, он и есть хозяин.
— И я обязан ему тем, что, спасенный от диких, нашёл у себя в кармане банковый билет на пятьдесят фунтов?
Капитан вновь улыбнулся и махнул рукой:
— Мало ли сколько народу так обязано ему!
— Но если он требует от вас сохранения тайны о «Дедалусе», как же вы меня посвящаете в неё? Или вы возьмёте с меня обещание, что я не стану рассказывать ни о чём?
— Нет, я вовсе не хочу ни в чём стеснять вашей свободы. Я рассказал вам о «Дедалусе» настолько лишь, чтобы вы не боялись путешествия в нём. Но самой его конструкции я не буду объяснять вам и не открою секрета металла, из которого он сделан. Вам ведь это ни к чему. А о том, что вы знаете, вы можете смело рассказывать.
— И, пожалуй, описать даже?
— Пожалуй, и описать. Это вреда не сделает. Большинство прочитает и скажет — сказка. А может быть, когда-нибудь со временем, когда такие корабли, как «Дедалус», станут общим достоянием, ваше описание приобретёт значение исторического документа.
— А что это за странная карта, по которой мы шли вчера? — спросил я.
— Карта наша собственная и не что иное, как ряд простых, соединённых вместе, фотографических снимков глубин Красного моря.
— Как фотографических снимков глубин!
— Ну, да. Если смотреть на море с известной высоты, оно, в особенности при известковом коралловом дне, становится совершенно прозрачным. Я бы вам показал это через трубу, но, к сожалению, небо под нами покрыто облаками.
Он сказал это совсем спокойно, но меня поразило невольно выражение «небо
под нами». Страшно было как-то слушать это.
— У нас есть, — продолжал капитан, — такие же фотографические карты суши. Они, как вы можете сами судить, чрезвычайно подробны, а уж о точности и говорить нечего. Окрестности Коломбо сняты у нас тщательно.
Он достал довольно большой свёрток, развернул его и стал мне показывать.
— Вот мы спустимся на этой полянке, — объяснял он, водя пальцем по светлому пятну на своей особенной карте, — кругом тут пальмовая роща. От полянки идёт тропинка к большой дороге в самый город. На всякий случай мы снимем копию с этой карты, чтобы вы могли ею воспользоваться на земле, когда будете там.
— Во всяком случае, — вырвалось у меня, — я бы хотел быть там поскорее. Оно всё-таки надежнее, чем нестись в заоблачном пространстве.
— Ну, не говорите так. Среди людей, право, больше опасности, чем на крыльях «Дедалуса», и заоблачное пространство куда лучше земли!
— Может быть, вы и правы, — согласился я, подумав.

XXVIII
На другой день под самое утро перед восходом солнца спустился «Дедалус» на указанную капитаном на карте полянку.
Спуск совершился так плавно и осторожно, что я и не заметил бы его, если бы не хлопотливо напряжённая возня капитана у рычагов и кнопок. Я удивлялся только, как не путается он в их сложной системе. Даже толчка при посадке «Дедалуса» на землю не ощутилось.
Борода моя была уже сбрита, надеты большие синие очки, отчего лицо моё так изменилось, что я сам себя не узнал, поглядевшись в зеркало.
Я был вооружён двумя револьверами, и в кармане у меня был банковый билет на тысячу фунтов стерлингов.
Недостатка в оружии и в деньгах на «Дедалусе» не было.
Мне пришлось выйти через боковой люк, открывавшийся на некотором расстоянии от земли, и спуститься по верёвочной лестнице.
Я должен признаться, что, когда нога моя почувствовала твёрдую землю под собою, я испытал чувство немалого успокоения и удовольствия.
Капитан светил мне сверху.
Между нами всё уже было переговорено и условлено, как действовать и что делать.
«Дедалус» должен был спуститься и подняться ночью, чтобы не обращать на себя слишком внимания.
До рассвета я решил остаться на полянке, а затем выйти по указанной на карте-фотографии тропинке на дорогу и направиться в Коломбо.
— Ну, до свиданья, — крикнул мне капитан, подняв лестницу, — так помните наше условие!
— Будьте покойны, — отвечал я ему снизу из темноты, — до свиданья!
Он махнул мне шляпой, и в тот же миг свет в отверстии люка исчез, и я слышал, как хлопнула крышка этого люка.
В первую минуту глаза мои ослепила полная темнота. Мне показалось, что кругом меня — хоть глаз выколи.
Наверху блестели в небе звёзды. Я поглядел в сторону «Дедалуса». Он представился мне тёмной и как будто бесформенной массой.
Послышался шелест, шевельнулся воздух, засвистел ветер, и прежде чем я успел сообразить что-нибудь, густая тень пронеслась надо мною, застлала на секунду небо, исчезла, и всё стихло.
Я понял, что «Дедалус» поднялся и улетел от меня.
Я остался на полянке и, приглядевшись, различил окружавшие её пальмы.
Я помнил, что полянка, судя по карте, лежит к востоку от Коломбо, а тропинка начинается от юго-западного её угла и здесь она настолько широка, что вышла на карте определённой прямой линией.
Приходилось ждать восхода солнца, чтобы ориентироваться.
Я, впрочем, долго ещё стоял и смотрел в небо, стараясь увидеть как-нибудь на нём удалявшийся «Дедалус».
Но небо безмятежно сияло звёздами, и напрасно я силился различить на нём хоть какую-нибудь тёмную точку.
Солнце взошло, вспыхнули розовым блеском верхушки пальм, и полянка осветилась. Странный вид имела она. По-видимому, природная, она явно была искусственно увеличена и вырублена по краям, так что образовала совершенно правильный прямоугольник. Начинавшаяся от неё тропинка тоже была расчищена и шла прямой линией в виде аллеи. Ошибиться и не найти её было трудно.
Никакого признака жилья между тем не было видно.
Неужели эта полянка была сделана нарочно для спуска «Дедалуса»? Ничего невероятного в этом не было, и я решил, что непременно спрошу капитана об этом.
Я направился по тропинке, с удовольствием разминая ноги после сидения в каюте «Дедалуса».
За прямой линией расчищенной тропинки был поворот, после которого она шла, извиваясь, в роще.
Достигнув этого поворота, я остановился, вдруг поражённый тем, что представилось глазам моим. Двое тёмно-коричневых людей в белых чалмах и плащах стояли, нагнувшись над третьим, лежавшим на земле и отбивавшимся от них. Он был голый, только с перевязкой на бёдрах.
Борьба была упорная, но тихая. Рот отбивавшегося был заткнут свёртком каких-то тряпок. Один из нападавших старался удержать его, а другой, схватив его обеими руками за горло, сдавливал ему его и душил.
Они так были заняты своим делом, что не заметили моего приближения, вероятно, действуя в этой глуши без опаски и не ожидая себе помехи.
Я схватился за револьвер и крикнул.
Душивший, отпустив горло своей жертвы, выпрямился и обернулся. Увидев меня, он бросился ко мне с вытянутыми руками и выхватил нож из-за пояса.
Это был здоровый сингалезец огромного росту. У меня был один только миг для защиты. Я воспользовался им и выстрелил. Сингалезец привскочил, упал навзничь и задёргался руками и ногами.
Другой его товарищ кинулся бежать и исчез в роще, между деревьями.
Оказалось, они душили совсем юного безбородого, ещё почти мальчика, сингалезца. Почувствовав, что его оставили, он освободил рот от тряпок, привстал и сел, тяжело дыша и жадно вбирая в себя воздух.
Я подошёл к нему.
— За что это они тебя? — спросил я по-английски, наклоняясь.
Он замотал головою и взялся руками за грудь.
— Ты понимаешь по-английски? — спросил я снова, думая, что он хочет сказать мне своей мимикой, что не понимает меня.
Он кивнул и снова задвигал шеей. Ему нужно было отдышаться после того, что он вытерпел, и прийти в себя.
— Джуди им ничего не сделал, — заговорил он, наконец оправившись, — я не знаю, за что они хотели убить его.
— Тебя зовут Джуди?
— Да.
— Ты чем же занимаешься, кто ты такой?
— Джуди возит господ в колясочке.
На всём востоке существует особый низший класс людей, которые за плату возят желающих в двухколёсных лёгких колясочках. Такие извозчики там явление вполне узаконенное и привычное. У них есть номера, и в иных местах существует даже для них такса. Ручной экипаж их, возимый вместо лошади человеком, — английское изобретение.
— Где же твоя колясочка?
— Там, на дороге.
— Как же ты попал сюда?
— Пойдёмте скорей отсюда, Джуди расскажет вам.
И как бы в подтверждение своей просьбы он показал на распростёртого на земле без движения сингалезца, в которого я выстрелил. Он был мёртв. Пуля попала ему в лоб над бровью правого глаза. Там виднелась струйка тёмной крови. Я пощупал ему сердце. Оно не билось. Пульс тоже не давал признаков жизни.
Джуди вскочил уже на ноги, боязливо оглядывался по сторонам, манил меня рукою и звал:
— Скорей, скорей! — повторял он. — Который убежал, может привести новых, и они убьют опять.
— Да кто они такие?
— Не знаю. Злые люди. Джуди боится здесь, — он дрожал всем телом.
Когда я двинулся, он почти побежал впереди меня, показывая куда идти.
Мы вышли на дорогу к тому месту, где стояла колясочка. Здесь Джуди как будто успокоился немного.
— Который убежал, — стал рассказывать он, сильно волнуясь и размахивая руками, — нанял Джуди, чтобы он вёз его по этой дороге.
— Но ведь это было ещё ночью, до восхода солнца?
— Джуди возит господ и ночью, когда мало заработает днём.
— Но как же ты не побоялся ночью отправиться в лес?
— Он нанял Джуди не в лес, а в деревню, которая за лесом.
— Но ведь проезжать-то всё-таки надо здесь!
— Он дал Джуди хорошую плату. Нельзя было не согласиться. На этом вот месте встретился другой, который убежал, — сказал Джуди. — Стой. Джуди остановился. Они взяли Джуди за руки, закрыли ему рот и потащили. Было темно. Когда взошло солнце, они стали душить Джуди. А он им ничего не сделал. Он не виноват. Вот как всё было.
— И ты говоришь правду?
— Джуди говорит только правду. Вот и колясочка. — И он показал на свою колясочку, как будто она была живым существом, способным засвидетельствовать, что он не лжёт.
Действительно, в этой одиноко стоявшей на дороге колясочке было что-то подтверждающее правдивость Джуди. Но главное — его искренний, наивный тон казался убедительным.
— Ну, садись, — сказал я Джуди, — ты слишком, пожалуй, ослабел, чтобы идти.
— Куда садись? — переспросил он удивлённо.
— В колясочку. Я провезу тебя, пока ты отдышишься окончательно.
Джуди раскрыл рот и вытаращил на меня глаза.
— Господин инглиз хочет везти Джуди!?.
— Я не инглиз, я русский, москов, — пояснил я.
Джуди приложил ладонь ко лбу и низко поклонился.
— Русский, — повторил он, — Джуди любит русских. Они добрые. Когда приходит русский пароход, они много дают денег. А инглиз считает сингалеза за крысу. Инглизы злые.
Везти он себя не только не позволил, но потребовал, наоборот, чтоб я сел в его колясочку.
Он уверял, что вполне уже оправился, чувствует себя превосходно и мигом доставит меня в Коломбо. На это, однако, я не согласился. Мы пошли скорым и бодрым шагом.
Джуди болтал, не умолкая. Он, видимо, был в возбуждённом состоянии после происшествия, и волнение его выражалось многоречием.
Он рассказывал про англичан, сообщил мне ходящую в Индии легенду о том, что придёт с севера белый царь и освободит индийский народ от инглизского гнёта. В разгаре рассказа он иногда вдруг останавливался и неожиданно спрашивал, — за что хотели убить эти люди Джуди?
Видимо, первоначальный испуг его сменился теперь удивлением. Он никак не мог понять, чего хотели достигнуть смертью бедного, голого сингалезца. Ведь не убогая же колясочка его, в самом деле, соблазнила его убийц, а денег у него было буквально несколько грошей!
Идти было легко. Дорога шла ровная, заметно под гору. Пальмовые рощи сменялись прогалинами. Наконец в эти прогалины и сквозь поредевшие стволы деревьев показался Коломбо.
Тут Джуди остановился и стал настойчиво требовать, чтобы я сел в его экипаж.
Напрасно я отказывался. Он требовал, молил, просил и уверял, что непременно хочет хоть ввезти меня в город. Он чуть не плакал.
Нужно было видеть зато его радость, когда я наконец волей-неволей уступил его просьбам. Он схватил оглобли и побежал так, что я должен был кричать ему «тише» из боязни, что он меня вывалит.
С необыкновенной гордостью и лихостью подкатил он меня к подъезду гостиницы, и тут выяснилась причина его настойчивости, почему хотелось ему так во что бы то ни стало провезти меня — он ни за что не хотел брать с меня платы за езду.
Бедный Джуди желал отплатить мне, чем мог, за своё спасение и провёз меня даром по улицам Коломбо.

XXIX
В гостинице ещё только вставали, и моё раннее появление неизвестно откуда произвело не совсем благоприятное впечатление. Отнеслись ко мне несколько подозрительно, но номер отвели и принесли толстую книгу, в которой я должен был записать подробные о себе сведения.
Я исполнил это вполне обстоятельно, но вместо своей фамилии поставил: «Иванов».
Когда открылась контора, и я сдал туда на хранение свой тысячефунтовый билет, отношение ко мне сразу изменилось.
Ко мне в комнату явился сам управляющий, спрашивая, доволен ли я ею и не желаю ли я ещё лучший номер?
Комната у меня была прекрасная, просторная, с отдельной уборной и с широким, защищённым парусиной балконом, с которого открывался вид на море.
Я сказал, что вполне доволен помещением, и на вопрос, не будет ли ещё каких приказаний, потребовал, чтобы комиссионер сейчас же узнал мне, когда ждут в порт ближайший пассажирский пароход из Адена или Перми?
Комиссионер, чрезвычайно вежливый и внимательный, быстро исполнил поручение, принеся известие, что ближайший пароход из Адена — французский «Messagerie Maritime» и ждут его прихода через два дня.
Два дня у меня оставалось времени, чтобы осмотреть Коломбо и познакомиться с ним, что было необходимо, так как я желал выдать себя за прожившего здесь по крайней мере недели две.
К завтраку я спустился вниз в общую столовую. Это была большая, высокая, с лепными украшениями зала. Огромные окна её начинались от пола и выходили на каменную, увитую ползучими растениями террасу.
Маленькие, покрытые белыми скатертями столики, за которыми сидели англичане в белых костюмах, были уставлены отличным фарфором и тонким хрусталём.
Ресторан был обставлен на широкую ногу и вполне по-европейски.
Только вместо гарсонов и кельнеров служили коричневые сигналезцы, статные и красивые, в белых, завязанных по-индейски чалмах и белых плащах, драпировавшихся такими красивыми складками, которым бы позавидовал любой актёр на нашей сцене.
Восточный характер комнаты дополнялся ещё только двигавшимися на потолке пантами, то есть подвешенными на брусьях полотнищами белой материи, которые с помощью верёвки всё время двигаются из стороны в сторону и, вея по воздуху, дают ему свежесть во время тропической жары. Такие панты устраиваются в богатых и бедных домах. Конструкция тут везде одинакова: верёвка от брусьев с материей проводится через отверстие в стене в другую комнату или на двор, там сидит нанятый для этого индиец и дёргает её.
Завтрак состоял из нескольких блюд, среди которых между яичницей и бараньей котлеткой подали одно специально индийское кушанье, называющееся «кэри». Сначала принесли большую плоскую серебряную миску отлично сваренного рису, каждое перламутровое зерно которого отсыпалось отдельно. За рисом следовал поднос, уставленный тарелочками со всякой всячиной довольно оригинального, впрочем, подбора. Тут были маленькие сушёные рыбки, какой-то порошок, стручковый перец, толчёная жареная курица, бамбуковое и имбирное варенье, сушёные листики какого-то растения; всего этого надо было положить по вкусу в рис, размешать и полить едко-пряным соусом, который собственно и называется «кэри».
Кушанье выходило очень пряное и едкое, немножко кисленькое. Оно мне понравилось.
Позавтракав, я отправился осматривать город.
Коломбо, благодаря обилию зелени и плещущему о прибрежные камни морю, имеет вид скорее дачного места, чем города.
По самой середине стоит высокая башня маяка, точно твердыня какого-нибудь замка, а вокруг неё теснятся каменные дома с лавками, конторами и агентствами, образуя несколько небольших, впрочем, улиц, которые быстро переходят в дороги между садами и рощами, где разбросаны маленькие одноэтажные коттеджи.
Солнце стоит над головой и светит отвесными лучами, так что от стволов деревьев не видно тени, и тень ложится ровным кругом у подножия их.
Существует в Коломбо очень интересный музей, для которого выстроено чудесное здание вроде маленького дворца.
В этом музее собрано всё, относящееся к этнографии, фауне и флоре Цейлона. Тут целые витрины с коллекциями жуков и бабочек, до обмана похожих на сучки и листья растений.
Чучело огромной акулы лежит на столе, который длиннее самого большого биллиарда.
Кустарные изделия из глины и из дерева и всевозможные вышивки наполняют целые шкафы. Меня невольно поразили узоры этих вышивок своим сходством с рисунками русских полотенец и малороссийских рубах. Глиняные изделия тоже очень близки к нашим кустарным.
Посетил я индийский храм, где видел чёрного идола со слоновыми клыками и хоботом и где жрец ухмылялся и приседал передо мною, и даже посыпал мне голову пеплом из вытащенной из-под идола жаровни, за то, что я скинул башмаки, входя в его святилище.
Побывал я в лавках, где за пять рублей можно было купить сапфир стоимостью у нас в сто.
Видел я казармы, где у каждого солдата своя комната и свой служитель-индиец.
Английские солдаты в Индии живут с необыкновенным комфортом, играют в мяч, проводят время в своём особом клубе, едят изысканное кушанье, пьют какао, ездят на извозчиках и никуда не годятся, как военная сила.
Через два дня на заре я был уже на пристани.
Пароходы ночью не входят в гавань Коломбо, вследствие опасных тут при входе подводных камней, и если подойдут к нему ночью, держатся на море до рассвета.
Сваи пристани и сама она сделаны из больших, толстых брёвен красного дерева, по которому идёшь, словно по чугунной мостовой.
На белой стене у пристани крупными буквами написано по-английски: «Не снимайте вашей шляпы с головы, помните участь…» и далее следуют фамилии англичан, умерших в Коломбо от солнечного удара.
Стоя на пристани, я видел, как в ворота гавани медленно вполз большой двухтрубный океанский пароход под французским флагом.
Я взял лодку и приказал себя везти на прибывающего француза.
Приблизился я к нему, когда он только что отдал якорь, и мне пришлось подождать, пока на его палубу поднимется санитарный врач и откроется туда свободный доступ.
Поднимался я по трапу не без волнения. Сердце у меня сильно билось.
При входе на палубу встретил меня пароходный офицер и спросил, что мне угодно.
Ответ был готов у меня заранее.
Я объяснил ему, что жду приезда своего приятеля, который уже две недели тому назад должен был прибыть в Коломбо на русском пароходе, но до сих пор его нет, и никаких известий от него я не имею. Это меня страшно тревожит, и я явился в надежде, не встречу ли его наконец.
— У вас на борту нет никого из русских? — спросил я в заключение своего объяснения.
— У нас, — ответил офицер, — есть действительно один русский. Он сел к нам в Адене. Вот он!
И он показал мне на стоявшего у планширя господина — приземистого, плотного, с большими усами.
«Это он!» — мелькнуло у меня.
— Нет, это не мой приятель, — сказал я офицеру, сам удивляясь своему естественно-правдивому тону, с которым разыгрывал комедию.
— Очень жаль! — сочувственно произнёс офицер.
«Это непременно он!» — снова радостно подумал я.

XXX
Пассажиров на французском пароходе было немного, и они не особенно торопились на берег. Было ещё рано.
Я присел на скамейку на палубе, закурил папиросу и, приняв самый невинный, рассеянный вид, конечно, внимательно следил за усатым русским, севшим в Адене.
Офицер подошёл к нему:
— Вы оставляете нас здесь, я велел достать ваш багаж, вы сейчас сойдёте на берег? — спросил он его.
«А, а он сходит здесь на берег, — подумал я, — тем лучше! Но отчего же он один?»
Усатый поблагодарил и заявил, что именно ждёт только своего багажа, чтобы сойти на берег.
— А ваша сестра? — спросил его опять офицер.
— Она останется у вас пока. Я найду помещение и вернусь за нею.
— Как её здоровье?
— Всё так же. Что же вы хотите — сумасшедшая!
«Он выдает её за свою сумасшедшую сестру! — сообразил я. — Теперь нет уже сомнения, что это он!»
И странная радость удачи охватила меня. Расчёт Капитана «Дедалуса» оказался совершенно правильным. Недаром, значит, я явился сюда.
— А вот и багаж ваш! — показал офицер усатому на матроса, который выносил из люка в это время два чемодана.
И при взгляде на эти чемоданы я не мог удержаться от невольной улыбки: один из них был мой собственный! Я узнал его сейчас же и удивился только наглости вора: украв мои вещи, он далее не побеспокоился переменить чемодан! Правда, это было доказательством его уверенности в том, что я окончательно пропал без вести у диких.
И это было мне на руку. Тем смелее я мог действовать теперь с ним, и тем более было вероятия, что он не узнает меня в синих очках и с обритой бородой и усами.
Багаж усатого понесли в пароходную шлюпку, и сам он стал спускаться по трапу вслед за матросом, нёсшим чемоданы.
Я обратился к знакомому уже мне офицеру с просьбою тоже воспользоваться шлюпкой, чтобы переправиться на пристань.
Он с готовностью предложил мне занять место, перегнулся через планширь и сказал старшему на шлюпке, чтобы он довёз и меня.
Я спустился и сел на боковую скамеечку на корме против усатого. Он равнодушно оглядел меня и отвернулся.
«Не узнал!» — решил я.
Двое матросов-французов, сидевших на вёслах дружно, в такт подняли их и начали грести.
Пароход стал довольно далеко на рейде, и расстояние от него до пристани было порядочное.
Хорошо утром на море! Чистый воздух, безоблачное небо и тихая в гавани вода умиротворяюще действуют на человека. Там, за каменным молом, плескали и шумели волны, изредка переваливаясь через него и разливаясь целым водопадом, а под нами зелёно-синяя влага была прозрачна и тиха. Студенисто-стеклянные медузы, медленно и лениво поворачиваясь, мирно плавали в ней и были видны на глубине. Океанские пароходы, затихнувшие на якорях, высоко подымали свои трубы и целый лес мачт, выровненные в одну линию с широкими промежутками. Маленькие суда тоже ютились здесь. Всё дышало миром и отдыхом, только мне казалось — мы, сидевшие в лодке, враждовали, хотя вражда эта была скрытая, тайная.
Впрочем, чувства вражды я не испытывал к этому человеку. Он должен был получить то, что заслуживал. Щадить его я не имел права, потому что не имел права оставлять в его руках несчастную женщину. Надо было освободить её во что бы то ни стало!
— Вы русский? — обернулся я к нему, когда мы отошли немного от парохода.
Он вздрогнул, видимо совсем не ожидая, что услышит русскую речь.
— Да, я русский, — подтвердил он, оправившись, — а вы тоже?
— Вот приезжал на пароход, думал встретить приятеля, который должен был уже две недели прийти сюда на «добровольце», и не встретил. Просто ума не приложу, что с ним случилось?
— А ваш приятель тоже русский?
— Да. Последнее сведение, что я имел о нём, было, что он опоздал на пароход в Порт-Саиде. Мне сообщили на «добровольце» об этом, на котором я ждал его сюда.
— А как фамилия вашего приятеля?
— Гринёв Николай Александрович.
Я без малейшего смущения разыгрывал свою роль и держал себя так непринуждённо, как будто бы был действительно приятель Гринёва, ожидавший его приезда.
Если б даже усатый мог подозревать что-нибудь, он наверное обманулся бы, а тут ему, очевидно, и в голову не могло прийти, что я-то и есть сам Гринёв. И видел он меня всего мельком на набережной, когда я садился на американский пароход.
Я внимательно следил из-за своих тёмных очков за тем, какое впечатление производят на него мои слова.
Он прищурился, шевельнул усами, улыбнувшись одним ртом, и повторил несколько раз:
— Гринёв… Гринёв… я что-то слышал в Порт-Саиде.
— Вам знакома эта фамилия?
— Кажется, я могу сообщить вам кой-какие сведения о вашем приятеле. К сожалению, они не очень благоприятные.
Я выразил на лице крайнее беспокойство.
— Что такое, говорите, если вам известно что-нибудь о нём!..
— Пожалуй, вам придётся долго ждать его здесь, если вы не оставите это занятие и не отправитесь дальше один. Приятеля своего едва ли вы дождётесь.
— Вот как! Почему же это? Что же могло случиться с ним?
— Насколько я знаю, опоздав на свой пароход в Порт-Саиде, он сел, чтоб догнать его, на «Колумбию», небольшое американское судно, погруженное керосином.
— Вы наверно знаете это?
— Я думаю, что наверное.
— Ну, а потом?
— В день моего отъезда из Порт-Саида там была напечатана телеграмма в газетах, что «Колумбия» стала на риф и была разграблена дикими. Всех находившихся на ней они увели с собою.
— Значит, мой
приятель попал к диким!
— Вне сомнения.
— Но разве не будет принято мер к его освобождению?
— Где ж вы будете искать его в степях Африки? Для этого потребовалась бы целая экспедиция, да и не одна. И всё-таки найти было бы невозможно.
— Так что спастись он не может?
— Разве только чудом, но чудес в наше время не бывает.
Он произнёс это так спокойно, словно совесть его была чиста, как алмаз.
Я должен был сделать над собой усилие, чтобы не показать своего к нему отвращения.
— Я сегодня же телеграфирую к консулу в Порт-Саид, — сказал я. — Может быть, ваши сведения ошибочны.
— Может быть. Телеграфируйте. Я вам сообщил, что знал; консул, конечно, знает лучше.
Мы подходили в это время уже к пристани.
— Вы тут одни? — спросил я.
Он в первый раз косо поглядел на меня.
— Отчего вы это спрашиваете?
— Оттого, что если у вас нет никого, то будемте проводить время вместе. Мы ведь соотечественники. Я здесь один и скучаю.
— Сегодня у меня есть дело, а завтра я буду свободен и вполне к вашим услугам. Позвольте познакомиться.
— Моя фамилия Иванов, — сказал я.
— А моя — Сарматов.
— Очень рад. Приходите ко мне завтра завтракать. Я остановился в гостинице.
— Хорошо, я приду.
— А теперь вы куда?
— По делу!
Когда мы вышли с пристани на берег, ручной извозчик подкатил мне свою колясочку. Это был Джуди.
Он весело кланялся мне и звал ехать.
— Ого, вас тут уже признали! — заметил Сарматов, прощаясь.
— Как видите. Я уж здесь давно болтаюсь. Так до завтра?
— До завтра. Я не опоздаю.
И он, раскланявшись, направился пешком твёрдою поступью, как будто отлично зная, куда ему идти.
Чемоданы он сдал на хранение на пристани.
«Он, очевидно, не первый раз уже в Коломбо, — соображал я, глядя ему вслед, — но какое у него может быть тут дело?»
XXXI
В тот же день вечером мне пришли сказать, что меня спрашивает сингалезец-возница и хочет со мной поговорить.
Я догадался, что это был Джуди, хотя и удивился, не понимая, что ему вдруг понадобилось от меня. Я велел провести его к себе.
Джуди вошёл, опустив голову и скромно потупив глаза, выждал, пока удалился приведённый ко мне слуга и, убедившись, что мы остались вдвоём, заговорил таинственным шёпотом:
— Джуди пришёл предупредить господина, потому что он узнал много нового и очень дурного.
— В чём предупредить, — стал спрашивать я, — и про кого ты узнал много дурного?
— Про того господина с усами, с которым господин сошёл вчера с пристани. Господин ему друг?
— Нет, — рассмеялся я, — я не друг ему.
— Джуди так и знал! Такой человек не может быть другом господина. Он злой человек.
— Что же ты узнал о нём? Рассказывай!
— О! это большой рассказ, надо много говорить.
— Ну, садись, если хочешь, и говори много.
Я показал ему на стул, но он по-своему принял моё приглашение, опустился и сел на корточки, на пол.
Начал он очень издалека.
— Джуди теперь знает, — стал рассказывать он, — для чего его хотели задушить там, в лесу. Умные люди объяснили это Джуди.
— Кто же это?
— Тоже возницы, только старше меня.
— Что же они тебе объяснили?
— Есть такая богиня, и храм её далеко-далеко отсюда. Поклонники её убивают людей для неё, и чем больше убьют, тем приятнее это богине.
Я так и думал, что покушение на жизнь бедного Джуди было сделано по мотивам религиозного исступления.
О существовании довольно известной и распространённой не только в Индии секты поклонников богини Кали, которой приносятся человеческие жертвы, я тоже знал.
Эти человеческие жертвоприношения не всегда делаются с полной обстановкой полагающегося для этого ритуала. Служители Кали довольствуются и простым убийством.
Самый храм этой богини находился в глубине индийских лесов, и сведения о нём, ровно и обо всей изуверской секте, появлялись неоднократно в печати.
— Разве здесь, на Цейлоне, существуют поклонники Кали?
— А, господин знает название богини!
— Да, я слышал о ней и читал. Только не ждал, чтобы эти убийцы действовали в таком городе, как Коломбо.
— О, их много, они везде! Здесь у них недалеко от того места, где хотели задушить Джуди, есть полянки. Там они служат своей богине. Джуди рассказали это и очень смеялись, что он согласился везти через этот лес ночью. Мне сказали, что ночью туда никто не возит, но теперь Джуди и сам знает, что туда ночью возить нельзя.
Теперь для меня выяснилось значение уединённой полянки, избранной Капитаном «Дедалуса» для спуска. Как оказалось, она была расчищена поклонниками Кали для их страшных жертвоприношений.
— Хорошо, — сказал я Джуди, — но какое же это имеет отношение к тому господину с усами, с которым ты видел меня вчера?
— Пусть господин не беспокоится. Джуди знает, что говорит. Он всё расскажет по порядку. Вот сегодня он стоял на перекрёстке с другими товарищами и вдруг видит, что по улице идёт, который убежал.
— Кто? — переспросил я.
— Который убежал, когда господин освободил Джуди. Одного господин убил, а другой убежал. Ну, так вот Джуди вдруг увидал, что он идёт по улице. Тогда Джуди оставил свою коляску товарищам, а сам побежал за ним, чтоб посмотреть, куда он пойдёт? Он пошёл к коттеджу, который третий после второго поворота на большой дороге. Джуди очень хотелось узнать, что он там будет делать и сам ли он хозяин коттеджа, или пришёл туда в гости? Джуди побежал кругом и увидел мальчика, который за стеной дёргал верёвку, чтоб делать ветер.
Так Джуди объяснил движущиеся панты.
— Джуди, — продолжал он, — предложил мальчику, что он сядет вместо него дёргать верёвку, а мальчик может отдохнуть, если устал. Мальчик был хитрый. Он не устал ещё, но уступил своё место Джуди, очень довольный этим, и сам пошёл и лёг в тень. Стена была тонкая, из тростника. В ней были щели. Джуди и видел и слышал всё, что было внутри. Тот, который убежал, не был хозяином. Хозяин был старик, очень злой. Он сидел и разговаривал с господином с усами.
— Вот как? О чём же они разговаривали?
— Они торговались. Этот господин с усами — продавец невольниц.
— Да неужели? — воскликнул я, не смея верить, хотя ничего невероятного не было в словах Джуди.
Продавцы живого товара до сих пор, разумеется, тайно, существуют на востоке, и было очень похоже на то, что профессия эта составляла главное занятие Сарматова, как он назвал мне себя.
— Да, он торгует невольницами, — подтвердил Джуди, — и старик, хозяин коттеджа, хотел купить у него одну, которую, как он говорит, он привёз с собою. Старик давал много денег, а господин с усами хотел получить их ещё больше. Они торговались, а тот, который убежал, молчал и слушал.
У меня сердце сжалось от ужаса, что этот негодяй, обокрав женщину, желал теперь продать её.
— Ну, и что ж, — спросил я, — они уговорились, порешили на чём-нибудь?
— Нет, старик не согласился дать те деньги, которые просили с него.
«Слава Богу!» — подумал я, вздохнув свободнее.
— Но когда усатый господин, — продолжал Джуди, — ушёл, то который убежал, стал упрекать старика и говорить, что скупиться нехорошо, что не надо жалеть денег, что надо заплатить и достать для богини жертву, потому что богиня требует жертву.
— Так они хотели купить эту женщину для того, чтобы убить её в жертву своей богине!
— Так слышал Джуди, и он говорит то, что слышал.
— Но, по крайней мере, ты слышал, что ответил старик на эти уговоры, решился он купить, или нет?
— Старик сидел, качал головою и ничего не отвечал.
— Так, значит, они и разошлись, ничего не решив?
— Да, так они и разошлись. Что мне было делать?
Единственно, что представлялось возможным предпринять сию минуту — отправиться в полицию и сделать там официальное заявление, но когда я сказал об этом Джуди и спросил его, готов ли он повторить властям всё, что только что рассказал мне, он замахал руками и с испуганным лицом стал уверять меня, что ему лучше, чтоб его снова душили. Инглизы сживут со свету бедного Джуди, и сам он никогда ничего не скажет. Он будет молчать или повторять, что ничего не слыхал и не знает. Джуди не хочет идти к инглизам.
Напрасно я старался убедить его. Никакие убеждения, никакие обещания денег не подействовали.
Страх Джуди перед англичанами настолько велик, что он стоял на своем твёрдо, и уговорить его оказалось невозможно.
— Ну, так вот что, Джуди, — стал я говорить ему, наконец, — ты знаешь, кто эта женщина, которую хотят продать, чтоб её убили?
Джуди пожал плечами.
— Джуди не знает этого! — ответил он.
— Ну, так вот. У меня есть друг. Ты знаешь, что такое друг?
— У Джуди нет друзей, но он знает, что такое друг.
— Так эта женщина — жена моего друга. Я приехал сюда, чтобы спасти её.
— Так инглизы не спасут. Только схватят и посадят бедного Джуди, а в это время госпожу злые люди спрячут. Они сильнее Джуди. У них много денег. Они с деньгами всё сделают и скроют.
— Деньги и у нас с тобой есть, не беспокойся: их хватит. У меня, пожалуй, денег больше, чем у них.
— У господина много денег?
— Да. Будь уверен.
— Тогда отчего же господин не отдаст их за жену своего друга. Если человек с усами продаёт её, то он продаёт тому, кто даст больше. Дайте больше, и вы освободите её и отдадите своему другу.
Такое Соломоново решение вопроса мне не пришло в голову.
Я задумался.
В самом деле, Джуди казался прав. Это был наиболее верный и действительный выход.
— Хорошо, я постараюсь сделать так, — решил я, — а пока можешь ты сейчас же пойти к тому коттеджу и сторожить? Если туда вернётся усатый, или старик-хозяин уйдёт куда-нибудь, или проведут туда женщину — сейчас же беги сюда ко мне и расскажи, что случилось нового.
— Это Джуди может сделать! — радостно подхватил он. — Джуди сию минуту побежит и будет сторожить. Он понимает, зачем это надо сделать!
— Ну, ступай и будь только осторожен, чтобы тебя не заметили.
— Пусть господин будет спокоен. Джуди умеет прятаться!
Он ушёл, а мне не сиделось на месте.
«Вот что, — сообразил я, — поехать на пароход сейчас! И если она ещё там, рассказать всё капитану и прибегнуть к его защите».
Я живо добрался до пристани и на первой же попавшейся лодке отправился на пароход.
XXXII
Поездка моя на пароход оказалась напрасною.
Приближаясь к нему, я увидел, что он поднимает якорь, готовясь уйти в море.
Трапы были подняты, и нечего мне было стараться проникнуть на палубу, так как было очевидно, что ту, которую я искал, свезли уже на берег.
Это являлось малоутешительным.
Но зато с другой стороны, хорошо было, что Джуди, который должен был следить за коттеджем, не появлялся ко мне в этот вечер, и я до некоторой степени мог быть спокоен, что торг ещё не состоялся.
Трудно себе представить те разнообразно сложные чувства, которые я испытывал, ожидая на другой день к себе Сарматова к завтраку.
Понятная гадливость к этому человеку смешивалась с беспокойством о судьбе его жертвы, и вместе с тем я волновался, как актёр перед дебютом, боясь, что не сумею выдержать роли до конца.
Роль эта была неприятная, трудная, опасная и рискованная, потому что малейшая оплошность портила всё дело.
Я должен был сохранять совершенно спокойную внешность, полное хладнокровие и вести хитро обдуманный разговор, последовательный и логичный.
Между тем, внутри у меня всё дрожало, и голова отказывалась работать последовательно и логично.
Мне случалось прежде встречаться с дурными людьми, но тогда дело решалось просто: я отворачивался от них и избегал их общества.
Теперь наоборот, я, заведомо зная, что самый дрянной человек, о котором я когда-нибудь слышал, вор будет сидеть со мной за одним столом, должен был готовиться к тому, чтобы скрыть своё отвращение к нему, угощать его и разговаривать с ним.
Завтрак был накрыт на моём балконе.
Круглый стол красиво белел своею скатертью и искрился хрусталём. Серебро блестело на нём. Большой ананас, обложенный бананами, стоял в вазе посередине, и приторный аромат его чувствовался в воздухе.
Солнце пекло над головою и сквозило через полотняный тент, нагревая влажный морской воздух до температуры банного полка.
Ровно в двенадцать часов явился Сарматов. Явился он, наглый и довольный, крепко потирая руки и разразившись беспричинным хохотом плохо воспитанного человека.
— Ну, что ваши дела? — спросил я его.
— Дела мои ничего, — ответил он, развязно подходя к столу. — Эге! Да тут русская водка есть! — одобрил он, увидев водку, которую держат теперь все хорошие гостиницы в портовых городах на востоке и продают её чуть ли ни на вес золота, дороже ликёров.
— Налить вам? — спросил я.
— Не откажусь! Хоть и жарко сегодня, но я не откажусь. Позволите располагаться?
И, не ожидая моего ответа, он шумно отодвинул стул и сел за стол.
Видно было, что ему хотелось, что называется, провести время весело, разгуляться и вместе с тем показать, что он умеет держать себя в обществе, не стесняясь.
Это не выходило у него, и он перебарщивал.
Я сел против него.
Слуга-индиец в белой чалме принёс омара на блюде.
— A-а! Красный кардинал морей, как определяет Виктор Гюго этого зверя! — воскликнул Сарматов, ткнул вилкой и захватил всё мясо шейки, оставив мне одни клешни.
Я думал, что это приведёт его в смущение, но он преспокойно свалил шейку к себе на тарелку и стал её есть с хлебом, громко чавкая и держа вилку, как прилежные гимназисты держат перо.
Сарматов уплетал за обе щеки, а у меня кусок не лез в горло.
Мне не хотелось начинать разговора, чтоб не выдать себя, и я ждал, пока заговорит он. Тогда, мне казалось, будет легче свести речь на обдуманную мной заранее тему. О чём и как говорить с Сарматовым, я определил себе заранее и был уверен, что разговор мой приведёт нас куда следует.
Наевшись омара, Сарматов отвалился на спинку стула и вытянул под столом ноги, проведя каблуками по цементному полу балкона.
— Вы давно ждёте здесь своего приятеля? — заговорил он, пуская в ход зубочистку и выплёвывая крошки.
— Да уж порядочно. И надоело же мне это Коломбо. Музей тут есть недурной. Только и всего, а то и посмотреть нечего.
— А музей хороший?
— Вы не знали о нём?
— Говорили, кажется, да некогда ещё было посмотреть.
— Разве вы в первый раз в Коломбо?
— Случалось бывать прежде, да всё ненадолго и по делу.
— А вы, кажется, постоянный житель востока? У вас здесь даже дела завязались?
— Да ведь без дела не проживёшь.
— Что же, по торговой части?
— Торгуем.
— А каким товаром?
— Разным! — ответил он, ничуть не смущаясь и смахивая в это время к себе на тарелку половину блюда зелени, которое подавал ему слуга.
— А что, скажите, пожалуйста, — начал я, — ведь тайный торг невольницами, я думаю, существует здесь? Вы как давнишний житель востока должны это знать.
— Может быть, и существует, вы почему интересуетесь этим?
— Так. Я думаю, что очень было бы оригинально вдруг купить себе невольницу. Мне иногда приходят такие фантазии в голову.
— Странные фантазии!
— А между тем я не шучу. Право, я купил бы себе женщину, если бы знал только, где.
— Да ведь такая торговля запрещена.
— Я знаю. Конечно, я бы не стал печатать об этом в газетах, в моей выгоде было бы хранить тайну. Ведь покупщик отвечает наравне, я думаю, с продавцом в таком торге.
— Ну, продавец больше рискует. Скверное это ремесло.
Я налил ему вина в стакан и проговорил:
— А вы встречались с людьми, которые занимаются им?
— Не знаю, право.
— Вот, видите ли, я бы не постоял за деньгами. Тысяч девять я хоть сейчас могу дать.
— Франков?
— Нет рублей.
— Сумма немалая! — сказал Сарматов и задумался. Он сощурил глаза и стал смотреть мимо меня, видимо, обдумывая что-то и соображая.
— Нет, — заявил он наконец, — вам и при таких деньгах не найти себе продавца.
— Отчего же не найти?
— Оттого что никто не рискнёт и за девять тысяч рублей продать живой товар европейцу. Тут того гляди попадёшься. Восточные люди другое дело. У них это в обычае, и у них никто не разберёт, кроме них самих, кто там невольница, кто жена. Это совсем особая статья, а европеец слишком на виду. Сейчас пойдут расспросы, откуда при нём женщина, да кто она, да что — нет, европейцу никто не продаст.
— Да ведь я же сам скрывать стану.
— Как же вы скроете в гостинице? Да нет, — вдруг круто заключил он, — не будемте и говорить об этом. Никаких я продавцов невольниц не знаю. Да их и нет, вероятно, мало ли что врут! Вы мне скажите лучше, что ж вы намерены теперь делать дальше и как отыскивать своего приятеля?
Сарматов был, по-видимому, опытный, тонкий и осторожный преступник, причём осторожность его близко граничила с трусостью.
Он не рискнул признаться мне в своей профессии. Сам же хотел выпытать у меня всё, что могло его касаться относительно украденных вещей и денег, и прямо ставил вопрос, как я намерен отыскивать приятеля.
«Погоди, — подумал я, — однако, от меня ты ничего не добьёшься, а я заставлю тебя говорить!»
Было ясно, что не следовало продолжать начатого мной разговора. Всякие дальнейшие настояния о невольнице не привели бы ни к чему и могли лишь возбудить подозрение в Сарматове. Уж если он сразу не польстился на девять тысяч рублей, бывших в моём распоряжении, то всякий разговор в этом направлении был напрасен.
К тому же у меня был приготовлен для него некоторый сюрприз, способный, по моим расчётам, произвести должное действие.
Такие натуры, каков был Сарматов, по самой трусливо-подлой природе своей, непременно очень суеверны, и на этой-то слабой струне его я и хотел сыграть, чтобы заставить его признаться мне во всём.
Я ждал только, пока выпитая водка и вино подействуют на него.
Жара была настолько сильная, что действия этого ждать долго не пришлось.
Нам подали неизменное, как при завтраке, так и при обеде, кэри.
Я велел откупорить шампанского.
— Так как же вы будете отыскивать вашего приятеля? — повторил Сарматов, расправив усы и выпив свой стакан залпом.
Я ему сейчас же налил другой.
— Мало ли как! — ответил я, — для этого есть разные способы.
— Даже разные! — удивился он. — Впрочем, вероятно, они все сводятся к одному.
— Почему вы так думаете?
— Да потому что как ни верти, всё придётся обратиться к консулу да к местной полиции. Без них ничего не поделаешь.
— Конечно, без полиции обойтись трудно, но я по опыту знаю, что лучше обращаться к властям, когда дело уже выяснено. Да почему вы заговорили о полиции? Ведь если мой приятель, как вы мне сообщили вчера, захвачен дикими, так тут ни консул, ни полиция ничего не поделают.
— Ну, а если полиция ничего не поделает, так вы-то что можете предпринять?
— Я могу узнать, например, где находится в настоящее время мой приятель.
— Каким же это способом? Это любопытно.
— Способ, правда, довольно странный, но тем не менее очень действительный. Здесь, в Коломбо, я купил у одного индийского факира секрет, каким образом в стакане воды увидеть какое-нибудь событие из прошлого, настоящего или даже будущего.
— И дорого вы заплатили ему?
— Порядочно.
Сарматов расхохотался.
— Знаете, у вас действительно должно быть много швырковых денег, что вы готовы их тратить на всякую ерунду. Ведь этот ваш факир очевидно был шарлатан, который надул вас самым бессовестным образом.
— Но, однако же, прежде, чем заплатить деньги, я ведь испытал его секрет на деле. И могу вас уверить, что факир не обманул меня, а честно научил своему искусству.
— Да вы, верно, пробу производили при нём. В его-то присутствии, может быть, что-нибудь и видели, а потом одни-то смотрели в стакан?
— Смотрел.
— Ну, и что же?
— И видел там всё, что нужно. Хотите, я при вас сделаю опыт?
— Ну, что же, сделайте. Я никогда не видал таких штук.
Я налил воды в пустой стакан, помолчал немного, сделал вид, что сосредоточился и, пошептав на воду, опустил в неё золотую монету.
Всё это я проделал с очень серьёзным лицом, значительно поднимая брови и придавая своему выражению как можно больше важности.
— Надо задумать, — произнёс я, окончив приготовление, — о чём-нибудь, что касается вас. Ну, хорошо, я задумаю и буду говорить вам, что увижу в стакане!
Я стал пристально глядеть в воду. Сарматов следил с улыбкой, очевидно, внутренне насмехаясь надо мной.
В стакане, разумеется, я ничего не надеялся увидеть: никакого секрета у факира я не покупал, но о том, что следовало говорить Сарматову, я знал, однако, заранее.
— Я вижу, — начал я, — набережную… пароходы… Поздний вечер… Позвольте… Это Порт-Саид… Батюшки! Мой приятель… Да, положительно это Гринёв. Он приходит на набережную и очень беспокоится… Он опоздал на пароход… К нему подходит какой-то человек с бородою и в тёмных очках и предлагает ему сесть на американский пароход… Но какое же это имеет отношение к вам? — спросил я Сарматова, вдруг поднимая голову и взглядывая ему прямо в глаза.
Улыбка уже исчезла с его лица, он суетливо заморгал глазами и ответил:
— Не знаю, ко мне это никакого отношения иметь не может.
— Я тоже полагаю, — согласился я, — я увидел не вас, а своего приятеля, оттого что мы только что говорили о нём. Это бывает! Теперь уж я буду думать только о вас!
— Да зачем, — вдруг сказал Сарматов, — разве это так уж необходимо?
— Нет, это совсем не необходимо, но ведь вы же сами хотели. Я только желал доказать вам, что недаром заплатил деньги факиру. Если вам теперь не угодно, то мы можем прекратить опыты.
И я отставил стакан в сторону.
Сарматов ничего не ответил, поднял брови и стал бессмысленно глядеть на этот стакан, как загипнотизированная кошкой мышь смотрит на неё и не может оторваться.
Мало-помалу он стал тяжело дышать и задвигал губами и челюстями, как бы приноравливаясь сказать что-то.
— А что, — выговорил он наконец, — вы, значит, не только о присутствующих, но и об отсутствующих можете загадывать?
— Вы видели, — ответил я, — что могу.
— Так когда я уйду, вы, пожалуй, в своём стакане увидите всю мою подноготную!
— Весьма вероятно.
— А вы будете смотреть?
— Непременно.
— Почему же непременно?
— Да так. Вот мы с вами только что познакомились, мне интересно, что вы за человек?
— Ну, тогда смотрите уж при мне и рассказывайте, что вы увидите, всё-таки оно будет вернее!
— Как угодно, — сказал я и взял снова стакан. Я стал опять пристально в него всматриваться. — Ну что же, говорить? — спросил я через некоторое время.
— Говорите.
— Я вижу опять этого человека с бородою… Э-э… да это вы сами.
— Неужели?
— Положительно вы. Вы на палубе парохода, ходите между пассажирами. Это опять в Порт-Саиде. Вы заговариваете с одной из пассажирок. Она должна остаться здесь. Вы как русский предлагаете ей свои услуги.
— И что ж из этого выходит?
— А вот мы увидим сейчас… Погодите… Проходит несколько дней. Деньги и вещи этой пассажирки переходят к вам. Она пишет письмо к мужу, что её обокрали.
— О, чтоб вас! — проворчал Сарматов.
— От мужа ей приходит перевод. Вы завладеваете и этими деньгами… Вы пишете поддельные письма от неё к мужу, а от мужа к ней. Вы ловко подделываете почерк. Так. Вы добились своего. Бедная женщина в отчаянии. Вы перевозите её в небольшую хатку на окраину Порт-Саида… Но что вам нужно от неё? Вы не влюблены в неё, вещи её и деньги вы присвоили себе, зачем же вы её держите? — Я приостановился и поглядел на Сарматова.
Впечатление, которое производила на него моя игра, превосходило по своей силе мои ожидания. Он побледнел, руки у него дрожали, мне казалось, что ещё немножко — и он будет приведён к тому, что сознается во всём и покается.
Нужно было ещё выдержать недолго.
Вид же у него был таков, что глядеть на него стало смешно, и я невольно отвернулся, чтобы скрыть от него свою улыбку.
Отвернувшись, я вдруг увидел в зеркальное стекло двери, которая вела с балкона в комнату, что Сарматов быстро привстал и кинул что-то в мой стакан.
Я повернулся вновь к нему лицом.
Он сидел на своём месте. Переставшее уже играть шампанское в моём стакане снова заискрилось мелкими пузырьками, явно только что потревоженное.
Сарматов был в таком состоянии, что едва ли сознавал хорошо, что делал.
— Посмотрите, — сказал я ему, протягивая руку и указывая на море. — Ведь это, кажется, идёт «доброволец».
Никакого «добровольца» не шло. Был виден какой-то однотрубный маленький пароход.
Сарматов оглянулся, чтобы поглядеть на море, к которому он сидел спиною. В это время я успел переменить наши стаканы с шампанским.
— Нет, это не «доброволец», — протянул Сарматов, разглядев пароход. — У «добровольцев» фок-мачта вооружена реями. Это какой-нибудь англичанин. Ну, батюшка, много вы мне тут наговорили.
— Правды или неправды? — улыбнулся я.
— А вот на это я вам отвечу сейчас, только перед этим давайте выпьем за ваше здоровье! Позвольте вас хоть этим тостом отблагодарить за показанные чудеса!
— Ну, что же, выпьем, — согласился я.
Мы чокнулись и выпили согревшееся шампанское, причём Сарматов не подозревал, конечно, что стаканы наши были переменены мною.
— Нет! Нет! Всё до дна, до последней капли! — стал настаивать он. — Вот, как я! — и закинув назад голову, он потряс надо ртом своим пустым стаканом, чтобы показать, что там не осталось ни капли.
— Ну, вот, — сказал он, ставя стакан на стол, — вы сказали сущую правду: всё это было действительно так, как вы увидели в воде, или кто вас знает, каким иным путём узнали это! У факиров я секретов не покупал! Прямо говорю вам, что не колдун, но порой тоже кое-что угадывать умею; вот вы так хорошо мне выложили факты из недавнего моего прошлого, а я вам скажу, что вам предстоит в ближайшем будущем.
— Ну, что? Что такое? — стал спрашивать я.
— Смерть-с! От солнечного удара! Мы с вами не встанем вот из-за этого стола, как вы повалитесь наземь и скончаетесь скоропостижно со всеми признаками солнечного удара! Впрочем, я всё это вздор говорю и шучу с вами, как вы шутили со мной, разведывая о вещах, о которых знать живым людям не следует! В самом деле, откуда мне знать, что с вами случится солнечный удар? — и он расхохотался рычащим отвратительным смехом.
— А мне говорили, — возразил я, — что у индийцев есть такой яд, смерть от которого сопровождается такими же признаками, как и солнечный удар!
Он глянул мне прямо в глаза:
— Может быть, есть и яд такой! — проговорил он с расстановкой, не смущаясь и становясь всё более и более наглым.
— А я наверное знаю, что есть! — произнёс я внушительно. — Я недаром заплатил деньги факиру! — и, понизив голос, я добавил, пригибаясь к Сарматову: — В то время как вы смотрели на «добровольца», я переменил наши стаканы: вы выпили отравленный.
Он задрожал всем телом, как-то опустился весь, закачал головой, замахал руками и бессвязно залепетал:
— Что же вы… в самом деле колдун… но я позову на помощь…
— Погодите, — остановил я его, — у меня есть противоядие, я вам сейчас дам его, только скажите, где та женщина?
Он продолжал мотать головой, шея его и лицо побагровели и как-то сразу вздулись, глаза страшно увеличились, словно вышли из орбит, рот раскрылся.
— Ради Бога! Где эта женщина? — повторил я.
— Продана!.. — прохрипел он и повалился со стула на пол, задёргавшись всем телом.
Это был один миг, дёрганье прекратилось, и он, тёмно-синий, лежал с выпученными из полузакрывшихся век белками без движенья.
Я позвал на помощь, прибежали слуги, прибежал тут же бывший в гостинице доктор и констатировал смерть от солнечного удара.
— Эти случаи часты здесь! — заявил он авторитетно, и я не стал разуверять его.
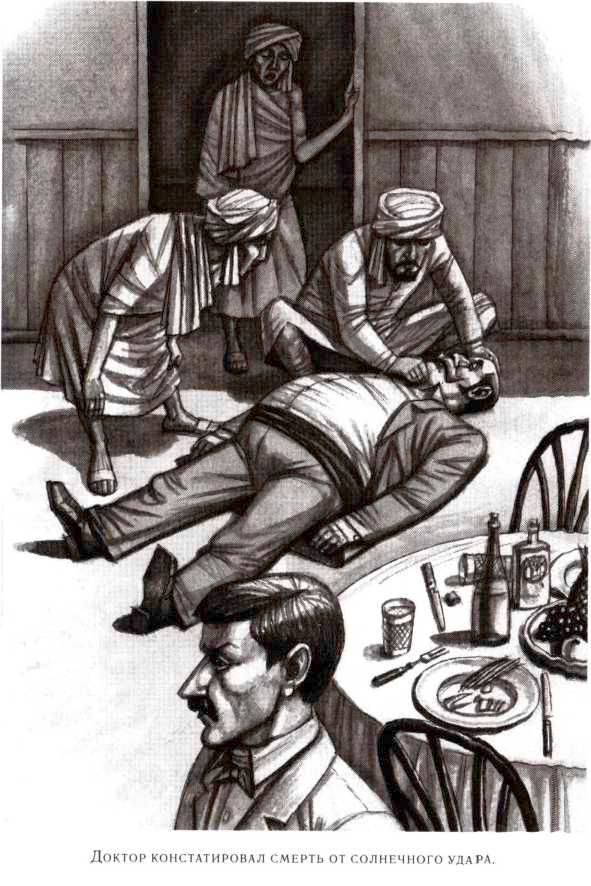
XXXIII
Сарматову было воздано должное, и он получил возмездие, которое вполне заслужил. Попал он наконец сам в ту яму, которую рыл для другого, и припасённый им же самим яд послужил для его смерти.
Он покончил расчёты с земною жизнью, но дела рук его ещё оставались, и содеянное им зло не было ещё уничтожено.
По условию с Капитаном «Дедалуса» я должен был сегодня в 12 часов ночи отправиться в лес на полянку, а он — спуститься на неё на своём воздушном корабле, чтобы узнать от меня, что я успел сделать. Положим, я успел сделать многое, но вместе с тем я понимал, что это многое ничто для капитана, потому что жена его не была освобождена, а, напротив, находилась в условиях худших, чем прежде. Конечно, смерть Сарматова утешить его не могла, а то, что я был в состоянии сообщить ему о его жене, лучше б было, если б я не сообщал вовсе.
Она была продана поклонникам изуверской секты, а где они — я не знал. Джуди со вчерашнего дня не показывался, и как найти его, я тоже недоумевал. Помимо того, что он был мне необходим, для того чтоб я мог приступить к поискам, отсутствие его беспокоило меня само по себе.
Было похоже на то, что с ним случилось что-нибудь, иначе он бы явился.
Но тут случилось со мной что-то странное и совершенно для меня непонятное: потом мне говорили доктора, что это бывает с особенно нервными натурами, испытывающими какое-нибудь нервное потрясение.
Едва унесли с моего балкона мёртвого Сарматова и убрали наш завтрак, я, как сноп, повалился на постель и заснул крепким непробудным, почти мёртвым сном.
Может быть, этому сну также способствовало, кроме испытанного нервного подъёма, и выпитое вино за завтраком, действие которого должно было, конечно, усилиться при тропической жаре.
Никто меня не будил и не трогал: проснулся я только вечером, не понимая, где я и что со мною.
На дворе было уже темно, стрелки часов показывали десять.
Придя, наконец, в себя, я сообразил, что ни один возница в этот час не согласится везти меня по дороге в лес и что надо будет отправиться туда пешком.
Но для того чтобы попасть вовремя на место, мне нужно было выходить как можно скорее, потому что для пешей ходьбы было, по крайней мере, два часа пути.
Я захватил револьверы, осмотрел их и пошёл.
Я чувствовал себя подавленным мыслью, что и как скажу я капитану.
Ко всему остальному я оставался вполне равнодушен; я живо представлял себе, как я влезу по спущенной мне верёвочной лестнице, и как нетерпеливо капитан спросит меня: «Ну, что?» И вот какими словами ответить на этот его вопрос, я не знал и всей душой желал, чтоб был кто-нибудь другой, а не я, на моём месте.
Я шёл, руководствуясь картой, масштаб которой был точно определён. Нужна была большая осмотрительность, чтобы руководствоваться этим масштабом и не пропустить поворота с большой дороги в лес на тропинку.
Мне посчастливилось найти её после недолгих поисков и, войдя в лес, я как-то инстинктивно замедлил шаг и стал пробираться с некоторой опаской.
Жаркий ночной воздух действовал на меня размягчающе, стоявший в нём аромат пряностей одурял голову, очертания дерев в сумраке принимали фантастические формы, и светящиеся жуки, как блуждающие огоньки, мелькали кругом, то бесшумно теплясь на ветвях кустов, то передвигаясь и сверкая.
Только что народившаяся новая луна выглядывала сверху, увеличивая своим серебряным светом таинственность обстановки.
В эту южную томительную ночь в тропическом лесу было мучительно сладко. Хотелось неги и покоя, волшебных грёз, неиспытанных тихих мечтаний, ласки. Казалось, всё кругом располагало к этому.
А между тем я шёл, отравленный внутренне своей горечью, и невольно вспоминались слова Капитана «Дедалуса», что на его корабле на несколько тысяч фут над землёю было гораздо меньше опасности, чем здесь на земле, среди людей!
И действительно, там хоть носишься в заоблачных сферах и если погибнешь, так знаешь, по крайней мере, за что: за то, что дерзновенно осмелился проникнуть в них; а здесь тебе грозит исподтишка вооружённая ядом рука какого-нибудь Сарматова, готового из-за пустяка отнять у тебя и жизнь, и счастье.
Даже девственная прелесть этой ночи в этом дивном, чарующем лесу была осквернена людьми.
Приближаясь к полянке, я издали между стволов дерев увидел на ней двигавшиеся белые тени.
Я приостановился, чтоб разглядеть их, но издали не мог разобрать, что они делали там.
Едва дыша, медленно передвигая ноги, стал я неслышно подвигаться вперёд и придвинулся настолько близко, что мог увидеть и понять смысл того, что увидел.
На полянке было человек двадцать народу: у иных головы были обмотаны белыми чалмами, другие были простоволосые, но все они были закутаны в белые плащи, серебрившиеся на лунном сиянии.
Они медленно двигались, сходились и расходились группами и сдержанно разговаривали, плавно размахивая руками.
Я спрятался за дерево и отлично мог разглядеть всё.
Освещённая луною полянка была передо мною как на ладони, и я, скрытый в темноте, видел всякую подробность на ней, как зритель на хорошо освещённой искусным электротехником сцене.
Но только готовившееся на этой сцене представление было слишком ужасно, чтобы смотреть на него равнодушно.
А между тем до поры до времени я должен был оставаться именно бездействующим зрителем, потому что одному мне против двадцати человек ничего нельзя было сделать.
Со стороны, ближайшей ко мне, на полянке были врыты два столба и вокруг них складывали костёр из хвороста, и хворост этот украшали цветами.
Я знал уже от Джуди, что полянка была расчищена поклонниками Кали для их жертвоприношений.
И теперь мне пришлось увидеть воочию приготовления к этому страшному делу.
Сегодня у них большой, по-видимому, праздник: сегодня будут сожжены две жертвы, для них врыты столбы и разложен убранный цветами хворост.
Такое торжество, очевидно, происходит редко.
Я уже догадался, кто одна из готовящихся жертв.
Кажется, всё было уже готово, и я недоумевал, чего они медлят, хотя каждой секунде их промедления я радовался, если можно было только испытывать это чувство в том положении, в котором я находился.
При внезапном спуске «Дедалуса» этими людьми, конечно, должен был овладеть панический страх, воспользовавшись которым можно было освободить несчастных, приговорённых ими безвинно к смерти.
Весь вопрос был в том, сколько ещё осталось времени до полуночи. Мне удалось взглянуть на часы: было только двадцать минут двенадцатого, оставалось ещё целых сорок минут до условленного с Капитаном «Дедалуса» часа, и за это время всё могло быть кончено, если капитану не придёт в голову спуститься немного раньше.
Но он мог также и опоздать, не рассчитав времени точно, и тогда всякая надежда была потеряна.
XXXIV
Люди в белом продолжали переходить по полянке и переговариваться, потом по чьему-то знаку они остановились, смолкли и запели тихим, сдавленным, заунывным напевом.
Издали это пение можно было принять за отдалённый рокот морских волн, оно словно переливалось и перекатывалось.
Толпа расступилась и среди неё повели жертв к готовым кострам.
Это была жена капитана и бедный Джуди, которого я узнал сейчас же. Руки у них были скручены назад, рты завязаны.
Женщина шла совершенно безучастно, словно не понимала, что делали с нею, не глядела по сторонам, глаза её были обращены кверху, к небу, и они горели тем самым выражением, которое было у неё, когда она пела свою призывную песнь: «Приди, мой желанный, Мой милый, приди!»
Джуди, как пойманный зверёк, оглядывался, словно искал помощи, хотя тоже послушно повиновался своим палачам.
Их подвели к кострам и стали привязывать под не умолкавшее и не изменившее своего ритма пение.
Процедура длилась медленно; я, дрожа всем телом, мысленно отсчитывал секунды; они тянулись мучительно долго, но всё ж это были только секунды.
Я видел, что капитан не поспеет и опустится слишком поздно.
Двое отделились от общей группы, подошли близко к дереву, за которым я был спрятан, и стали говорить между собой по-английски, очевидно, для того, должно быть, чтобы другие не поняли их, если услышать.
Один был старик, другой — «тот, который убежал», как называл его Джуди.
— Право, — сказал старик, — на сегодня можно обойтись одной женщиной и припрятать мальчика до следующего раза.
— Это жадность, жадность говорить в тебе! — стал упрекать его другой. — Ты хочешь оставить мальчика, доставшегося нам даром, чтобы не тратить денег на жертву для следующего раза! Но этот следующий раз наступит ещё не скоро; а между тем, не сама ли богиня послала нам этого мальчика?
— Как — сама богиня? — спросил старик.
— Ну, да! Богиня слишком долго оставалась без жертв с нашей стороны, и между нами появились болезни. Ты сам сознал, что она требовала жертвы?
— Да, я сознал это!
— Тогда мы решили с тобой, что можно будет принести обыкновенную, не торжественную, заманили, вмести с Ямби, этого мальчишку сюда и пытались наложить на него руки, но богиня не приняла этой простой жертвы, мальчик был освобождён, а Ямби — убит. Тогда мы все увидели, что богине нужно торжественное жертвоприношение, и тут, как раз вчера явился в Коломбо продавец невольниц и предложил тебе сделать покупку. Вчера же вечером, когда торг был заключён, я возле твоего дома нашёл этого мальчишку, спрятавшимся, и захватил его. Не есть ли это указание, что сама богиня послала его к нам, именно для торжественной жертвы? Нет, оставить до другого раза мальчишку нельзя; это было бы нарушением воли богини.
— Да я ничего, я говорю только… — начал было старик.
— И говорить тут нечего, а надо делать! Брось ты свою жадность!
— Да разве я из жадности?..
— Конечно, из жадности. Пойдём и не будем терять время на напрасные разговоры!
Они отошли, а их слова звучали для меня прямым укором.
Оказывалось, что они схватили бедного Джуди вчера, возле дома старика, то есть там, куда послал его я.
По моему приказанию он отправился вчера, и вся вина в том, что он был схвачен, лежала на мне.
Я чувствовал такую ненависть к этим изуверам, что готов был кинуться на них один. В моём распоряжении было двенадцать пуль, значит, одиннадцать из них я мог положить на месте, двенадцатая же пуля была для меня самого, потому что сдаваться им живым в руки было безрассудно и нелепо.
А они продолжали петь и водили вокруг костров что-то вроде хоровода, то медленно подвигаясь, взявшись за руки, то подымая руки кверху, а головы опуская к земле.
В этом не было ещё ничего угрожающего, и потому я ждал, спрятанный в своей засаде.
Наконец, они отошли немного в сторону, потом приблизились и стали рядами.
Впереди был старик, в руках он держал незажжённый факел. Пение ускорилось; двое человек стали зажигать старику факел и раздувать его.
Пламя вспыхнуло и осветило ближайшие лица красным, колеблющимся, неприятным светом.
Когда факел разгорелся, старик, не торопясь и по-своему величественно, стал подходить к столбу, на котором был привязан Джуди.
Он подвигался, остальные — за ним.
Вот он ближе и ближе к костру, рука его подымается, он произносит несколько непонятных мне слов и опускает факел к сухому хворосту, чтобы зажечь его.
Дальше я не мог выдержать.
Сам того не помня, что делаю, я поднял бывший у меня наготове револьвер и, почти не целясь, выстрелил.
Выстрел раздался негромкий, похожий на треск; эхо повторило его…
Старик подпрыгнул и повалился на землю.
Толпа дрогнула, некоторые упали на колени, но один схватил выпавший из рук старика факел и кинулся по направлению ко мне, заметив, очевидно, откуда был сделан выстрел.
У меня был наготове второй револьвер, и вторым выстрелом, который был не менее счастлив, чем первый, я положил бежавшего ко мне с факелом.
Я успел снова взвести курки, догадался отбежать несколько в сторону от того места, где стоял.
К моей выгоде служило то, что я находился в тени, и с освещённой луною полянки трудно было сразу заметить меня.
Там была уже полная суматоха: толпа загудела и заволновалась; я дал ещё два выстрела один за другим, наудачу — и ещё двое человек упало на землю.
Толпа ахнула и застонала.
Кажется, в первую минуту им показалось, что они окружены значительным количеством вооружённых людей, но всё-таки нашлись смельчаки между ними, которые кинулись вперёд и, должно быть, разглядели меня.
Я был от них довольно близко, успел сделать ещё один выстрел, на этот раз почти в упор, и повалить ещё одного, но остальные схватили меня. Ещё один миг — и я был бы лишён оружия. Но в этот момент лунный свет затмился, послышалось в воздухе жужжание и шипение, как будто пронеслись миллионы пчёл, большая тёмная масса опустилась на полянку.
Может быть, это было и не так, подробности спуска «Дедалуса» я заметить и запомнить не мог, но только он опустился, и произошло то, что я ожидал. Это произвело страшное впечатление, началась сумятица, в которой для меня были слышны мои выстрелы и мой собственный крик:
— Капитан! На помощь! Скорее, скорее!..
Капитан дал свой первый выстрел ещё из люка «Дедалуса».
Враги наши почти не сопротивлялись: объятые ужасом, они метались из стороны в сторону, сшибались друг с другом и попадали под наши пули, как зайцы на охоте.
Капитан пробился сквозь них ко мне, и мы быстро окончили свою работу.
На полянке не осталось ни одного живого изувера.
Мы кинулись к столбу, к которому была привязана жена капитана, и отнесли её на «Дедалус».
Там я оставил его ухаживать за ней, а сам вернулся, чтобы освободить Джуди.
Удивительной живучестью обладал он! Когда я разрезал державшие его верёвки, он встрепенулся и проговорил:
— Я знал, что вы спасёте Джуди!
— Почему же ты знал? — невольно спросил я.
— Потому что вы добрый, а они злые!
Капитан показался в люке.
— Она очнулась? — невольно осведомился я про его жену.
— Нет ещё! Её долго нельзя оставлять одну, поднимайтесь скорее!
— Но со мной ещё мальчик-сингалезец! — ответил я. — Я его не могу здесь оставить одного. «Дедалус» может поместить четверых?
— Поместить — с трудом, но поднять совсем не может! Нужно будет предварительно выкинуть какие-нибудь вещи!
— Так поднимайтесь одни! — сказал я. — Я останусь здесь, мне решительно всё равно быть теперь в Коломбо или в другом месте.
— Вы это серьёзно? — спросил капитан.
— Совершенно серьёзно!
— Ну, тогда прощайте! Спасибо вам!
— Прощайте! — сказал и я. — Идите скорее к жене, надо привести её в чувство.
— Может быть, увидимся ещё. Вы не боитесь остаться?
— Нисколько. У меня с собой
запасные заряды! Впрочем, погодите, капитан! — остановил я его.
— Что такое?
— А ваш билет на тысячу фунтов?
— Он в полном вашем распоряжении! — и капитан захлопнул люк.
— Они все убиты! — сказал мне Джуди, ходивший в это время по полянке. — Их было двадцать, они все двадцать лежат здесь, их Джуди сосчитал!
— Ну, пойдём, пойдём отсюда скорее, — торопил я его, и мы удалились с усеянной трупами полянки, прежде чем поднялся «Дедалус».
Лес мы миновали бегом и вздохнули свободнее, когда очутились на дороге.
Коломбо мы достигли благополучно.
И с тех пор мы не расставались с Джуди, который остался у меня слугой.
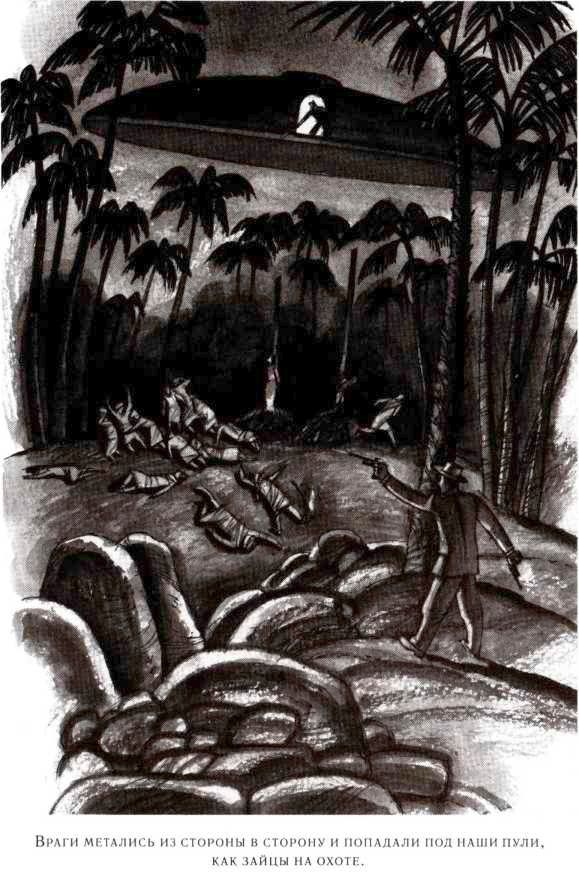
* * *
Ни о «Дедалусе», ни о его капитане я больше не слыхал ничего и совершенно не знаю, какая дальнейшая судьба постигла воздушный корабль.
Может быть, он в конце концов не оправдал расчёты своего изобретателя и погиб, рухнув с высоты, вследствие какой-нибудь неисправности в машине…
Или, может быть, он летает до сих в заоблачных пространствах и проносится над нашими головами, когда мы и не подозреваем этого…
Во всяком случае, он ещё тайна для современного человечества, тайна, которая откроется для него впоследствии. Тогда, может быть, и узнают, кто был таинственный Капитан «Дедалуса».
Михаил Волконский и его «романы действия»
История Русского приключенческого романа ещё не написана, истоки и пути развития этого жанра в нашей литературе не исследованы, многие произведения этого направления и их авторы либо ещё не выявлены, либо прочно забыты и ждут своего пытливого исследователя.
Немногочисленные обзорные статьи, посвящённые отечественному приключенческому жанру, начинают отсчёт его истории с произведений 1920-х гг., как бы мимоходом сообщая, что «в дореволюционной России издавались журналы, публиковавшие переводную и оригинальную Приключенческую литературу».
[22] И всё! Ни одного имени, ни одного заглавия!
Да, Русский приключенческий роман — белое пятно на карте истории Русской литературы, и сборник произведений Михаила Николаевича Волконского, который мы только что прочитали, — ещё один штришок на этом белом пятне.
Истоки жанра Русского приключенческого романа, по-видимому, следует искать во всём массиве нашего устного и письменного литературно-художественного творчества — от русских народных сказок, былин и сказаний до исторической прозы, русского героического эпоса и повествований о путешествиях и географических открытиях. Можно пунктиром обозначить путь его становления, указать иноязычные образчики жанра, ставшие крупным явлением мировой приключенческой литературы и оказавшие влияние на наших авторов, но самый момент, так сказать, выхода его на поверхность не определён, скрыт от нас, ибо пришёлся на непростое для нашей страны время — начало XX века, роковая черта под которым была подведена катастрофическим 1917 годом, который на многие десятилетия вовсе «отменил» всё дореволюционное.
Поэтому сравнительно недавно мы открыли для себя имена зачинателей Русского Приключенческого романа — Ивана Ряпасова, Павла Белецкого, Михаила Ордынцева-Кострицкого и некоторых других; именно поэтому сегодня впервые открыли для себя приключенческие романы Михаила Волконского, которые ожидали книжного издания более 110 лет.
* * *
Михаил Николаевич Волконский родился в Петербурге 7 (19) мая 1860 года в семье знатной — древнего русского княжеского рода, — но давно обедневшей. У родителей он был единственным ребёнком.
В 1882 году будущий писатель окончил Училище правоведения (с чином губернского секретаря) и поступил на работу в канцелярию Главного управления коннозаводства, где до 1889 года служил помощником делопроизводителя.
За эти годы он успел жениться — в 1884 году — на Марии Васильевне Кондрашовой и стать отцом троих дочерей — Анастасии (1885), Екатерины (1887) и Марии (1888).
В 1890-м Михаил Волконский поступил на службу чиновником особых поручений при министерстве народного просвещения, но в следующем году оставил службу и вышел в отставку (с чином надворного советника).
Столь короткая карьера Михаила Волконского в качестве казённого чиновника объясняется тем, что скромного государственного служащего обуревали совсем другие страсти, которые как нельзя лучше подходили для его богатого внутреннего мира, его одарённой творческой личности, упрямо стремившейся к самовыражению. Его манило литературное творчество, и он решил всецело посвятить себя служению Слову.
Литературная деятельность Михаила Волконского началась в 1885 году — его проза печаталась на страницах журналов «Задушевное слово», «Русский вестник», «Неделя». Однако вопрос об авторстве этих произведений, опубликованных до 1890 года и подписанных полным именем автора или легко опознаваемыми псевдонимами, остаётся открытым, так как его подписью пользовались также его жена, М. В. Волконская, и тёща, Елизавета Николаевна Кондрашова. Кстати, повесть последней — «Отчего?» (1885) имела немалый успех, и считается, что именно она сделала имя Михаила Волконского известным в литературном мире.
[23]
В прозаическом творчестве Михаила Волконского налицо две явные линии: первая представлена произведениями из современной жизни, так называемыми бытовыми романами, «анализирующими поведение и психологию героя в ситуации выбора между укоренившимися в обществе материализмом и аморализмом („мёртвое“) и религиозно-нравственной традицией („живое“)».
[24] К этой линии относятся его романы и повести «Деньги» (1888), «Мнимая любовь» (1889), «Судьба» (1890), «Семья Колениных» (1890), «Мёртвые и живые» (1898), «Братья» (1898), «Одержимые» (1899), «Петербургский случай» (1901), «Благородные чувства» (1902) и другие.
Другая линия творчества Волконского, количественно преобладающая, представлена историческими произведениями.
К разработке русской исторической темы Михаила Волконского подтолкнули юношеские пристрастия, возникшие благодаря его двоюродному дяде по матери — историку и беллетристу Евгению Петровичу Карновичу (1823–1885), под сильным влиянием которого рос мальчик. Научные разыскания Карновича по русской истории XVIII века легли в основу многих исторических произведений Волконского.
С 1891 по 1916 гг. из-под его пера вышло более двух десятков исторических романов и повестей: «Мальтийская цепь» (1891), «Князь Никита Фёдорович» (1891), «Воля судьбы» (1893), «Брат герцога» (1895), «Кольцо императрицы» (1896), «Забытые хоромы» (1896), «Записки прадеда» (1897), «Вязниковский самодур» (1900), «Чёрный человек» (1901), «Два мага» (1902), «Гамлет XVIII века» (1903), «Сирена» (1903), «Ищите и найдёте» (1904), «Юный герой» (1904), «Жертва богам» (1906), «Тайные силы» (1907), «Жанна де Ламотт» (1910), «Тайна герцога» (1912), «Мне жаль тебя, герцог!» (1913), «Две жизни» (1914), «Слуга императора Павла» (1916) и др.
Эти произведения печатались в популярных журналах «Нива», «Родина», «Русский вестник», «Задушевное слово», а также в приложениях к ним и в бесплатных приложениях к газете «Свет». Некоторые выходили отдельными изданиями, а иные переиздавались по несколько раз.
Своё творческое кредо по отношению к исторической прозе Михаил Волконский выразил в предисловии к роману «Две жизни»: «Давно уже доказано, что наряду с так называемой официальной историей несомненно существует неофициальная, тайная, сплетающаяся из целого ряда интриг и отношений, разгадать и открыть которые представляется возможным лишь спустя многие годы. И сколько раз подобные открытия давали вдруг совершенно неожиданно объяснения явлениям, казавшимся случайными, и соединяли эти казавшиеся случайными явления в последовательную и логически развивающуюся цепь».
[25]
Михаил Волконский «восстанавливал цепь казавшихся случайными явлений не как историк, а художнически преобразуя их в энергичное, почти драматургически остро развивающееся повествование, добиваясь этим повышенной его занимательности».
[26]
Почти все исторические произведения Волконского посвящены событиям XVIII века. Особенно любил писатель разрабатывать сюжеты на материале из времён царствования Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны и Павла Первого. Что касается последнего, то к нему Волконский проявлял особый интерес, считая, что личность этого императора и его деятельность несправедливо принижены, искажены и оболганы, ибо, по мнению писателя, «наша историческая наука разрабатывалась до сих пор под углом зрения тех, кто имел основание не любить Павла Петровича».
[27]
В своих исторических произведениях Михаил Волконский стремился не только увлечь читателя драматическими перипетиями острого сюжета, но и пробудить в читателе интерес к истории Отечества, вызвать в нём гордость за людей, писавших героическую летопись России, зажечь пламень патриотических чувств и показать неизбывную ценность таких человеческих качеств, как мужество, благородство, доброта, милосердие, умение постоять за свою честь и достоинство.
Помимо сочинения бытовых и исторических произведений была у Михаила Волконского ещё одна большая страсть — театр. Этой области искусства он отдал много времени и душевных сил.
С 1886 года он член Литературно-артистического кружка при Александрийском театре. На сцене кружка в 1887 году был поставлен его драматический этюд «Перламутровый веер с кружевами» (опубл. 1888), в 1896-м — четырёхактная драма «Рабыня» (1896), в 1898-м — комедия «Дядюшка Обломов» (опубл. 1900), но самый большой успех выпал на долю его пародийной оперы «Вампука, принцесса Африканская».
[28] Поставленная в театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало» в январе 1908 года, она шла на разных сценах до конца 1920-х гг. В 1911 году на сцене «Кривого зеркала» Н. Н. Евреиновым была поставлена буффонада Волконского «Гастроль Рычалова», также державшаяся на сцене более 15 лет.
В 1913 году на сцене Литейного театра были поставлены пьесы Волконского «Описанная кровать, или Муж, каких много» (1913) и «Они забавляются» (1913, под псевд. Манценилов). В 1918, уже после смерти Волконского, на сцене «Передвижного театра» П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской была поставлена его пьеса «Освобождение» (1918). Для этого же театра, уже будучи тяжело больным, писатель перевёл ряд пьес Р. Тагора, В. Гюго и др.
Кроме того, Михаил Волконский выступал ещё и как активный литературный критик, ратовавший «за преодоление академического застоя в сценическом искусстве и в репертуарной политике».
[29]
Параллельно с литературным творчеством Михаил Волконский ведёт насыщенную жизнь литератора, вращаясь в творческих кругах российской столицы, посещая различные литературные собрания, участвуя в работе общественных объединений. В конце 1880-х — начале 1890-х гг. он примыкает к «Русскому литературному обществу», постоянно посещает «воскресенья» П. П. Гнедича, регулярно бывает в литературном кафе «Бродячая собака»; по предложению Чехова, в январе 1893 года основывает совместно с И. И. Ясинским «литературные обеды» в ресторане «Донон» на Набережной реки Мойки, 24.
[30] Круг его литературных и общественных связей обширен.
Он общается с Д. В. Григоровичем, В. И. Немировичем-Данченко, А. С. Сувориным, Н. А. Лейкиным, Д. Н. Маминым-Сибиряком, П. О. Морозовым, А. Р. Кугелем, П. Д. Боборыкиным, Д. Л. Мордовцевым, А. П. Чеховым и др.
В конце 1892 года Михаил Волконский становится редактором популярного журнала «Нива». На этом посту он проработал до конца 1895 года, и за это время ему удалось «резко повысить тираж издания благодаря привлечению в журнал серьёзных литературных сил… и чуткости к читательской конъюнктуре».
[31] В частности Волконский привлёк к сотрудничеству А. П. Чехова.
Около 1895 года брак Михаила Николаевича и Марии Васильевны распался. К сожалению, нам не известны причины, подтолкнувшие их к этому драматическому шагу, равно как не известна судьба их дочерей. Что же касается Марии Васильевны, то она продолжила свою литературную деятельность под псевдонимом Маривэ К. и скончалась в 1944 году, намного пережив отца своих детей.
В начале 1900-х Михаил Волконский сочетается гражданским браком с Наталией Викторовной Деген-Арабажиной (1870–1943). Своих детей у них не было, но в семье с младенческих лет воспитывался рано осиротевший племянник Наталии Викторовны — Боря Деген.
[32]
В начале XX века, когда политическая ситуация в стране обострилась, и подрывная деятельность различных антиправительственных сил поставила Россию перед угрозой катастрофы, Михаил Волконский стал активным защитником монархии, в которой видел единственного гаранта сохранения страны и её традиционных ценностей.
Читая произведения Михаила Волконского, можно без труда выявить его жизненные идеалы, увидеть, какие моральные ценности и человеческие качества он ценил и превозносил. Скромность, доброта, отзывчивость, смелость, неприятие алчности и гордыни, умение постоять за свою честь, уважение к женщине, любовь к Родине, уважение к истории и традициям своей страны, вера в Бога, следование Православию, убеждённость в правоте монархического устройства страны. Революционное движение, многие десятилетия набиравшее силу и питавшееся ненавистью к России и её устоям, несло прямую угрозу этим ценностям, и решимость, с какой Михаил Волконский вступил на путь сопротивления этому злу, вполне понятна и логична.
С начала 1900-х он активный член, а в 1904–1906 гг. — член Совета «Русского собрания», общественно-политической организации, созданной с целью «содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей Русского народа».
[33] 31 декабря 1904 года в составе депутации от этой организации он удостоился Высочайшего приёма у Николая II.
Особенно активное участие Волконский принял в деятельности другой правомонархической организации — «Союз русского народа», ещё более решительной и непримиримой по отношению к революционному движению, особенно усилившемуся на фоне катастрофических неудач в Русско-японской войне. А марте — апреле 1906 года он выдвигался кандидатом в выборщики в Государственную Думу от «Русского собрания», «Союза русского народа» и Партии народного центра по Петербургу; 1–7 октября 1906 года был делегатом третьего Всероссийского съезда Людей Земли Русской в Киеве; 8–10 марта 1909 года, в качестве председателя Петербургского губернского отдела «Союза русского народа», принимал участие в 3-м частном Совещании отделов «Союза русского народа» в Ярославле.
Кроме того, Михаил Волконский боролся с наступавшей революцией как публицист и редактор, активно сотрудничая в газетах «Новое время», «Русское знамя» (одно время он был редактором этой газеты, органа «Союза русского народа»), «Виттова Пляска», в сатирическом журнале «Плювиум».
В 1907 году, после раскола в «Союзе русского народа», Волконский отошёл от активной деятельности в монархических организациях.
Последние годы жизни Михаил Волконский тяжело болел, с трудом передвигался. В 1916 году «Издательство А. А. Каспари» предприняло попытку издания «Полного собрания романов и повестей князя М. Н. Волконского, исправленного и редактированного автором», но в 1917 году, на середине 6-го тома, издание прервалось: умер автор, а вместе с ним ушла в небытие и страна, которую он так любил и отстаивал в своём литературном творчестве и общественно-политической деятельности…
В одном из своих выступлений в «Русском собрании» Михаил Волконский сказал о деятельности организации такие слова: «…Многочисленная и сильная общественная организация, действующая мирными средствами, непреклонная в своём исповедании, является главнейшим тормозом для торжества возлюбленных революционерами разрушительных начал».
[34]
К сожалению, как показала история, «мирными средствами» противостоять революционной катастрофе нельзя, и Михаилу Волконскому выпала горькая доля стать свидетелем подлого февральского переворота, а вместе с ним — падения монархии и гибели империи.
До большевицкого переворота, в свою очередь опрокинувшего февралистских калифов на час и попытавшегося вовсе «отменить» дореволюционную Россию, Михаил Николаевич Волконский не дожил менее двух недель: он скончался 13 (26) октября 1917 года.
* * *
Многие десятилетия после 1917 года произведения Михаила Волконского, откровенно не вписывавшиеся в советскую историографию России и идеологически чуждые, не переиздавались, а его имя, почти напрочь забытое, иногда мельком упоминалось в связи с его театральной деятельностью. Только в начале 1990-х его исторические произведения стали возвращаться к читателям — отдельными книгами и собраниями сочинений.
Нынешний сборник впервые представляет Михаила Волконского в качестве автора приключенческих романов, или, по его собственному определению, романов действия. Своеобразный манифест этого направления писатель изложил таким образом: «Романы действия, где события часто сходятся с вымыслом, и запутанная завязка, полная таинственности, отвлекает нас от действительности и житейских мелочей. Многие находят такие произведения ненужными и лишними, требуют, чтоб им описывали только окружающую их повседневную жизнь. Конечно, хорошее изображение повседневной жизни может доставить и удовольствие, и пользу, если оно талантливо, но и произведение, полное загадочной поэзии, отвлекающее нас от действительности, даже сказка, в которой соблюдена художественная правда, являются такими же детищами литературы, и отвергать их вовсе — значит отымать у человечества фантазию, необходимую для творчества. Творчество — коснись оно даже отыскания новой теоремы в геометрии — немыслимо без фантазии, не говоря уже о том, что жить одною только житейскою прозой не в природе человека. Поэтому чем суровее эта жизнь, чем прозаичнее она, тем более потребности в поэзии, и самые фантастические сказки слагаются народами, когда они находятся в первобытном состоянии».
[35]
С таким настроением и были написаны Михаилом Волконским романы «Капитан „Дедалуса“» и «Сокровище Родины», опубликованные в журнале «Вокруг света» в 1902 и 1903 гг. соответственно. Созданы они в лучших традициях классического Приключенческого романа — с рассказом о морском плавании к далёким берегам, с описанием многочисленных приключений, переживаемых героями, с рассказом об удивительных странах и людях, их населяющих, о причудливой природе тех мест, о смертельных опасностях, подстерегающих героев на их пути к заветной цели, с показом сильных характеров и благородных сердец. Всё это так хорошо знакомо нам по многочисленным романам иностранных авторов, но едва ли не впервые написано на русском языке о русских же людях. Едва ли не впервые мы видим наших соотечественников в таких условиях и при таких обстоятельствах, которые ассоциируются почти исключительно с романами иностранных авторов. И некоторая упрощённость сюжета, излишняя, может быть, скоротечность событий и отпечаток какой-то поспешности в работе над тестами романов нисколько не отменяет самого явления. Это самые настоящие приключенческие романы, да ещё и с элементами фантастики (корабль, способный передвигаться как под водой, так и по воздуху в «Капитане „Дедалуса“», сверхмощная электрическая яхта в «Сокровище Родины»). Заслуживают внимания и сочувственное отношение автора (и его героев) к угнетённым народам британских колоний в их борьбе за независимость.
Повесть «Ёрш и Пыж» стоит в сборнике несколько особняком, но тем не менее увлекательный сюжет с неожиданными поворотами вполне оправдывает её соседство с вышеописанными романами. Кроме того, интересен закулисный мирок провинциального театра, так хорошо знакомый автору, а также многие бытовые подробности русской дореволюционной жизни, разбросанные по повести.
Возвращение незаслуженно забытых произведений Михаила Николаевича Волконского — это не только акт справедливости, но ещё один шаг к обретению неизвестных страниц нашего исторического прошлого, вырванных катастрофическим вихрем 1917-го из Большой Книги нашей исторической памяти.
Георгий Пилиев
Текстологическая справка
Тексты произведений М.Н. Волконского, включённых в книгу, печатаются по единственным журнальным публикациям («Капитан корабля „Дедалуса“», журн. «Вокруг света». СПб., 1902, №№ 1—31; «Сокровище Родины», журн. «Вокруг света». СПб., 1903, №№ 1—49; «Ёрш и Пыж», журн. «Родина». СПб., 1905, №№ 37–51). Для настоящего издания текст произведений подвергся пунктуационной правке в соответствии с современными нормами грамматики, а также в определённых случаях скорректирована компоновка текста (слиты некоторые абзацы, объединены отдельные главы, разбитые для нужд журнальной публикации), а также незначительно изменено заглавие одного из романов («Капитан корабля „Дедалуса“»).
Подготовка и вычитка текста произведена Н. Д. Абросимовым, Л. В. Фёдоровой и Г. К. Пилиевым.
Примечания
1
Прежнее название Стамбула.
Здесь и далее, кроме особо оговорённых, примечания Георгия Пилиева.
(обратно)
2
Средиземноморский портовый город на северо-востоке Египта.
(обратно)
3
Портовый город на берегу Аденского залива, важный транзитный пункт (через Суэцкий канал) на пути в Индию. Ко времени действия романа находился под протекторатом Британии.
(обратно)
4
Крупный портовый город-государство на берегу Южно-Китайского моря, транзитный пункт на пути в Китай и Дальний Восток. Являлся Британской колонией.
(обратно)
5
Помост либо палуба в кормовой части парусного корабля. Позднее шканцами называли часть верхней палубы военного корабля от грот-мачты до бизань-мачты.
(обратно)
6
Горизонтальный деревянный брус или стальной профиль в верхней части фальшборта или борта шлюпок и небольших беспалубных судов. По сути, деревянные или металлические перила.
(обратно)
7
Кормовая надстройка судна или кормовая часть верхней палубы.
(обратно)
8
Крупнейший портовый город на западной оконечности острова Цейлон (ныне Шри-Ланка). Ко времени действия романа Цейлон являлся Британской колонией.
(обратно)
9
Сингалезы — обитатели острова Цейлон.
(обратно)
10
Имеется в виду карри, традиционная индийская приправа.
(обратно)
11
Крупный город в Польше. До 1917 года часть современной Польши входила в состав Российской империи под названием Царства Польского.
(обратно)
12
Бывший под судом и наказанием. —
Примечание автора.
(обратно)
13
Лжёт. —
Примечание автора.
(обратно)
14
Охотник поживиться на чужой счёт. —
Примечание автора.
(обратно)
15
Новичок. —
Примечание автора.
(обратно)
16
Девушка. —
Примечание автора.
(обратно)
17
Ходил по этапу. —
Примечание автора.
(обратно)
18
То есть деловые, воры
(жарг.).
(обратно)
19
От фр.
bonhomme — приятель.
(обратно)
20
Хотя наш рассказ и ведётся от первого лица, но героем описываемых приключений был не автор, а, действительно, Николай Александрович Гринёв, с позволения и по запискам которого составлено это описание. —
Автор.
(обратно)
21
Хорошо.
(Англ.).
(обратно)
22
Краткая литературная энциклопедия. М. 1968. T. 5. С. 974.
(обратно)
23
Кроме того, если верить жене М. Волконского, своей литературной известностью он обязан ещё и ей. В 1896 году, уже разведясь с мужем, она пишет письмо А. С. Суворину и просит его содействия в публикации своих произведений: «…Достигнув Вашей помощи… я достигну гласно для себя того, чего я достигла 10 лет назад для другого». Очевидно, что под «другим» подразумевается М. Н. Волконский. См.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М. 1994. Т. 3. С. 516.
(обратно)
24
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М. 1992. Т. 1. С. 471.
(обратно)
25
М. Н. Волконский. Две жизни. Пг. 1914. С. 5. Цит. по: М. Н. Волконский. Сочинения в четырёх томах. М. 1992. Т. 1.С. 11.
(обратно)
26
Т. Ф. Прокопов. Столетие тайн и загадок: XVIII век в историко-приключенческих романах М. Н. Волконского — в изд. М. Н. Волконский. Сочинения в четырёх томах. М. 1992.Т. 1.С. 11.
(обратно)
27
М. Н. Волконский. Слуга императора Павла. Пг. 1916. Цит. по: М. Н. Волконский. Сочинения в четырёх томах. М. 1992. T. 1.С. 14.
(обратно)
28
Впервые была опубликована в 1900 году как фельетон в газете «Новое время» (под псевд. Анчар Манцевилов).
(обратно)
29
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М. 1992. T. 1. С. 471.
(обратно)
30
И. И. Ясинский. Роман моей жизни. М. 2010. Т. I. С. 542. Т. II. С. 342–343.
(обратно)
31
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М. 1992. Т. 1. С. 471.
(обратно)
32
Борис Евгеньевич Деген — родной отец замечательного русского поэта Глеба Семенова (1918–1982).
(обратно)
33
Из Устава организации. Цит. по:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_собрание
(обратно)
34
Цит. по:
http://hrono.info/biograf/bio_we/volkonski_mn.html
(обратно)
35
«Вокруг света». СПб. 1903. № 1.С.З.
(обратно)
Оглавление
Сокровище Родины
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
Эпилог
Ёрш и Пыж
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
Капитан «Дедалуса»
1
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
Михаил Волконский и его «романы действия»
Текстологическая справка
*** Примечания ***