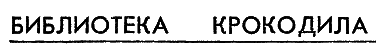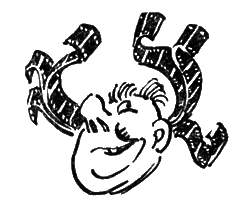В гостинице провинциальной,
где к ванной был привинчен
сальный,
чтоб не сбежала, номерок,
по стенам ползали в излишке
клопы и шишкинские мишки… —
у нас никто не одинок.
Но был подход принципиальный
в гостинице провинциальной
ко всем гостям в их мятежах,
пусть даже скромных — против
правил.
А соблюденье кто возглавил?
Дежурные на этажах.
Они, с могучими задами
и с видом важного заданья,
в любой входящей в номер
даме
угрюмо видели врага,
тая зловещее: «Ага!»
Я жил однажды в полулюксе.
Он был обставлен в полном
вкусе
тех давних лет, когда, мой друг,
мы так боялись узких брюк.
Хоть были правила и строги,
ко мне, как будто сквозь штыки,
проникла девушка со стройки
и принесла свои стихи.
Присев на краешек дивана,
она на краешек стола
тетрадку ткнула деревянно
и ватник даже не сняла.
Ей было лет семнадцать, что ли…
Смущенный взгляд вдавили в пол
и красноплюшевые шторы
и на чернильнице орел.
Раскрыв тетрадочку в линейку,
украдкой я осознавал,
как был прекрасен — льна
льнянее —
на ватник льющийся обвал.
Стихи, к несчастью, были плохи,
но что-то в строчках прорвалось
и от страны, и от эпохи,
и от обвала тех волос.
Движенья гостьи были хрупки,
и краска схлынула с лица.
Так у нее дрожали руки,
что возгордился я слегка.
Я, что-то важно изрекая,
был по-отцовски нежно тверд:
«Что у вас, девушка, с руками?
Да вы не бойтесь… Я не черт…»
Но, сдув со лба льняную прядку,
не подняла она свой взгляд:
«Я не боюсь. Они с устатку
от перфоратора дрожат…»
И вдруг она чуть покачнулась
и на бок тихо прилегла,
полузаснув, полуочнулась,
но и очнуться не смогла,
А дрожь не отпускала пальцы,
мой гордый вид сведя к нулю,
и шепот на пол осыпался:
«Я лишь немножечко посплю…»
Ее укрыл я одеялом,
с каким-то в сердце колотьем
над ней склонившись, как
над малым
но так измученным дитем.
И вдруг звонок со сладкой
злостью:
«Дежурная по этажу.
Прошу покинуть номер гостью.
Спит? Ничего, я разбужу…»
Я вышел. Мне она навстречу,
кипя гражданственною речью
и, как индейские вожди,
в орлиных перьях бигуди. Я объясняю…
«Ах, устала?!
Я представляю — от чего…»
И вдруг величественным стало
ее чугунное чело.
Мне прошипев: «Мы
не в Европах…»,
она взрычала, в дверь вбежав…
О, перед вами каждый робок,
дежурные на этажах!
Струхнули шишкинские мишки
на это чудище напасть.
Так из плюгавенькой властишки
растет диктаторская власть.
Мы шли по лестнице под градом
базарной брани и угроз,
и так поник со мною рядом —
льнянее льна — обвал волос.
Кричала, молнии метая:
«Я кому надо доложу!» —
как современная святая,
дежурная по этажу.
В своей ливреечке потертой,
чуть-чуть ключами побряцал,
но: «Ей бы, парень, дать
пятерку…» —
сказал зевающий швейцар…
Снесли гостиницу с клопами,
и мишки Шишкина в опале.
Они безвинно не попали
в отель из стали и стекла.
Там пылесосы из Чикаго,
там и грузинская чеканка,
и блещут баров зеркала.
Но в сапогах — уже чулочных,
при тех же бюстах
крупноблочных,
при тех же взглядах непорочных
и всех гостей держа в вожжах,
как управляющие честью,
взирают, хищно когти чистя,
дежурные на этажах.
Теперь уже в их гардеробах
есть почти все, что есть
в Европах.
Эдгара По, Эжена Сю
не надо им — лишь «Кента»
пачку.
Жуя подаренную жвачку,
расхаживают чуть враскачку
и даже «спикают» вовсю.
Они все знают про Нью-Йорки,
не забывая про пятерки.
Есть широта души в ханжах!
Все изменяется на свете —
не изменяются лишь эти
дежурные на этажах.
Скажите все, кто не безгрешен,
но кто нисколько не замешан
ни в грабежах, ни в кутежах,
все те, кто хоть во что-то верит:
что в нас вселяет трепет
перед дежурными по этажам?!