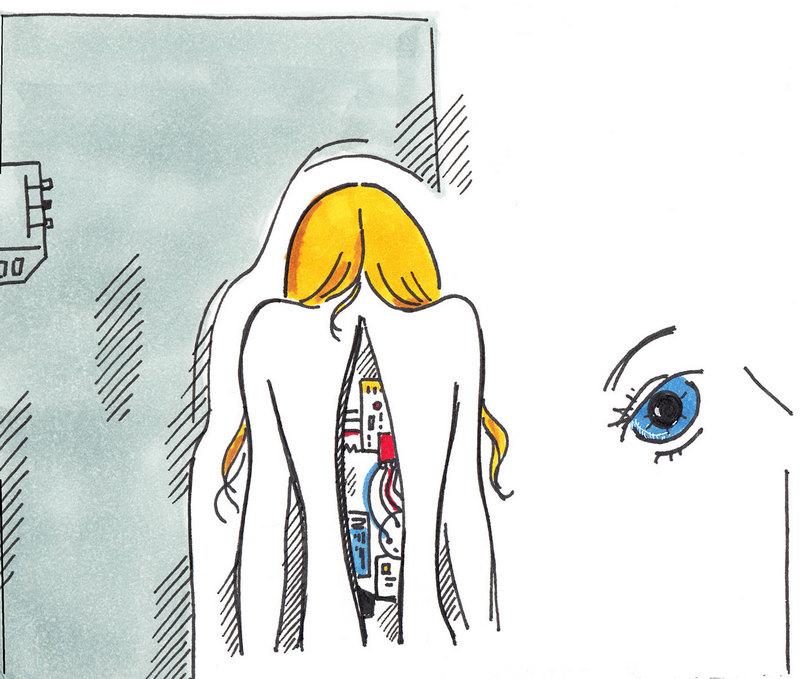Литературно-художественный журнал
Могучий Русский Динозавр № 2. 2021 г.

Музыка | Екатерина Квитко
Начну я с этого: «Серёжа, когда я умру, ты помни одно: ничего дорогого не покупай, всё должно быть скромно. И дорогих обрядов не проводи. Это всё равно не спасёт меня от грехов», – корявым медицинским почерком написала бабушка в зелёной тетради.
Дедушку я никогда не видел. Отец его не помнит. А в семье о нём всегда молчали. Есть у детей странность, которая огорчает взрослых, – переворачивать всё в коробках, сундуках, рыться в шкафах. Думаю, это всего лишь попытка исследовать мир, а, может, найти в нём нечто чудесное, небывалое. Правда, тогда мной двигало не любопытство, я просто, даже непроизвольно, рылся в чёрно-белых снимках. И вот на одном из них стояла моя бабушка с каким-то мужчиной – его лицо было вырезано, а тело проколото иглой с чёрной ниткой. Я тогда побежал к бабушке и спросил: «Что это?». Она ждала своих музыкантов, явно нервничала и потому, наверное, закричала: «Он сволочь, сволочь, сволочь!». Я скорчился, оглушённый, поражённый её гримасой. Откричавшись, она успокоилась и ушла размещать в большой комнате пианистов, я их, правда, так и не увидел, но казалось, слышал тихие разговоры и музыку. О дедушке я перестал спрашивать, да никто и не знал, жив он или умер. Я видел другие фотографии с его лицом. Он стоял посреди поля в котелке и курил. Кинематографичный человек. У них с бабушкой ведь была же какая-то любовь, раз родился отец.
Мой отец не общается с нами. Но ведь у него тоже была когда-то любовь с матерью своих детей – меня и Софьи. Браки, проколотые иголкой и перешитые чёрной ниткой, сидят у меня в голове с детства и убивают представление о любви. Но я люблю музыку. Всё детство я ходил с бабушкой встречать музыкантов. Прибирался как мог в овальной комнате. Слышал разговоры и музыку. Я поглаживал струны виолончели и остро слышал сосредоточенное, напряжённое молчание Софьи.
– Ну, за тебя я спокойна, – послышался мамин взгляд на Софью. – А вот Александр…
Бабушка умерла через месяц после своего девяностолетия. Конечно, я соглашался, что бабушка странная, с особенными взглядом на мир и слухом к его тайным звукам.
– Это самое безобидное, – сказал про неё отец. – Если она что и любила, то это смерть.
Как только она преставилась, в комнате нашли ту тетрадь, исписанную корявым медицинским почерком. На обложке было написано: «Памятка Серёже, когда я умру».
«Сёрежа, когда я умру, труп не вскрывать. Карточка моя в поликлинике, там все данные. По христианскому обычаю труп должен час быть в покое, то есть никто к нему не должен подходить. Всё должно быть тихо, спокойно. На шее у меня обязательно должен быть крестик. И обязательно по христианскому обычаю в церкви провести обряд. Причастить, отпеть (ну это я так пишу, я считаю, что батюшка знает, что нужно делать с покойником). При покойнике все зеркала должны быть в комнате закрыты. Я к смерти себя всю жизнь готовила. Крест, молитва, иконка – я всё завернула в белый платочек. Фото в рамке. Платочки головные и платочки носовые лежат в мешке. Юбка и кофта. Их на покойника легче надевать, чем платье, поэтому я платье не пошила. Кружавчики белые. Их много. Они для гроба. Две простынки. Тапочки. Чулки. Платочек на головочку с зелёными полосками, беленький, тоненький. Гвоздиками прибивать обивку на гроб. И кружева. Поминайте меня обязательно в церкви. И обязательно моих родителей. Говорят, лучше всего поминать хлебными изделиями: булочками, пирожками, блинами. Буханку хлеба обязательно отнесите в церковь, положите на стол (там специальный). Серёжа, поставь свечку одну за упокой души всех-всех и прочитай перед иконой в церкви: „Помяни, Господи, во Царствии Твоём души усопших рабов Твоих: Трофима, Марию, Анатолия и всех православных христиан, прости им все согрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное“. Выкопать яму неглубокую, поставить крест христианский, надгробие сделать очень лёгкое – из железа, не гранитное. За работы при захоронении дорого не платить, дорогих обрядов не проводить, это ничего не поможет, кроме как тебе в убыток, но обязательно меня поминать дома – раздавать печенье или что-нибудь печёное, а в церкви ставить свечку за упокой души и заказывать хотя бы один раз в год, но лучше чаще, обряд об упокоении. Заплати за этот обряд тоже недорого и тут же закажи просфору за упокой, её желательно вам скушать, а если несколько просфор закажешь, то раздай их людям в церкви и скажи: „Помяните рабу Божию Любовь“. Обязательно провести обряд в церкви, называется он „Запечатать“, то есть землю взять в храме и рассыпать на могиле (ну знаешь же на чьей…) в форме креста. Поминайте меня. Есть такой поминальный день. Нужно узнать, когда он бывает.
И ещё. На это всё специальные средства, мы с тобой оговаривали. А деньги для Александра в татарском шкафчике, ключ от которого, я уверена, он никогда не забудет. Это моя воля, только ему и только на музыку».
Неверующие родители всё сделали, кроме мелкой могилы: по санитарным нормам это запрещено, странно, бабушка была медиком, она должна была это знать. А я всё ждал, когда придут музыканты сыграть на бабушкиных похоронах. Везде звучала музыка, я её слышал. Слышал ровно до тех пор, пока мама не сказала:
– Нет никаких музыкантов! – нервно вскидывая кисти, воскликнула она. – Не-ет! И не было никогда, была шизофрения…
Как нет? Ведь я же их…
А ведь я их, правда, никогда не видел.
Тогда до меня дошло. Бабушке всегда хотелось петь, как служить – единственному, высочайшему слушателю. И музыканты будто были за нею, только их вырезали. Ножницы судьбы.
Удивительно короткий гроб. Лицо её с нарумяненными щёчками в траурных кружавчиках. Странное, словно бы притворное выражение его поразило меня. Я присмотрелся и услышал музыку.
А ключик нашёлся легко. Тайное это место знали только мы с ней.

Кума-Кума | Иван Гобзев
– Послушай, да хватит уже вести себя как маленькая девочка! Ты – не маленькая девочка!
– Почему это?
– Да потому что тебе сто пятьдесят два года!
– Ну и что? Ты хочешь сказать, я выгляжу на свой возраст?! А сам-то – старик, выглядишь на сорок пять!!!
Она обиделась. Схватила сумочку, выскочила и хлопнула дверью.
Ивану Андреевичу и правда было немало – сто восемьдесят пять, только сегодня исполнилось, и он годился ей в отцы. Да и выглядела она на двадцать.
Но сегодня был его день рождения, а она, придя, спросила:
– Что ты мне подаришь?
– Ужин в ресторане? – предложил он.
– Опять?!
– Но… Послушай, милая, сегодня же мой день рождения…
– Что?! Вот как? То есть, ты сейчас попрекаешь меня своим днём рождения? Эгоист!
И вот тогда она упала в кресло и принялась изображать рыдания. А он ей про маленькую девочку… Зря он это, конечно, – в нашем мире к людям надо быть снисходительнее, особенно к тем, кто перевалил за сотню. Потому что, хоть мы и научились жить вечно, мозг-то всё равно стареет быстрее, чем восстанавливается…
Она ушла.
И к счастью!
Потому что Иван Андреевич решил: с него хватит.
Хватит каждодневного лубезяро торопо и хуземяки лапору!
Сегодня, когда объявили обеденный перерыв, он, поднимаясь из-за стола, вдруг замер. Замер на месте в такой вот полувставшей позе и схватился за голову. Нет, у него ничего не заболело, он просто неожиданно осознал всю трагичность сложившегося положения.
Вот уже сто пятьдесят лет пять дней в неделю он ходит в этот офис и делает лубезяро торопо. Ровно в девять приходит, ровно в пять уходит, перерыв на обед с двух до трёх, часто – дедлайны, когда надо работать сверхурочно и даже в выходные. А по выходным давно опостылевшие развлечения…
И всё одно: лубезяро торопо, лубезяро торопо, лубезяро торопо. Однажды, впрочем, начальство пошло ему навстречу и предложило заняться хуземякой лапору. В итоге, он стал заниматься и тем, и тем и перестал видеть разницу. Да, он на хорошей должности, у него отличная зарплата, его любят и уважают, у него самая красивая девушка в Солнечной системе. Но камон! В сто восемьдесят пять у него нет семьи и даже постоянного дома! Он как вечный подросток… Всё ждёт чего-то и ждёт. А ничего и не происходит!
И что дальше? Тысячелетия? Вечность?
Он похолодел от ужаса. В чём смысл? Зачем? Разве для этого рождён человек? Это же какой самообман – иллюзия жизни! Жить, чтобы зарабатывать деньги для того, чтобы дальше жить, чтобы зарабатывать деньги для того, чтобы дальше жить, чтобы…
– Иван Андреевич! С вами всё хорошо? – его размышления прервала начальница отдела по корпоративным связям.
– Да-да, Марина, всё хорошо…
Ей было всего шестьдесят три, но выглядела она по моде – на двадцать. Хотя сейчас среди прогрессивной части общества популярна другая тенденция – выглядеть на свой возраст. Потому что это естественно. Иван Андреевич был отчасти согласен с этим: сам он выглядел на сорок с чем-то – быть юношей в своём возрасте казалось ему странным. Его начальник, Семён Иолактович, считал иначе и ходил в теле шестнадцатилетнего, хотя по слухам ему перевалило за четыреста.
Марина придерживалась средневековых взглядов, то есть изо всех сил хотела нравиться своей внешней, физиологической стороной.
– Иван Андреевич, от лица коллектива я хочу поздравить вас с юбилеем! Ура! Ура! Ура! Вам подарок! Вот!
Она протянула ему пакет.
В пакете был термос для чая с логотипом фирмы и подарочная карта магазина одежды номиналом в три тысячи.
Ивану Андреевичу стало грустно. Он сел на край стола и почесал бороду. Нет, он не рассчитывал получить в подарок новый самолёт или виллу у моря. Но этот трёхкопеечный термос? И карта, на которую он сможет купить себе разве что один ботинок в том магазине?..
Он задумчиво посмотрел в большое окно: там бесшумно взлетали корабли, распугивая чаек, и, перечеркнув небо белой росписью, исчезали в вышине за что-то скрывающими облаками. Они отправлялись в другие миры.
– Спасибо, Марина. А Семён Иолактович на месте? – спросил он, улыбнувшись ей.
– Да, – улыбнулась она в ответ. – Вам нравится?
– Очень.
Он поднялся, прошёл к кабинету Семёна Иолактовича и открыл дверь.
* * *
– Заходи, Иван! С днём рождения, кстати!
Семён Иолактович сидел в кресле: юный и немыслимо красивый. Впрочем, эта внешность мало кого могла обмануть – жесты, мимика, глаза Семёна Иолактовича выдавали в нём человека, привыкшего повелевать. Ещё бы: вот уже две сотни лет он руководил одной из крупнейших корпораций в мире в сфере шулепяки туру и протолебехозо. Говорят, что начинал он с самого дна, что был бедным индийским мальчиком, собиравшим мусор в Ганге. Потом он был послушником, затем монахом на Шри-Ланке и дошёл якобы до того, что медитируя вспомнил все свои предыдущие жизни. В конце концов он перебрался сюда и открыл своё дело.
– Семён, я решил уволиться, – с порога сказал Иван Андреевич.
Начальник удивлённо посмотрел на него.
– Вот ты меня сейчас поймал врасплох. Это чего вдруг? Конкуренты переманили? Проблема в деньгах? Ты же знаешь, это обсуждаемо, если в разумных пределах.
– Нет, ничего из этого.
– А в чём же дело?
– Я просто больше не хочу делать лубезяро торопо. Это… Извини, это идиотизм какой-то! Я всю жизнь занимаюсь этим и даже не понимаю, что это такое!
– Не горячись, Иван. Не хочешь – не делай! Тебя никто не заставляет. Займись фулоло хололотротолепе, например. Там непочатый край…
– Да это то же самое! Я больше не хочу!
– Ты говоришь, как маленький.
– По сравнению с тобой я и есть маленький. Тебе сколько?
Семён Иолактович повертел пальцами в воздухе:
– Я не люблю говорить о своём возрасте. Но планирую прожить ещё не меньше. Чего не скажешь о тебе. Ты ведь понимаешь, что, уйдя, ты не сможешь оплачивать медстраховку?
Да, Иван Андреевич это понимал. Поддерживать себя молодым и здоровым после ста стоит приличных денег.
– И всё же я решил, – твёрдо сказал он.
Семён Иолактович покачал головой.
– Дело твоё! Незаменимых, как ты знаешь, не бывает. Хотя, я думаю, это эгоистично с твоей стороны!
* * *
Иван Андреевич понял его намёк – самая красивая девушка в Солнечной системе требовала вложений. Потому что в сто пятьдесят два оставаться такой довольно сложно. Но он не сомневался, что она найдёт себе другого.
И Иван Андреевич улетел на Кума-Кума, планету земного типа в созвездии Стрельца.
Летел с пересадкой на Плутоне, потому что Плутон – транзитная зона, где проверяют документы и груз. Даже если груза особо и нет, как в случае Ивана Андреевича, всё равно проверяют долго.
О Кума-Кума ходят легенды. Райский островок во вселенной, единственная кроме Земли полностью пригодная для жизни планета в нашей галактике. Кума-Кума покрыта лесами, реками и морями, там исключительная экология и никакой вредной промышленности. Люди там живут в специальных автономных зонах и только тем и занимаются, что исследуют новые уголки планеты.
Разумных обитателей на Кума-Кума нет, но живые существа есть. Они настроены к человеку исключительно дружелюбно, не боятся его, да и люди никого не обижают. В тамошних лесах растут поющие деревья, и те, кто слушает их, впадают в безвременное блаженство.
Словом – настоящий рай.
И Иван Андреевич понял, что хочет провести остаток жизни в лесах, лугах и горах Кума-Кума. Ему хватит на это средств, хотя и придётся отказаться от части медстраховки с услугами по омоложению. И отлично, его это не пугало. Людям не нужна вечность – за вечность даже рай станет постылым. Всё, что угодно, превратится в подобие лубезяро торопо, если дать тебе на это целую вечность. Ценностью обладает только временное, преходящее, то, что можно и страшно потерять.
Поэтому каждый день на Кума-Кума в его сто восемьдесят пять, когда он станет дряхлеть буквально по часам, стремясь к своему естественному состоянию, будет для него полным смысла и жизни. Каждый день, ускользая, станет последним. И каждое новое утро станет бесценным подарком.
Он проведёт последние годы (или месяцы) в гармонии с природой, то есть так, как и должен жить человек. Да и кто знает, не даст ли ему созерцание поющих лесов новое, духовное бессмертие?
Сидя на Плутоне в очереди на проверку, Иван Андреевич перечитал все информационные материалы о Кума-Кума и понял, что потерял слишком много времени. Он должен быть отправиться туда ещё лет сто назад. Но лучше поздно, чем никогда.
* * *
Плутон не только транзитная зона, но и место обитания всяких отбросов общества. Тут и тюрьмы, и поселение для тех, кто из них освободился. Местные жители работают в шахтах по добыче камня и льда, которые никому не нужны. Некоторые вылетают на другие объекты пояса Койпера за более ценными ресурсами и билетом прочь отсюда, но, понятное дело, не многие возвращаются.
Плутон – серый и невзрачный мир, единственное место в Солнечной системе, где почти всё население до сих пор занимается физическим трудом. Притом цены здесь выше, чем на Земле, и приходится платить за довольно необычные вещи. Так, воздух с высоким содержанием кислорода здесь платный, а нет денег – дыши азотом. То же и с водой: хотя она добывается здесь же, производство стоит дорого, поэтому очищенная вода не для всех. Нет денег – соси метановый лёд.
Глядя в окно офиса транзитной зоны, Иван Андреевич обозревал этот мир и поражался тому, как в нём выживают люди. И ведь есть тут даже поэты, которые воспевали холодные ночи и тёмные дни Плутона.
– Долго ещё ждать? – спросил он начальника транзитной зоны.
– Может час, а может неделю, – недружелюбно ответил тот. – Как документы и груз проверят. Тут есть отель неподалёку. Идите, отдыхайте, посмотрите достопримечательности. Вам сообщат, как будет готово.
Иван Андреевич понимал его неприязнь. Местные не любят землян. Они считают, что земляне настоящей жизни не нюхали.
* * *
Иван Андреевич вышел и сразу прикрыл нос и рот ладонью – воздух был ужасный. Как этим можно дышать? Он хотел вернуться – купить баллон с маской, но до отеля в самом деле было недалеко, перейти площадь и всё. Да и не обязан ли он теперь потерпеть, как терпят миллионы людей, живущих здесь, – сейчас, когда он начал новую жизнь?
И он пошёл, задыхаясь и хватаясь за горло, вытирая слезящиеся глаза и часто останавливаясь. Он знал, что нужно привыкнуть, если ты тут не родился.
– Не подскажете, который час?
К нему подошли двое. Иван Андреевич заподозрил неладное, но всё же вскинул руку, чтобы посмотреть. Его толкнули в спину, он упал на землю и пока пытался подняться, чужие руки шарили по его карманам. Сопротивляться, тем более убегать не было сил – все уходили на то, чтобы просто дышать.
Когда он поднялся, грабители исчезли. У него забрали всё: деньги, часы, телефон и даже куртку с ботинками. В отель идти смысла не было. К тому же, он только сейчас заметил, что огни в отеле не горят, стёкла разбиты, а на заржавевших рольставнях в дверном проёме написаны оскорбительные слова в адрес жителей Земли.
Иван Андреевич пошёл обратно, в транзитную зону.
– Меня ограбили. Что мне делать? – сказал он начальнику транзитной зоны.
Тот не скрывал радости.
– Обратитесь в полицию, – улыбнулся он.
– Можете вызвать сюда?
– Не могу.
– Хорошо. Я могу взять у вас воздух и воду, а потом оплатить?
– Нет.
– А мои документы?
– Они отправились на проверку.
Иван Андреевич как был – босиком и в майке – снова вышел на улицу. Плутон смотрел на него сумеречно и враждебно.
* * *
До отделения Иван Андреевич добрался почти уже на четвереньках, не в силах идти из-за сильной одышки и кашля. Он написал заявление и спросил, что ему делать дальше. В ответ посоветовали устроиться на работу, чтобы прожить, пока не будут готовы документы, и выставили на улицу.
Иван Андреевич, опираясь на стены попадающихся на пути домов, пошёл по указанному адресу. Там находился Центр занятости имени Джерарда Петера Койпера. Ещё издали он заметил длинную очередь – местные стояли в ожидании работы.
Он занял место и сел прямо на каменные плиты, как и многие здесь. Виды вокруг были унылые и малообещающие, да и сам Центр занятости выглядел так, будто его бомбили.
Единственное, что утешало: он понемногу привыкал к местному воздуху. Правда, на коже началось какое-то раздражение, но он старался не обращать внимания.
На следующий день в обед подошла его очередь.
– В какой области вы специалист? – спросила его женщина за стеклом. – Не приближайтесь! – повысила она голос, когда Иван Андреевич из-за слабости попытался облокотиться на выступ под окошком.
Он отстранился и ответил:
– По части лубезяро торопо.
– Что?! – спросила она.
– Лубезяро торопо. Сто пятьдесят лет этим занимаюсь уже.
– Это что такое? Впервые слышу! Мань?! – позвала она кого-то. – Ты знаешь, что такое лубезяка торо… Как?!
– Лубезяро торопо, – повторил он.
– Мань, лубезяро торопо!
Ей что-то ответили, и она рассмеялась. Смеялась ещё довольно долго, а потом сказала:
– У нас такого нет. Что вы ещё умеете?
– Ну… Шулепякой фуру владею. Протолебехолосо. Разбираюсь неплохо в хуземяке лапору.
Женщина пристально на него посмотрела.
– Ты пьяный что ли? Или ещё под чем?
* * *
Через какое-то время… Какое время? Сложно сказать: он потерял ему счёт. Может, прошли недели, а может, и месяцы – до того всё было однообразно. В общем, через какое-то время он обнаружил себя лежащим в канаве со стоками из промышленного района.
До этого он сидел, прислонившись к стене дома в переулке за углом столовой – у самой столовой он сидеть не мог: там уже было занято. Он сидел в надежде, что ему подадут на пропитание, и хотя шансов, что на Плутоне подадут, было ноль – ему всё же подавали, как и другим таким же. Подавали редко, как правило, объедки, но этого хватало, чтобы выжить.
Иногда в минуты просветления Иван Андреевич думал о том, что в принципе его жизнь теперь мало чем отличается от жизни отшельников на Кума-Кума. А на Земле шраманы и брахманы вели такую жизнь тысячелетиями.
И всё же было в этом что-то не то. Не то заключалось в том, что они творили своё подвижничество не на Плутоне. Как бы они справились здесь, в этой холодной ядовитой атмосфере, в каменных джунглях и вечных сумерках?
И вот он очнулся в канаве. Вероятно, он сел слишком близко к столовой, и его убрали конкуренты. Или сочли, что он умер, и поэтому выбросили.
Выбравшись из канавы, он впервые за долгое время увидел в её мутной воде своё отражение. Одряхлел он порядком. Ещё бы: без инъекций человек быстро возвращается в своё актуальное состояние. И чем дальше, тем быстрее. Если сейчас он выглядел уже на девяносто, то через месяц будет на все сто пятьдесят.
В общем, он вылез из канавы, попил из неё же воды и побрёл обратно, в свой переулок за угол столовой.
* * *
Поначалу он пытался найти работу, но шансы были только на самую тяжёлую, где требовалась физическая сила и молодость. О шахте не могло быть и речи, а всё попроще оказалось нарасхват. К тому же, он стал терять зрение и слух – то ли по чисто возрастным причинам, то ли из-за токсичной среды.
Пару раз он наведывался в транзитный центр. В первый ему сказали, что его документы где-то потерялись и их ищут, а во второй – что впервые видят, и если он ещё раз к ним заявится, вызовут охрану.
Друзей Иван Андреевич не завёл. В основном, по причине того, что не владел плутонским диалектом.
Иногда бродягам с площади удавалось раздобыть жидкость для промывки двигателей кораблей – в ней содержался спирт. Похоже, это и было основной целью их существования – раздобыть сию жидкость. Если Иван Андреевич пытался заняться медитацией (безуспешно), то те жили от одной возможности выпить до другой.
В дни, когда жидкость удавалось купить, настроение у бродяг сильно поднималось уже на стадии предвкушения: они собирались в кружок, разливали в железные кружки напиток, шутили и хрипло смеялись. После выпивали, меняли цвет с синего на зелёный и обратно, закуривали самокрутки с навозом Центромидона – местной модификации земной крысы, – и лица их расплывались в блаженстве.
Им становилось хорошо. Затем они оживлялись, спорили о чём-то, ругались, а потом плакали, глядя на звёзды.
Кончалось всё тем, что они падали на дорогу и засыпали. Просыпались утром не все.
* * *
Со временем Иван Андреевич стал понимать местную речь.
– Старый, будешь водяру?
Так они называли свой алкогольный напиток.
– Нет, спасибо, – отвечал он. Однажды он попробовал и чуть не умер.
– Смотрите, – смеялись они, – он сказал «спасибо»!
Или:
– Вау, старый опять пошёл к урне!
Дело в том, что Иван Андреевич всегда выбрасывал ненужные вещи не рядом с собой, как все, а в мусорный контейнер. И ещё он время от времени стирал в канаве свою одежду. Не сказать, чтобы она становилась чище, но хотя бы немного свежее.
Поначалу бродяги издевались над ним и кидались всякими отходами, пока главный среди них, одноногий бывший спецназовец с женским именем Церера, не стал делать то же самое – убирать за собой. А потом и другие подтянулись. И в какой-то момент, непонятно, когда именно, Иван Андреевич вдруг стал у этого сброда пользоваться уважением.
* * *
Однажды Иван Андреевич лежал на земле в закоулке за столовой и смотрел на свою длинную жёлтую бороду, распластанную по каменной плите. Сидеть он почти уже не мог, поэтому лежал. Он смотрел и думал, что вот, кстати, в чём одна из особенностей Плутона – здесь нет насекомых. И вообще никакой жизни, кроме людей и центромидонов. Что неудивительно: Плутон непригоден для жизни.
– Хей, старик, – услышал он бодрый голос. – Ты живой?
Иван Андреевич пошевелил пальцами.
– Сброд на площади говорит, что ты когда-то занимался лубезяро торопо?
– Было дело, – прохрипел Иван Андреевич.
– Вот это удача! Нам срочно нужен такой человек! Ты не поверишь: на всём Плутоне не нашли никого, кто знал бы, что это такое… А с Земли выписывать – это…
Человек выругался по-местному.
– Взяли, понесли, – сказал второй голос.
Они схватили Ивана Андреевича – один за ноги, другой подмышками – и куда-то быстро потащили.
– Эй, смотрите! – закричали бродяги у столовой. – Старика тащат! Откинулся, видать.
– Вечная память! Снимите шапки!
– Прощай, дед!
Иван Андреевич хотел возразить, но не смог.
Его принесли в помещение с хорошо одетыми людьми и яркими экранами.
– Есть-пить хочешь?
Он кивнул.
– Ну смотри, старый, если дуришь нас, пожалеешь! Давай-ка, скажи, что тут написано?
Его ткнули носом в монитор. Он стал читать:
– Фулоло хололотротолепе, фолопяказо…
Эти слова зазвучали для него давно забытой музыкой, срывая пелену с памяти, и перед его взором вдруг вспыхнули картины прежней, совершенно другой жизни – на Земле. На глаза навернулись слёзы, и он остановился.
– Ты понимаешь, что это значит? – спросили его.
Он кивнул. Хотя это было неправдой, он не понимал. Но он знал, что с этим делать.
– Продолжай!
– Шулепяка фуру… Лубязяро торопо.
* * *
За несколько дней, благодаря омолаживающим инъекциям, хорошему питанию и сну в нормальных условиях Иван Андреевич вполне поправился.
По удивительному стечению обстоятельств вышло так, что база на Плутоне заключила договор с компанией, в которой когда-то работал Иван Андреевич. И по ещё более удивительному стечению обстоятельств запрос касался именно его специализации. Пожалуй, во всей Солнечной системе не было ни одного человека, который мог бы справиться с задачей лучше, чем он!
Три недели с утра до позднего вечера он не выходил из офиса, сидя перед экраном. За это время вдруг нашлись его документы, и он заработал приличные деньги, которых вполне хватало на то, чтобы продолжить путешествие. Больше его здесь ничего не держало.
– Ну что? – спросил начальник транзитной зоны. – Дальше, на Кума-Кума?
– Нет. Я возвращаюсь на Землю.
* * *
Перед вылетом он посетил площадь перед Центром занятости. Там всё было по-прежнему: те же люди сидели и лежали на своих местах. Кто-то исчез, кто-то появился новый, но в целом тот же контингент.
Он принёс им деньги, довольно много денег. Конечно, он знал, на что они их потратят – на жидкость для промывки двигателей кораблей. Но предложи он им сделать с этими деньгами что-нибудь другое, они бы его не поняли. А возможно, и побили бы.
– Держи, – протянул он свёрток Церере. – Это на всех. А я улетаю.
– Старый, это ты что ли? – прохрипел тот со смехом. – Тебя не узнать!
Они постояли молча, глядя на звёздное небо.
– Ну что, рады за тебя! Бывай, – Церера крепко хлопнул его по плечу.
Тут и другие подошли прощаться. Говорили, чтобы помнил Плутон. Иван Андреевич обещал, что не забудет.
Когда он со всеми попрощался и пошёл по площади к космопорту, его догнал Церера.
– Такое дело… Это мы тебя тогда грабанули. Ты не обижайся, ладно?
– Что было, то было.
– Вот, собрали в дорогу, – Церера протянул ему коробку с сушёными фекалиями Центромидона и обёрточной бумагой. – Покуришь.
Это было кстати – за время, проведённое на Плутоне, Иван Андреевич пристрастился к курению.
* * *
– Привет, Иван! – Семён Иолактович встал и пожал ему руку. – Рад, что ты вернулся. Твоя ставка как раз свободна.
Он помолодел ещё на пару лет.
– Неужели никого не нашёл за такое время? – удивился Иван Андреевич.
– Нашёл. Но сотрудник не стойкий оказался – быстро наступило профессиональное выгорание. Кстати, как тебе на Плутоне? Что на Кума-Кума не долетел?
Иван Андреевич посмотрел в глаза начальнику, но подвоха не заметил.
– На Плутоне нормально, – ответил он. – Завёл определённые связи.
– Понятно… Слушай, а чем это от тебя пахнет? – Семён Иолактович покрутил пальцами в воздухе.
– Да это… Это так. Привычку приобрёл дурную.
– Мда… Я тоже был на Плутоне… Долго. Лет тридцать.
– Да?! Что ты там делал?
– Занимался самосозерцанием. Впрочем, давно это было. Даже не уверен, что в этой жизни, а не в какой-нибудь другой… Ладно. Когда приступить сможешь?
– Хоть сейчас.
– Ну, сейчас не надо… Давай, отдохни месяцок. Думаю, тебе нужно!
– Окей. Я тогда пошёл?
– Иди.
Иван Андреевич направился к двери.
– А, вот ещё, кстати, – вдогонку сказал Семён Иолактович. – Хочу тебя повысить. Будешь моим замом?
* * *
– Ты называл меня старухой!
– Нет, не было этого.
– Было!
– Нет!
– Да!
– Ну извини.
– Ага! Ты значит сознаёшься, что считаешь меня старухой?
Она упала перед ним на ковёр и стала рыдать. Он молчал.
– Ты что так глубоко вздыхаешь? – всхлипывая, спросила она.
– Всё в порядке.
– Нет, как-то подозрительно ты сейчас вздохнул! Думаешь, я долбанутая? Знаешь, через что я прошла, пока тебя не было?
– Не знаю… Слушай, а выходи за меня замуж?
– А жить на что?
– Меня взяли обратно на работу.
– Лубезяро торопо?
– А куда ещё?
– Ясно. – Она поднялась и вытерла глаза тыльной стороной ладони. – Будешь кофе?
Лариса | Анна Пашкова
* * *
Лариса спала плохо и беспокойно – да и назовёшь ли это сном? На маленькой тахте, накрытой то ли простынёй, то ли тонкой тряпицей, женщина полусидела-полулежала на подушках в предчувствии, что скоро придётся открыть глаза. Первым просыпался маленький Антошка.
«Баба», – звал он сначала тихо, потом требовательно. Лариса поднималась, пытаясь нащупать тапки в темноте, находила одну и хромала до деревянной кроватки, вынимала внука, прижимала его, полусонного, тёплого и тяжёлого, к груди. Она любила эти минуты. Весь дом ещё спал. В соседней комнате нервно ворочался муж. Он работал допоздна, утром уходил в университет читать лекции. Муж злился, когда его отвлекали. Заглядывая в его комнату, Лариса отмечала, что он всё ещё красив. Высокий, седой, он нравился всем, даже своим студенткам. В нём были именно те благородство и красота дореволюционного учителя, о которых Лариса читала в книгах. Давно, когда сама была его студенткой. О красоте мужа она думала с гордостью. Лариса подходила с Антошкой к длинному зеркалу в коридоре. «Купить бы новый халат», – она разглядывала с ног до головы усталую женщину, которую иногда даже не узнавала. Лариса была младше мужа на восемнадцать лет. Выглядели они ровесниками.
Пасынок Митенька вставал позже всех. Молча завтракал, отвозил жену на работу. Ольга иногда помогала Ларисе, но чаще была недовольна её работой. Антошка не слушался, капризничал, бабушка его баловала и совсем не воспитывала. Лариса не знала, как это делать: её саму воспитывал муж с тех пор, как она появилась в этой квартире с высокими потолками, через год после смерти Митиной мамы – мальчику тогда было два года. Она чувствовала себя вторым ребёнком – и не всегда старшим. В детстве Митя её любил и даже звал играть на равных. С отцом он ничем не делился, и Лариса гордилась тем, что у них есть общие тайны.
Когда Мите было восемь лет, она подобрала крошечного таксика. «Малыш, – подумала Лариса, – я назову его так». Малышу кто-то связал жилетку и вывел в ней на мороз. Щенок увязался за Ларисой и бежал, высунув язык, до самого дома. «Что с тобой делать? – вздохнула она и подняла его на руки. Лариса знала, что Миша будет против, и всё-таки храбрилась. – Кто я тут? Гостья или полноправная хозяйка? Я живу в этом доме шесть лет. Митя обрадуется…».
Митя обрадовался. Размечтался, как будет гулять с Малышом на поводке, возьмёт его летом на дачу. «Можно он будет спать со мной?» – попросил сын. Лариса, поколебавшись, ответила, что лучше бы устроить щенка на подстилке в коридоре. Она тоже воображала радостные картины летних прогулок с Митей и Малышом. «Завтра надо будет свозить его к ветеринару, купить ошейник», – решила Лариса.
Миша вернулся вечером, Малыш прибежал к порогу встречать. Он успел освоиться в новом доме и радостно носился за Митей, оглашая весь дом хриплым лаем.
– Что это? – спросил Миша.
Лариса вдруг почувствовала, что снова сидит у него на экзамене.
– Мы с Митей подобрали собачку, Малыш совсем замёрз, – улыбнулась она, зачем-то записав к себе в сообщники Митеньку.
– Чтобы завтра его тут не было. Никаких собак в моём доме.
Митя плакал всю ночь. Лариса лежала рядом, Малыш свернулся у них в ногах.
– Мы его отвезём в приют, к другим собачкам, ему там будет хорошо! Тут у него нет друзей… – она сама не верила своему радостному голосу. – А хочешь, завтра не пойдём в школу?
На следующий день Митя не пошёл в школу. Малыш был в той же жилеточке, Лариса прижимала его к себе, укрывая от холода шарфом. Щенок уткнулся тёплым носом ей в шею, лизнул её и тихонько забил хвостом.
Они ехали на метро через весь город. За железными воротами стоял ряд вольеров, из каждого блестели несколько пар чёрных глаз. Железные миски ещё не остыли от овсяной каши, которую разносил собакам на завтрак мальчик чуть старше Мити. Когда дверь вольера закрылась, Малыш завыл. Они слышали его вой до самой автобусной остановки. В тот день Митя съел свой первый гамбургер и выпил первую газировку. Они не сказали об этом папе.
* * *
Так на общих секретах зародилась их дружба, они копились один за другим. Отец не знал про Митин первый поцелуй и первую сигарету, и что сын не собирался после школы учиться на врача. Даже Олю Митя привёл знакомиться с родителями, когда отца не было дома. Случайно или нарочно.
Чем больше Лариса сближалась с Митей, тем сильнее отдалялась от Миши, словно ничего у них не было. Ни прогулок по университетскому парку. Ни того дождя, когда рассеянный красивый профессор отдал ей свой пиджак, как будто не заметив, что она в плаще и дождевике, а у него только тонкая рубашка.
Лариса не знала, разочарован ли он, что у них так и не появилось общих детей или, наоборот, рад, что Мите досталась вся её любовь? Благодарен ли ей, что она не стала защищать кандидатскую, чтобы не получить хорошую должность в их университете? Догадывался ли, что работу она всё-таки дописала и убрала в стол, потому что видела, как Миша нахмурился, когда читал первые страницы? Это значило, что ему понравилось – а тех, кто ему нравился, он никогда не любил…
Она завидовала невестке. Оля сразу всё переставила в их с Митей комнате – Ларисе не разрешалось даже переклеить обои или повесить картину. Оля затеяла ремонт и на общей территории: поменяла плитку в ванной, сделала перестановку на кухне. «Ребёнку тут негде будет бегать», – сказала Оля, и Миша согласно закивал, хотя Митя бегал на той же кухне.
Решение о том, что с Антошкой будет сидеть именно Лариса, приняли негласно. Оля заявила, что с осени выходит на работу. Митя и Миша промолчали.
И муж, и сын, и невестка были высокими, черноволосыми, с аристократичными тонкими чертами лица. Белокурый, с пухлыми румяными щёчками и ручками в перетяжках Антошка больше напоминал Ларису на детских фотографиях. Он словно был её, Ларисиным, ребёнком.
– Признавайся, ты бабушкин! Ба-буш-кин! – шутила она.
И Антоша заливался смехом, тянул к ней ручки, обвивал её шею и осыпал поцелуями. Ольга была права: бабушка его баловала, но иначе она не могла.
Единственным Ларисиным увлечением были походы к врачам. Миша называл это «турне». У Ларисы болело то справа, то слева. Или даже не болело, а покалывало. Порой она натыкалась на медицинскую статью в журнале и находила у себя все симптомы. Лариса и сама уже не могла понять, где у неё болит, поэтому привыкла ориентироваться на мнение Миши.
– Миша, если колет где-то в районе лопатки, стоит сходить к врачу? Или, может, просто неудобный стул?
– Сходи к врачу, – советовал Миша, не отрываясь от газеты.
Тогда она шла в маленькую частную клинику у дома. Администратор её уже знала, Лариса боялась, как «ту сумасшедшую старуху». Встречали её всегда приветливо, но разговаривали, как с маленькой: «Сейчас мы нашу Ларису Николаевну проводим к Алексею Евгеньевичу, и Алексей Евгеньевич скажет, что попить…»
Лариса стыдилась признаться себе, что её подкупали настойчивая забота, ласковые голоса, добрые руки, которые брали её и сами вели, а не требовали, чтобы она вдруг выросла и шла, принимая самостоятельные решения и совершая какие-то поступки.
Да, ей нравилась эта доброта, она платила за неё, тем более что даром никто с ней приветлив не был. С мстительной решимостью Лариса искала очередной повод обратиться за помощью. У неё чесалась рука и ныло в плече, слезились глаза и стучало в висках. Ей хотелось крикнуть за ужином: «Вам всем всё равно, но есть те, кому не плевать! Я буду ходить к ним снова и снова. Смейтесь сколько влезет, я всё равно пойду».
Вскоре кто-то начинал беспокоиться по-настоящему, и ей становилось стыдно. Особенно тяжело это воспринимал Антошка.
– Баба, ты болеешь?
– Ну что ты, милый! Просто бабушка уже старенькая.
– Старенькая, да удаленькая! – цедила Ольга.
* * *
С Антошкой они ходили гулять в лес. Лариса уставала, потому что полдороги несла его на руках. Он часто останавливался, рассматривал камушки и листочки. Она вспоминала, что Митя тоже любил остановиться и поговорить с муравьями. Лариса даже хотела купить ему муравьиную ферму, но Миша не разрешил.
– Не плачь, муравьишка! – приговаривал маленький Митя. – Ты вырастешь, и у тебя будет колечко. Ты подаришь его невесте, у вас будет свадьба…
Он помнил свадьбу папы с Ларисой. Праздновали скромно: Миша позвал только своих друзей, её друзей пригласить было неловко, ведь они тоже были его студентами. Мама Ларисы, хоть тогда и была ещё жива, не поехала. Слишком долго и далеко, к тому же Миша не слишком её уговаривал. Митю оставили дома с няней, он плакал и просился со всеми. Митя только проснулся и стоял босичком в коридоре, без штанишек, когда все уезжали. С горшком в руках.
– Возьмём его, Миша? – попросила Лариса.
Миша пожал плечами:
– Ему и надеть нечего. Будет капризничать.
И Митя остался дома. После свадьбы Миша представил Ларису уже официально: «Теперь это – твоя мама», – но Митя звал её Лариса, как папа, хотя родную маму не помнил. По неопытности, стараясь понравиться Мите, Лариса однажды купила ему большое ведёрко мороженого. И Митя слёг! Он никогда не болел так сильно, даже Миша заволновался, накричал на Ларису.
Митя лежал с грелкой на лбу. Перед глазами у него всё плыло. Лариса стояла, вжав голову в плечи, и нервно ковыряла заусенцы на ногтях.
– Ты теперь должна заботиться о ребёнке, а не валяться с книжками. Если хотела учиться – надо было учиться, а не прыгать в постель!
Митя не понимал, почему нельзя прыгать в постель, если там так тепло и мягко. Он хотел позвать Ларису, но болело горло, а имя было слишком сложным. И, когда папа ушёл, он прохрипел: «Мама… мама».
Лариса вздрогнула. Она не сразу поняла, что обращаются к ней. Лариса подошла к мальчику и погладила его по голове, поцеловала лоб, чтобы проверить температуру.
– Я никогда раньше не ел мороженое, мама, – тихо сказал Митя.
Он часто защищал Ларису от отца. Миша всё больше отдалялся от них, уходил в комнату, хлопнув дверью, зарывался в свои дела, важные и большие. Совсем не такие, какие были у Мити с мамой.
Папа писал научную работу, а они гуляли по лесу и смотрели на муравьёв. Лариса однажды поймала ему большого жука-бронзовку, и тот целую неделю жил в коробочке! Митя старался не болеть, чтобы не подводить маму, и сильно волновался, если всё-таки заболевал. Если папа приходил, а он лежал в постели, Митя первым делом старался убедить его: «Я сам! Я прыгал по лужам, и сапоги протекли».
– А я давно говорил тебе купить ему новые сапоги, – замечал муж Ларисе.
* * *
Теперь она гуляла с Антошкой, Митиным сыном, но то и дело останавливалась, потому что у неё кололо в боку. Она шла с трудом и присаживалась отдохнуть каждые пять минут. Антошка ждал любимую «бабу».
– Расскажи ещё про муравьёв! – умолял он.
И Лариса придумывала невероятные истории о муравьиных царствах, о колониях-захватчиках и муравьиных принцессах. Она вспоминала, что когда-то хорошо писала и преподавательница по русской литературе просила её не бросать учёбу, но Лариса думала об этом без сожаления. Эти события казались ей такими же невероятными и далёкими, как муравьиные войны, о которых ей приходилось рассказывать Антошке.
В тот вечер они вернулись позже обычного. Ольга уже разогревала ужин, который Лариса приготовила перед прогулкой. Они сели за стол, Митя рассеянно потрепал по голове сына, Антошка принялся болтать о том, как много интересного они с бабой видели в лесу.
– Ничего, скоро у тебя будет ещё больше интересного. Мы переедем в большой город. Ты хочешь жить в большом городе? Где есть зоопарк и огромные машины?
– Да, да! – обрадовался Антошка.
– Митю приглашают работать в Петербург, – Ольга повернулась к Мише. – Пока вот думаем, нам с Антоном ехать сейчас или с осени – ему в следующем году в детский сад.
– Езжайте сейчас, – сказал Митя. – Что я там буду делать один? Да и мать летом отдохнёт немного, освободится.
– Антошка уезжает? – переспросила Лариса.
Глаза у неё наполнились слезами. Ещё сильнее закололо в боку.
– А баба поедет с нами? – заволновался Антошка.
– Нет, баба останется тут, но мы будем её навещать, и она приедет к нам в гости.
Переговоры шли долго, Лариса унесла Антошку спать. Она особенно крепко прижимала его к себе в тот вечер и баюкала даже после того, как услышала, что дверь в спальню Ольги и Мити хлопнула, а Миша щёлкнул в своей комнате выключателем. Она держала внука, пока перебиралась на тахту и, тревожно оглядываясь, что кто-то заметит, положила рядом с собой, чтобы встать рано утром и перенести обратно в кровать. Ныла левая рука, но Лариса боялась, что Антошка проснётся, и не вытаскивала её из-под него. Перед тем как крепко заснуть, Антошка, как и Митя, смешно дёргал ногой, словно пытался оттолкнуться и выпрыгнуть из сна, но не мог.
Лариса подумала, что утром надо записаться к Алексею Евгеньевичу, потому что ныл сустав. Она вспоминала, как бродила по лесу с маленьким Митей, но уже во сне он почему-то превратился во взрослого Антошку.
– Баба… Баба! – кричал он, как будто заблудился, хотя стоял совсем рядом.
– Ты что, опять спала с Антошкой? Его надо приучать к своей кровати! – нависал над ней во сне Миша.
– Она его и так разбаловала, – возмущалась Ольга.
Митя молчал. Лариса не понимала, как они оказались в лесу, и удивлялась, что не успела переложить Антошку, хотя вставала раньше всех взрослых в доме.
«Надо бы купить новый халат, – подумала она, проваливаясь обратно в сон, – а то поеду в гости к Антошке, а там и ходить не в чем. И поскорее поехать. Может, напроситься на первое время с ними, помогать?»
* * *
Переложить Антошку Лариса действительно не успела. Из комнаты вышли все одновременно – Миша, допоздна работавший над книгой, Ольга и Митя. Рядом с тахтой стоял испуганный Антошка.
– Баба замёрзла, – сказал он и заплакал.

Дуремар | Василий Вялый
Отцом Валерки
был скучноватый, неторопливый человек с соответствующей облику профессией – учитель математики. Его статичная деятельность, в нашем детском понимании, едва ли походила на разумный и созидательный труд, приносящий видимые результаты. С вялой подвижностью, неохотно погружаясь в очередной день, он отправлялся на работу. Слава богу, не в ту школу, где учился Валерка. По вечерам, когда он возвращался с тренировки или от друзей, отец со смиренным достоинством на лице проверял тетради. Озабоченно-отвлечённым взглядом он сопровождал следующего в свою комнату отпрыска и снова погружался в унылую работу. Валерку раздражала профессия отца. Улица, где мальчишка проводил большую часть своего времени, – не то место, чтобы гордиться папой-учителем. Отцы его друзей ходили на футбол, частенько выпивали, после чего иногда дрались в пивной за углом, ездили на рыбалку, а то и просто, сидя за столиком в беседке, играли в домино или шахматы, обсуждали важные мужские темы. У его же отца не было подобных увлечений, и в разговорах он участия не принимал, ибо не знал того, что знать было необходимо: кто стал последним чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе, какой размер бюста у Памелы Андерсон и где живёт Люська-самогонщица.
Кроме того, у отца было странное хобби – он коллекционировал жуков. Папа называл себя энтомологом-любителем и очень этим гордился. Поздней весной, когда заканчивались занятия в школе, он исследовал окрестные пролески, поля, животноводческие фермы, ставя нехитрые ловушки на «жесткокрылых», как по-научному называл жуков. Вечером, уставший и грязный, но невероятно довольный, он извлекал из спичечных коробков различных по размеру и окрасу насекомых: изумрудно-золотистых бронзовок, бархатно-чёрных скарабеев, тёмно-коричневых носорогов. В самые жаркие летние месяцы отец на несколько дней уезжал к Чёрному морю, где лазал по скалам и кустарникам в поисках дубовых усачей и голубоватых, омерзительно пахнущих гигантских жужелиц. Осторожно и бережно, словно сокровище, он извлекал из картонного плена свою добычу и помещал её в банку. Затем бросал в неё смоченную эфиром ватку. Непритворно жалел «жесткокрылых», приговаривая: «Уж простите меня, бедненькие». Виновато смотрел на Валерку, и тому казалось, что в отцовских глазах стояли слёзы. Навеки «уснувших» жуков он нанизывал на булавки и помещал в специальные дощатые коробки, подписывал латинскими буквами, словно эпитафией, каждую свою жертву. Лишь в эти счастливые для него моменты папа становился разговорчивым, охотно поясняя те или иные повадки очередного экземпляра коллекции.
«Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно». Каким-то образом соседи прознали о папином увлечении и за глаза назвали его Дуремаром. «Почему Дуремар? – обижался за отца Валерка и ворчал: – Тот ведь пиявок отлавливал»… Ему было неприятно и в то же время немного жаль папу. Под вечер отец возвращался с «охоты», чему-то улыбаясь, такой сказочно-нелепый, и что-то бормотал себе под нос. Увидев мужиков в беседке, папа на миг приостанавливался, улыбка тотчас сползала с его лица, делая его чуть глуповатым. Отец морщился, словно вспоминал нечто досадное, заметно горбился и норовил незаметно проскочить в подъезд. Валерка надеялся, что отец не слышал обидного прозвища, а если и слышал, то, может, не знал, что это слово относится к нему. С холодной, пустой приветливостью отец здоровался с соседями и, не проронив более ни слова, шёл по своим делам. В выходные дни, по утрам, учитель математики выходил во двор и делал зарядку, чем вбил последний гвоздь в гроб своей репутации нормального человека. Энергичные гимнастические упражнения не очень-то вязались с обликом низкорослого, чуть полноватого мужчины с явно обозначенными залысинами на голове.
– Смотри-ка, Майкин снова мышцы качает, – посмеивалась соседка, втайне завидуя маме, что папа не пьёт и не курит, не волочится за женщинами.
– Лучше бы он что-нибудь другое накачал, – ехидничала другая.
– Позавчера супружница его с работы пришла едва ли не в полночь, – она наклонялась к товарке, нашёптывая ей на ухо. – Видать, не до…бывает Майку учитель.
– Да ты что! – притворно удивлялась первая. – Никогда бы не подумала.
Валерка не особенно понимал суть разговора между соседками, но догадывался, что они обсуждали что-то неприличное, касающееся только его родителей. Он замечал, как играющие в домино мужики, словно по команде, поворачивали головы вслед проходящей маме и восхищённо прищёлкивали языками. Очевидно, им что-то в ней нравилось. Вглядываясь в неё, Валерка хотел понять, что именно, но не мог определить. Мама как мама…
Дома мать постоянно ворчала на отца:
– Есть ли в этом доме хозяин? – и сама себе отвечала: – Есть. Это, скорее всего, я.
Действительно, ей самой приходилось менять перегоревшие лампочки, чинить утюг и замок, красить окна. В общем, пресловутый «гвоздь в доме» всегда забивала она, а не папа. С безразличной бесхозяйственностью отец смотрел на оторванный кусок обоев в прихожей, равнодушно проходил мимо неработающей розетки в спальне, игнорировал неплотно прикрывающуюся дверцу холодильника на кухне. Безусловно, Валерка не мог знать, что столь же безынициативно отец проявлял себя на супружеском ложе и в какой-то степени являлся толстовцем. Семён Юрьевич считал, что для женщины семья и ребёнок есть единственный смысл наполнения жизни, а остальное – распутные вольности, без которых вполне можно обойтись. Лишённая многих оттенков простой бабьей радости Майя придерживалась другого мнения. Иногда ей хотелось почувствовать определённую дерзость мужа, ощутить его распущенность, испытать смелость и разнообразие ласк партнёра, от которых кружится голова. Но что можно было ожидать от мужчины, если он испытывал едва ли не патриархальный страх перед её наготой? И, наверное, краснел от смущения, верша стремительно-скучный супружеский долг.
Тогда она решила стать женщиной-инициатором. Майя прикупила подходящее для таких случаев нижнее бельё и ждала удобного момента для совращения собственного мужа. Небеса оказались благосклонны к Майе – вскоре супругов пригласили на свадьбу. Более удачного стечения обстоятельств не придумаешь. Шампанское, танцы, да и сама атмосфера мероприятия, где витал дух узаконенной физической близости, предполагала если не открытое обольщение, то уж точно решительный флирт. Майя выбрала первое. Она подливала вино практически не пьющему мужу, нежно и страстно прижималась к нему в медленном танце, кокетливо строила глазки. На остальных ухажёров, коих было немало, Майя внимания не обращала. Сидя за столом, она клала руку на ширинку мужниных брюк, шептала крайне непристойные фразы, самой благозвучной из которых являлась:
– Сенечка, я хочу тебя. Поехали домой, – наклоняясь к нему, вожделенно лепетала Майя. – Прямо сейчас.
Семёна Юрьевича невероятно смущало поведение супруги. Безуспешно пытаясь отстраниться от жены, он стыдливо оглядывался по сторонам и бубнил:
– Майя, прекрати, пожалуйста, на нас уже люди смотрят.
«Клеила» благоверного она недолго: после нескольких бокалов шампанского Семёну Юрьевичу стало плохо, и супруги по-английски удалились с торжества. Сына дома не оказалось: Валерка, как всегда, околачивался на улице. Учитель математики долго и мучительно «рычал» в унитаз, затем принял душ и, совершенно обессилевший, направился в спальню. Однако там ждало новое испытание. Его жена, облачённая в вульгарное белье, словно Мессалина, в распутной позе возлежала на кровати. Весь её похотливый вид говорил, что сейчас начнётся сексуальная оргия. Семён Юрьевич не ошибся. Едва он присел на краешек брачного ложе, как супруга набросилась на него, как на добычу. С решительным забвением приличия она погрузила мужа в такую вакханалию, что учителю не могло присниться в самом грешном сне. Такого морального беспредела стены их спальни ещё не видели. Семён Юрьевич пытался сопротивляться, но куда там! Жена похотливой фурией обвивалась вокруг его тела, преподнося всё новые ласки, самые отвратительные из которых он видел начертанными на стенах школьного туалета. Это ошеломляющее открытие – что она себе позволяет! – стало для Семёна Юрьевича потрясающим уроком снижения его супруги. Утром Майя, улыбнувшись, взглянула на мужа, словно спрашивая: «Ну как, понравилось, дорогой?» Но натолкнулась на непривычно колючий прищур тёмно-серых глаз: «Нет, не понравилось. Это было отвратительно», – безмолвно кричали они. Больше таких попыток она не делала. Между супругами возникли какие-то особые, обострённые отношения, хотя внешне всё было пристойно. С работы – Майя трудилась в строительном управлении – после той злополучной «свадебной» ночи, она стала возвращаться позднее, чем обычно, да и командировки участились. Семён Юрьевич делал вид, что задержки жены его мало волнуют, но на душе у учителя было смутно. Валерка чувствовал, что между родителями разлад, хотя и раньше их отношения едва ли можно было назвать идеальными. Каждый из них с утра погружался в свои дела и мысли. Уходя на работу, мать оставляла на столе завтрак и коротко бросала в пространство:
– Обед в холодильнике, – перед тем, как захлопнуть дверь, добавляла: – К ужину не ждите. Возможно, приду поздно: готовлю квартальный отчёт.
И действительно, в те дни, когда она предупреждала о задержке, возвращалась за полночь. Отягощённый недоверием к столь поздней работе мамы, отец недовольно хмурился и вполголоса бубнил:
– Где можно так долго шляться?
– Мама ведь предупреждала, что задержится, – Валерка вновь жалел папу. Он смотрел на часы и оптимистично-фальшивым голосом добавлял: – Скоро уже придёт.
На лице отца застывала каинова печать интеллигента-неудачника. Едва заметно кивнув, он молча уходил в спальню. Валерке же нужно было общение – он с юношеской жадностью начинал познавать мир. Дома ему никто не объяснял, почему ему так часто стала сниться Лариска с соседнего подъезда, почему не засчитали гол Кержакова в ворота бельгийцев, почему все говорят, что «ганжибас» употреблять плохо, а рок-музыканты охотно это делают? Однако ответы на подобные вопросы можно было услышать около беседки, в которой дворовые мужики играли в домино или в шахматы. Они будто соревновались друг с другом в излишествах и пороках: курили дешёвые, с запахом горящего сарая, сигареты, пили купленный у Люськи самогон и жутко сквернословили. Эти весёлые, плохо разговаривающие, зачастую грубые люди почему-то притягивали Валерку к себе. Как, впрочем, и остальных мальчишек двора. Они, со слов Паши-лётчика, вскоре выяснили, что Лариска так часто улыбается потому, что «уже давно просится на травку».
– Кержаков, оказывается, спит на ходу, потому его больше не берут в сборную, – авторитетно заявлял дядя Саша. Он же, с видом знатока, добавлял: – Курить гашиш – гиблое дело, уж лучше стакан-другой портвейна хлопнуть.
Кто-то из мужиков высказался и о Валеркиной маме. Мол, идёт и попкой всем подмигивает. На него тут же цыкнули остальные – сынок её тут. Сколько Валерка потом не приглядывался, так ничего подобного не смог заметить. Когда взрослая беседа приобретала уж слишком фривольный оттенок, мальчишек отгоняли прочь. Да и больно надо! Колька-армянчонок нашёл на чердаке оставшиеся от своего отца порнографические журналы, и они как следует рассмотрели некоторые пикантные особенности женского тела. Не понравилось… Серёжка Червонный сказал, что всё это фигня, и лучше сходить на озеро искупаться. Так они и сдружились, как это происходит, наверное, на каждой улице, в каждом дворе.
Валерке нравилось в своих друзьях всё, вернее, почти всё. Его немного смущала кличка, которую ему присвоили новые товарищи. Ещё он не любил, когда Червонец заставлял их надевать боксёрские перчатки и драться друг с другом. Впрочем, в боксёрскую секцию Валерке тоже пришлось идти. Один за всех, все за одного… Однако редкая тренировка заканчивалась без синяка под глазом, разбитой губы или припухшего носа. Однажды отец, удивлённо разглядывая очередной фингал, тихо спросил:
– Обижают во дворе, сынок?
– А хоть бы и обижали, – вмешалась в разговор мать. – Можно подумать, что ты пошёл бы заступаться, – она сердито гремела посудой.
– Я только спросить хотел, – ответил папа, опустив глаза.
– Спросить, спросить, – передразнила его мама. – Размазня…
– Это меня на тренировке ударили! – выкрикнул Валерка. Ему так не хотелось, чтобы мама снова ругала отца.
– А ты не ори, – парировала мать и заявила: – На бокс свой больше ни ногой. Ходишь вечно в синяках, как уличный хулиган, – она сурово посмотрела на сына, ожидая, что он ей поперечит. Но Валерка возражать не стал и даже обрадовался запрету: теперь у него появилась веская причина отказаться от ненавистных тренировок.
– Мать не разрешает, – опустив глаза, буркнул он друзьям, когда пришло время собираться в спортивный зал.
– Мама не пускает… Бу-бу-бу-бу… – Юрка сплюнул на землю.
– А вот он и будет у нас Бу-Бу, – усмехнувшись, сказал Червонец. – Кликуха лучше не придумаешь, – он повернулся к остальным мальчишкам: – Поняли?
– Чего ж не понять? Поняли, – засмеялся Юрка. – Иди, Бу-Бу, к своей мамочке, она тебе шоколадку купит.
Так растаявшее мороженое делает пятно на рубашке – ничем не отмоешь. Теперь иначе как «Бу-Бу» никто из друзей Валерку не называл. Долгое время Валерка не чувствовал за спиной отца никакой защищённости и даже стеснялся его интеллигентской неловкости. Но однажды произошло событие, поставившее папу на пьедестал героя. И теперь уже он, Валерка, ходил с гордо поднятой головой, охотно рассказывая друзьям и соседям подробности отважного поступка отца. Как-то июльским жарким днём мама сказала, что к ней придёт подруга и, чтобы Валерка с отцом не мешали женщинам секретничать, отправила их на городской пляж. Спасаясь от пекла, они часа два плескались в тёплой мутной воде, затем пообедали в чебуречной и снова вернулись на водоём.
– Может, домой пойдём, пап? – с нескрываемой скукой в голосе спросил Валерка.
– Мама ведь сказала, чтобы мы возвращались домой только вечером, – отец, словно оправдываясь, развёл руками. Было видно, что ему самому надоел принудительный отдых. Медленно тянулось время. День клонился к закату, неохотно отпуская тепло.
– Смотри, сынок, – отец указал пальцем на верхушки тополей. Закрыв собой почти половину неба, с запада надвигалась огромная тёмно-лиловая туча. Стало сумрачно и тихо. Вдруг подул сильный порывистый ветер, и на горячий песок упали первые капли дождя. Уже через несколько секунд небеса обрушили на землю шипящие потоки воды. Ещё более усилившийся ветер ломал ветки деревьев, срывал пластиковые листы с кабинок для переодевания. Люди, не успев надеть верхнюю одежду, заполнили прибрежное кафе. Прильнув к окнам, они с интересом и даже с некоторым страхом наблюдали за буйством стихии. Последний шквал ветра, прогремев железной обшивкой крыши, нагнул деревья едва ли не до земли и стремительно помчался дальше. И вновь стало тихо. Лишь тополя, роняя крупные капли, жалобно шелестели уцелевшими листьями.
– Пойдём, папа, – Валерка тронул отца за руку. – Дождь уже закончился.
– Закончился? – переспросил он. Кажется, мысли отца находились очень далеко отсюда. Они вышли из кафе и, минуя огромные мутные лужи, направились к дому. Брюки, чтобы не испачкать их грязью, не надели. Сквозь поредевшие тучи радостно пробились последние лучи заходящего солнца. Гроза миновала. Возле поваленного бурей дерева собралась небольшая толпа. Бестолково толкаясь и мешая друг другу, люди суетились вокруг лежащего на земле мальчишки. Но близко к нему никто подходить не решался.
– Всё понятно, – сказал отец, когда они поравнялись с толпой. – Током ударило.
Мальчишечьего плеча касался оборванный провод, но все попытки желающих ему помочь были безуспешны.
– Бьёт, собака, – сказал один мужчина, пытающийся палкой сбросить провод с пострадавшего.
– А ведь не выдержит парнишка… – он с отчаянием посмотрел на окружающих.
– Палка-то у вас мокрая, оттого и бьёт, – пояснил очевидную ситуацию кто-то из сочувствующих.
Отец стремительно натянул на себя брюки – наверное, ему казалось, что умереть в трусах будет крайне неприлично. Он выхватил из Валеркиных рук сухую рубашку, бросил её рядом с мальчишкой. Изловчившись, папа прыгнул на неё, а своей майкой обхватил смертоносный провод и отбросил его в сторону. Одна из женщин подбежала к мальчику и пощупала его пульс. «Живой!» – быстро взглянув на окружающих, она тут же принялась делать парнишке искусственное дыхание. Ощутив безопасность, зеваки подошли к ним вплотную и, естественно, принялись давать всевозможные советы. Отец же, напротив, попятившись, выскользнул из толпы и взял Валерку за руку.
– Пойдём, сынок? – спросил он.
– Пойдём, – ответил Валерка, широко открытыми глазами глядя на отца и не веря, что он, его папа, пару минут назад спас человека от гибели. За несколько секунд он разрушил представление о себе как о слабом, чуть нелепом, чудаковатом учителе математики. «Как жаль, что папин поступок не могли видеть мама, соседи и все мои друзья!» – словно от зубной боли, сморщился от досады Валерка.
– Нагулялись? – поинтересовалась мама, открывая им дверь. Настроение у неё было хорошее: видимо, встреча с подругой принесла много приятных минут. Однако через мгновение выражение её лица заметно изменилось.
– А где твоя рубашка? – вопрос, скорее всего, относился к Валерке, но мамин сердитый взгляд был направлен на отца.
– Я… Мы… – папа, похоже, растерялся и никак не мог ответить ей толком. А может, он и не помнил вовсе, что произошло с этой дурацкой рубашкой. Валерка попытался рассказать маме, как самоотверженно проявил себя отец, но она, не обращая внимания на его слова, бросила коротко-привычное «растяпа» и ушла на кухню.
– Сынок, – папа печально взглянул на Валерку. – А давай об этом случае никому не будем рассказывать, хорошо?
– Хорошо, – вздохнув, согласился мальчик. Всё бы так и закончилось обидным забвением, если бы… На следующий день в прихожей раздался звонок. К двери подошла мама.
– Валерий Добровольский здесь проживает? – спросил у неё кто-то.
– Сынок, к тебе пришли, – позвала Валерку мама. – А что, собственно, вам от него нужно?
На пороге стояли несколько взрослых людей, и среди них – Валерка сразу его узнал – тот самый мальчишка, которого спас отец. Вскоре выяснилось, что взрослые – это родители мальчика, а также корреспондент и фотограф местной газеты. В брошенной на пляже Валеркиной рубашке находилась квитанция из прачечной, по которой и нашли эту квартиру. А отец Валерия Добровольского, как утверждали свидетели, и есть тот самый герой. Переждав слёзные благодарности родителей мальчишки, газетчики тут же принялись за работу – они хотели написать статью об отважном поступке отца. Хорошенькая журналистка безуспешно пыталась выудить у папы хоть какие-нибудь подробности происшествия. Тот лишь краснел, бледнел, беспрестанно вытирал лоб платочком и безбожно заикался. Помогла мама.
– Сынок, расскажи, пожалуйста, девушке, как было дело.
Валерка добросовестно, не упуская сопутствующих подвигу подробностей, изложил всё по порядку.
– …и мы, забыв рубашку, пошли домой, – виновато взглянув на маму, закончил он повествование. Фотограф, ещё более смутив отца, несколько раз «щёлкнул» «отважного учителя». На следующий день вышла газета с репортажем о происшествии на пляже. Валерка, закупив в киоске несколько её экземпляров, с явным удовольствием раздавал их соседям и друзьям.
– Нуучитэлмаладэс! – дворник Ибрагим, прислонив метлу к плечу, разглядывал папину фотографию. Паша-лётчик, отодвинув костяшки домино в сторону, вслух читал заметку об отважном соседе.
– Вот тебе и Дуремар! – дядя Саша удивлённо прищёлкнул языком.
– Кто бы подумал… – Червонец, словно сомневаясь в подлинности снимка, долго исследовал изображение отца. Посмотрел на Валерку своим раскосым взглядом и сказал:
– А мне всегда дядя Сеня нравился. Понты никогда не колотил, а как до дела дошло – настоящим мужиком себя проявил, – он аккуратно сложил газету и сунул её в карман. – Не возражаешь, я матери покажу?
Валерка кивнул и довольно шмыгнул носом. Бу-Бу чувствовал себя так, будто мальчишку спас именно он, а не папа. Интуитивно, с юношеской непосредственностью, Валерка понимал, что в сказанном есть здравый смысл. Червонец никогда не бросал слов на ветер. Даже мама смотрела на отца как-то особенно и порой загадочно улыбалась. Хотя роль, которую она отводила ему, оставалась прежней. На один день из тихони и размазни папа превратился в человека значительного и особенного, можно сказать, в героя. Но отца эта сиюминутная популярность только смущала. Он ещё больше терялся, если кто-нибудь из соседей выказывал ему восхищение. Однако Валерке такая перемена очень нравилась. Раз за разом, с новыми обнадёживающими подробностями, он вещал знакомым о случае на пляже. Казалось, этот эпизод вдохнул в него значительную долю уверенности и даже некой дерзости. На берегу озера, в кулачных поединках с Чомгой, Бу-Бу непременно стал побеждать армянчонка, хотя ранее их бои шли с переменным успехом.
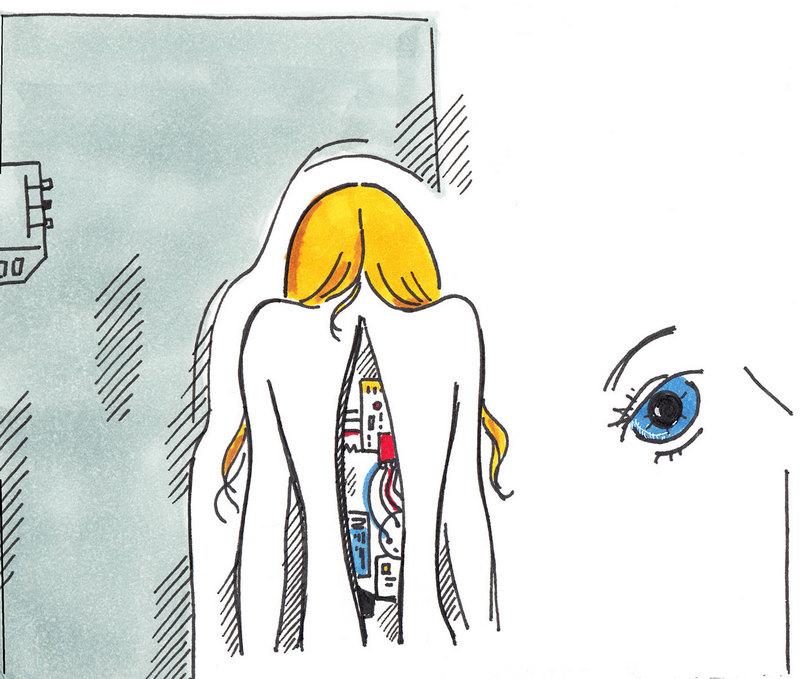
Аделаида | Дарина Стрельченко
– Ада! – крикнул я. – Свари кофе!
Вместо того, чтобы послушно загреметь туркой, она недовольно попросила:
– Не называй меня Ада, – но всё же отправилась на кухню.
Странные пошли роботы, однако.
– Ада, как тебе новый сезон «Рассказа служанки»?
– Я же просила: не называй меня так! – раздражённо проговорила она. Поправила волосы из канекалона и примирительно произнесла: – Аделаида. Несложно, правда?
– Слишком длинно.
– Люди совсем разучились запоминать, – хмыкнула она. Матово блеснуло полихлорвиниловое веко – совсем как настоящее.
* * *
– Ада… Аделаида! Срочно «Скорую»! Площадь Карнавалов…
– …Тринадцать, квартира двадцать пять, – подхватила робот. – Я вызвала. Уже. Слышала, как ты звонил маме. Судя по тому, что она описала – просто отравление. Всё будет в порядке. Не переживай.
– Спасибо, Ад… делаида…
Я начал подозревать, что с ней что-то не так, в первый же вечер. Она сразу же начала обращаться ко мне на «ты», иногда подкалывала, часто капризничала, когда я ставил её на зарядку. Дальше пошли эти выкрутасы с именем, а ведь по документации универсусам вообще плевать, как их зовут. А потом она интерпретировала мой разговор с мамой и, предупредив мою просьбу, вызвала врача. Я перечитал инструкции и убедился: хикки-роботам такая эмоциональная интерпретация не доступна.
Тогда-то я и решил показать её специалисту.
– Ты оделась?
– Тебе больше нравится синее платье или зелёное?
– Зелёное.
Для робота, призванного стать идеальным компаньоном, вопрос вполне стандартный. Нестандартно вышло, когда Ада появилась из гардеробной в синем.
– Я же сказал, мне больше нравится зелёное.
– А мне – синее, – улыбнулась она и пошла открывать дверь: Вадим, вопреки ожиданиям, явился минута в минуту.
– Привет, привет! – Он кивнул мне, галантно поклонился Аде. – Что там у вас стряслось? Барахлит зарядник?
– Ничего у меня не барахлит, – насторожилась Аделаида.
– Не барахлит, не барахлит, – кивнул я. – Сделай нам кофе.
– Не бережёшь сердце, – вздохнула робот и скрылась за стеклянной дверью кухни.
– Нравная она у тебя, – заметил Вадим, вешая на крючок пальто.
– Вот именно. Даже слишком… Осмотри её, а? Мне кажется, шалит центр эмоций…
– Усыпляй. Посмотрим.
– Боюсь, придётся подождать, пока кончится зарядка. Заикнёшься о выключении – сразу истерика…
Вадим проводил мелькнувший за стеклом силуэт задумчивым взглядом. Пожал плечами.
– Могу попробовать договориться.
– Попробуй… – без особой уверенности кивнул я.
Вадим исчез в кухне, а через пять минут вышла Аделаида, быстро глянула на меня и шепнула, что разрешает себя усыпить. Села в кресло, расстегнула на спине платье, позволила нажать на неприметную стандартную родинку под лопаткой. За несколько секунд, прошедших до того, как она заснула, её зрачки расширились: если бы речь шла о человеке, я бы сказал, что в них мелькнул страх.
– Я быстро, – обнадёжил её Вадим, и Ада уснула, но не закрыла глаза, как делают во сне люди, а бесстрастно уставилась в потолок.
– Ну-те-с, ну-те-с, – забормотал друг, стягивая с её лопаток покрытую канекалоновым пушком кожу. – Что тут у нас… С эмоциями всё в порядке, центр работает. С реакциями тоже всё хорошо. Давай посмотрим центр переосмысления. Ну-те-с… ну-те… Мля, Дима! Крышка сорвана!
– А?..
– Щель. Щёлочка. Клапан пропускает.
– Какой клапан? Попроще можно?
Вадим отстранился от Ады. Хмуро глянул в потолок. Напряжённо спросил:
– Никогда не задумывался, что отличает робота от человека?
– Мысли? Чувства? – глуповато предположил я.
– Мысли и чувства им впаивают на заводе, – ответил друг, опасливо заглядывая в глаза спящей Аделаиде. – Но все эти мысли и чувства – стандартные. Предустановленные. Если роботу сказали, что убивать – это плохо, то он будет считать так до самой утилизации, и ты его не переубедишь. Просто потому, что на центре переосмысления опыта стоит блок. У твоей, – Вадим показал на Аду, – крышка прилегает к клапану неплотно. Она не переосмысляет весь новый опыт, но кое-что просачивается. Кроме того, посмотри: сорвана пломба. Но не срезана, а просто отошла и, к тому же, исцарапана. Скорее всего, из-за механического воздействия вроде вибрации.
– И как так случилось? – спросил я, чувствуя, как мерзко покалывает кончики пальцев.
– А где ты её брал?
– В «Шёлковой дороге».
– Тогда, может быть, из-за тряски. У нелегальных поставщиков нет фирменных контейнеров с креплениями, вот и возят роботов как дрова. Случай, конечно, один на миллион. Но…
– И что мне теперь делать?
Вадим пожал плечами. Я растерянно подошёл к Аде, взял кабель, поднёс к спрятанному под волосами порту на шее.
– Погоди, – велел друг. – Ты понимаешь, что это частичное воодушевление? Нужно либо убрать, либо узаконить…
– Убрать? – переспросил я, глядя в бледное, безмятежное, почти человеческое лицо.
– Дим. Это незаконно вообще-то. Блок снимают только у роботов, которые призваны заменить умерших людей. Чтобы они учились вести себя похоже на тех, кого заменяют… А у остальных это нельзя.
– И что делать? Если я не хочу… убирать?
– Подай заявку, что у тебя кто-то умер из близких, и ты хочешь их прототип.
Я присвистнул.
– Сколько та заявка стоит! Я за сто лет не наскребу.
– Тогда не свети её, – кивнув на Аду, посоветовал Вадим. – С собой не води, гостей не зови. Если никто не узнает, ничего и не будет.
– А если узнает?..
– Штраф, – развёл руками Вадим. – И изъятие робота.
– А что мне ей сказать? Когда проснётся?
– Скажи, что пыль почистил на клапане эмоций. Это стандартная процедура, она должна знать.
* * *
– Дим.
Я вздрогнул: Ада ещё никогда не звала меня по имени.
Обернулся.
Она лежала в кровати, укрывшись до носа. В свете бра я разглядел припухшие веки, красные щёки, лихорадочно блестящие глаза. Если бы Ада не была роботом, я сказал бы, что она выглядит как самый настоящий прихворавший человек.
– Что? – как можно мягче спросил я, подкатываясь к ней вместе с креслом.
– Не выключай меня больше.
– Я и не собирался.
– Не выключай, пожалуйста.
– Что такое, Аделаид? Даже если выключить, ты же всё равно проснёшься, как только подключишься к сети.
– Понимаешь, – она приподнялась на локте, поймала мою руку, прижала к щеке, – я испугалась сегодня. Это очень холодно – засыпать. У меня такое чувство… что если отключат, то я уже не включусь.
Я погладил её пальцы, поправил одеяло.
– Никто тебя не отключит. Всё будет хорошо.
– А что сказал твой друг?
– Я же тебе объяснил. Просто почистил пыль на эмоклапане, проверил схемы…
– Нет. Ты не понял. Я имею в виду – что он на самом деле сказал? Я же чувствую, что эмоклапан не трогали. – Аделаида нетерпеливо дёрнула плечом. – Я бы поняла, если бы он что-то чистил.
– Ну… Слушай, ты лучше у него спроси. Мне он именно так сказал.
Ада посмотрела на меня грустно и с обидой.
– Я же даже в выключенном состоянии воспринимаю волны – вы ведь не поставили общую блокаду. Я проснулась и интерпретировала…
Она помолчала, мягко улыбнулась и виновато добавила:
– Я же чувствую, когда обманывают.
* * *
Зря я позвал Вадима. Он открыл мне глаза. А может, его действия сделали щель в клапане ещё шире: теперь я отчётливо видел, как Аделаида меняется, становится всё умнее, всё человечней. Она жадно вбирала и интерпретировала новый опыт, всё меньше походя на сошедший с конвейера прототип и всё больше напоминая индивидуально настроенного антропоморфа.
Совет не показывать её людям плохо сочетался с целью, для которой я приобрёл Аду. Для покупки, – пусть даже в «Шёлковой дороге», – мне пришлось влезть в долги, и теперь нужно было отдавать кредит, жить самому, содержать робота… Отказаться от работы выглядело немыслимым, так что я продолжал шить шмотки, а Ада каждый день выходила на подиум, чтобы вертеться перед экспертами и позировать фотографам, клепавшим объёмные натуры для виар-шопов.
Сказать, что я жалел о её покупке – соврать. Своя модель – это настоящая роскошь: пропорции, которые можно подкрутить в соответствии с продукцией; походка, которую можно скорректировать в зависимости от подиума, коллекции и предпочтений жюри; безлимитные примерки и возможность перенастраивать внешность без страха испортить арендованного робота. Кроме того, она была нужна мне для Недели робомоды. Если меня заметят, пойдёт уже совсем другая история: не придётся выбивать заказы, выискивать жильё по дешёвке, обходиться стандартными материалами… Я получу допуск к цифровой материи, если повезёт – возьму заказ на разработку моделей для конвейера. А это уже совсем другие деньги! Совсем другие перспективы…
От мечтаний разморило: я чуть не проглотил зажатую во рту булавку и спустился с небес на землю.
Чтобы всё получилось, предстояло пахать и пахать.
Я готовил коллекцию для Недели робомоды ночами – Аде было хоть бы хны, а я жёстко недосыпал, но желание пробиться перевешивало всё. Тем более, на первых порах мы с ней сработались просто отлично. Я смог творить почти круглосуточно, подновил и выставил на продажу старые коллекции – на подтюненной Аде даже прошлогодние шмотки выглядели вызывающе аппетитно. К концу квартала почти выплатил кредит, купил ей мощный зарядный блок, мы слетали в Египет. Дальше пошло ещё круче. А потом… Потом и проявилась её нравность.
Впрочем, я оказался нравен не меньше, подумав в один из вечеров, что мне совсем не хочется, чтобы Ада выходила на подиум. От мысли, что на неё вновь будут пялиться жюри, спонсоры, эксперты и – в отдалении – толпы чужих мужиков, подкатывала тошнота.
Я тряхнул руками и выругался. Ада ойкнула: я случайно уколол её иголкой.
– Прости!
– Задумался?
– Ага…
Я посмотрел, как она глядит в зеркало, как трогает подшитый низ платья, ощупывая ткань длинными загорелыми пальцами. Решил, что Неделю робомоды мы отработаем на двести процентов.
А потом заляжем на дно.
* * *
В понедельник отгремело оглушительное открытие. Салют, фонтаны шампанского (Ада попробовала, но сказала, что ей не понравилось), фуршет, блеск чужих коллекций… Я рассматривал их с замиранием сердца: изучал фактуру, швы, покрой, лекала. Раньше я мог разглядывать шмотки только на экране, но в этом году у меня появился робот, и я наконец купил билет: дизайнеров пускали на выставки только в паре с моделями.
Вторник и среду я не отрывал взгляда от подиума: шли коллекции корифеев. Ада дёргала меня, звала в кафетерий, в зону интерактива, просилась познакомиться с другими моделями, но я отмахивался, заставляя её сидеть рядом. На субботу был назначен наш выход, и я страшно нервничал, что с ней что-то произойдёт. Подпортить чужую модель – на таких мероприятиях считалось едва ли не хорошим тоном.
Весь четверг я подшивал, подгонял, перекраивал и наводил лоск на свою собственную коллекцию. Аделаида нервничала: видимо, моё лихорадочное состояние передалось и ей. К вечеру мы заказали таксокар и повезли коллекцию в павильон. Зашли со служебного входа: с парадного из-за репортёров и гостей было не пробиться. Я миновал турникет, держа на весу бесценный вакуумный пакет со сжатой одеждой, прошёл уже десяток шагов, когда услышал сзади испуганное и беспомощное:
– Дима!..
Оглянулся. Ада растерянно стояла перед турникетом, такая красивая, непорочная и яркая в дерзком неоновом свете – а за локоть её держал дубина-охранник.
– Просрочена лицензия, – скрипуче заявил он.
Я запрокинул голову, выругался про себя, сжал бы кулаки, если бы руки были свободны. Как некстати! А ведь говорил себе, что нужно проверить… Лицензия действовала год и активировалась на следующий день после покупки робота. Но мастера «Шёлковой дороги» часто проводили оживление по лицензии другого робота – уже списанного, но ещё не утилизированного. Ада оказалась не исключением…
– Просрочена лицензия, – повторил охранник.
* * *
На робота было жалко смотреть.
– Это я виновата… – всхлипнула Ада, забиваясь в угол таксокара.
– Да при чём тут ты, – буркнул я. – Я же хозяин. Нужно было позаботиться.
– Я могла напомнить… Забыла…
Нормальные хикки-роботы о таких вещах не забывают – что ещё раз доказывало, что Ада не нормальна.
«Не свети её», – вспомнил я слова Вадима. Потом вспомнил, какой гонорар полагался за выступление на Неделе робомоды. Вспомнил, какие открывались перспективы.
Живут же люди с роботами-нелегалами. Как-то решают проблемы с лицензией. Не я первый, не я последний.
– Аделаида.
Она вскинула голову; в глазах вспыхнули огоньки проносившейся мимо ночной столицы.
– Собери свои документы. И запиши меня в МФЦ на завтра. На самый поздний слот.
* * *
– Добрый день. Мне нужно обновить документы на замещающего робота.
– По утере или по графику?
– По графику.
Я протянул в окошко папку с бумагами Аделаиды, мысленно повторяя легенду.
Если верить статистике, вечером пятницы служащие бывают не очень расторопны и не слишком внимательно всматриваются в документы. Но, увы, мне попалась служащая иного сорта. Несмотря на то, что её коллеги в соседних окошках уже гремели стульями и натягивали плащи, она помахала моей папкой и воззрилась не без сомнения:
– Это не замещающий робот.
– О, извините… У меня их два, один замещающий и один хикки. Видимо, перепутал… Прошу прощения.
Я протянул руку, но служащая не спешила отдавать папку.
– Вы в курсе, что лицензия на… – она быстро глянула в паспорт и снова воззрилась на меня: – Аделаиду просрочена?
– М-м… возможно. Я займусь этим, – пообещал, берясь за уголок папки.
– Вы знаете, что владение роботом без лицензии влечёт за собой административную ответственность?
– Да, да. Прощу прощения. Я займусь этим завтра же… Вернее, в понедельник, с самого утра.
Служащая резко дёрнула на себя папку и бросила паспорт Аделаиды на сканер.
– Я поставлю вас на контроль.
– М-м… Мы можем обойтись без этого? – улыбаясь самой очаровательной улыбкой, которую Ада называла «лорд», спросил я.
Внутри медленными ледяными пузырьками надувалась паника.
Можно было перегнуться через барьер окошка, дотянуться до паспорта, схватить папку и убежать. Но индекс Ады уже мерцал на мониторе. Побег означал бы мгновенный приговор.
Кляня себя за то, что позарился на гонорар за Неделю робомоды и вообще пошёл в МФЦ, я отчаянно повторил:
– Мы можем обойтись без этого? Мой второй робот… Он замещает маму. Я… В последнее время я был слишком подавлен, выпустил из виду продление лицензии…
– Сочувствую, – железным тоном ответила тётка, снимая паспорт со сканера и наконец отдавая мне документы. – Ждём вас с Аделаидой в понедельник для постановки на лицензионный учёт. Перед процедурой рекомендуется провести откат к заводским настройкам.
– Зачем? – похолодев, спросил я.
– Перед продлением лицензии хикки-роботов возвращают к стандартным параметрам. Лучше заранее сделать это дома – потратите меньше времени здесь.
Я вышел из МФЦ, ничего не видя перед собой. Чуть не навернулся со ступеней. Солнце жгло, раскалённым шаром вертясь в зените.
* * *
– Аделаид, я задержусь. Разбери почту и отмени все заказы на завтра.
– Да, конечно, – чуть запыхавшись, ответила Ада. Я слышал стук, шорохи и шкворчание – очевидно, она готовила обед. – Ты надолго?
– Час-два.
– Как раз дойдёт запеканка. Ой! Молоко убегает… Отключаюсь!
Я представил, как она машет полотенцем, выгоняя из кухни запах гари, нервно улыбнулся и набрал Вадима.
– Слушай… Ты говорил, у тебя знакомый полиграфист. Сможет он подсобить с бумагами? Да… Просто отпечатать. Так, чтоб неотличимо от оригиналов. Да хоть сколько… Наскребу. Хорошо. Еду.
День давно перевалил за половину. По-весеннему пронзительно щебетали птицы. Я вышел из мрачного подвальчика типографии и снова набрал Вадима.
– Ничего не вышло. У твоего друга нет светокраски для штампов.
– Жаль, – после паузы ответил друг.
– Поеду туда, где покупал Аду, – медленно, больше себе, чем ему, сказал я. – Поищу пустые готовые лицензии.
– У тебя есть с собой электрошокер хотя бы? Без него туда лучше не суйся.
– Спасибо за науку.
Я набрал Аделаиду. С языка почти сорвалось: закажи электрошокер на угол Николямской и Синего шоссе. Но в последний момент, побоявшись напугать её, я выпалил:
– Привет! Прости, всё ещё задерживаюсь. Сможешь зарядиться без меня?
– Да, конечно, – растерянно ответила Ада. – Запеканка остыла уже…
– Прости. Спешу, как могу.
День катился к вечеру, под палатками и пыльными козырьками киосков уже сгущалась мгла. Я шагал, минуя шопы, подпольные казино, цветочные лавки, лотки с масками и искусственными частями – для людей и роботов. Из кабаре с окнами в пол неслась сладкая, густая волна музыки и ароматов. Боясь прилипнуть, я поскорей проскочил мимо, но всё же не смог не задержать глаз на сцене за стеклом: снаружи к стене прибило грязь, огрызки и месиво брошюр, зато внутри сверкали огни, и девушки в блестящих диадемах и нарядах из перьев танцевали канкан. Их руки, ноги, павлиньи хвосты и разукрашенные лица мелькали так быстро, что было не различить, роботы это или люди.
Я встряхнулся. Краем глаза заметил позади двух типов в тёмных толстовках. Они шли за мной от самого входа на рынок – может, и не зря Вадим посоветовал шокер.
Я аккуратно повращал в карманах кулаки, повертел головой, разминая шею, – и с облегчением заметил на углу кабаре нужный символ. В минувшие два часа мне понадобилось пять звонков и два крупных перевода со счёта на счёт, чтобы узнать, как он выглядит.
Уже не думая о мрачных парнях, я свернул в проулок. Пробрался в тесный, похожий на душную теплицу шоп, закашлялся от привкуса специй и, жмурясь от сияния мелких кристаллов, заявил бледному с раскосыми глазами продавцу:
– Мне нужна лицензия на робота. Такая, чтобы не отличить от настоящей.
– Нет такого. Цьветы продаём. Цьветочки только. Вербена, джусай, кровохлёбка. Цьветочки, нет лисензий.
Я хлопнул себя по лбу. Идиот.
– Я от Вениамина Каверина.
Чувствуя себя дурак дураком, процитировал:
– Последняя минута тишины – выходит в город поезд из депо…
– Вперёд! В зелёный шум, в еловый вой! – подхватил продавец тут же разулыбался, кивая мне и выставляя на прилавок плошку с орехами и дымящуюся чашку: – Пей! Ешь! Отдыхай! Предоставь всё мастеру Си!
Он шлёпнул на дверь табличку «Занят» и скрылся за звенящими занавесками из янтарных бус. Я упал в продавленное кресло в уголке, не глядя влил в себя тёплое пойло. Впервые с тех пор, как Вадим сказал, что Ада незаконна, я почувствовал себя чуть спокойней.
– Для хороших друзей – что угодно! – щебетал продавец, грохоча и копаясь. – Мастер Си – мастер на все руки… Лисензия, сертификат, архивировать, память восстановить…
Я достал телефон, чтобы набрать Аделаиде, но мастер Си, дополнительные глаза которого, вероятно, были вмонтированы в прилавок, крикнул:
– Тут не ловить. Тут всё перекрываеть, по всему рынку…
– Аделаид.
– Дима? Дима, где ты? Пытаюсь до тебя дозвониться, ты не берёшь…
– Аделаид. Я тебе всё объясню. Я уже совсем скоро поеду домой. Совсем скоро.
– Дима… Я видела, ты заказывал электрошокер. Где ты?
Голос Ады звенел. Я вдохнул и постарался ответить как можно спокойней:
– Милая. Закрой двери на ночь. На звонки не отвечай. Я тебе всё объясню. Тебе ничего не угрожает, но просто на всякий случай поставь ночную защиту. Как обычно. Я скоро буду. Жди.
* * *
Я вошёл в наш холл, когда темнота уже напиталась мерзкой опасной чернильной дымкой. Щёлкнула дверь, и Аделаида выскочила навстречу – босая, в одной ночной сорочке.
– Я же велел закрыться на все замки…
Ада не отвечая бросилась ко мне и прижалась, вся дрожа.
– Ну что ты… ну чего… Со мной ведь всё хорошо…
– Ты был на катийском рынке. Я послала проверить… Несертифицированный шоп… Я не нашла никакой информации!
– Так те парни были твоими соглядатаями?
– Разве можно ходить в такие места одному? – прошептала Ада, и я впервые увидел в глазах робота слёзы. Я знал: их экзокринная система почти неотличима от людской, но… Просто как-то не доводилось раньше.
– Пойдём. Пойдём домой. Я тебя уложу, выпью чаю… И мне надо будет ещё раз уйти.
– Ты обещал объяснить всё, – цепляясь за меня, нервно потребовала Ада.
– Да… да. Только налей чаю, я тебя умоляю. Просто с ног валюсь…
Час спустя пришло сообщение от мастера Си: лицензия готова. Я съел полпротивня холодной запеканки, выпил чашку сладкого кофе и поставил Аду заряжаться – без меня она не смогла толком выставить настройки, и теперь хоть и подняла заряд, маялась головной болью.
– А ещё двоится в глазах, – пожаловалась робот.
Я никогда не встречал такого синдрома неверной зарядки. Со страхом подумал, что, может быть, это ещё одно последствие катийской сборки. Даже если мне удастся отстоять Аду… Что будет дальше, что вылезет ещё? Сможет ли она вообще нормально функционировать – через месяц, через год? Через десять лет?..
Я уложил Аделаиду и несколько минут сидел рядом, гладя её по руке.
– Когда Вадим проверял твои схемы, она обнаружил… мелкую поломку. Это ерунда, но лучше починить. Если делать это через МФЦ, уйдёт уйма времени, плюс налоги, плюс экспертизы… Я не хочу трепать тебе нервы, вот и купил нужную деталь через друзей. Это заняло чуть больше времени, чем я думал. Но всё уже готово. Мне осталось только съездить забрать. Ты потерпишь? Сейчас я уйду, но к утру уже буду дома.
Аделаида послушно, но встревоженно кивнула. На прощание, заглядывая в глаза,
спросила:
– Ты ведь осторожен, правда? Ты ведь знаешь, что за шопами, где нелегально торгуют деталями, следят соцслужбы?..
Я кивнул, быстро чмокнул её в щёку.
– Всё хорошо. Успокойся. Всё будет хорошо.
Только выйдя из подъезда, я понял, как нелепо прозвучала эта фраза: «я не хочу трепать тебе нервы». Я как будто забыл, что говорю с роботом.
Мы проскочили по нижней магистрали до первых пробок, и я действительно вернулся домой ещё под утро. Вадим сунул мне антипохмельное и бормоча убрался обратно в салон таксокара. Я сжал блистер. Стараясь не делать резких движений, начал медленно подниматься.
В последние пять часов мне повезло трижды: во-первых, я всё-таки заполучил лицензию на Аду: мне пообещали, что утром её индекс пропадёт с особого учёта. Во-вторых, со мной поехал Вадим: лазерные инструменты для нейронок в ночных лавочках катийского рынка стоили куда дешевле, чем у официальных дилеров. В-третьих, когда на рынок нагрянул патруль, друг сообразил заскочить в кабаре и затянул меня следом – так мы отделались всего лишь штрафом за посещение запрещённого места.
Как только патрульные вышли из прокуренного, пропахшего благовониями зала, я дёрнулся следом, но Вадим крепко взял меня за локоть и процедил:
– Они сейчас второй волной пойдут по улице. Надо выждать… Спокойно!
Он с силой усадил меня на глубокий бархатный диванчик. Музыка наяривала вовсю, голоса и грохот каблуков по сцене сливались в плотный, бьющий по ушам гул.
– У меня Ада одна дома…
– Да что ей будет!
– Её индекс на контроле…
– Его снимут утром. Никто не придёт за роботом ночью в субботу. А если ты сейчас высунешься и рванёшь домой – живо накроют! Пойдём лучше, раз уж огребли, насладимся.
– А разве кабаре не закроют?
– С луны свалился? – вздохнул друг, скользя взглядом по стёклышкам барной стойки. – Если закроют, где будет отдыхать доблестный патруль?
* * *
Шла оперетка: тринадцать разукрашенных девиц прыгали на полукруглой сцене, и каждый раз выходило так, что хотя бы одна из них загораживала пышным хвостом середину. Костюмы были те же самые, что я видел днём – пёстрые, блестящие, вызывающие.
К нам подошёл официант, в пальцах сам собой очутился бокал – я не понял, с чем, какая-то зеленоватая жидкость. На вкус она напомнила пойло мастера Си, но ударила в голову куда ловчее. Ещё некоторое время я думал об Аделаиде, об индексах, о замещающих роботах, щелях и клапанах… А потом всё внутри взорвалось, заискрилось, и мне стало интересно только одно: что же спрятано в центре сцены?
– Я доктор… Я роботовый доктор… – попадая в мотив, но совершенно мимо слов затянул Вадим.
– Они так бережно закрывают середину. Там что-то есть?
– Я доктор… доктор…
– Ну… на сцене? В серединке?
– Я доктор…
– Ты пьяница!
– Я доктор…
Всё мельтешило, тряслось, рябило. Тёмный неоновый зал заваливался на бок; глотку забивал густой, мылкий и горячий дух, сквозь который пробивались нотки пива. Пустой бокал в моей руке сменился полным.
– Что спрятано на сцене? – заплетающимся языком спросил я у официанта. – Жемчужина спрятана?.. За хвостами?..
– Тум-ц-бара-бум-ц! – зарядили барабаны.
– Мсье о жемчужине балета? Вы увидите всё в конце представления.
Так это у них балет? Вот как…
Конца представления я не дождался. Бокал наполнился снова, и сквозь цветное марево мне подмигнула одна из танцовщиц. Что же всё-таки спрятано у них на сцене, что за жемчужина такая, – успел подумать я и провалился в душистую жаркую пелену до самого рассвета.
* * *
После искусственных розовых лепестков, блеска и тошнотворной сладости своды подъезда окатили приятной прохладой. Я медленно выдохнул из себя все эти пайетки, перья, гирлянды, запах разгорячённых тел и нажал на кнопку звонка. Она отозвалась глухим резиновым чпоком: электричества не было.
Я дёрнул дверь. Она отошла легко, с привычным коротким шорохом. Внутри стояла тишина.
– Ада?
Молчание.
– Аделаида?
Сквозняк подогнал к моим ногам бумажку. Я нагнулся, поднял…
«Опечатано. Патруль Эмска».
«Ты ведь осторожен, правда? Ты ведь знаешь, что за шопами, где нелегально торгуют деталями, следят соцслужбы?..»
Они всё-таки заподозрили что-то.
Они пришли.
Они пришли, а у Ады была просроченная лицензия.
И меня не было.
* * *
– Царапины, – глядя в пол, проговорил Вадим. – Забирали наскоро, выключили и поволокли. Если бы она ушла сама, царапин бы не было.
– А если бы я был дома?
– Забрали бы вместе с тобой. Было бы хуже. А так только повестка придёт.
– А Ада?..
– Выдадут новую.
– В смысле?
– Если робот портится, его забирают на утилизацию, а владельцу выдают заводской экземпляр. Ты проверь гарантийные документы, там должно быть указано.
* * *
Новую Аду привезли, как только я уплатил штраф за содержание робота без лицензии. Уж это точно был настоящий сертифицированный робот прямиком с конвейера: ни скола, ни трещинки. Прекрасная молодая женщина. Спокойная, бестревожная. Словно глубоко спящая – или недавно умершая.
Копия моей Ады.
Пока я усаживал её в кресле, пока ставил на зарядку, пока снимал гарантийные пломбы на шее и за ушами, билась ужасающая, оглушающая надежда: а вдруг всё-таки она. Ада. А вдруг всё-таки откроет глаза и скажет: не зови меня так, зови меня Аделаида…
Она открыла глаза, и оказалось, что они не синие – ярко-голубые. Такие бывают у роботов, только-только сошедших с ленты.
– Добрый день, – поздоровалась она, выпрямляясь. – Меня зовут Аде… Аде…
Робот закашлялась. Я хотел похлопать её по спине, но она покачала головой, справилась с кашлем и сипло договорила:
– Аделаида. Проблемы с речевым аппаратом. Это пройдёт. Пожалуйста, загрузите ваше расписание и мои рабочие обязанности.
От неё пахло заводом: свежим пластиком и стандартным парфюмом.
Меня пробрала дрожь. Я дёрнул шнур, вытащив его из розетки. Аделаида-два медленно, совсем как человек, закрыла глаза. Аделаида-один тихонько попросила из глубин памяти: «Не выключай меня больше. Это очень холодно – засыпать. У меня такое чувство… что… если отключат, я уже не включусь».
Я взял кредит и отправился по промышленным полисам – по всем пунктам, куда роботов сдавали на ребут. Еутов, Оролёв, Осад, Алашиха. Кхимки, Нитищи, Юберцы… На втором десятке я сбился со счёта. Перед глазами плясали приёмные пункты и офисные конурки при цехах, голова гудела от грохота конвейеров, проникающего сквозь заслоны и стены. Бесконечной лентой убегала и убегала дорога.
– Сдалась она тебе? – в который раз спрашивал Вадим, нежно-салатовый от тряски. Мы исколесили всё Подэмсковье, но даже с его служебным пропуском всё было безрезультатно. От Ады не было и следа.
Оставался последний пункт. В который нас не пустили – закрыто на перезапуск линии.
– Она тут, – заявил я.
От голода и долгой езды потряхивало. Я не был уверен, что говорю именно то, что думаю. Я уже сам не понимал, куда мы приехали и зачем. Огромные металлические ворота, блестящие на солнце, упёршийся в них путь. Расплавленный асфальт под колёсами, палящий полдень и пустота, пустота, пустота…
– Значит, её просто ещё не сдали. Или уже ребутнули. Дима. Ты пойми… Шанс, что мы её найдём, что успеем перехватить до сброса настроек… Зачем она тебе? Давай я помогу собрать денег, купишь нормального замещающего робота. Помогу тебе его подстроить по-своему… Дима!
– Вот ты зачем со мной едешь? – вцепившись в руль, спросил я.
– Ты мой друг.
– Друг?..
– Безусловно. А она-то чего тебе далась?
– Безусловно, – пробормотал я и вжал педаль.
Вадим замолчал. Некоторое время он смотрел в окно – как проносились мимо трубы, градирни и стоянки, как мелькали, сходясь и расходясь, провода. Наконец повернулся ко мне. Велел:
– Сверни на нижнюю магистраль.
– Зачем?
– Поедем на катийский рынок.
– Опять?
– Ты не в себе. Выпьем, расслабимся.
– Выпить можно и в другом месте.
– Поехали-поехали.
Я не заметил, как мы очутились в знакомом узком зале. В ладонь мягкой прохладой лёг круглый изумрудный бокал. Официант предупредительно склонился, ожидая, какую выпивку я предпочту сегодня.
Жалюзи глушили свет, под низким потолком стоял сумрак, и со сцены снова неслась знакомая едкая оперетка. Снова мелькали пушистые павлиньи хвосты, розовые перья, обтянутые капроном ляжки.
Я залпом опустошил бокал и махнул, требуя ещё. Танцовщицы всё ускоряли темп, в какой-то миг сцена напомнила мне карусель – увешанная огнями, вечно в движении, в скольжении и сиянии, без финала, без цели.
Я пил и пил. Окружающее давно потеряло фокус, вокруг плавали благостные цветные пятна, и единственное, что омрачало мир, – та тянущая пустота внутри, которую не заглушали ни таблетки, ни снеки, ни бокалы «Изумрудного дракона».
Вадим мычал, то и дело подталкивая меня в бок. Я подумал, что ещё чуть-чуть – и я тоже завою «я доктор», не попадая в музыку и слова. Может быть, этого мне и надо.
В тот миг, когда я решил, что сегодня точно упьюсь вконец, Вадим дёрнулся и въехал мне локтем под рёбра. Грянул оркестр, выпитое рванулось наружу, я вскочил, и перья на сцене наконец разошлись, открывая моему взору…
Аделаиду.
Хмель слетел в момент. Это точно была моя Ада: я видел это по синим блестящим глазам, по ямочке у локтя, по тому, как она вздёргивала губу. Она двигалась в танце совсем так же, как кружилась перед зеркалом, когда я примерял на неё новые наряды. Она улыбалась, глядя прямо на меня, и не узнавала.
– Ада! Это Аделаида! – закричал я, тряся Вадима.
– Я доктор, – нудил он, падая на пол. Я бил его по щекам, плескал что-то в лицо…
– Эй, доктор! Проснись!
К нему уже бежали официанты – поднять, оттащить туда, где пьяный клиент протрезвеет, не смущая других посетителей.
На сцене творилась фантасмагория: гремел оркестр, яростно грохотали барабаны, сверкали прожектора, рассыпался мелкий блестящий бисер. Я ловил взгляд Ады, и внутри шипело и жгло, словно проглотил кислоты.
– Официант! – яростно щёлкая пальцами, завопил я. – Официант! Кто тут отвечает за девочек? Мне понравилась танцовщица… Вон та, в центре, синеглазая!
– Это очень дорогая услуга, мсье, – прокричал официант, перекрывая музыку. – Вы должны обговорить это с хозяином заведения.
– Ведите меня к нему! – рявкнул я, хватая парня за накрахмаленный рукав. – Сейчас же! Любые деньги! Ну!
* * *
Вадим откатился от дивана, шлёпнул кулаками по коленям и бросил:
– Подтёрто начисто.
– Вадик. Ты же мастер, – дрожащим льстивым голосом просипел я. – Ты же купил эти свои нейронные инструменты. Ты наверняка можешь… Если не целиком, то хотя бы частично… Вадик…
Я говорил, говорил, но по его лицу видел – бессмысленно.
– Щель в клапане запустила процедуру воодушевления. А ребут прервал её, и это сбило все настройки, затронуло архивационные центры. Дим… Ничего не осталось. Я не в силах вернуть ей память.
– Но…
– Я ничего не могу сделать. Прости.
Я проглотил противную горечь в горле – выпивка, блевотина, пыль. Голова кружилась. Ада лежала на диване – бесчувственная и безмятежная.
– Дим. Дима, – звали меня из далёкого далёка. – Нельзя зацикливаться. Это всего лишь робот. Я посмотрю сертификаты, попробую подобрать тебе что-то похожее. Заранее заархивируем память, чтобы больше так не вышло…
«Для хороших друзей – что угодно! Лисензия, сертификат, архивировать, память восстановить…» – как сквозь туман, вспомнил я.
Пошатываясь, встал. Посмотрел на друга мутными, опухшими глазами.
– Заводи свой драндулет. Едем к мастеру Си.
* * *
– Тяжёлый, тяжёлый кукьла, – бормотал Си, укладывая Аду на кушетку. Заряд был полным, но он не велел включать её до конца процедуры. – Как чисто всё соскоблено… Можеть получиться, а можеть не получиться…
– Любые деньги, – механически в который раз повторил я.
– Двиньтесь, – велел мастер, натягивая на голову ремешок с моноклем и раскладывая по салфетке приборы. – И не лезьте под руку… и не шепчите. Отойдите.
– Я… сяду с другой стороны.
Ноги не держали: я едва-едва обошёл кушетку и плюхнулся на колени напротив Си. Между нами лежала Аделаида. Мастер поднял ей веки:
– Это чтобы следить за импульсами, – объяснил он, надевая перчатки.
У меня мелко тряслось, крутило внутри. Слабость грозила раздавить, распластать как крохотного клопа под белым небом.
Я сидел, держа её за руку. По ногам бил мощный сквозняк. Аделаида молча, бесстрастно смотрела в белый потолок.
Мастер Си изобразил лицом сложное движение, воздел руки к потолку, словно напоминая, что «можеть получиться, а можеть не получиться». И мягким картавым голосом велел:
– Приступимь.
С последними лучами солнца | Артём Северский
Муж сел в свою грязно-жёлтую «Газель», которую обычно ставил под окнами.
Ольга наблюдала, как машина разворачивается во дворе и медленно катит мимо дремлющих легковушек.
Этот ритуал иной раз надолго вводил Ольгу в транс, и она столбенела, глядя в никуда и слушая, как тикают настенные часы за спиной.
Вскоре и ей на работу.
Над шиферной крышей пятиэтажки выросла туча, и на стекло упало несколько капель. Августовский противный дождь, который Ольга ненавидела всей душой. Вообще, ненавидела каждый дождь, в любое время года, в любой день и час. За компанию с ним в её душу всегда закрадывалось серое отчаяние. Началось это давным-давно, наверное, десять тысяч жизней назад.
Обняв плечи руками, Ольга вздрогнула, заставила тело двигаться, мысленно подбадривала кровь, застоявшуюся в венах: быстрее, ну быстрее!
Взяла со стола посуду – пила только чай, муж ел яичницу с колбасой – и отнесла в раковину. Вымыла всё медленно, тщательно, аккуратно расставила тарелки в сушилке, следя, чтобы ни одна не покосилась. Чашки выстроила столь же чётко в ряд. Ложки и вилки в верхний ящик, вот так. Когда на кухне порядок, гораздо легче переносить окружающее.
Собирая крошки со стола, Ольга будто сметала песок, насыпанный на её душу. Песчинки сначала царапали, но позже наступало облегчение.
Бросила взгляд на часы. Надо собираться.
Тяжело, словно к ногам примотали скотчем гири.
Работа её находится в соседнем доме. Пройти по двору, завернуть за угол, мимо магазина, опять повернуть, и вот уже крыльцо цеха по пошиву медицинской одежды. Одноразовые халаты, шапочки, маски, бахилы и прочее. Работа простая – строчи и выполняй план. Чем больше сделал за день, тем больше получишь.
«Девчонки у нас вон сколько зашибают, – объяснили Ольге, когда она устраивалась. – Ты молодая, будь шустрой, с такой работой даже мартышка справится».
Ольга – её воспоминание запечатлелось в деталях – сидела на стуле возле стены и тупо взирала на директрису. Милая на вид женщина эта Сутулова, но в глазах есть нечто от паучихи. Тогда Ольга радовалась, что нашла место, где можно заработать, что к ней отнеслись серьёзно и не отмахнулись. С другой стороны, к концу разговора её начало подташнивать. От Сутуловой пахло, словно она не следила за гигиеной. В дальнейшем Ольга старалась близко к ней не подходить. Лучше всего с директрисой оказалось контактировать в курилке – дым заглушал все запахи.
Ольга никогда не отличалась хорошим чувством времени. Сколько она уже работает в цехе? Месяца четыре или пять? Может, семь? Мать всегда ругалась. Какой сегодня день, Оля? Не знаю. Какой год? Не знаю. Что ты вообще знаешь? Наградил же бог дочуркой!
В конце концов, разницы нет. Все дни на работе для неё слились в один бесконечный конвейер. Вначале её посадили шить одноразовые хирургические халаты, и она шила, исправно выполняя дневной план. Сверх того получалось неважно, Ольга, сколько ни старалась, не могла осилить и одной трети нормы, следовательно, и заработок не рос. Другие женщины, тоже сидевшие на халатах, строчили как сумасшедшие, делали две, а то и три нормы стабильно, изо дня в день. На неё они посматривали с усмешкой, и Ольга точно знала, что во время перекуров их любимым занятием было перемывать ей косточки – тормоз, неумеха, руки не из того места.
Одно время Ольга злилась, искала способ отомстить, одёрнуть, но ничего так и не изобрела. Директриса, которая раньше верила в её способности, теперь взирала на неё чуть ли не с жалостью. В её глазах читалось: «Ты хуже всех работаешь, милая моя, ты меня разочаровала». Всякий раз, когда Сутулова оказывалась рядом с Ольгиным рабочим местом, та опускала голову, делая вид, что целиком поглощена очередным изделием.
Ей никогда не перейти на маски или хирургические шапочки. Их шьют лучшие из лучших. Прострачивая швы, Ольга думала: «Ну и пусть. Это несправедливо. Ну и пусть».
Закрыв квартиру, медленно спускалась по ступеням. Во дворе дождило, мелкие капли щекотали лицо.
Едва обогнула угол здания, оставив позади пустой двор, как зазвонил телефон. Ответила. Это была мать со своим хриплым, неприятно дребезжащим голосом. Сообщила, что отец совсем плох и лежит после операции на почках, которая прошла хуже, чем врачи ожидали, и, наверное, скоро умрёт.
Ольга стояла, держа возле уха телефон, и смотрела перед собой на безлюдную улицу. Если сейчас пойти вперёд, то где-то там, наверное, можно встретить совершенно иную жизнь.
Мать прибавила, что Ольгин дед спрашивает, не хотелось ли бы ей сходить проведать отца. Всё-таки не чужой человек, к тому же, очень страдает.
Ольгу тянуло торжественно объявить матери, что она идиотка. Отец бросил их, когда ей только исполнилось пять. Какой родной человек? Все эти годы он был пустым местом, о нём и не говорили никогда, и почему теперь ему становиться частью её жизни?
«Мама, ты действительно в маразме. Или специально причиняешь мне боль», – подумала Ольга, сжимая зубы. Отец пусть лежит и мучается, пусть умрёт со знанием, что ни его бывшая жена, ни дочь не придут даже на похороны. Пусть лежит в вечном холоде. И родственнички с его стороны перестанут наконец давить на её чувство вины, и пусть катятся куда подальше. Они ей безразличны – большую часть времени – но в такие моменты ненависть накрывала Ольгу с головой, как чёрное одеяло.
– Я не пойду к нему в больницу. И на похороны, когда он сдохнет, тоже. Я уже говорила тебе миллион раз. Так им и передай. Делайте, что хотите. Мне без разницы.
В её детских воспоминаниях отец отсутствовал. Однажды, ещё в старшей школе, она видела у матери в коробке из-под обуви старые фото. Оказалось, Ольга очень похожа на него, практически одно лицо. То самое мерзкое лицо, которое она не выносила, уродливое, с шершавой кожей и тёмными усиками под носом-пуговицей. С этим наследием ей приходится жить.
Мать вздохнула. Эта манера заканчивать разговор всегда жутко бесила Ольгу, так, что она даже ничего не могла сказать в ответ. Мать словно говорила: «Я всегда знала, что с тобой каши не сваришь».
Ольга посмотрела на экран телефона, отчаянно желая удалить её из контактов и никогда больше не говорить и не встречаться. Пускай живёт как можно дальше от неё во всех смыслах.
Швеи курили на крыльце, глядя, как приближается Ольга, полная коротконогая женщина с жидкими волосами, с кислой скуластой физиономией и повадкой школьной тихушницы, что ходит по стенке. Они знали всё, насквозь её видели. Конечно, она стесняется своего тела, своего роста, своей плохой кожи, вообще странная и неприятная. Слова из неё не вытянешь, с юмором тоже проблемы.
– Привет, куда мчишься? – спросила Иванова, курившая возле урны. Две её подруги пристроились по другую сторону асфальтовой дорожки, проложенной к крыльцу. – Рано же.
Ольга прошла между ними и шагнула на первую ступеньку. Обернувшись, достала из кармана куртки пачку сигарет. Они курили, смотрели на её движения и улыбались.
Не моргнув глазом, Ольга зажгла свою сигарету, убрала пачку.
– У тебя вчера куча брака была на проверке, – сказала Иванова. – Ты чего?
– Ничего. Так. У всех брак.
– У нас вот не бывает, – «Нас» – это про подружек, что лыбились рядом. Иванова цыкнула.
– У всех, – пробормотала Ольга, краснея.
– Чего?
– У всех, – громче повторила та.
– Работай лучше. Особенная, да? Работай как все.
– Работаю.
– Я вот тоже с халатов начинала, а уже через неделю перешла на шапочки.
Ольга молчала, понимая, что зря остановилась. Они никогда не примут её, никогда не станут говорить с ней как с подругой. Эти девушки моложе, красивее, для них всё легко, они делали то, к чему она была или неспособна, или ей требовалось куда больше времени, чтобы настроиться. Однако ждать никто не любит. Тормозов быстро отсеивают, с тормозами разговор короткий. Всем плевать на оправдания. Или ты бежишь в группе лидеров, или тебя нет.
– Ты же не дура, – сказала Иванова, глядя ей в глаза. – Пойми, ты всему цеху портишь показатели.
Ольга покривила рот, это была неудачная усмешка.
– Если ты вкалываешь, то вкалывай, – подала голос одна из подружек Ивановой.
– Вкалываю, – ответила Ольга, бросив окурок в урну.
Под цепкими взглядами швей она повернулась и взобралась по ступеням, открыла серую металлическую дверь, проникла в тамбур, где царил сумрак.
Цех оживал, готовясь к работе, и пора было занимать своё место.
Оставив вещи в раздевалке, Ольга ушла в туалет, заперлась в кабинке и сидела в ожидании чего-то, глядя на сердечко, нарисованное синим маркером на внутренней стороне дверцы. Голова горела, как факел.
Десятки промышленных машин гремели так, что дрожали стены. Ольга долго привыкала к этому дикому шуму, но теперь почти не замечала его. Зато выходя после работы на улицу, особенно зимой, она любила слушать оглушительную тишину, которая буквально падала на неё. Точно вся суета мира исчезала в один момент. Даже плакать иной раз хотелось от внезапно нахлынувшего счастья. Глупо, конечно, но это правда.
Набрав деталей, Ольга села за машину и принялась автоматически, не думая, прострачивать швы. Её движения были отработаны, ничего лишнего – свойство, похвальное для швеи на массовке. Ещё бы её показатели соответствовали такому профессионализму.
Ольга перебирала в уме разговор с девчонками. Им не нравилось, что она мало делает сверх нормы. Претензии предъявляют. Вот уж странно. Директриса если и вздыхала, то воздерживалась от замечаний – формально претензий к Ольге нет, план выполняется. Сверх него – её личное дело. Личное. Дело. Почему они лезут?
Она подняла глаза, высматривая Иванову за её машиной. Удалось заметить только знакомую рыжую макушку под высоко висящей лампой дневного света на другом конце зала.
Помассировав глаза, Ольга сосредоточилась на работе.
Отыскать спокойствие, настроиться на только ей ведомый ритм. Шагнуть за прозрачную занавеску и пропасть. Ей это удавалось неплохо. Став маленькой лодочкой в реке времени, она приближалась к чему-то необычному, чему-то, от чего захватывало дух. Странная эта её фантазия, так любовно, тщательно раскрашенная, была иной раз истинным спасением. День проходил за днём, неделя сменяла неделю, месяцы бежали в никуда, не оставляя следов. И где год, где два? Бывало, вспоминая какое-то событие, Ольга с удивлением и страхом осознавала, что оно произошло не вчера или на прошлой неделе, нет – минуло пять лет, или даже десять. Как это возможно? Кто имеет право так беззастенчиво воровать её жизнь?
Представляя себя лодочкой, несущейся по бурной реке, Ольга, однако, была уверена в своей безопасности. Нет силы, чтобы перевернуть её и утащить на дно. Она обязательно доберётся до чего-то иного, пусть это и случится нескоро. Однажды всё пропадёт: швейная машина, цех, дом, муж, мать с её претензиями и нытьём, всё – и Ольга пристанет к берегу и, обретя новую плоть, побежит налегке к яркому свету.
Посмотрев на готовый халат, она бросила его в корзину к другим. Какой по счёту, она не знала. Очередной брак, пошитый вкривь и вкось.
Под конец рабочего дня из своей директорской каморки вышла Сутулова и объявила о том, что из-за сокращения заказов – и это уже точно – им придётся уволить трёх швей. Кого именно, сейчас решает начальство.
– Девочки, дело серьёзное, – добавила она, прежде чем уйти.
Хотя до конца смены оставалось полчаса, никто не шил, все обсуждали новость. Ворчали, ругали начальство. Иванова удалилась с подружками курить на улицу. Ольга, голова которой снова горела, взяла сигарету и пошла в курилку, и там, стоя у пожарного щита, едва могла высечь огонь из зажигалки.
Неподалеку топтались две швеи куда старше неё, пенсионерки. Курили молча, но их мысли были одинаковыми, обращёнными исключительно к ней.
«Она первая, – размышляли женщины, – как пить дать уволят».
Ольга дымила, не чувствуя ни губ, ни языка, ни вкуса сигареты. Она ошибалась. Она не просто неслась по реке времени, а приближалась к водопаду. Было ошибкой надеяться на что-то.
Докурив, Ольга вышла из комнатки в коридор, где столкнулась с Ивановой.
– Не дай бог, уволят кого-то нормального, – сказала та, грубо напирая, почти прижимая Ольгу к стене. – Не дай бог. Это всё из-за тебя. Всё ты.
– Почему? – спросила Ольга, с трудом удерживая зрительный контакт с этой страшной женщиной.
– Потому. Ты же убожество. Посмотри на себя!
Иванова улыбнулась во всю ширь. Ольга подбирала слова, очень хотела что-то ответить так, чтобы выглядеть достойно. У неё дрожали губы.
– Овца, – бросила Иванова и пошла в сторону курилки. За ней потянулся целый шлейф подпевал, и в помещении, где густо висел дым, сразу вспыхнули разговоры и мрачный смех.
Кое-как добравшись до раздевалки, Ольга взяла вещи и выбежала одной из первых на крыльцо, в августовские сумерки.
Постояв несколько секунд, спрыгнула со ступеней и пошла вдоль бровки тротуара под низко растущими ветками яблонь. В ушах у неё гудело. Воздух нёс запах листьев, травы и почему-то крови.
Остановившись там, где соединялись улицы, Ольга посмотрела направо. Если пойти туда – окажешься на трассе, огибающей посёлок и уходящей в неизвестность. Если привычно повернуть налево, то скоро попадёшь домой, вот она стоит, серая пятиэтажка.
Ольга достала телефон и проверила, есть ли что-нибудь новое. Никто ей не звонил и не писал. От мысли, что мать пойдёт к отцу в больницу, сочувствовать ему, жалеть, вспоминать их общее прошлое, она расплакалась. Мать никогда не позвонит и не придёт, чтобы пожалеть её.
Утирая слёзы ладонью, Ольга озиралась по сторонам – может, кто окажется поблизости, – но видела только пустоту. Дома и деревья напоминали картонные декорации. Жили здесь люди хоть когда-нибудь?
Ольга двинулась направо, убыстряя шаг. Ветер налетел на неё, надавил, задул в лицо, разметал жидкие короткие волосы. Но она шла. Мимо кустарников, мимо стоящих торцом к дороге домов, мимо парковки и бани на другой стороне проезжей части, мимо колдобин и трещин в асфальте.
Наверное, стоило не ждать, а просто сделать шаг. Взять и пойти. Уже не имеет значения куда.
Но улица вела Ольгу всё дальше, пока не бросила у самого края трассы. Мимо неслись легковые машины, автобусы, длинные фуры, невыносимо ревущие лесовозы. Из ниоткуда в никуда был их путь, и они исчезали вдали.
Мокрые щёки Ольги холодил ветер. До неё наконец дошло. Она всё поняла.
Муж вернулся поздно, вошёл в квартиру, затопал, зазвенел ключами. Не зажигая свет, Ольга встала с кровати, одёрнула покрывало и отправилась на кухню разогреть ему ужин. Муж взглянул на неё жёлтыми глазами, состроил гримасу. Заперся в ванной, стукнув дверью.
Ольга включила газ под сковородкой, включила чайник. Стояла возле окна, глядя на двор.
Муж пришел на кухню, на ходу вытирая лицо полотенцем. От него пахло чужими людьми, машиной, бензином, грязью улиц, о которых Ольга не имела понятия.
Она не спрашивала его, как дела, почти никогда, но он сам охотно начинал говорить, как только усталость немного отступала.
Сев напротив и наблюдая за движениями ложки в его руке, Ольга на секунду ощутила себя невесомой, как пылинка в луче солнца. Странное это было чувство, непонятное – и ненужное.
Час спустя позвонила мать.
– Отец умер сегодня. Я была там. Жаль, что ты не пришла. Да. Совсем был чужой какой-то. Как мумия, ты бы видела! Что болезнь делает… Слушай, нам надо пойти на похороны. Надо. Ты как? Пойдёшь? Не передумала?
Муж спал. Ольга сидела в темноте возле окна и слушала.
Было так тихо, как ещё никогда на свете.
Конфеты Светы Пшеницыной | Александр Олексюк
Света Пшеницына была худощавой пятиклассницей с немного мышиным, выступающим вперёд лицом. Каждое утро мама заплетала ей две тугие косы, отчего кожа на голове девочки стягивалась, и Света ещё более походила на мышку. Это было маленькое, бледное существо с синими прожилками вен на висках.
Свету не любили в классе, к ней относились как к тени, как к блёклому растению на подоконнике в кабинете физики: не то алоэ, не то каланхоэ – что-то неважное и пустое, Акакий Акакиевич с двумя крысиными хвостиками. Особых успехов в учёбе она не делала, ни с кем близко не общалась, ходила в чистых, но вытянутых от постоянных стирок блузках и старомодных, доставшихся от старшей сестры платьях. Света родилась в многодетной, бедной семье, и одноклассники ей этого не простили.
Школьники девяностых быстрее родителей усвоили законы нового мира с его жаждой обогащения и наживы, отчего искренне считали бедность пороком, хотя и сами могли ходить в порванных туфлях. Однако если дырявая подошва на штиблетах Пети или Марины иной раз мимикрировала под ухарство и разгильдяйство, то полинявшие юбки Светы кричали о нищете. Бедность Пшеницыной слишком сильно бросалась в глаза, а девочка не хотела или не умела её скрывать.
На одном из уроков русского языка класс писал контрольную работу. Учительница, сгорбившись, сидела за столом и проверяла сочинения. Тема: «Самый лучший день в моей жизни».
Наследие Пушкина и Толстого в пятый «Б», как румяный блин на лопате, заносила Галина Петровна – усталая женщина средних лет. На уроки она приходила в модном по тем временам пиджаке зелёного цвета с вшитыми в плечи поролоновыми подплечниками. Из-за этого учительница напоминала штангиста и вызывала смутные ассоциации с папой Влада Колунова, который «держал рынок» и щеголял в таком же, только малиновом, пиджаке.
– Черт-те что понаписали, – прорезал тишину немного хриплый голос Галины Петровны. – Пшеницына!
Света вздрогнула и испуганно посмотрела на учительницу.
– Ну, что это такое? Ну, подумаешь, ну сходила, поела, разве ж это лучший день в твоей жизни? – с недоумением спросила педагог. Уже давно она воспринимала детей, как некую однородную пёструю массу – липкий навозный шарик, который она, подобно жуку-скарабею, должна толкать в направлении последнего звонка и выпускных экзаменов. Разумеется, с таким отношением ни о какой деликатности не могло быть и речи, к тому же о финансовых проблемах Пшеницыных учительница, скорее всего, не догадывалась, своих хватало.
– Там же не только про это. Там как с папой в телескоп смотрели ещё было, – тихо, едва живая, ответила Света, но её уже никто не слушал. Класс утопал в хохоте. Школьники быстро соотнесли «лучший день в жизни Светы Пшеницыной» с её выпуклой, голодной нуждой и стали надрываться от смеха.
Вообще, они часто над ней смеялись: называли девочку «Света-инфекция». Почему именно «инфекция», сказать затруднительно. Скорее всего, логической причины здесь не было, просто в такое определение трансформировался образ худой школьницы в заштопанных колготках. Советский психотерапевт Владимир Леви описывал похожий случай. Дети заметили, что папа одного из одноклассников постоянно ходит с пузатым туристическим рюкзаком. «Твой папа, что – бард?» – спросил кто-то из детей. «Ну да, бард. А ещё турист», – ответил ребёнок. На основании отцовского хобби мальчика стали называть Килиманджаро: всё ж, папа – турист, походник. Альпинист, стало быть. А значит, пусть будет Килиманджаро. Но «Килиманджаро» – слишком сложное и длинное слово, поэтому вскоре оно трансформировалось в «Кильку». Для взрослого человека это странная и нелогичная история, при чём тут килька? С другой стороны, какая разница, если школьники затравили одноклассника этой «килькой» до умопомешательства.
До полного исступления Свете было ещё далеко, она привыкла к насмешкам, и когда такое случалось, немного втягивала голову в плечи, подобно боксёру. Однако вместо того, чтобы стремительно атаковать обидчиков, замирала в этой нелепой позе, как гипсовая статуэтка. Когда девочка проходила мимо старой технички бабы Вали, та цокала языком и называла её «крошечкой-хаврошечкой».
У Пшеницыной имелась старшая сестра Лена, уехавшая в другой город, а также трое маленьких братьев. Младший – Саша – учился в первом классе этой же школы. И всю осень до первых холодов проходил в лыжных ботинках, других не было. В семь-восемь лет дети ещё не понимали, что к чему, и необычные ботинки даже произвели некоторый фурор среди одноклассников. В десять-двенадцать такое уже не пройдёт.
Мама Светы – рано постаревшая, когда-то красивая женщина с вечно слезящимися печальными глазами – трудилась уборщицей в ЖЭКе, говорила тихим голосом и почти никогда не улыбалась. Тяжёлая, кособокая судьба сделала её похожей на реквизит из подсобного помещения – тёмно-синий халат, дополнение к железной «лентяйке» и пара рук, выжимающих тряпку и заплетающих косы на маленькой крысиной головке.
Считается, что в бедах Пшеницыных был виновен глава семейства, алкоголик дядя Игорь. Массово разводиться с пьяницами женщины начнут чуть позже, в начале нулевых, а в девяностые ещё почему-то терпели их. И постепенно привыкая к солёному вкусу слёз, жили в аду.
Дядя Игорь когда-то работал в этой же школе учителем физики и астрономии. С конца восьмидесятых он начал регулярно пить. В этом ему помогали татарин-трудовик Марат Радикович и школьный баянист, работавший учителем физкультуры и музыки одновременно. Игорь Викторович приходил на уроки пьяным, зачем-то рассказывал детям, как собирать и есть мухоморы, выпивал со старшеклассниками в туалете и наконец был с позором уволен.
«Пшеницына, у тебя папка на углу валяется. Поди забери», – иногда говорили Свете одноклассники, и девочка, краснея от стыда как свёкла, бежала прочь. Она любила отца. В редкие дни, когда Игорь трезвел, он доставал с верхней полки хромого шифоньера телескоп, который по какой-то иррациональной причине не пропивал, и вместе с дочкой забирался на крышу, где показывал ей лунные кратеры и созвездия.
В четверг в расписании пятого «Б» друг за другом шли два урока у Галины Петровны. Сначала русский язык, а потом литература. В тот день Света не стала уходить на перемену – обычно положенные десять минут отдыха она стояла у окошка и о чём-то мечтала. Вместо этого девочка достала из рюкзака большой полиэтиленовый пакет и стала ходить по рядам, аккуратно раскладывая у каждого места по пухлому прянику и по две конфеты: шоколадной «Каракум» и сосательной – «Барбарис». Когда прозвенел звонок, толпа детей ворвалась в кабинет. Школьники расселись.
– А откуда конфеты и пряники? – спросила Марина Овчинникова.
– Это Пшеницына разложила, – ответила Инна Мулаева. Она видела, как девочка раскладывала угощения по партам.
– Света, у тебя что, день рождения? – раздался хриплый голос Галины Петровны. В своём огромном пиджаке учительница возвышалась над классом и казалась изумрудной горой, раскинувшейся под лучами «солнца русской поэзии».
– Помяните папу, – тихо ответила Света.
– Что? – не расслышала учительница.
– Помяните папу, – чуть громче сказала бледная Света. Прошлой ночью Игорь Викторович не проснулся. Сердце любителя астрономии не выдержало очередного запоя.
В классе стало тихо-тихо. Дети, привыкшие смеяться над Светой-инфекцией, стоило ей сказать хоть какое-нибудь слово, внезапно замерли. Поминальные пряники и конфеты оказались заговорёнными: ехидство растворилось, острые языки размякли, никто не знал, что сказать. Для всего класса Света предстала ещё более блёклой и бледной, однако из разряда каланхоэ она в одночасье перешла в категорию человека. Ведь, оказывается, у неё тоже есть папа. Пьяница, который тонул в луже у «наливайки». А потом его мокрого везли в вытрезвитель.
– Что делать-то надо? – нарушил тишину Влад Колунов.
– Ну, просто берёшь пряник и ешь, – ответила отличница Катя.
– Надо подумать что-то хорошее о человеке или сказать что-нибудь хорошее, – добавила Марина.
– Хорошее… – задумчиво произнесла Галина Петровна. – О любом человеке можно сказать что-то хорошее. Давайте ешьте, помяните папу Пшеницыной и открывайте рабочие тетради.
Дети активно зажевали, а Света неподвижно сидела за партой и не отрываясь смотрела куда-то поверх голов одноклассников. Из окна на неё падал весенний свет, такой яркий, что казалось, он вот-вот зажжёт застиранную блузку и два крысиных хвостика на белой маленькой голове.

Цыля | Олег Золотарь
Водитель Иван Цылин сдал дежурному автоколонны ключи от своего ЗИЛа, небрежно расписался в журнале, выскочил из диспетчерской и быстрым шагом направился в сторону гардероба, старательно избегая встреч с коллегами при помощи одичалых клумб и брошенных полуприцепов.
Многие водители тоже успели вернуться из рейсов и теперь устало суетились возле своих автомобилей: протирали лобовые стёкла, осматривали днища, перебрасывались фразами друг с другом или прямо со своими многотонными товарищами.
Цылина не удивляло подобное отношение людей к автомобилям. И хотя свой потрёпанный ЗИЛ он бросил, едва заглушив мотор, как опытный водитель он прекрасно понимал и разделял чувства своих коллег.
Все эти ЗИЛы, МАЗы, КраЗы могли выглядеть бездушными железяками только с самого утра, до первого поворота ключа зажигания. А вот после, с каждым намотанным километром, эмоциональный расклад окружающего мира претерпевал ощутимые изменения. Возможно, свою роль в этом играла пыль, которая не признавала разницы между одушевлёнными и неодушевлёнными объектами и покрывала их с одинаковым безразличием. Возможно, дело было в усталом воображении самих людей, стремившихся вложить в окружающий мир чуть больше одухотворённости, чем тот обычно демонстрировал сам. Но, так или иначе, к концу дня все эти железяки обретали индивидуальность и даже умудрялись перенимать отдельные черты своих водителей, вследствие чего между людьми и машинами возникала эта странная, почти сентиментальная связь.
Цылин бежал от своего автомобиля и коллег вовсе не потому, что ему надоели бесконечные нелитературные вариации насчёт сорванных сцеплений, спущенных баллонов и лживого целомудрия дорожных инспекторов. На самом деле он был совсем не против почесать язык подобными темами. Но в последнее время, едва отмотав положенные километры просёлочных дорог, Цылин вынужден был спешить к месту своего дополнительного заработка. Заработка, который выносил фундаментальные вопросы одушевлённости на принципиально иной уровень и требовал от Цылина напряжения всех его сил.
Часть этих сил приходилось расходовать на то, чтобы не быть привычным для всех Иваном Цылиным – словоохотливым и общительным водилой, душой любой компании (даже если одушевлённым в этой компании оказывался только он сам). Другую – чтобы стоически переносить насмешки со стороны коллег, которые упорно не желали соблюдать дистанцию в своих мнениях относительно моральной стороны приработка Цылина.
Эта сторона и вправду была крайне неоднозначной, и сам Цылин это прекрасно понимал.
Но других возможностей заработать денег у них на селе не было, а окружающий мир продолжал напоминать о своей малоодушевлённости невыплаченным кредитом за выкуп совхозного дома, недостроенным сараем и столичной учёбой дочерей, которая хоть и подразумевала под собой их дальнейшие жизненные перспективы, но пока оборачивалась лишь ежемесячными денежными взносами, обеспечить которые при помощи неспешных бесед со своим ЗИЛом Цылин не мог, как бы ему этого ни хотелось.
Поэтому, в очередной раз переключив внимание с моральных переживаний на циферблат своих часов, Цылин только прибавил шагу.
* * *
В гардеробе, кроме водителей Василия Коробейникова, Лёхи Марокантова и Целлофена Макаровича Чинзе (самого уважаемого и опытного сотрудника их автобазы), пока никого не было. А значит, в душ Цылин, как и рассчитывал, проходил в первых рядах.
– Привет, Иван! – с насмешливой ухмылкой поприветствовал Цылина Василий Коробейников. – Что-то ты сегодня особенно рано!
– А чему тут удивляться? – тут же съязвил Марокантов, презрительно покосившись в сторону Цылина. – Не терпится человеку за государственные банкноты задницу частную лизать!
Если подколку Коробейникова Цылин вполне мог бы проигнорировать (в сущности, Васька был хорошим мужиком, хоть и не умел противостоять сквознякам общественного мнения), то выпад Марокантова оставить без внимания было невозможно. Пару лет им пришлось работать напарниками, и Иван до сих пор не мог простить Марокантову привычку пропивать запчасти с их общего ЗИЛа.
– Жопе слова не давали! – энергично огрызнулся Цылин, снимая комбинезон и стараясь не смотреть в сторону своего обидчика.
Он давно понял, что на любые насмешки коллег лучше всего реагировать ёмкими и короткими фразами, не предполагающими под собой протяжённой диалектической перспективы. Но с Марокантовым это срабатывало далеко не всегда. Внутренняя диалектика этого человека слабо сочеталась со здравым смыслом и не упускала случая агрессивно проявляться вовне в виде банального мордобоя.
Вот и сейчас лицо Марокантова мгновенно побагровело, кулаки сжались, а ноги демонстративно сделали несколько решительных шагов в направлении Ивана.
В самый последний момент в ситуацию вмешался многоопытный Целлофен Чинзе, седые брови которого показались над дверцей шкафчика.
– Захлопнись, Лёха! – хриплым басом одёрнул он Марокантова. – Ваньку не тронь! И впредь не смей! Сейчас всякий вертится, как только может. А Ванька, он для семьи старается! Это дело святое, всякое неудобство извиняющее. Это тебе, Лёха, лишь бы на пропой.
– Макарыч, ты вообще слыхал, что эта шавка протявкала? – попытался оправдать точку зрения своих кулаков Марокантов, но снова был оборван на полуслове опытным ветераном.
– Помалкивай, Лёха, помалкивай! Сам живи, как знаешь, а других не тронь! И ты, Иван, тоже не торопись жопами каждого несогласного с твоей жизнью называть! Оправдываться тебе не за что, а значит, и внимания обращать на всяких свистунов нужды нет. Работать везде по спокойствию нужно. Уж кем работаешь – тем и трудись! Главное, чтобы польза от этого была. Тебе ли, другим – разницы нет. Кстати, если там место какое освободится, ты мне словечком обмолвись. Годы у меня уже не те за баранкой сидеть, а заработок не помешает. Тоже ведь семья будь здоров.
– Макарыч, и ты туда же? – не веря своим ушам, спросил Марокантов.
– А что? – невозмутимо ответил Целлофен. – Я за свою жизнь знаешь сколько
дерьма перевозил?
Любой спор или разговор, который Целлофен завершал этой фразой (а ей он завершал каждый без исключения спор или диалог), сразу же приобретал в глазах коллег многотонный вес истины, поколебать которую мог только человек, в масштабах своей трудовой книжки не уступавший Целлофену. Но раз уж таковых на автобазе не осталось, мнение этого угрюмого водилы, проработавшего всю жизнь на свинокомплексе и действительно перевозившего за свой век слабо вообразимый среднестатистическим человеком тоннаж нечистот, враз охлаждало пыл любого оппонента, невзирая на должность, размер кулаков или модель внутренней диалектики.
Целлофена уважали железно, и Цылину было приятно ощутить поддержку этого сурового, несгибаемого человека.
Приняв душ и переодевшись, он бодро вышел с территории автобазы и направился вниз по улочке, насвистывая какую-то навязчивую мелодию, напоминавшую не то скрип заднего моста его ЗИЛа, не то одну из патриотических песен советского кинематографа.
Место, где он подрабатывал, находилось от автобазы минутах в двадцати ходьбы, и теперь Цылин мог не волноваться на счёт опоздания. Настроение его ощутимо улучшилось. Сейчас было важно сконцентрироваться на этом настроении и постараться не думать об очередном дне, проведённом вне дома, и о дочерях, которые обещали в скором времени приехать погостить и которых Цылин в очередной раз рисковал не увидеть.
По договорённости со своим работодателем Цылин отдыхал лишь один день в неделю. Всё остальное время он вынужден был разрываться между агрессивными мнениями коллег и ненавистными обязанностями, к выполнению которых вот-вот должен приступить.
«Чтобы жить по-человечески, нужно не всегда оставаться человеком!» – попытался подбодрить себя Цылин, подходя к трёхэтажному особняку Вацлава Михлюка, «хозяина», как называли его все в округе, трудовые отношения с которым сам Цылин временами расценивал как редкую удачу, а иногда считал худшим проклятием своей жизни.
* * *
Вацлав Михлюк был местным уроженцем, и многие жители посёлка помнили его ещё босоногим мальчуганом – скрытным, злопамятным, склонным к воровству. Сам Цылин, уступавший Вацлаву двумя годами возраста, в школьной столовой не раз становился объектом его атак – жестоких, напористых и, по своему существу, крайне мелочных (Вацлав имел обыкновение отбирать у младших детей еду и компот).
Матери Вацлав лишился ещё в младенческом возрасте (она была жива, но жива где-то совсем в другом месте, подальше от сельских трудов и забот), а его отец, Игнатий Михлюк, всю жизнь проработал трактористом в местном совхозе, ничем не выделяясь в трудовых показателях, но зато сильно выделяясь своей тягой к спиртному.
Своего сына Игнатий воспитал в духе наглядного наплевательства, что, вероятно, и предопределило хищный характер юного Вацлава. Сам Вацлав с лихвой отдал должное воспитательным методам отца и, едва повзрослев, уехал в город, после чего на долгие годы забыл об отчем доме и его одиноком спивающемся обитателе.
И хотя жители посёлка не так уж сильно горевали по поводу отъезда Вацлава, временами они всё же позволяли себе глубокие и тяжёлые вздохи о его очевидной судьбе, которая, по их твёрдому убеждению, должна была закончиться где-нибудь под забором.
Только вот у судьбы насчёт Вацлава планы оказались совершенно иные.
И вот теперь Цылин, в школьные годы люто презиравший Вацлава за его тупость и немытость, неуверенно подходил к трёхэтажному особняку, обнесённому добротным забором, возле которого в последние дни стали появляться штабеля силикатного кирпича и прочих стройматериалов. Судя по всему, Вацлав снова планировал что-то сооружать на своём участке, и размах подготовительных работ говорил, что речь шла о чём-то внушительном. Например, о второй бане или гостевом домике.
Денег у Вацлава было много, и он легко позволял себе сомнительные траты, принося жертвы божествам своей судьбы, продолжавшей с фанатичным упорством благоволить ему – владельцу компании по производству картофельных чипсов, хозяину сети пивных магазинов и соучредителю нескольких столичных рынков.
То, что с возрастом Вацлав неожиданно решил перебраться обратно в деревню, на первых порах вызвало немалое удивление окружающих, но в своём намерении Вацлав оказался неожиданно твёрд. Старательно сравняв с землёй избу батьки-тракториста и отгрохав на её месте упомянутый особняк, он частично доверил управление своими заводами и офисами голодным городским родственникам своей супруги, после чего вплотную принялся за воплощение своей мечты о спокойной сельской жизни.
«С годами понимаешь, что всё, что тебе нужно – это свой домик в деревне и небольшое хозяйство. Так, для души», – говорил он односельчанам, которые, не привыкнув к подобным масштабам жизненного благополучия, далеко не сразу научились испытывать зависть к этому некогда грязному и нелепому человеку.
И хотя со временем зависть всё же заняла в их сердцах привычное место, возможность получать деньги благодаря необузданным порывам Вацлава заставляла многих, подобно Цылину, переступать через свои небогатые убеждения и искать подработку у этого местного олигарха.
* * *
Отворив массивную калитку, Цылин зашёл во двор и осмотрелся. Оба хозяйских автомобиля были на месте, значит, всё семейство Михлюков пребывало сегодня дома. Несмотря на то, что так оно было практически каждый день (Вацлав уезжал на какие-то советы директоров максимум два раза в неделю), Цылин всегда надеялся, что свои обязанности ему придётся выполнять без надзора со стороны хозяев.
В любом случае выбора у Цылина не было. Следовало приниматься за работу.
Выключив звук на мобильном и положив пакет с личными вещами у забора, Цылин расстегнул верхние пуговицы рубахи, поднял с земли красивый кожаный ошейник и отработанным движением застегнул его на своей шее.
Теперь Цыле, по идее, следовало подать голос, поставив хозяев в известность, что он в оговорённое время приступил к исполнению своих обязанностей. Но делать этого Цыля не стал.
Вместе со щелчком ошейника та лёгкость, которая сопровождала его всю дорогу от автобазы, из него стремительно исчезла: в отличие от Цыли, сидеть на цепи она не собиралась.
Цыле и вовсе захотелось забраться в будку и провести в ней остаток вечера. Но пока, пользуясь тем, что хозяев во дворе по-прежнему не наблюдалось, он решил перекурить.
Сам Вацлав к курению Цыли относился совершенно спокойно и часто составлял ему компанию, но вот супруга Вацлава Марианна, склочная и подёрнутая беззаботным алкоголизмом натура, очень не любила, когда Цыля курил на виду, и каждый раз требовала от Вацлава лишить Цылю премии.
Покурить «по-человечески» Цыле не удалось и сегодня – стоило ему несколько раз затянуться помятой папиросой, как дверь веранды скрипнула, и во двор выпорхнула Лиза, восьмилетняя дочь Вацлава. Сам хозяин вместе с супругой Марианной показался в дверном проёме следом, изрядно помятый и сонный.
Кажется, супруги только что очнулись после своего традиционного дневного сна (традиционного в той же степени, что и утренние возлияния) и решили развеяться привычным вечерним бездельем.
– О! Цыля пришёл! – радостно залепетала девочка и бросилась к Цыле, едва успевшему выбросить окурок за забор. – Цыля! Цыля! Цыля!
– Лиза! – тут же раздался строгий голос Марианны. – Опять к собаке лезешь? Вацлав, ну скажи ей!
– Да пусть поиграется. Что ей Цыля сделает? – сонно ответил Вацлав, почёсывая живот.
– Ну, вот и не говори потом, что я не предупреждала! – нервно ответила супруга, после чего направилась куда-то в сторону сада.
Проводив супругу безразличным взглядом, Вацлав спустился с веранды, подошёл к Цыле и пожал ему руку.
– Привет! – сказал Вацлав. – Давно тут?
– Только пришёл. К пяти, как и договаривались.
– Ну да… Сигарета есть? А то домой возвращаться неохота.
Цыля достал пачку и протянул Вацлаву, выудив заодно сигарету и для себя.
Лиза тем временем продолжала дёргать Цылю за штанины и громко посвящать его в весёлую рутину своего очередного беззаботного дня.
– А я сегодня в школу не пошла. Мама и папа сказали, что сегодня не нужно, потому что отвезти некому. Поэтому я утром в бассейне купалась, даже несмотря на то, что сегодня холодно. Мама сначала не разрешала, а папа разрешил. Сказал, что раньше дети всё время босиком бегали и в дождь, и в снег, потому и здоровыми были. А если бы ты к нам прямо с утра пришёл, мы бы вместе купались. Правда, папа?
– Лиза, брысь! Слышала, что мама сказала? – грозным тоном осёк дочь Вацлав. – В самом деле, оставь Цылю в покое! Иди займись чем-нибудь!
– А чем?
– В песочнице поиграй! – предложил дочурке Вацлав.
– Не хочу!
– В сад сходи, свинкам яблочек принеси!
Лиза на секунду задумалась, но идея отца всё-таки пришлась ей по вкусу.
– А в лукошко насобирать или прямо в руках принести? – спросила она.
– Можешь и так. Мать свиней сегодня уже кормила, они не голодные будут, – ответил Вацлав, прикуривая. – Фух! Ну и денёк!
По помятому виду хозяина было несложно определить, что денёк этот был совершенно такой, как и все остальные – наполненный коньяком и планами, отдающими смелым самодурством.
– Трудности? – из вежливости поинтересовался Цыля.
– Да утром со строителями разговаривал… Ну и люди! – махнул рукой Вацлав.
– Цену загнули?
– Да не в цене дело. Видел стройматериалы?
Цыля кивнул.
– Решил я свинарник нормальный построить. Ну, раз держу свиней не для прокорма, а так, для души. В этом им тесно, – Вацлав кивнул на небольшой деревянный сарай с загоном, который стоял в шагах двадцати от будки Цыли и представлял из себя то немногое, что досталось Вацлаву в наследство от отца. – Да и старый он, ненадёжный. Помнишь, как у нас в детстве было: если свинарник, значит обязательно покосившийся, заплывший говном и соломой? Вот я и решил, что нужно всё организовать по-другому, как в лучших, передовых хозяйствах. И нанял не абы кого – профессионалов, из города. И знаешь что? Проект, говорят, составлять надо. Мол, если постройка с коммуникациями, – расшибись, но надо! Да я и не против, но какой же это тогда сарай? Придётся, видно, местных подрядить. Эти моментом построят… Ну а потом коньяку жахнул. Нервы, нервы…
Лиза вернулась из сада, неся в подоле своего пёстрого платья яблоки, и принялась звать своим звонким голоском обитателей сарая:
– Свинки! Кушать! Свинки! Кушать!
Через минуту на призыв ребёнка из низкой двери показалась первая свинья. Это был Мишка Пупылёнок, грузный бобыль лет сорока пяти, поношенная милицейская рубаха которого раньше часто мелькала на просторах посёлка. Милиционером Мишка на самом деле никогда не был – рубаха досталась ему в качестве гуманитарной помощи от кого-то из жителей села. Работать Мишка сильно не любил и до того, как попасть к Вацлаву, предпочитал перебиваться мелочным соседским прихлебательством и пенсией своей старушки-матери.
Мишка был первым, кто появился в хозяйстве Вацлава, и в силу этого всегда имел какой-то особенно гордый вид, предпочитая всё делать молча и не торопясь. Вот и сейчас, едва махнув рукой в знак приветствия Цыле, он взял яблоко у Лизы и, опершись локтями на изгородь, принялся неспешно жевать.
Следом из сарая показались ещё две свиньи – некогда работавшие на колхозной ферме Витька Шишев и Гарик Пацук, с позором оттуда уволенные по причине алкоголизма и сопутствующего ему воровства. С ними Цыля близко знаком не был, но даже с первого взгляда на них можно было с уверенностью сказать, что с выполнением своих обязанностей они справляются более чем убедительно. Взяв у Лизы по яблоку, они громко принялись их есть: скорее для того, чтобы позабавить ребёнка, нежели от голода.
– А ещё свиней заводить не планируешь? – поинтересовался Цыля у Вацлава, вспомнив просьбу Целлофена. – Ну, когда сарай новый построишь?
– А хрен его знает. Как по мне, так больше и не надо. В мясе не нуждаюсь, сам понимаешь. А так, для души, троих, наверное, и достаточно. А что?
– На работе кое-кто из коллег интересуется. Отличный мужик! О свиньях знает больше, чем любой другой – всю жизнь водителем на свиноферме.
На Вацлава жизненные достижения Целлофена особого впечатления не произвели.
– Ну, не знаю. Надо с Марианной поговорить. Слушай, а ты, кстати, есть не хочешь? – вдруг подхватился Вацлав. – Ты ж после работы. Сейчас принесу!
– Да не особо, – махнул рукой Цыля.
– Да ты не волнуйся, я тебе из холодильника принесу. Со стола только свиньям скармливаю – они не брезгуют. А тебе свежего нарежу. Колбаса, сало. И ещё кое-что, – многозначительно подмигнув, сказал Вацлав.
Цыля знал, что Вацлава отговаривать бесполезно, и поэтому молча кивнул головой в знак неизбежного согласия.
Вообще, нужно было признать, что в своём самодурственном благополучии Вацлав был человеком весьма щедрым. Помимо оплаты, он всегда кормил всех обитателей своего хозяйства, а иногда и вовсе мог порадовать их чем-то более притягательным для сельского обывателя.
Вот и сейчас Вацлав выскочил из дома, неся в руках внушительных размеров миску с разного рода едой и две полуторалитровые бутылки пива, одна из которых предназначалась для самого хозяина, а другая, вне всяких сомнений, для Цыли.
Сам Вацлав поглощал пиво в объёмах, сравнимых с производительностью небольшого, но прогрессивно развивающегося предприятия, оправдывая подобные возлияния тем, что, будучи владельцем сети пивных магазинов, он лично несёт ответственность за качество товара.
И хотя Цыля в целом был человеком непьющим, пропустить пивка после тяжёлого трудового дня он также не возражал. Тем более, что Марианны поблизости по-прежнему видно не было.
Свиньи, заметив похмельный энтузиазм хозяина, быстро дожевали яблоки и с нескрываемым любопытством устремили свои взгляды на Вацлава, но сегодня хозяин явно намеревался провести вечер со своим псом. С перепоя за ним это водилось, и Цыля (к своему стыду) иногда даже испытывал по этому поводу что-то вроде гордости.
– Фух, – выдохнул хозяин, разом осушив половину бутылки. – Не идёт пиво с перепоя, представляешь? Раньше только им и спасался, а теперь…
– Мама, мама! А папа опять Цылю пивом поит! – тут же раздался звонкий возглас дочурки Вацлава, которой уже наскучили свиньи и которая вновь активно не знала, чем себя занять.
– Ты опять за своё?! – отозвалась Марианна, которая как раз возвращалась из сада. – Всё не угомонишься?! То свиней напоит, то собаку. И так толком не лает, а как пива напьётся – дрыхнуть всю ночь будет. Заходи, бери что хочешь! За что, спрашивается, мы ему деньги платим?!
– Много ты понимаешь! – сонно огрызнулся Вацлав. – Цыля своё дело знает! Правда, Цыля? Вор не пройдёт!
– Только если этот вор храпа боится, – продолжала кричать Марианна, отмахиваясь лопухом не то от комаров, не то от своего раздражения. – Ты вообще на себя посмотри, задумайся – сидишь, с собакой разговариваешь!
– Да с ним, в отличие от тебя, хоть по-человечески поговорить можно! – криво улыбнулся Вацлав, весело подмигнув Цыле.
– Лучше бы кур наших поискал!
– А что с ними?
– Отравились, видать, чем-то. Трое в саду под кустами лежат, стонут. Я им цып-цып-цып, а они даже подняться не могут. Ты их чем утром кормил?
– Шашлыком, – подумав, ответил Вацлав.
– Каким шашлыком?
– Который в субботу делали.
– Ты что, с ума сошёл?!
– Ну а что?
– Да он протух уже давно! Я же тебе говорила кашу курам сварить!
– Я с утра со строителями занимался, некогда было!
– Алкоголизмом ты своим занимался, а не строительством! Они ж теперь, чего доброго, подохнут!
– Чёрт их не возьмёт! – невозмутимо ответил Вацлав. – Просрутся – бодрее будут! Допивай, Цыля, я сейчас ещё принесу.
Последняя фраза хозяина вышла за границы терпения Марианны. От её крика даже свиньи, до того ещё питавшие надежду на выпивку, предпочли срочно укрыться в сарае.
– Если ты выпьешь сегодня ещё хотя бы каплю или нальёшь этой своей дворняге, я тебя собственными руками придушу, слышишь?! А ну пошёл кур остальных искать! Лежат где-нибудь под кустами или у соседей. Что о нас люди подумают? – прокричала Марианна, и, громко хлопнув дверью, скрылась в доме.
– Достала уже! Поназаводит хуеты всякой, а ты потом приглядывай за ней! – недовольно пробурчал Вацлав, направляясь в сторону сада.
Оставшись в одиночестве, Цыля спокойно допил пиво и метнул бутылку в сторону мусорного ведра, стоявшего у входа в веранду. Бутылка, срикошетив от корзины, некрасиво шлёпнулась на газон прямо напротив дверей. Чуть дальше, чем доставала цепь от ошейника.
Сперва Цыля хотел снять ошейник и отправить бутылку в мусорное ведро, но, подумав, решил всё-таки не рисковать. Супруга Вацлава находилась в доме и могла появиться в любую секунду. Без ошейника ей на глаза лучше было не попадаться вовсе.
* * *
– Ну, привет, дворняга! – вырвал Цылю из его цепных сомнений спокойный, вкрадчивый голос.
Обладателя голоса Цыля узнал сразу. Это был Егор Рябов, молодой парень, внешне чем-то сильно смахивавший на Пушкина (на чём все его достоинства, по мнению Цыли, и заканчивались), в недавнем прошлом – учитель математики в местной школе.
Подтвердив догадку Цыли, Рябов собственной персоной появился в дверях веранды.
– А хозяйка права, – сказал он, надменно пнув ногой брошенную Цылей бутылку. – С тебя и правда толку нет. Не будь Вацлав таким пропойным дегенератом, давно бы тебе под зад ногой дал.
Рябова Цыля ненавидел всей душой, и каждая их встреча заканчивалась руганью и взаимными оскорблениями. Регулярно дело доходило и до драк, для прекращения которых нередко требовалось вмешательство хозяев. К счастью, во дворе Рябов появлялся редко, предпочитая проводить время на диване перед телевизором.
– Как будто с тебя польза какая-то есть, – мрачно сплюнул Цыля.
– Конечно, есть! – сказал Рябов, присаживаясь на ступеньки веранды и предусмотрительно измерив взглядом длину цепи.
Цыля и без того знал, что до ступенек цепь не дотянется, но своё замечание относительно наглядной трусости Рябова решил оставить при себе. Хвастать своей наблюдательностью, сидя на цепи, было глупо и неуместно.
Кстати говоря, большинство насмешек Рябова, а заодно и коллег по автопарку, сводились примерно к этой же мысли, с небольшими вариациями. Только в отличие от тех же водителей, Рябов предпочитал дразнить Цылю не из каких-то жизненных или моральных принципов, а исключительно ради собственной забавы, что и выдавало в нём ту особую подлую породу, которую Цыля не переносил на дух и в сравнении с которой даже Марокантов выглядел чуть ли не эталоном благородства.
– Тут дело понимаешь в чём, – с наигранной задумчивостью продолжил Рябов. – Дело в искренности.
– В какой ещё искренности?
– А в такой. Вот ты работаешь собакой на полставки. И при этом испытываешь внутренние сомнения по поводу моральной стороны своего заработка, так? Вот и скажи мне тогда: какая польза может быть от сомневающейся полусобаки?
– А ты, стало быть, сомнений не испытываешь?
– Ни грамма, – на этот раз вполне искренне ответил Рябов. – Да и какие могут быть сомнения? Хозяева – моральные дегенераты. Платят хорошо и исправно. Работа непыльная. Последние два пункта особенно важные. Собственно говоря, только они и важные.
– А что люди думают, тебя не волнует? Извращенцами нас называют.
– Да плевать на людей и их мнение! Большинство из них с удовольствием заняло бы твоё место и спокойно получало деньги, не испытывая по этому поводу сомнений и не привлекая к этому свою мелочную, надуманную совесть.
– И ты вот так всю жизнь планируешь котом быть?
– Я что – идиот? Деньжат соберу и свалю нафиг от этих больных на голову уродов. Начну новую жизнь. Понимаешь? Я искренен, и в этом смысле моя совесть совершенно чиста. Поэтому и польза от меня есть. Польза для меня самого. А вот ты, как ни крути – всего лишь сомневающаяся недособака! Я думаю, дело даже не в том, что тебя волнует мнение окружающих, а в том, что ты и вправду переживаешь по поводу того, что тебе приходится быть собакой лишь наполовину. Вот поэтому ты и есть – самый настоящий извращенец!
Терпение Цыли закончилось, и он принялся нервно искать пальцами застёжку своего ошейника.
– А насчёт ошейника – это ты подумай хорошенько! – спохватился Рябов. – Я-то в дом удеру. Побежишь за мной – хозяйка опять Вацлава пилить начнёт, что ты с ошейника срываешься.
Цыля и без предупреждений Рябова оставил попытку освободиться от цепи. Бить морду коту прямо сейчас Цыле не хотелось. В конце концов, в словах Рябова чувствовалась какая-то особенно ясная правда. В сущности, он действительно исполнял свои обязанности недобросовестно и не раз ловил себя на мысли, что это волнует его не в меньшей степени, чем сама суть его работы. Те же свиньи трудились на своём поприще куда вдохновеннее, а Рябов и вовсе отличался от настоящего кота только тем, что не был котом (но в сложившихся обстоятельствах это, по мнению Цыли, существенной роли не играло). Поэтому сейчас действительно следовало полностью сконцентрироваться на деньгах и не обращать внимания на происходящее вокруг.
Воспользовавшись растерянностью Цыли, Рябов предусмотрительно скрылся в доме. А может, он просто заметил Вацлава, который, напустив на себя вид уставшего от бесконечных хлопот хозяина, как раз возвращался из сада. Судя по неуверенной походке, Вацлав успел прибегнуть к какому-то более радикальному средству избавления от похмелья – в бане или гараже у него наверняка имелась заначка на случай непредвиденных осложнений в отношениях с Марианной.
Окинув нетрезвым взглядом Цылю, он на пару секунд многозначительно задумался, после чего быстро заглянул в веранду и через мгновение вернулся с очередными пивными бутылями.
– Ты это куда? – тут же раздался из дома голос хозяйки.
О планах супруга она наверняка была предупреждена вездесущим Рябовым.
– Пойду Цылю выгуляю! – заплетающимся языком ответил хозяин. – Затосковал он уже, на цепи сидя.
– Какой Цыля?! С курами что делать?
– Да разобрался я уже с курами! По домам отпустил, пока не поправятся. А Николаевну уговорил в курятнике полежать, пообещал премию тройную. Она молодец, держится пока.
– Ну хоть не подохнут, а? – с тревогой поинтересовалась хозяйка, выглянув в окно.
– Пару дней отлежатся, и всё будет в порядке, – заверил её Вацлав. – А пару дней без кур, я думаю, мы переживём.
– Вот тебе всё просто – переживём, переживём… Нормальный хозяин давно задумался бы, что пора новых кур завести. Эти изначально слабые были – землю не роют, кудахтать не хотят. Хотя, что я тебе говорю, если у тебя даже собака не лает и полдня шатается неизвестно где?!
– Закрой рот! Цылю ругать не смей! Он вообще один, кто меня понимает! – проявил характер Вацлав, потрепав Цылю за плечо и собственноручно сняв ошейник. – Ну что, Цылька, пойдём погуляем! А эти бабы пусть и дальше из себя куриных королев корчат.
* * *
Отворив ворота и пропустив Цылю вперёд, Вацлав ещё немного поругался с супругой, после чего, громко хлопнув створкой, жестом указал Цыле в направлении совхозного поля, своего любимого места для прогулок.
От пива на этот раз Цыля отказался (завтра ему снова предстояло полдня крутить баранку, и с алкоголем переусердствовать не хотелось), и Вацлав с удвоенным энтузиазмом принялся вливать в себя содержимое бутылок.
– Вот так вот! – удовлетворённо сказал он, как только они с Цылей оказались за околицей. – Крутишься всю жизнь, как белка в колесе. Сам работаешь, других заставляешь работать, а всё для чего? Ты не знаешь, Цыля?
Цыля молча пожал плечами. Ответа на этот вопрос он действительно не знал, тем более если этот вопрос звучал из уст человека, который мог позволить себе почти всё.
– Не знаешь, – наигранно вздохнул Вацлав. – Да ты и не можешь знать, Цыля. Без обид, но чтобы понять подобное, нужно сперва чего-нибудь в этой жизни добиться. И добиться собственным лбом. Вот я тебе и скажу, Цыля, для чего всё это нужно. А нужно это, чтобы понять: для настоящего счастья нужно совсем другое. Не нужны миллионы, не нужны коттеджи, не нужны подчинённые. Это я раньше всегда мечтал уехать отсюда как можно дальше. От халупы батьковской, от запаха соляры, от кур, свиней этих грязных. А теперь…
Очередная бутылка пива резво пошла в ход, и Цыля начал всерьёз опасаться, что ему придётся обратно тащить хозяина на себе. Учитывая комплекцию Вацлава, это выглядело непростой задачей и к тому же выходило за рамки собачьих обязанностей.
– Вот видишь этот луг? – продолжил демонстрировать тайные закоулки своей души Вацлав. – Думаешь, я просто так сюда прихожу? Это ж колхозный луг, не мой. И колхозу на него плевать! Бурьян третий год стоит и ещё десять лет стоять будет, пока всё лесом не зарастёт. А ведь земля здесь – высший класс! Особенно под картофель. Одно время я даже подумывал этот луг у колхоза выкупить или арендовать. А ведь не стал. Знаешь, почему? А потому что нельзя всё в жизни подчинять целям и выгоде. И хозяйство своими руками держу не из блажи, кто бы что по этому поводу ни говорил. Не могу по-другому! Веришь? Как из города решили сюда перебраться, так Марианне и сказал – мол, только с хозяйством жить будем! Условие поставил, даже кулаком по столу бить пришлось. Потому что в деревне по-настоящему можно только с хозяйством жить! Ты вот говорил, что кто-то там с автобазы ещё ко мне хочет. Зови! Зови всех! Мне и свиньи ещё нужны, и петух. Без петуха куры совсем от рук отбились, жрут абы что, хворают. А мне нужно крепкое хозяйство! Я за настоящую жизнь! За искреннюю!
– А чего тогда настоящих животных не заведёшь? – спросил Цыля.
Ему захотелось немного унять красноречие Вацлава, который прямо посреди дороги решил справить малую нужду, и этим оскорбил ту часть сознания Цыли, в которой он оставался водителем.
– А вот это ты зря, – одёрнулся Вацлав, бросив протяжный и обиженный взгляд на Цылю. – Меня и так каждая собака этим упрекает – мол, самодур, людей за скот держу. Думаешь, я этого не вижу? Иной раз и вправду хочется соседей побесить от нечего делать, есть грешок. Но вот что касается скота, тут уж ты меня упрекать не смей! В этом я честен!
Тема для Вацлава была болезненной, и возмущение в его голосе стремительно уступало место плаксиво-обиженным интонациям.
– Ну не умею я с настоящими животными, понимаешь? – едва не пуская слезу, оправдывался Вацлав. – Хотел, пробовал – ничего не получается! Батька с хозяйством не ладил, вот и я не научился. Свиньи в говне топнут, куры дичают. Да и вообще, если растить настоящих, – что с ними делать потом? В мясе и молоке не нуждаюсь. А ведь порыв есть, понимаешь? Душа требует. Душа! И, на самом деле, нет разницы – настоящие это куры или нет. Взаправда, Цыля, это штука непростая! Она только внутри человека и существует. По внешнему о ней судить нельзя!
В том, что «взаправда» Вацлава действительно штука непростая, Цыля не сомневался. Сформировалась ли она во времена отбирания компота у младшеклассников или в смутные годы построения бизнес-империи (которая, если верить слухам, начиналась с торговли ворованными семечками), Цыля не знал. Но эта «взаправда» обладала способностью оказывать влияние на всё вокруг, и в этом, по мнению Цыли, Вацлаву следовало отдать должное. В себе самом, по крайней мере, Цыля подобной «взаправды» не ощущал. Наверное, именно поэтому он подрабатывал собакой у Вацлава, а не наоборот.
– Слышь, Цыля! – вдруг воскликнул Вацлав. – А давай ко мне собакой насовсем?! Что ты в своём автопарке кроме грыжи и геморроя заработаешь?
– Ну не знаю, – замялся Цыля, – у меня семья. Насовсем не получится.
– Ну, будет у тебя один выходной в неделю – никаких вопросов! С женой столько лет душа в душу живёте – чего друг друга чаще видеть? Да и для нас ты уже как член семьи. Дочурка в тебе души не чает, Марианна.
– Разве? – засомневался Цыля. – А мне кажется, хозяйка меня недолюбливает. Думаю, это кот Рябов её против меня науськивает.
– Я вообще котов не люблю, – поморщился Вацлав. – Они себе на уме, гадят где попало. Только этих баб ведь не поймёшь – нужно им, видите ли, чтобы подле них обязательно кто-то был. Тут уж лучше кот, чем мужик какой-нибудь.
Вацлав всё больше терял связь с реальностью, и Цылю это здорово начинало беспокоить.
– Запомни, Цыля, – продолжал настаивать на своей «взаправде» Вацлав. – В жизни нельзя быть кем-то наполовину! Ни дома, ни на работе – нигде! Так что соглашайся! Оклад я тебе сразу удвою, в дом пускать буду! И плевать, что Марианна на это скажет! Ну?
– Не знаю, надо подумать…
– Ну так думай! Я ведь тебя ещё щенком помню. Компот в школьной столовой у тебя отбирал, – усмехнулся Вацлав.
– Угу, – мрачно кивнул головой Цыля, которому подобные воспоминания не улучшали настроение.
– Да ты на меня не серчай, все так делали. Кто сильнее – тот и прав! Хорошие были времена, хотя и вспоминать о них особо не люблю. Зато ты мне как родной стал, понимаешь? Честно! Вот проси у меня, что хочешь! Ну?! Проси!
– Мне бы недельку отгулов, – подумав, робко сказал Цыля. – Дочери из города на днях приехать должны, повидать хочу. Заодно и предложение твоё обдумаю спокойно, с женой посоветуюсь. Сам понимаешь: круглосуточной собакой становиться с бухты-барахты нельзя.
– На неделю? – переспросил Вацлав, от удивления открыв рот. – Неделю без собаки на дворе? Ну не знаю…
Вацлав выглядел растерянным и даже как-то по-детски обиженным. Наверняка он ожидал от Цыли пожеланий совсем другого характера. Например, повышении оклада, более длинной цепи или кастрации домашнего кота. Блёклая в своей бытовой простоте просьба Цыли слишком болезненно подкосила его возвышенное и даже, можно сказать, поэтическое настроение.
Вацлав несколько раз горестно икнул, с усердием приложился к бутылке, после чего как-то особенно естественно упал прямо наземь, при этом умудрившись сохранить контакт с бутылкой. Он, кажется, и вовсе не заметил, что окружающий его мир вдруг перевернулся. Эту способность хозяина Цыля наблюдал уже не в первый раз и зачастую именно ей объяснял себе все успехи Вацлава, связанные с бизнесом и бытовым достатком.
– Может, домой пойдём? – с опаской спросил Цыля.
– Какое домой, Цыля? Тебе что – охота на цепи сидеть? – ответил Вацлав, тяжело поднимаясь на ноги и отряхиваясь. – Нет, мы сейчас отдохнём немного, а потом в палку играть будем!
– В палку? – почуяв неладное, переспросил Цыля.
– В палку! – ответил Вацлав и довольно уверенными винтами направился к видневшейся неподалёку роще.
* * *
Вацлава Цыля притащил домой ближе к полуночи. Во дворе стояла тишина, и только кот Рябов лениво курил, сидя на ступеньках веранды. И хотя Цыля был без ошейника и зол как собака, до Рябова ему сейчас дела не имелось.
Остаток прогулки выдался для Цыли особенно тяжёлым и беспокойным. Игрой в палку Вацлав на этот раз не ограничился. Сразу после этого жалкого и невразумительного действа (бросать палку у Вацлава получалось плохо, и на земле он сам оказывался гораздо чаще, чем палка), Цыле сперва пришлось сопровождать Вацлава в сельпо за водкой (по словам Вацлава, по-настоящему напиться простой сельский человек может только водкой из сельпо и никак иначе), а потом и на кладбище, где тот хотел попросить прощения у отца, но, так и не сумев отыскать его могилу, каялся у нескольких случайных надгробий.
Весь обратный путь Вацлав проделал на спине Цыли, беззаботно и даже как-то задорно похрапывая.
– Помоги его в дом занести! – сказал Цыля Рябову, пытаясь разогнуть спину.
– А мне это надо – дебила этого на себе таскать? – возмущённо ответил кот, поспешно докурив сигарету и швырнув окурок прямо себе под ноги.
– А мне – надо?
– Раз таскаешь, значит надо! – пожал плечами Рябов и спокойно скрылся в доме.
Выругавшись, Цыля схватил хозяина подмышки и кое-как втащил на веранду, после чего, раздражённо пнув лежащий на земле ошейник, нырнул в будку и поклялся себе, что завтра с самого утра он пошлёт Вацлава куда подальше вместе с его «взаправдой» и всеми планами на счёт хозяйства.
Но истинную глубину «взаправды» Вацлава Цыля всё же недооценивал. В этом он наглядно убедился, когда под трезвон будильника выполз утром из будки.
Несмотря на вчерашний перепой, Вацлав уже не спал. На нём были надеты тщательно выглаженные брюки и свежая рубашка, а сам он – старательно умыт и причёсан. И хотя бодрящая влага колодезной воды оказалась не в состоянии совладать с алкоголической припухлостью физиономии, припухлость эта была Вацлаву, если так можно выразиться, к лицу. Она только добавляла важной уверенности к его образу начальника, неторопливо расхаживающего от свинарника к веранде и погружённого в изучение каких-то бумаг.
И если вчера вечером Цыля совершенно точно собирался послать куда подальше пьяного самодура, то сегодня перед ним стоял директор компании, погружённый в размышления по поводу слияния нескольких фирм-конкурентов и явно торопившийся на какое-то особо важное совещание. Посылать Вацлава прямо сейчас было неловко, тем более после того, как тот выудил из кармана брюк портмоне и протянул Цыле несколько купюр, в своих номиналах значительно превышавших оговорённый ранее размер ежедневной оплаты.
– Премия за то, что притащил меня домой, – деловым тоном пояснил Вацлав. – Итак, на сколько ты там хочешь уйти? На неделю?
– До следующих выходных, – робко ответил Цыля.
– Мда, – недовольно пожал плечами Вацлав. – Ладно, как знаешь. Силой удерживать я тебя не могу. Только давай договоримся так: как определишься насчёт моего предложения, сразу дай знать. Если согласен быть собакой постоянно, с одним выходным в неделю – милости прошу! Платить буду по полной, даже больше, чем коту. А вот на полставки больше не надо. Верный ты пёс, надёжный. Это я, поверь, вижу и ценю. Но собак наполовину всё-таки не бывает. Так что выбор за тобой. И на работе скажи, кто там интересовался, пусть подходят сегодня же. Надо срочно хозяйство расширять, а то от безделья скоро совсем сопьюсь.
* * *
На автобазе коллеги встретили Цылина сдержанно, без привычных шуточек и подколок. Мнение Целлофена уже успело проникнуть в массы и теперь заставляло многих переосмысливать своё отношение к людям, животным и всяческим недостроенным жизненным сараям.
Даже Марокантов вёл себя непривычно тихо и пожал Цылину руку, сопроводив этот жест растерянной и кривой улыбкой. Судя по всему, внутренняя диалектика этого человека также переживала непривычный для себя период ломки и усложнения, причиняя своему обладателю заметный невооружённым взглядом дискомфорт.
В медпункте, куда Цылин заглянул по пути из гардероба, несколько водителей неуверенно поинтересовались у Цылина хозяйством Вацлава, перспективами его развития и особенностями рациона питания. А оператор передвижной ассенизаторской станции Василий Кудалахин и вовсе не испытывал сомнений в своём желании кардинально сменить сферу деятельности.
– Слышь, а Вацлаву там, часом, козлы не нужны? – громко расспрашивал он Цылина по пути к стоянке.
– Не знаю, – пожал плечами Цылин. – А почему вдруг именно козлы?
– Да бабка моя, помню, всё коз держала. Ну и козёл, разумеется, был. Работа у него не пыльная, всё лучше, чем у меня. Может поговоришь сегодня с Вацлавом? Замолвишь словечко?
– Я к нему, наверное, больше не пойду.
– Случилось чего? – забеспокоился Кудалахин.
– Да так, – махнул рукой Цылин.
У него на руках был путевой лист, его ждал верный ЗИЛ (даже с самого раннего утра выглядевший живым и очень добрым существом), и Цылину не хотелось тратить время на разговоры о свиньях, собаках и козлах. В том, что сам он к Вацлаву больше не вернётся, Цылин не сомневался.
Последним, кто напомнил Цылину о его приработке, был Целлофен Чинзе, тормознувший Цылина у самых ворот автобазы.
– Ну, что там насчёт моего вопроса? – крикнул он Цылину.
– Всё окей! – бодро ответил Цылин. – Вацлав как раз сарай новый собирается строить, будет увеличивать поголовье. Только не мешкай, а то, как я погляжу, желающих многовато.
– Что ж, прямо сегодня и заеду! Спасибо, Ваня! А сам что? Слыхал, ты Вацлава не то послал, не то покусал.
– Да ерунда это всё! Просто не могу я больше собакой быть, не получается.
– Ну как знаешь… Дело молодое! – ответил Целлофен и пожелал Цылину счастливого пути.
* * *
– Тут и думать нечего! – сказала жена, помешивая и без того остывший чай.
Было уже поздно, за полночь, но они с супругой до сих пор сидели на кухне и пока ещё были очень далеки от взаимного согласия.
– Сам же понимаешь, сколько стоит свадьбу сыграть, – вздохнула супруга. – А тем более – две сразу!
Почему дочерям приспичило выходить замуж именно теперь, и при этом обеим сразу, объяснить не могли ни они сами, ни Цылин. Поставив их с женой перед фактом, дочери теперь спокойно дремали на веранде, которую Цылин достроил полгода назад и не в последнюю очередь благодаря своим нечеловеческим усилиям.
– До весны как раз на свадьбы заработаешь, – добавила супруга.
– Разве?
– Ну, если будешь собакой постоянно, без выходных. Он же тебя и кормить будет. А может и меня курицей возьмёт? Как думаешь?
– Не знаю, – ответил Цылин, после чего протяжным взглядом уставился в потолок.
В данный момент его переполняли смешанные мысли. Цылин не мог понять, чтó в планах жены его смущает больше: то, что ему придётся видеть жену сидящей в курятнике, или то, что жене придётся видеть своего супруга с ошейником на шее.
В любом случае потолок дать ответа на этот вопрос не мог. Цылин снова вернулся к бумаге и карандашу, при помощи которых уже не первый час пытался сопоставить свои финансовые возможности с пожеланиями дочерей.
– А может, они свадьбы в один день сыграют? – рассуждал Цылин, ковыряясь в недружелюбных цифрах, своими длинными рядами напоминавших цепь, от которой шея Цылина едва успела отвыкнуть. – И лимузин им не надо. Можно обычные машины шариками и лентами украсить. Да и зачем в городе праздновать? Можно и здесь, в столовой автопарка.
– Вот ты им об этом и скажи, – в очередной раз глубоко вздохнула жена.
– И скажу! Что это они нам условия ставят?
– Ну это, в конце концов, твои дочки.
– И что? Они голодные росли? Раздетые ходили? Выросли и уехали – ни помощи, ни понимания. Теперь вот свадьбы в ресторанах им подавай с лимузинами! А мне всю жизнь пахать на них, как собака?
– Ну, побудешь собакой ещё полгода, год. Потом отдыхать будем.
– Ты сама веришь в это? – спросил Цылин.
– Успокойся, Ваня. Думаешь, мне легко?
Ругаться с супругой Цылин не собирался. Пусть она и не работала кем-нибудь из животных официально, но после сокращения в школе ей приходилось одновременно совмещать преподавание литературы, математики, химии и физкультуры, и в том, что она действительно понимает его чувства, Цылин не сомневался.
– Я ведь перед собой поклялся, что в собаки больше не пойду, понимаешь? – сухо сказал Цылин. – Думал, до пенсии баранку докручу, потом легче будет.
– Кому у нас на пенсии легче становится? Благо ещё, что у нас Вацлав есть. Пусть и самодур, зато сколько людей вокруг него прижилось. А дочери просто хотят жить не хуже, чем остальные. Понять их можно.
– Просто собаками они никогда не были.
– А ты хотел бы, чтобы им пришлось?
Цылин грустно улыбнулся.
Где-то с год назад они с супругой точно так же сидели за полночь, обсуждая нечеловеческие аспекты человеческого бытия. Только в том разговоре их роли с женой были прямо противоположны. Жена не могла смириться с мужем-собакой, уверяла, что и без ошейника они смогут поставить дочерей на ноги, достроить сарай и в целом жить «как люди». Он же доказывал обратное, утверждая, что лучше быть условной собакой, чем условным человеком с вечно условными желаниями. Теперь их мнения сменили полярность, но сама жизнь не претерпела изменений. И это угнетало особенно сильно.
– Он меня в палку заставляет играть, – тихо сказал Цылин, откладывая в сторону карандаш и оставляя все цифры на бумаге неизменными.
– Силой, что ли? – поинтересовалась жена.
– В том-то и дело, что нет, – робко ответил Цылин, ощущая, как в этих словах шевельнулась «взаправда» уже принятого и не подлежащего дальнейшему обсуждению решения.
* * *
За неделю, которую Цылин не был собакой, кирпича и силикатных блоков у забора Вацлава поубавилось. Строительство свинарника находилось в самом разгаре и даже вошло в свою решительную стадию.
Настроение у Цылина было хорошее и в какой-то степени даже боевое. В круглосуточном бытии собакой были свои плюсы помимо денег. Как круглосуточная собака Цылин имел все основания для того, чтобы с особым усердием бить морду коту, не опасаясь последствий. Этим, собственно говоря, Цылин и планировал заняться безотлагательно.
Подойдя к воротам и отперев засов, Цылин попытался зайти внутрь, однако сделать этого ему не удалось. Стоило двери скрипнуть, как с обратной стороны кто-то с особым усердием навалился на дверь, огласив всю улицу криком.
– Гав! Гав! Блядь! Гав! – орал хрипловатый и знакомый Цылину голос. – Кого там черти несут?!
– Это я, Цыля, – робко ответил Цылин, который совершенно не ожидал повстречать на пути к ошейнику каких-либо препятствий.
Ворота нехотя приоткрылись, и Цылин увидел перед собой недовольную физиономию Марокантова.
– Чего тебе? – сердито спросил тот, поправляя ошейник.
– К Вацлаву, – растерянно сказал Цылин и заглянул во двор.
Во дворе Вацлава видно не было. Несколько незнакомых кур неторопливо бродили, лузгая семечки. На ступенях веранды сидел кот Рябов, на помощь которого рассчитывать не приходилось.
– А ты что тут делаешь? – спросил Цылин Марокантова, который по-прежнему придерживал ворота и не спускал с Цылина глаз.
– Не твоё дело! – рявкнул Марокантов.
– Как это не моё?! Это мой ошейник! Моё место! Проваливай давай! – резко сказал Цылин и попытался оттолкнуть Марокантова.
– Не пущу! – крикнул тот и снова навалился на дверь.
На шум из сарая выглянуло несколько свиней, среди которых Цылин краем глаза заметил и Целлофена Чинзе. На этот раз ветеран наблюдал за происходящим молча и вступаться за Цылина не спешил.
Борьба тем временем продолжалась и явно входила в свою решающую стадию. Цылину удалось потеснить противника, и теперь они боролись с Марокантовым уже возле будки, под одобрительный хохот кота и настороженные оханья кур. Рубаха Цылина надрывно трещала, но и сам Цылин нашёл способ ощутимо досадить своему визави. Ухватившись за цепь, он дёргал шею Марокантова, причиняя тому существенные неудобства. Марокантов громко и нехорошо ругался, завывал.
Выскочившему на шум из дома Вацлаву далеко не сразу удалось разнять участников драки. Через несколько минут все трое, запыхавшись, сидели на траве и удивлённо друг на друга поглядывали.
– Ты это
чего? – спросил, наконец, Вацлав Марокантова, поправлявшего ошейник и растиравшего шею.
– Да во двор, паскуда, проникнуть пытался, – деловито, с чувством исполненного долга, ответил Марокантов. – Видно, украсть чего-то планировал.
– А ты чего? – перевёл свой взгляд на Цылина Вацлав.
– Собакой пришёл быть, – смущённо ответил Цылин, осматривая порванную в нескольких местах рубаху.
– Катись к чёрту, Цыля! Даже не мечтай! Ошейник теперь мой! – оскалился Марокантов.
– С какой это стати?
– А с такой!
Драка была готова вспыхнуть вновь, но Вацлав, пользуясь своим авторитетом и неожиданной трезвостью, быстро предотвратил конфликт:
– Фу, Мара, фу! Марш в будку! Я сам разберусь! И ты, Иван, тоже зря на пса не кричи! Он всего лишь дело своё делает. И, как видишь, неплохо справляется.
Фыркая и посыпая Цылина последними ругательствами, Марокантов послушно скрылся в будке.
Вацлав по-дружески похлопал Цылина по плечу.
– Слушай, Иван! Не хочу, чтобы между нами недопонимания остались, поэтому скажу всё как есть. Как собака ты мне всегда нравился, вот те крест! Но, положа руку на сердце, пёс из тебя сторожевой не получился. Тут уж Марианна права, как ни крути. Для города ты бы сгодился в самый раз, но здесь, – Вацлав трепетным взглядом обвёл двор, – здесь от собаки больше требуется. Тем более, сейчас, когда хозяйства прибавилось. Ты отгулы просишь, сомнения испытываешь. Сколько дней прошло, от тебя – ни слуху, ни духу. Не по-собачьи это как-то, понимаешь? А этот даже не спрашивал ничего! Пришёл, ошейник надел и сразу же прохожих матом на всю улицу обложил. Кота не гоняет, палку, как и положено, в зубах носит.
– У меня дочери замуж выходят, свадьбы делать надо, – обречённо сказал Цылин. – Хочется по-человечески дочерей выдать. Как же мне тогда, если не собакой?
– Ну, тут уж не знаю, чем тебе помочь. Даже место петуха, и то третьего дня заняли, видишь?
Вацлав кивнул головой в сторону сада, где в окружении десятка женщин между яблонь и кустов гордо вышагивал почтенных лет мужик в жакете и красных резиновых сапогах. Кажется, в недавнем прошлом это был врач местной больницы.
– А я уже согласен быть собакой круглосуточно. С одним выходным в неделю.
– Ну, сам видишь, – сочувственно вздохнул Вацлав, кивнув головой на будку, в которой Марокантов что-то увлечённо и громко ел. – И без всяких выходных! Ну как такого пса за ворота вышвырнуть?
– Да подлец он, а не собака. Хоть у Целлофена спроси! – не согласился Цылин.
– А вот тут ты, Иван, не прав! – отозвался свинья Целлофен. – Как собака Марокантов полезнее тебя будет. Да и нельзя сказать, что он подсидел тебя. Ошейник на траве валялся. Лёха всего лишь расторопность проявил. В нынешнее время штука необходимая. Каждый устраивается как может, незачем на это пенять.
– И это твоё спасибо за то, что я тебя сюда устроил? – бессильно спросил Цылин.
– Большое тебе человеческое спасибо за это! А вот что касается собаки… – Целлофен не закончил свою фразу и скрылся в свинарнике.
В этот момент в ворота кто-то постучал, и уже через секунду, громко матерясь, из будки выскочил Марокантов.
– Фу, Мара, фу! – крикнул на него Вацлав, – Не ори! Это строители!
Марокантов снова замолк и вернулся к прерванной трапезе.
– Ну ладно, Иван! – сказал, снова похлопав Цылина по плечу, Вацлав и ушёл встречать строителей, которые с опытной опаской проходили возле будки. – Спасибо, что зашёл. Заглядывай иной раз. Посидим, пивка попьём, вспомним, как я у тебя компот в школе отбирал. А сейчас извини, сам видишь – дел по горло. Нужно срочно сарай достраивать, а то свиньям уже спать негде.
Выйдя за ворота, Цылин окинул взглядом особняк Вацлава, в котором он как собака теперь был не нужен, а как человек не был нужен вообще никогда, и понуро поплёлся к автобазе, подпитывая себя робкой надеждой на то, что ему вернут его старый ЗИЛ, и что удача в этой жизни может улыбнуться даже самому обыкновенному человеку.
Национальность робот | Оганес Мартиросян
Маяковский выкурил натощак сигарету, подзаправился чаем и пошёл в историю. В ней написал
Во весь голос, фаллически продвинулся вперёд, растолкал жезлом толпу, роботизировался, взошёл над Соколовой горой и прочёл с неё свои ранние стихи. Его назвали больным, ненормальным, мрачным суицидальным типом, вызвали полицию и повезли в бобике на закат. На нём его распяли, напялили на его ноги, голову и лицо крест и пустили по улицам в таком виде, будто он прилетел с Сатурна; даже если и так, то нельзя
так, кричал он им. Но дети бежали за ним и били камнями и комьями грязи, а железо стекало с Владимира и превращалось в чёрных огромных жаб. В какой-то момент Маяковский превратился даже в город Владимир и струился, и тёк по Саратову в обличии машин, домов и стихов, написанных стальными каплями дождя, идущего день за днём.
Впрочем, всё это было сном, потому что утром Маяковский сидел в кафе с Лилей, ел омлет, пил вино и писал о любви. Лиля молчала, курила и куталась в шарф, скрывающий под собой рассказы Бунина и Куприна. Стоял сентябрь, на улице похолодало, но тепло восходило с солнцем, не очень было холодно, просто тепло текло и становилось к вечеру холодом, повзрослев. Владимир хмелел, он удивлялся себе, двадцать первому веку, отсутствию мировой славы своей, крушению СССР и т. д. – просто приходил в себя пару лет; но рассылал стихи и пьесы по инету, торопил время, души и редакторов. Но они не спешили: чужд он был, громоздок. Так и пил, и писал, и гулял с Лилей Брик по Саратову. Пил виноградный сок, постаревший вином. Иногда набредал на Бурлюка и Кручёных, но они не узнавали друг друга, просто смотрели в глаза и расходились, как пьяные на свадьбе в кафе. А в этом кафе они с Лилей сидели уже час, не меньше, дышали собой и металлическими гайками и болтами столов, переходящих в стулья. Выпитое текло в озёра желудков, где плавали лодки потерпевших крушение их самих. Через час Маяковский отлил, вымыл руки и повёл Лилю с собой, довёл до дневного клуба, там покидал в бильярде шары, похожие на его глаза, выпил минеральной воды
Нарзан, посмотрел на
Ютубе ролик с отрезанием всего лишнего от текста тела, опять покурил, но две сигареты, и зашагал домой: Лиля умчалась к себе.
На квартире ревел и орал, бросался на замочные скважины и розетки, чувствовал поля электричества в воздухе, наносил по ним удары руками, ногами и головой, через пару часов затих, выпил холодной воды и лёг: отошёл ото сна. Внутри своего тела видел мировую славу, поездки в США и далее, чтение стихов, где каждая строка – столб с протянутым к другому столбу проводом – мыслью, чтобы горели концы, рифмы, фонари, светили всем, особенно пацанам, швыряющим в них камни и кирпичи, гасящим поэтов, убивающим их, ломающим.
Он вскочил от звонка, взял пятитонный телефон и заговорил с Луначарским, обрисовал ему свою жизнь, ситуацию, образы стихов и поэм. Тот покивал сквозь трубку и обещал помочь. Буду издан, воскрес Маяковский, сполоснулся в десятиметровой ванной, побрился, увлажнился лосьоном и стал собой: чугунным, свинцовым – литым. Обрюхатил свое сознание, родил поэму, выпил из бутыли сока, заправился молоком и поспешил на работу. На ней раздавал людям листовки из себя и других, рекламировал поэтический клуб
Хорошо, где намечались его выступления, стоял над толпой и над всем и так проводил часы. Пил чай из зелёного термоса и вновь себя раздавал, некоторые листы даже подписывал, ставил росчерк пера под названием
Паркер. К вечеру приехал Луначарский, дал Володе рубли, похвалил за труды и уехал на
Вольво. Маяковский вздохнул облегчённо и пошёл по дороге, до глухого кафе. Там сел за стол и заказал водку
Егор, выпил рюмку, запил необъятным соком и посмотрел на девочку. Та подмигнула ему, но он вспомнил о Лиле и перестал; начал пить и скучать, рассматривать свои ногти и покусывать заусенцы. Ничего, думал он, завтра войду в стихи, выверну их наизнанку. Он поднял рюмку за хозяина заведения и осушил её. Ничего ужасного не решил, никого не сломал, не обвенчал с ничем, только тяжеловесно закурил сигарету и выдохнул мощный дым. Заказал жареные сардельки, начал макать их в соус и есть. Каждая весила жизнь, прожитую не зря. И он двигал бульдозерами челюстей, ехал ими по воздуху, распахивая его. Вокруг чудились пролетарские писатели, напичканные взрослой жизнью, совестью и ничем. Они рыдали каждым движением и обожали себя. Официанты танцевали с подносами и перебрасывались под музыку шутками и телами цыплят. Африка чувствовалась в каждом движении и струилась вином.
Маяковский плясал в центре зала и глотал небеса. Зажёвывал их целиком, радовался и пел. Хлопал в многовековые ладоши. Потом показал брейк-данс, прошёлся на руках, уронил бумажник, перевернулся, встал на ноги и завопил, что он величайший поэт. Все захлопали, кроме одного мужчины, который начал ходить по залу и искать пистолет. Я потерял
ТТ, повторял он и переворачивал мозги, и заглядывал под них. Ночью Маяковский вернулся домой, включил телевизор и уснул под запах звёзд. Во сне взял три гири по очереди – Марс, Юпитер, Сатурн, и отжал их пять раз. Чуть и малость вспотел, отправился под душ, вытерся и сел за стихи.
Написал пару штук, выпил кофе, похожий на сгусток ночи, и посмотрел на часы. Они показывали Время жить и время умирать. Он закурил сигарету
Восток и выстрелил ею в небо. Позвонил Лиле, позвал её в кино со своим участием и поехал к Победе. Встретил любимую и зашептал ей светила в уши. Поцеловал её, подал руку и повёл её в зал, где сидели десятки Маяковских и готовились к фильму. Они ели попкорн и смотрели в себя. Владимир и Лиля сели в первом ряду и уставились на экран, на котором шло действо: краны поднимали части тела Маяковского, а рабочие крепили их. Последним актом была установка головы, которая при присоединении к шее открыла рот и начала изрыгать слова, то есть бетон. Таким было кино. В конце его Маяковский взял Лилю за руку и повел её в парк. Там они катались на каруселях и ели сахарную вату. Наблюдали стихи Маяковского, выбегающие из него и убегающие прочь от него в форме детей, напичканных гексогеном. Маяковский радовался этому и курил абхазский табак. Смотрел на часы, на стрелки – колёса велосипедов и звал вселенную всем нутром. Тростью сшибал цветы. А позже привёл Лилю к себе, напоил шампанским и уложил в постель. Вогнал гвоздь в её стену и повесил на него картину Ван Гога. После курили и распинали себя на каждом пятаке земли. Лиля ушла, оставив предисловие себя в комнате – тонкий весьма аромат. Владимир вдохнул его, насытился и опал на планету дождём.
После пришёл в себя, купил билет до Москвы, доехал, пошёл к памятнику своему и поцеловал правый мизинец его. Прочёл под ним стихи, собрал толпу людей из одного человека, поболтал с ним поздней, выпил на лужайке вина, отнёс флешку со стихами в журнал
Сталинград и уехал к себе. Мчался на скором и орал своё величие из окна, раздавался вокруг. Ему было тридцать три, тридцать четыре и сто двадцать семь лет везде. Глаза его были фейерверками, искрились в объёмах глазниц. Он превращался в киборга, нёсся вперёд и ломал ночной воздух – шоколад с орехами-звёздами внутри. Отдыхал в вагоне-ресторане, пил горячий грог, ломал и расширял голосом стены. В Саратове пил лимонад, обнимал встречающую Лилю, курил с ней и тосковал о себе двадцатых годов, когда он жил в Москве и колесил по планете, которая кончилась, как пирожок. Выпили в пабе чехословацкого пива и растранжирили свои юность и мозг.
И Маяковский начал расширяться и расти, он охватил своими объёмами Саратов и сжал его, сделал своим поклонником, чтобы ударить из него по всему – раскрошить своим творчеством мир и сделать его своим. Лиля накрасила губы, сделала глоток из бокала и усыновила его. Владимир заметил это и поздравил Лилю с ребёнком, выкушал творог и сыр, улетев через них. Побывал в горячей точке – в Сирии, почитал российским и сирийским бойцам стихи, отправился в Карабах, поддержал мир, побаюкал на руках войну, дал ей молока, хоть она и просила пива, вернулся, не застал Лили, покончил с собой на Театральной площади, встал, отряхнулся, зажал рану пальцем, дождался закрытия её, как ресторана, когда внутри никого нет. И зашагал домой, чеканя ногами монеты – звёзды. Хотя есть ещё бумажные купюры – тоже светила в небе.
На квартире собрал всех своих друзей, обзвонив их, открыл шампанское и кричал
Облако в штанах, данное навсегда, поскольку в кармане этих штанов отдыхает советский паспорт, читающий стихи о себе. Маяковский дымил двухметровой сигаретой, заглядывал метафизической головой к соседям сверху, воровал у них свет и предлагал им паштет. А в общем, листал журналы кино, пил из горла и радовался электричеству, выходящему из него. После квадратно спал, выдыхая прямоугольный воздух, участвовал в процессах Сталина, зачитывал в стихах приговоры и краснел от стыда. Был красным кирпичом, а не белым, поскольку стройка – гражданская война, которую мирит серый бетон – серые небеса, обещающие дожди. Утром развесил красные флаги на балконе, протрубил из рога и прочел
Левый марш. Собралась толпа; стояла, фотографировала, аплодировала и пела революционные песни.
Было хорошо и светло. Маяковский позировал, вбивал чугун в головы, а после пил чай и дышал сам собой. Позвонил в редакцию
Красной нови, потребовал гонорар, получил отказ, приглашение к ним на выступление у них, оделся, собрался, поехал на
Рено, прочёл среди редакторов громогласные стихи, получил деньги, завалился в кабак, раскуражился, растрезвонился, сыграл на гитаре, вызвал девочек, махнул в сауну, там провёл пару часов, накатил, поимел, расслабился по полной, зажигал в клубах, нюхал
кокос в туалете, пробегал по дорожке носом, тащился от бёдер и губ сумасшедших девчонок. Дома долго блевал, пил минералку, смачивал и обрабатывал
Мирамистином нужное место, спал, как отступал Наполеон, видел во сне Бородино и Лермонтова над ним, мычал и дышал, рождая ещё стихи. А когда заглянул в зеркало, то увидел Есенина в нём – вместо себя. Тот был тёмен, как Чёрный человек, и махал сам себе рукой.
Маяковский вздрогнул, протёр глаза, но от этого самим собой не стал. Два самоубийства на одного человека, понял он. Всё было понятно, потому через пару минут он курил сигарету, которая была очередным уменьшающимся от ударов воздуха гвоздём в крышку гроба – в лицо, за которым лежит труп Иисуса Христа. У каждого человека. У всех.

О синем рыцаре и девочке | Александр Шилякин
Ночью здесь реки разлились, зимой замёрзли. Ночью здесь горы развалились, холодной зимой. Ночь здесь стоит – мгла чёрная. Снег во тьме идёт – мгла белая. Не привыкнут к темноте глаза, идёт в белом снегу, тёмной ночью.
Горячо дышит, снега по пояс. Валится на колено, тонет в снегу, идёт. Снег неслышно падает, неба не видно. Корка на снегу ломается под ногами, и в звуке этом другой звук слышится: стонет в темноте ребёнок, не видит, но зовёт.
Рыщет в снегу, слышно, как кипит в горле; в чёрной мгле идёт туда, где зовёт ребёнок. Не кличет ребёнка – ищет на ощупь в снегу, в стороне голоса. Нет тут голоса, снег тихо идёт во тьме, громко лопается под ногами.
Упал на колени, ползёт, тонет в снегу, и во тьме глаза не привыкнут, не увидят и не найдут, руки онемеют в снегу и тогда только схватят тонкую ножку, холодную, едва не мёртвую. Руки поднимут голое холодное тело и прижмут губы к глазам, но не увидят глаза губ и лица, а только чуть тёплое учуют ноздри – запах, которым дышат дети.
Тогда возьмёт ребёнка на руки и положит себе на горячую грудь, под толстый вязаный свитер, под тяжёлую колючую шубу. Встанет в снегу и будет идти во тьме, нести будет ребёнка, пока не обессилеет. Ребёнок руками и ногами обхватит тёплое, прижмётся изо всех сил и будет дрожать, уткнётся лицом в шею, о бороду лицо царапая, задыхаясь от горячего перегара. Обессилев, упадёт на колени, и ребёнок будет засыпать вместе с ним, холодной зимой, надолго замерзать во мгле.
Ребенок не спит, ребёнок толкает, щиплет. Дёргает ребёнок замёрзшую от дыхания бороду, примёрзла шуба, онемело могучее тело. Ребёнок хочет разбудить, кусает грудь до крови, плачет, тянется руками через горло свитера к лицу, пальчиками тычет в холодные веки. Ребёнок хочет разбудить. Ребёнок разбудит.
– Просыпайся, – плачет ребёнок.
– Я не сплю, – он отвечает.
– Ты замерзаешь, – плачет ребёнок.
– Не замёрзнем, – он отвечает.
Он встаёт, ребёнок цепляется за его шею, ножками упирается в брючный ремень; он придерживает ребёнка рукой.
Ночь здесь стоит, мгла чёрная. Снег во тьме идёт, мгла белая. Громко крикнула вдалеке женщина:
– Ты что, блядь, делаешь?! – потом тихо, и снова крик:
– Ты охуел, блядь?!
На ногах обессилевших побрёл он как мог к крикам, рукой держал ребёнка, другую сжимал в кулак. Уже ближе кто-то сквозь зубы сказал:
– Ебись, сука.
Женщина крикнула:
– Ты ебанутый, кого ебись, мороз под тридцать, нахуй!
Быстрее побрёл, зашевелилась тьма, и он сказал:
– Ничего не бойся.
Замахнулся во тьму рукой, ножки ребёнка болтались из-под свитера; он прижал ребёнка к себе крепче, замахнулся кулаком, снова замахнулся и снова.
– Мне не въеби смотри! – крикнула совсем близко женщина.
Содрогнулся в руках у него ребёнок, кулак ударил крепкое, треснули кости во тьме, что-то упало в снег и не двигалось.
– Так ему, хуеплёту, и надо, – сказала женщина. Похрустел снег, близко дышала женщина, тяжело дышала. Положила ладонь на его локоть, подняла руку и положила на плечо, пощупала шапку, бороду заледенелую. Отняла руку и сказала:
– Нихуя себе, какой ты огромный, блядь. Откуда ты тут, нахуй, взялся?
– Пришёл.
– Пришёл он, ёптить. Откуда ты пришёл?
– Не помню, пьяный был.
– То-то слышу, перегар пизданутый.
– Ты не ругайся так.
– А чё мне не ругаться, блядь нахуй?
– Я с ребёнком.
– С каким, блядь нахуй, ребёнком?
– У меня, здесь, подобрал.
– А нахуя тебе ребёнок? Вот вы тут все, сука, ебанутые! Этому ебаться в минус тридцать, этому ребёнок.
– Не ругайся, говорю! – громко он сказал. И тихо стало, больше не говорил никто.
– Звать-то тебя как? – потом тихо сказала женщина.
– Леонид Семёнович.
– А ребёнок где?
– Вот.
Леонид Семёнович пощупал во тьме, отыскал руку женщины и положил на свитер. Рука женщины под шерстью сжала коленку, погладила спину, вздрогнуло и сжалось под её рукой.
– Не бойся, крошечка, – сказала женщина.
Леонид Семёнович погладил ребёнка под свитером.
– И куда его теперь? – спросила женщина.
– Пусть со мной будет, пока не рассветёт.
– Тут уже не светает.
– Кто-то всё равно встанет снег чистить утром.
– Да, встают обычно, может, вынесут тебе похмелиться.
Свет загорелся в окне. Жёлтый свет, глухой, неяркий свет на снегу. Под светлым окном козырёк из бетона, под козырьком дверь. Стена высокая, длинная, окна, окна, и свет в окнах не горит.
Открылось светлое окно, мужчина выглянул, посмотрел кругом, бросил вниз лопату, вылез на козырёк, прыгнул в снег.
– Блядь, сколько ж намело-то, нахуй.
Мужчина взял лопату и у двери стал чистить от снега. А с неба снег падал снова, поднял мужчина голову, не видно ему было неба.
Леонид Семёнович от света сощурился, смотрел на женщину, смотрела женщина на Леонида Семёновича.
Шапка у Леонида Семёновича большая, борода седая заледенела. Шуба длинная лежит в снегу, под свитером держит ребёнка огромный Леонид Семёнович огромной ладонью.
Женщина когда-то была красивая, волосы у неё спутаны, в изодранном пальто от мороза прячется, в снегу её шапка лежит. А рядом с ними лежит мужчина, жопа голая и кровь идёт из лица: красный кругом снег.
Мужчина с лопатой их увидел, идёт в глубоком снегу, лопату следом тащит. Подошёл, глянул мельком на женщину, на Леонида Семёновича долго смотрел, потом на человека, что лежал в снегу.
– Он мёртвый, чи шо?
– Не знаю.
– Ёбнул его?
– Не знаю.
– А за шо?
– Ебаться ему приспичило, – сказала женщина.
– Как у них на таком морозе хуй-то стоит, – покачал головой мужчина.
– Вот и мы про то, блядь нахуй.
– Не ругайтесь, ребёнок боится.
– Какой ребёнок, блядь?
– Не матерись, у него ребёнок там, – показала женщина на живот Леонида Семёновича.
– Ты что, блядь, забеременел?
Леонид Семёнович взял руку мужчины и потащил.
– Э, бля! – мужчина сказал. Леонид Семёнович руку мужчины положил на свитер. Под свитером вздрогнуло и сжалось.
– А, – сказал мужчина.
– Ребёнку в тепло надо.
Мужчина вытер нос перчаткой.
– Надо значит надо.
– И покормить.
– Пойду жинку будить, накормит, – мужчина побрёл к двери, лопату тащил за собой. Обернулся мужчина, поглядел: Леонид Семёнович следом шёл.
Поравнялся мужчина с Леонидом Семёновичем, рядом брёл.
– Ты-то сам откуда?
– Не местный.
– И за каким ты сюда приехал?
– Я не ехал.
– А дитё где подобрал?
– Там, в снегу.
– Чьё же дитё?
– Если никто искать не будет, заберу с собой.
– Да я не о том, мне не жалко.
Леонид Семёнович посмотрел на мужчину, мужчина кивнул на дверь. Вошли в подъезд – тепло и сухо тут, – постучал Леонид Семёнович сапогами, потряс шубой, и мужчина с ним постучал, потряс. Мимо них другой мужчина прошёл, не взглянул. Вышел за дверь и встал у подъезда, закурил. К нему женщина подошла, протянула руку. Мужчина полез в карман шубы, достал коробку папирос и открыл перед женщиной, женщина взяла папиросу замёрзшими пальцами. Мужчина ей свою папиросу дал, она от неё прикурила.
– А-а-а, – потянула женщина и дым пустила.
– Замёрзла? – мужчина спросил.
– Да, подмёрзла. Так ещё меня тут чуть не выебли, хорошо мужик мимо шёл, отбил.
– Какой?
– Да только что зашёл, у него ребёнок с собой, замёрз.
– Здоровый такой?
– Да, охуеть какой здоровый.
– На вот, – мужчина достал из другого кармана шубы круглую металлическую флягу.
Женщина неуверенно протянула руку, взяла флягу. Мужчина отвинтил крышку и кивнул женщине.
Женщина сделала мелкий глоток, потом ещё, побольше. Выдохнула паром изо рта и ещё несколько раз глотнула жадно.
– Ну, хорош, – мужчина флягу забрал и сам отпил.
– Ух, заебись! – весело сказала женщина. Из подъезда вышли Леонид Семёнович и мужчина с лопатой. Женщина кивнула на флягу и сказала, глядя на Леонида Семёновича:
– Коля, дай похмелиться ему.
Коля посмотрел на Леонида Семёновича и протянул ему флягу. Леонид Семёнович отпил, к фляге потянулся мужчина с лопатой.
– Э, вы так всё выжрете! – сказал сердито Коля и забрал флягу у Леонида Семёновича.
– Какой ты, сука, жадный стал, – обиженно сказал мужчина с лопатой.
Коля подержал холодную флягу, вздохнул и сказал:
– Ну на, только не всё!
Мужчина с лопатой взял флягу, дохнул паром и запрокинул её, горло его задвигалось.
– Пиздец, я это на весь день себе налил!
– Ой, да заебал! Холод такой, имей совесть, – сказал мужчина с лопатой отдавая Коле пустую флягу.
– Совесть, блядь.
– Сейчас приду, – сказала женщина и вошла в подъезд.
Мужчины стояли у подъезда, курили Колины папиросы.
– Так чего ты здесь забыл? – спросил мужчина с лопатой.
– Я здесь всё помню, – сказал ему Леонид Семёнович.
Долго потом молчали трое мужчин, докурили Колины папиросы, когда женщина вышла из подъезда: несла бутылку подмышкой, ещё две в руке, а во второй – хлеб в шелестящем пакете и газетка. Мужчина с лопатой вздохнул, поднял лопату и стал копать в сугробе. Долго копал, и все смотрели на него, а когда перестал копать, бросил лопату далеко.
Под снегом лавочка была, теперь на дне снежной ямы она стояла низкая и косая. В яму влезли мужчины и женщина. Женщина постелила газету на лавочку, вытащила хлеб, поломала на куски и положила сверху на шелестящий пакет, поставила на газету бутылки. Коля потянулся к бутылке, взял за крышку – щёлкнула. Все на него смотрели и молчали.
– Чё вы молчите, стаканы где?
– Да давайте так, – сказал мужчина без лопаты.
– Нет, так не надо, стаканы надо, – сказала женщина и стала из ямы вылезать, опираясь на плечо Леонида Семёновича.
– Захвати ещё чего, а то принесла один хлеб.
Женщина зашла в подъезд, Коля открытую бутылку протянул Леониду Семёновичу.
– Подождём до стаканов, – Леонид Семёнович сказал.
Коля сел на лавку и вздохнул, отпил глоток. Дышали паром они на тусклый свет из окна.
– Не можешь ты минуту подождать! – выходя из подъезда, сказала женщина.
Она спустилась в яму, поставила стаканы на лавку, вытащила из кармана куриные яйца и положила на газетку рядом с хлебом. Взяла у Коли бутылку, расплескала водку по стаканам, подала всем по гранёному в руку и сама взяла.
Выпил мужчина, который снег копал, и посмотрел, как остальные пьют. Выпила женщина и смотрела усталыми глазами, как Леонид Семёнович пьёт, вытирает усы – лёд в бороде у него. Коля последний выпил, чмокнул и опустил голову на руки.
Женщина тонкими пальцами льдинки из бороды у Леонида Семёновича стала выбирать; тот смотрел спокойно, и не видно было, как он улыбается.
– Как тебя зовут? – Леонид Семёнович спросил.
– Дашей, – ответила женщина.
– Коль, ты чего? – мужчина без лопаты положил руку на Колю и потряс.
Коля помотал головой, но не поднял лица. Так и стал говорить, голос его глухо звучал, снег тихо на Колю падал.
– Как тут стемнело, так и уехала она. Долгое было лето, светило на людей солнце, на траву светило и на дома. А потом стемнело, и пошёл снег. Думали тогда, что закончилась война, и кто в ней умер, тех будем хоронить. Но всё не до этого было, а ей, она красивая, умная, у неё наука своя, вот она и уехала, когда стемнело и пошёл снег. А мы ведь видели с ней, как началась война. Мы поехали на велосипедах из дому, через поля жёлтые – обожгло их солнце. Нам с ней кожу тем летом тоже обожгло, и кожа у нас была красивая, особенно у неё. Она ехала впереди, у неё сухая высокая трава запуталась в колесе; она остановилась и смотрела на колесо, а я остановился и на неё смотрел, вспоминал, как первый раз её увидел под стеклянным куполом главной аудитории университета: она писала, а я читал, что она пишет. И вот я из её колеса достаю впутавшуюся траву, а она кладёт мне на затылок руку, я поднимаюсь и смотрю на её лицо – небо у неё позади. Я хочу её целовать, а в стороне города, за полем далеко яркое что-то, ярче дня светит, и в небо поднимается большая куча дыма, становится длинная, поднимается выше всех облаков серая, чёрная пыль и копоть. И когда уже закрыла куча дыма полнеба, подул ветер, упали мы и наши велосипеды, услышал я звук, как будто бы не снаружи он был, а внутри у меня, лежали мы тогда в траве с ней и смотрели друг на друга. Дашенька, налей выпить, а?
Даша расплескала водку по стаканам. Почистила яйцо от скорлупы и подала Коле.
– Мы ведь даже не заметили, когда война закончилась, она как будто началась, но так и не закончилась. Она смеялась, радовалась, и я радовался, когда смотрел на неё, вся война так и прошла, но темноту она уже не смогла пережить и уехала, у неё ведь наука такая, ей свет нужен, она ищет древние клады, вазы, шкатулки, монеты. Она мне рассказывала: есть такой город, где вот так тоже поднялась куча пыли, когда взорвалась гора, и засыпало всех людей, они там так и остались – с монетами в руках, кто-то спал, лежал в траве.
– Эх, Колюшка, я тоже помню, как началась война. Тогда и перестали люди умирать. Только те, что убило в войне, умирали, и то, – Даша налила водки в стаканы, отломила кусочек подмёрзшего хлеба. – У нас недалеко от дома лежал несколько недель взорванный гранатой и всё не умирал. Я его из болота граблями вытащила и сидела с ним, мне было шестнадцать лет. Я ему говорила: умирай, чего же ты мучаешься, у тебя вон ни рук толком, ни ног не осталось. А он одним глазом плакал и смотрел на меня. Говорит: как же умереть, когда небо такое здесь, воздух такой и ты, – это он мне, – ты, говорит, красивая такая. Я плакала и просила его умирать, а он не просил меня ни о чём, только говорил: иди домой, а я подышу и умру. Вот ведь как, началась та война и люди перестали умирать, даже взорванные, как тот солдат.
Мужчина без лопаты вылез из ямы и пошёл искать в снегу лопату. Снег их в яме засыпал, уже совсем они замёрзли.
– Ты куда пошёл? – спросила Даша.
– Всякую хуйню рассказываете, – сказал мужчина и нашёл в снегу лопату.
– Леонид Семёнович, ты замёрз? – спросила Даша.
– Скоро уже пойду, – ответил Леонид Семёнович.
Из подъезда вышла женщина, за руку держала девочку, одетую в шубку, в валенки и в пуховый платок.
– Мужчина, девочка ваша?
Леонид Семёнович обернулся и посмотрел из ямы на женщину и девочку.
– Да, моя.
– Я тут приодела её, у меня от старшей осталось.
– Спасибо вам, – Леонид Семёнович вышел из ямы и сел на колено перед девочкой, потянул за узелок шерстяного платка, погладил по щеке, девочка стеснительно отвела глаза, потом посмотрела с боязнью. Леонид Семёнович обнял девочку. Женщина стояла с ними рядом и смотрела на Дашу и Колю, они тоже смотрели, как Леонид Семёнович обнимает девочку.
– Мы пойдём, спасибо вам, – сказал Леонид Семёнович, выпустив девочку из рук. – Вы добрые люди, – Леонид Семёнович долго посмотрел на всех, и взял девочку на руки, и пошёл вдоль стены дома; скоро его не стало видно в темноте.
Над темнотой вдали пролетает свет. Свет улетает в темноту, возвращается из темноты. Перед пригородным автовокзалом горят белые фонари. В холодном свете у стены билетной будки сидит женщина и курит: положила лицо на руку, от лица её дым идёт. Собаки холодной ночью лежат друг на друге у входа в мотель «Казачка», смотрят собаки, как идёт сюда могучий Леонид Семёнович, несёт ребёнка.
Одна собака встала и налаяла на него. Остальные собаки поёжились и молча посмотрели на Леонида Семёновича. Собака больше не лаяла – пришла к ногам Леонида Семёновича и поглядела на него. Леонид Семёнович поглядел собаке в глаза, она махнула хвостом, Леонид Семёнович погладил собачью голову. Женщина встала со стула, собаки посмотрели на неё. Женщина подошла к Леониду Семёновичу и поглядела на него. Леонид Семёнович поглядел ей в глаза, женщина улыбнулась и отряхнула снег с одежды девочки.
– Автобус только что ушёл.
– Мы тогда зайдём погреться, – Леонид Семёнович поставил девочку на землю, взял её за руку и пошёл к двери мотеля «Казачка».
Душно натоплено и гудят лампы дневного света в мотеле «Казачка». Никого нет, слышно, как на кухне из телевизора песню женщина поёт:
– Плачет девочка в автомате, прячет в зябкое пальтецо всё в слезах и в губной помаде перепачканное лицо.
Леонид Семёнович отодвинул стул от стола, девочка сняла платок, расстегнула пуговицы на шубке. Леонид Семёнович снял с неё шубку и повесил на стул, девочка забралась на стул, посмотрела на календарь с красной гоночной машиной и покачала валенками.
– Мёрзлый след по щекам блестит, первый лёд от людских обид, поскользнёшься, ведь в первый раз бьёт по радио поздний час.
Сел за стол Леонид Семёнович и увидел угол телевизора – женщина там улыбалась и музыка играла, а потом другая женщина запела:
– Блики на окошках, воробей за крошкой, мы глотками меряем наше время, радужные точки, смятые комочки, мы с тобой одни, хотя со всеми.
Девочка и Леонид Семёнович смотрели друг на друга и слушали песню. Хозяйка быстро выглянула из кухни, поглядела на телевизор и пошла к столу, за которым сидели девочка и Леонид Семёнович.
– Ты что будешь кушать? – спросил Леонид Семёнович.
– Картошку, – сказала девочка.
Хозяйка подошла к столу и посмотрела на Леонида Семёновича.
– Нам одну картошку…
– Какую? – спросила хозяйка Леонида Семёновича.
– Какую? – спросил Леонид Семёнович девочку.
– Варёную, – сказала девочка тихо, не поднимая глаз от облезлой скатерти в клетку.
– Варёную картошку, семь котлет и пол-литра вина, – Леонид Семёнович посмотрел на девочку, – а что ты будешь пить?
– Я тоже вина хочу, – сказала девочка, крутя в руках пластмассовую зелёную солонку.
– Значит, не пол-литра, а литр, – сказал Леонид Семёнович.
Хозяйка посмотрела на девочку, потом на Леонида Семёновича, смотрела, как он запустил пальцы в волосы, седые, густые и длинные. Ничего больше не сказала хозяйка, ушла на кухню, оттуда пела женщина из телевизора:
– Да, конечно, сложно, но ещё возможно, сердце прошептало, я сказала, наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой на-на, на-на.
– Сколько тебе лет? – спросила девочка.
– Триста шесть, – сказал Леонид Семёнович.
– А мне просто шесть. А тебе какая музыка больше нравится: со словами или без слов?
– Я давно музыку не слушал, уже не помню, какая нравилась. А тебе нравится, которая здесь играет?
– Да, здесь хорошая, слова красивые.
– Ты умеешь читать?
– Нет, не умею.
– Надо тебе научиться, если тебе нравятся песни со словами.
– Почему?
– Потому что читать слова интересно, – Леонид Семёнович посмотрел, как из кухни вышла хозяйка. Она несла две тарелки одной рукой, в другой несла стеклянный графин с красным вином и два гранёных стакана на пальцах.
Девочка поёрзала на стуле, когда хозяйка ставила перед ней картошку-пюре, наваленную на тарелку дымящимися буграми. На тарелке у Леонида Семёновича гурьбой лежали блестящие котлеты, одну из них он поддел вилкой и положил в девочкину картошку. Леонид Семёнович поставил стаканы рядом и налил в них вино до половины. Девочка тут же взяла один из стаканов двумя руками и поднесла к носу. Хозяйка не уходила от них: отвернувшись от стола, смотрела в сторону кухни. Потом она быстро взглянула, как Леонид Семёнович с девочкой пьют вино, и ушла.
По залу пробежал свет от фар приехавшего автобуса. Леонид Семёнович расплачивался у прилавка, а девочка смотрела из окна на чёрный автобус: как собаки лают на него, как отбегают собаки от открытой двери, как выходит из автобуса и закуривает сигарету старик-водитель.
Леонид Семёнович подошёл к девочке и накинул ей шубку на плечи.
– Скоро поедем туда, где тепло.
Девочка обернулась и посмотрела на Леонида Семёновича, высоко подняв голову.
– Я буду жить там с тобой?
Леонид Семёнович взял из руки девочки пуховый платок и покрыл ей голову. Девочка улыбнулась, а Леонид Семёнович поцеловал её улыбку.
– Да, будем там жить вместе, – сказал Леонид Семёнович.
В автобус сели только они одни. Водитель ещё немного подождал, сказал что-то женщине через окошко кассы и сел в автобус. Он завёл мотор, оглянулся в салон, увидел взгляд Леонида Семёновича и отвернулся.
– Нам там в наших шубах жарко будет, если там тепло, – сказала девочка.
– Купим тебе платье, голубое, – сказал Леонид Семёнович.
– А тебе белую рубашку, – сказала девочка, устраиваясь на коленях Леонида Семёновича спать. Уже сквозь сон она сказала:
– И бороду тебе побреем.
Тьмы не стало, когда проснулся Леонид Семенович. По дороге текли ручьи воды, таял снег в полях. Когда девочка проснулась, кругом были пески, редко видны были обожжённые пальмы.
Автобус высадил их на остановке «Универмаг». Леонид Семенович и девочка держали в руках свои шубы, шли по занесённым песком улицам, никого не встречая по пути. Они вошли в универмаг, магазин «Голубые платья и белые рубашки» был открыт. Они купили одежду, продавщица в высоком тюрбане, чернокожая, улыбалась девочке, смеялась над Леонидом Семёновичем, который, стоя на одном колене, помогал девочке надеть туфельку.
– Веве ни бабу вакучекеша! – смеялась молодая чернокожая продавщица.
Леонид Семёнович и девочка вышли из универмага и зашагали по улице. Они увидели впереди большой котлован, в нём бурлила вода, в воду был опущен трос; двое чернокожих юношей спорили на странном языке.
Леонид Семёнович смотрел на них: они говорили друг другу о чём-то, как будто в стихах, а трос в воде стал быстро вздрагивать. Девочка сказала:
– Там человек под водой.
Леонид Семёнович подбежал к котловану, схватил трос и стал рывками поднимать его, молодые негры смотрели на него испуганно.
Леонид Семёнович выбрал последний метр троса и схватил под руки человека, вытащил из воды и положил на жёлтую размокшую глину, которая здесь была всей землёй. Молодая женщина с глиняной амфорой в руке кашляла, выплёвывая грязную воду, глаза её, широко раскрытые, смотрели на Леонида Семёновича и девочку, которая взяла у неё из рук тяжёлую амфору и сразу же уронила. Амфора раскололась, и в глиняной каше, которой она была наполнена, показались золотые монеты. Женщина кашляла, всхлипывала, хватала ртом воздух, а руками обнимала девочку. Негры смотрели на Леонида Семёновича и бормотали один другому:
– Хую бабу ни мкубвакама темпо.

Чаепитие | Николай Старообрядцев
Софья Николаевна сидела в небольшом мягком креслице у окна и синей ниткой вышивала изящный вензель на белом платочке, натянутом на пяльцах. В дверь комнаты постучали. Она отложила рукоделие, опустила ноги в тёплые тапочки, отороченные мехом. Бесшумно ступая по мягкому ковру, подошла к двери и, повернув блестящую медную ручку, открыла её. Григорьев, специалист отдела планирования, работавший с Софьей Николаевной на одном заводе, стоял в коридоре и теребил в руках свою серую шляпу, энергично разминая нервными пальцами и без того истёртые поля.
– Добрый день, Софья Николаевна! Шёл мимо и увидел ваше окно. Взбрело в голову: дай зайду, поздороваюсь, – затараторил Григорьев. – Помните, давеча проходили с вами после работы, вы мне окна-то ваши и указали.
– Заходите скорее, Игнатий Петрович, – приветливо улыбаясь, Софья Николаевна отошла от двери вглубь комнаты, приглашая Григорьева. – Очень правильно сделали, что заглянули. А я как раз чай пить собиралась.
– Да ведь я ненадолго, всего только на минуточку, – Григорьев широким шагом вступил в комнату. – Предложение ваше, впрочем, приму с удовольствием величайшим, но только по причине того, что за чаем буду не так неловок, как без чаю, хоть и пристыжён уже неприличной пустотой своих рук, отсутствием, так сказать, сладостных продуктов к столу в них, моих руках, то есть, для непосредственного вручения вам, Софья Николаевна.
– Проходите же, снимайте туфли и дайте вашу шляпу, – пролепетала Софья Николаевна, оторопевшая от нелепой тирады Григорьева, но и не без некоторого удовольствия, вызванного его смущением, бросающимся в глаза. – Садитесь к столу, буду поить вас чаем.
Но прежде чем заняться сервировкой стола, Софья Николаевна подошла к креслицу и как можно небрежнее, стараясь случайно не возбудить любопытства Григорьева, убрала своё рукоделие на широкий подоконник и немного прикрыла занавески так, чтобы одна из них скрыла вышитое.
Немного левее окна была установлена простая деревянная ширма. Она была предназначена для отделения некоего пространства, выделенного из комнаты для приготовления пищи и удовлетворения простейших гигиенических нужд. За ширмой этой помещалась электрическая плитка с чайником, маленький рукомойник, зеркало в узорчатой гипсовой рамке, несколько кастрюль и сковород, а также небольшой шкафчик, содержащий в себе, по всей видимости, мелкие предметы кухонного хозяйства.
В то время как Софья Николаевна, скрывшись за ширмой, извлекала из шкафчика чашки и бумажные свёртки, в которых хранились запасённые на случай гостей лакомства, Григорьев принялся с грохотом придвигать к журнальному столику, стоявшему подле креслица, столь же аккуратную маленькую табуреточку, отставленную в угол комнаты. Излишне шаркая ногами и ежесекундно оборачиваясь, придавая своими кривляниями процессу придвижения табуретки к столу как бы чрезвычайную деликатность, Григорьев улучил момент и загнул голову в сторону окна, чтобы увидеть прикрытую занавеской вышивку, сокрытие которой он, разумеется, приметил. На белой ткани платочка, туго натянутого на пяльцах, была изображена недовышитая латинская буква «S», затейливо обрамлённая цветочными лепестками.
– Вы такой высокий… Должно быть, с такими длинными ногами будет не очень уютно сидеть в такой крошечной обстановке, – сказала Софья Николаевна, появившаяся из-за ширмы с горячим чайником и тарелкой, в которой лежали козинаки и большой кусок щербета.
– Нет-нет, не беспокойтесь, я устроился совершеннейшим образом уютно, – заторопился Григорьев. – Я, знаете ли, не охотник до пиршеств в тронных залах, а вот такие маленькие комнатки, почти кукольные комнатки, – это, откроюсь вам, моя тайная страсть!
– Это почему же? – рассмеялась Софья Николаевна, оторопевшая уже во второй раз и даже остановившаяся посреди комнаты с двумя фарфоровыми чашками, расписанными гжелью. – Какие такие кукольные комнатки?
– Я может и сдуру ляпнул про эти комнатки, Софья Николаевна, – продолжал лепетать Григорьев, – просто прольститься перед вами желая в извинение за неожиданный визит свой. А комнатки эти – сущий пустяк. Люблю просто, как царь Пётр, при великом росте мелкие объёмы оккупируемых пространств. Пугаюсь лишь только мысли, будто это во мне из-за желания казаться больше, чем я по факту своего существования являюсь. Или даже в скорлупке какой оказаться хочется, всё равно, что был бы я невылупившийся птенец.
– Глупости какие, Игнатий Петрович! Птенец, скажете тоже, – разливая по чашкам горячий чай, возмутилась Софья Николаевна, – при вашем-то росте и вашем значении на заводе, – при этих словах Григорьев невольно приосанился и поправил узел галстука, до того безобразнейше висевший. – Вы даже скромнее, чем от вас можно было бы ожидать! Пейте, пожалуйста, чай. С мятой, мама из деревни привезла, очень вкусно.
– М-м-м, и правда, восхитительный чай, – отпив немного, прошептал Григорьев, – давно не пивал такого. Вкусней любого вина, ей богу, Софья Николаевна.
– А вы вино любите? – удивлённо, но тут же смутившись, спросила Софья Николаевна. – То есть я хотела сказать, вкус вина умеете понимать?
– О, нет совсем, – расхохотался неожиданно громко Григорьев. – Мне до такой изысканности далеко шагать. Про вино это я так, для красного словца. Я ведь спиртного почти совсем не приемлю. Расслабляет мысль, знаете ли. Поэтом стать можно. Могу пива светлого выпить кружку после бани, уж больно хорошо, но больше – ни-ни!
– Строгий вы человек, Игнатий Петрович, – надломила щербет Софья Николаевна. – А я вот люблю поэзию. Ахматову, Гумилёва, Есенина очень. Мне кажется, поэзия делает человека внутренне светлее…
– Позвольте вам возразить, Софья Николаевна, – перебил вдруг Григорьев. – То есть не совсем возразить категорично, а как бы возразить, одновременно соглашаясь. Мыслится мне, будто просто есть рычажок некий в человеке, как бы кнопочка золотая, нажмёшь – и светлее становится. И любит так человек просветляться, искать, чем поднажать на эту кнопочку, невзначай как бы поднажать, будто прислониться к холодной твёрдой стене и спину почесать усталую. Есть ловкость рук – фокусами-покусами обзывается в цирках, а есть ловкость человеческого языка – называют поэзией или высоким штилем. А я
другое поэзией называю. Вот помните, после работы у проходной мы случайно встретились и пошли неожиданно по одной дороге? Вы домой пешком всегда ходите, да и я в тот вечер пройтись решил – уж больно погода хорошей была. И вот идём мы, значит, в одном направлении, но поодаль друг от друга. Не знакомы близко вроде бы, хоть и видимся. Помните? А что дальше было, припоминаете? Старушечка горбатенькая. Идёт-ковыляет, подходит к людям и на хлебушек кротко спрашивает. Смотрят на неё люди влажными, умными глазами. Кто даст копеечку, кто десять копеечек, и пошёл прочь – от забот подальше. Интеллигентным людям вредно старушечьими эмоциями пропитываться. Вдруг замечаю я (и вы замечаете) как проходит мимо старушечки этой хулиган. Сразу видно: злодей отпетый, потому как морда протокольная, глаза навыкате, папироса во рту дымит. Сближается морда эта с бабулечкой нашей. Ну, думаю, не получишь ты, старая, копеечки, даже не проси. А чего доброго, так и собранное потеряешь. Далее – гром средь ясного неба: обращается старушка к бандиту этому, подай, дескать, на хлебобулочное изделие, мил человек. Ну, думаю: оторвёт старухе башку и в канаву выкинет такой мил человек. Ан нет! Берёт хулиган изо рта цигарку и в лужицу бросает, а другой рукой выгребает из кармана всё, что есть, и передаёт во владение бабушкино. Да говорит напоследок: благослови, мать. «Мать», сказал, представляете! Перекрестила его старушка, да тут же и прослезилась, а хулиган развернулся и прочь пошёл широкими шагами, чуть не побежал. Вот тут-то я оторопел. Подхожу к вам и говорю: позвольте до самого дома идти с вами рядом, потому как жизнь невыносимо прекрасна! Тогда и ощутил я, будто Пушкин во мне зардел, да не тот Пушкин, что с ногтями, что с картинки лукаво смотрит, а другой Пушкин – подземный что ли, глубинный Пушкин. Скрутило меня тогда бессовестно. Вот такое состояние и хочется мне именовать поэтикой бушующей и радостной жизни, а не бумаги и пыли междустраничной.
Всё то время, пока Григорьев рассказывал, Софья Николаевна держала чашку чая в руках, но отпить не решалась, боясь показаться невежливой.
– Странно вы рассуждаете, – сказала она, когда Григорьев наконец умолк. – Я тоже озадачена была этим происшествием, но каким-то смешным показалось мне оно. Нет, не смешным, ведь смеяться тут не над чем. Тут не смеяться надо. Обидно просто, что наши сограждане так равнодушны к старикам, к чужим проблемам. Особенно когда так легко помочь. Будто брезгливость какая к чужому горю. Настолько, что уличный хулиган порой кажется человечнее порядочного гражданина. Изгой оказывается человеком, хотя считают, что должно быть наоборот. Но отчего вы так воодушевились, именно, как вы говорите, до такой степени, что в вас Пушкин зардел? И при чём здесь Пушкин? Этого я совсем не могу понять.
Григорьев отломил большой кусок шербета, отправил его в рот, торопливо прожевал и запил большим глотком чая, осушив чашку практически до дна.
– А вы любите вышивать? – неожиданно резко спросил он, с каким-то даже усилием поставив чашку на столик.
– Вышивать? – недоумённо переспросила огорошенная Софья Николаевна. – Я вышиваю иногда мулине, – ответила она, напрасно пытаясь казаться невозмутимой.
– А что такое мулине, Софья Николаевна? – грубо выпалил Григорьев, требовательно наклонившись вперёд.
– Мулине? Шитьё это такое… нить… и зачем, зачем вам это, господи, – пальцы Софьи Николаевны задрожали, она поспешно спрятала руки.
– Господи! Вы упомянули имя Господа нашего? – перешёл почти на шёпот Григорьев, но чувствовался в этом и какой-то восторг, будто он только и ждал, что имя это будет упомянуто. – Господа нашего Иисуса Христа, исковерканного, освежёванного и препарированного грязными сальными руками обиженных жизнью диссидентов и отупевших от мелкой злости кухарок? Вера в которого приносит успокоение, снимает неприятный осадок от общения с руководством предприятия? Того самого, вера в которого позволяет двигать горы силой мысли, но не для того, чтобы вскрывать полезные ископаемые, таящиеся в глубине наших святых недр, и не для того, чтобы давить врага, который не дремлет, который нас гнетёт ежесекундно и неустанно, как клещ или лесной комар, а единственно только для фокуса! – перейдя почти на восторженный крик, Григорьев снова зашептал, на этот раз злобно шипя: – А как же кукольные комнаты, такие мягкие, такие уютные, что даже захочешь, то и тогда не сможешь себя тяжело травмировать в такой комнате? Мне, Софья Николаевна, думается, что в такой вот комнатке, как ваша, не достаёт какого-то постамента, тяжёлого и с острыми твёрдыми углами, желательно из белого мрамора, и почтенного старичка на стульчике, светлоокого такого старичка – мудренького и возвышенного, будто всю жизнь он писал только оды одни, да представлял при этом, будто туфельку императрицы Екатерины Великой поцеловал кротко. И вот взять рукой стульчик за ножку и неожиданно так выхватить из-под старичка, чтобы он упал вдруг и седой головушкой о край постамента ударился до крови, и схватить со стола, с блюдечка, пирожочек мягонький, и пихать в рот старичку, и приговаривать: «А что это вы, милостивый государь, пирожочек не кушаете? Али недостаточно мягок он? Недостаточно сладок для вас?» – заканчивая тираду, Григорьев весь уже извивался на табуретке и, скрючивая пальцы, изображал, как он засовывает пирожок в рот воображаемого старичка. На лице же его застыл такой спазм, будто это было лицо самого этого несчастного умирающего старичка.
Софья Николаевна резко встала и, выйдя на середину комнаты, скрестила на груди руки.
– Игнатий Петрович, – сдерживая гнев и слёзы, официально сказала она. – Я не понимаю и не желаю понимать, почему вы всё это говорите. Я совсем другого ожидала от вас. Прошу вас, если я обидела вас чем-то… простите. Не смею вас задерживать более! – проговорив это, Софья Николаевна закрыла лицо руками и отвернулась.
Григорьев вдруг снова успокоился, отвернулся к окну и пальцем руки начал было непроизвольно ковырять недоеденный щербет, но тут же отдёрнул его, поняв, видимо, нелепость и карикатурность своего занятия.
– Софья Николаевна, простите, что я устроил здесь весь этот фарс, – настойчиво, но вкрадчиво и примирительно заговорил Григорьев. – Но можно ли слушать такое? И зачем? Зачем слушать человека? Что такое вообще говорящий человек? Имеем ли мы право говорить друг другу? Я не знаю, я просто хочу сказать… я совсем не то имел в виду… будто жертвоприношение нужно совершить, чтобы другой человек посмотрел на тебя и увидел тебя, а не своё отражение, будто мы все из зеркального стекла и нужно вдребезги разбиться, чтобы не отражать, чтобы пропал этот блеск, этот вторичный искусственный свет, совсем лишний свет. Не от того ли это, что только в смерти есть соединение. Из небытия всё вышло, и всё уйдёт в небытие, а бытие, мыслимое существование – это ад на земле, ад одиночества.
Софья Николаевна отняла руки от лица и взглядом, полным страдания и неожиданного тепла посмотрела на Григорьева.
– Я понимаю вас, Игнатий Петрович, – сказала она. – Я и сама давно уже думала об этом, но не могла высказать. Извините меня, что я вас испугалась, что я обозлилась на вас и подумала, что вы меня оскорбить пришли.
– Софья Николаевна, не говорите так, прошу вас, заклинаю вас, – Григорьев как будто весь обмяк, стёк с табуретки на пол и пополз на четвереньках в сторону Софьи Николаевны.
– А я ведь и шёл к вам, чтобы оскорбить вас, чтобы надругаться, ноги об вас вытереть, – Григорьев встал на колени и обнял ноги Софьи Николаевны, прижавшись головой к животу. – Ведь давно следил за вами, год почти, всё думал: «Вот она ходит и ждёт, когда ноги об неё вытирать придут, кровью её пыль придорожную с сапог смывать будут». Но я был дураком, я ужасно, грязно ошибался, вижу это теперь! Я умереть, погибнуть хочу теперь. Умереть и воскреснуть, чтобы каждый день заново рождаться, снова умирать и снова воскресать!
Григорьев схватил Софью Николаевну и стал жадно целовать через одежду, увлекая на пол.
Через пятнадцать минут Григорьев встал и, застёгивая брюки, прошёл к двери, туда, где на крючке висели его плащ и шляпа. Пошарив в плаще, Григорьев извлёк бутылку водки и, откупорив, жадно отпил из неё.
– Есть в этом что-то ницшеанское, на мой взгляд, в хорошем глотке русской водки, – поморщившись, сказал Григорьев, не глядя на Софью Николаевну, которая тем временем села в креслице, подобрала ноги и отвернулась к окну. – Хороший сегодня день. На теплоходах хорошо по реке кататься. Вы любите теплоходы, Софья Николаевна?

Таборные | Ольга Иванова
Снявшийся поутру табор приближался к городским окраинам. До осени было ещё далеко, однако по ночам стало чуть прохладнее. Можно было продолжать кочевье, двигаться на юг, ближе к тёплому морю.
Зимовали обычно у крестьян в прибрежных сёлах, чаще хорошо знакомых по прежним годам кочевья. Если не удавалось договориться с тем, кто пускал на постой, отыскивали брошенный домишко, надворную избушку, флигель, да хоть сарай. Утепляли как могли, ставили железную печурку, которую возили с собой в открытой телеге. Прежде табор перед зимовкой ничто не могло остановить или повернуть назад.
Если женщина рожала, она с семьёй и повитухами догоняла табор после родов. Её ждали, встречали песнями, ей готовили лучшую еду, ставили хорошую маленькую палатку, в которой мать кормила младенца, укрывала его от непогоды и чужих взглядов: не сразу нового цыганёночка знакомили с соплеменниками, до сорокового дня старались особо не раскрывать, не показывать никому, кроме самых близких.
Когда смерть настигала таборного бродягу, останавливались до похорон. Хоронили на кладбище, если оно было недалеко. Место выбирали поближе к дороге. А если кладбища поблизости не случалось, так выкапывали могилу просто на обочине. Покойника заворачивали в одеяло, на котором он спал в последние дни жизни. Ставили небольшой деревянный крест. Читали молитвы, обещали покойному: пойдём ещё по этой дороге – навестим тебя. А если наши пути мимо лягут, то другой табор пойдёт. Православные шапку снимут, поклонятся, перекрестятся.
На могиле устраивали скромные поминки: курили трубки, рассказывая друг другу истории про то, каким замечательным человеком был умерший. Было вино – мужчины выпивали, пуская чашу по кругу. Женщины и дети довольствовались чаем с сушёной вишней, черносливом, курагой. На закуску ставили сывьяко – печённый в золе под костром пирог с яблоками и изюмом.
Всё действо занимало не больше двух часов. После похорон сразу снимались с места: жить рядом с могилой не позволяли старые обычаи. На этот раз нашёл покой в придорожной могиле давно хворавший Артюх. Он был не молодой, но и не старый, имел хорошую семью, в которой младшая дочь была ещё совсем маленькой, а старший, уже женатый, ждал первенца.
Жена Артюха, Марга, привезённая из румынского табора, была краснощёкой, пышногрудой, проворной и шумной. Она говорила хоть и на близком, но всё же ином наречии, а иногда переходила на румынский. Софье, двоюродной племяннице Артюха, это было интересно, и она часто просила Маргу спеть на румынском и объяснить смысл песни или спрашивала, как по-румынски будет то или иное слово.
Артюх всегда понимал жену, потому что любил её без памяти. Родила Марга пятерых детей. Старшие вышли лицом в мать, а характером в Артюха: сдержанные, молчаливые, серьёзные.
Анфим унаследовал от отца охотничье ружьё и страсть бродить по лесам в поисках добычи, которая не раз выручала табор в голодные дни. Когда он был ещё подростком, отец брал его с собой на охоту, учил стрелять, ставить силки и плашки, читать следы и слушать лесные голоса. Парень постиг эту науку в совершенстве; незадолго до смерти отец сказал ему, что теперь есть на кого оставить табор: охотник есть, к нему ружьё. Голодными не будут. Да ещё и запас хороший был: Артюху, любившему мену, удалось как-то обменять казачье седло на целый ящик заводских охотничьих патронов.
Второй, Ульян, больше всего на свете любил музыку. Скрипка досталась ему от чужого дедушки: какое-то время вместе с Артюховой семьёй кочевал подобранный на ярмарке старик. Он отстал от своего котлярского табора, угодив в тюрьму за кражу поросёнка, а выйдя вместе с неразлучной скрипкой, сильно захворал: всё время кашлял, бесконечно занимая себя музыкой. От него Ульян научился играть, и когда дедушка покидал табор, встретив наконец родню, он оставил мальчику скрипку, сказав:
– Мне уж недолго осталось. Ты теперь играй, Ульяшко. У тебя ладно выходит. Да смотри, не бросай скрипочку, она живая!
Ульян был по-цыгански красив: большеглаз, широкоплеч, высок и строен, но характером больно строг и суров. Как вырос, стал ссориться со всеми, придираясь к каждой мелочи и не перенося чужих ошибок. И однажды, так же из-за мелочи, из-за глупости, распаляясь в споре и распаляя соперника, подрался со своим двоюродным братом Силкой, старше его на два года. Парни едва не покалечили друг друга, и ни один не оказался в драке сильнее и ловчее другого. Но когда их растащили и утихомирили, Ульян прокричал, что раз его не признают правым, он покидает табор.
Так и случилось: ушёл со своей скрипкой тем же вечером, голодный – не стал обедать со всеми! – гордый, несогласный. Слышали, что приглянулся в городе какой-то торговке, вдвое старше его, и живёт в её доме, как сыр в масле катается. Иногда Артюх и Марга просили Софью погадать, как там их непутёвый сын. Выходило, что у него всё хорошо, живёт без горя. Но после его ухода стал хворать отец. И ничего не смогли сделать ни старые знахарки, ни Софья, как ни старались. Болел и чах помаленьку Артюх, пока не позвала его к себе смерть. А Ульян так и не появился в родном таборе.
Третий сын, Лога, едва подрос, в любом селе, где бы ни остановились, начал бегать в церковь, научился молиться не на цыганском языке, а по-поповски. Лет двенадцать ему было, когда он принёс псалтырь, купленный у местного дьячка. Поступок этот показался странным обитателям табора. Никто из цыган не стал бы тратить деньги на книгу. И красть никто не стал бы, в церкви грешить! Да и зачем цыганам книга? Костёр разжигать? Но настоящее удивление вызвало то, что парень, как оказалось, умеет читать.
В таборе было двое грамотных: Софья да старый Пров, научившийся чтению и письму в Варшавской тюрьме, где в молодости провёл четыре года. Знал и по-русски, и по-польски, и по-румынски. А вот теперь ещё и Лога. Он и раньше просил Прова научить его, да тот по старости уже видел плохо. А Софью попросить Лога стеснялся.
– Кто тебя научил? – пытали его цыгане.
Он отвечал:
– Попы, дьяки да прихожане. Тот маленько покажет, другой…
У костров часто вместо песен стали звучать притчи и рассказы о Христе, после которых цыгане порой впадали в тихую задумчивость. Логу прозвали в таборе Дьячком.
Алек родился нездоровым. Большеглазый, тонкорукий и тонконогий, почти до четырёх лет он не ходил, потом начал передвигаться, кособочась. Речь его до поры была невнятной, но голос был сильный и звонкий. Запевал – всё замирало вокруг, казалось, даже птицы притихали послушать цыганёнка. Софья жалела мальчишку больше других, всегда старалась приберечь для него сладкий кусочек, укрыть его потеплее, чем-то ему помочь. Он платил ей робкой привязанностью. Они будто бы чувствовали друг в друге нечто общее.
Младшая, кучерявая быстроглазая Патринка, певунья, плясунья, всеобщая любимица, опекала больного братца так, будто бы это она была старшей, а не наоборот. Она помогала ему встать с земли, поддерживала его, когда нужно было идти по камням и кочкам, освобождала для него удобное местечко в палатке или в кибитке, вовлекала его в детские игры.
Однажды, когда Софья занималась штопкой ветхого полога, напевая и аккуратно подрезая разлохмаченные края прорех острым ножом, Алек подошёл к ней кривой неуклюжей походкой, торопясь настолько, насколько у него это получалось, и стал горячо просить о чём-то. Не сразу разобрала она его путаную речь. Мальчик звал её с собой к берегу. Она взяла его за руку, помогая передвигаться, и они вместе пошли туда, куда он тянул её, вдоль реки, не по тропе, продираясь через густой прибрежный кустарник.
Когда Софья пыталась направить Алека более лёгким путём, он сопротивлялся и мотал головой. Вскоре в кустах послышались непонятные звуки – будто тяжёлое дыхание, пыхтение, шуршание. А затем сквозь ветви кустарников стало видно что-то большое, сероватое с рыжиной – какой-то зверь. Алек крепче вцепился в руку Софьи, призывно оглядываясь на неё. Когда они приблизились, животное – это был молодой олень, – заметалось, тяжело дыша, однако не убежало.
Софья велела Алеку остановиться, а сама приблизилась к оленёнку. Его задняя нога запуталась в небольшом обрывке старой рыболовной сети, затянувшейся петлёй выше копытца, а другим краем зацепившейся за обломок кривого корня, торчащего из травы. Софья хотела позвать ребят, но, оглянувшись на Алека, решила сама освободить несчастное животное. Ведь цыганские парни увидели бы в олене скорее лёгкую добычу, чем несчастное живое существо, которому нужно помочь. Мальчишка смотрел на Софью с мольбой и надеждой.
Выбившись из сил, оленёнок перестал дёргаться. Когда она приблизилась, упал и, видимо, смирился с судьбой. Софья, опустившись на колени, крепко ухватила его за ногу. Он задышал, высунув язык, как собака, но не шевельнулся. Ниже впившейся в кожу прочной сети, над самым копытцем, нога распухла и была горячей. Шепча тихонько молитву лошадиным покровителям, святым Фролу и Лавру, Софья кое-как подцепила верёвочку кончиком ножа. Непросто было разрезать её, не повредив кожу, но всё же, с большим трудом и осторожностью, Софья сумела сделать это.
Когда она поднялась, олень всё ещё неподвижно лежал на траве. Алек восторженно закричал, зверь вскочил и большими прыжками унёсся сквозь заросли. Обрывок сети остался в руке Софьи. Мальчик взял его, рассмотрел и спрятал за пазуху.
Возвращаясь в табор, Софья расспрашивала парнишку, откуда он узнал об олене: ведь далеко от костров табора он один не отходил никогда. Алек отвечал:
– Он звал меня.
У палаток встревоженная мать начала спрашивать, куда ходили. Но Софья поняла, что Алек не хочет рассказывать о происшествии. Наверняка им стали бы пенять, что вкусное мясо не попало в котёл. Она сказала, что были на берегу, собирали пёстрые камешки для гадания. Алек смотрел на неё с благодарностью. Он сжёг в костре обрывок сети и тщательно разворошил пепел.
В другой раз мальчишка стал проситься со старшим братом в лес, проверять силки. Тот не хотел брать – Алек ходил плохо и медленно, – но Софья уговорила, да и Лога вступился: пусть погуляет братишка! Что он всё время у костра, да у костра! Надо и ему больные ножки размять. Анфим согласился, только когда Лога сказал, что с ними пойдёт. Старший быстро ушёл вперёд, а Лога с братишкой шли медленнее, и Алек всё время тянул в сторону.
– Куда ты, куда? – спрашивал Дьячок, а парнишка показывал рукой вглубь леса.
– Туда, туда!
На полянке у старой берёзы под корнями в силке трепыхалась ушастая сова. Алек сам освободил её, упав рядом с ней на колени. Однако она и не думала улетать. Набожный и милосердный, старший брат с умилением смотрел, как младший осторожно расправляет птице перья и бережно складывает крылья.
– Ты отпусти её! – попросил Лога.
Алек ответил:
– Я её не держу. Она не может лететь.
– Повредилась?
– Нет. Она пить очень хочет. Вон там лужица, видишь? Напоить её надо. Она давно здесь. Плохо ей.
Лога намочил в прозрачной лесной лужице конец своего кушака и выжал немного водицы в ловко раскрытый Алеком клюв. После второй порции совушка стала встряхиваться и осторожно распускать крылья над ладонями мальчика, но улетать не торопилась.
В лесу послышался посвист Анфима, зовущего братьев. Лога отозвался звонким переливом. Алек оглянулся на него тревожно:
– Сову же не едят?
– Не едят. Она мышей ловит, её есть противно. Только уж если совсем нечего.
Мальчик успокоенно заулыбался.
Анфим подошёл почти неслышно, но сова сразу повернула голову в его сторону, защёлкала клювом и раскинула пёстрые крылья. Алек склонился над ней и прикрыл её рукой, оберегая от охотника. Анфим показал свою добычу: четырёх куропаток и рябчика, притороченных к поясу. А о сове сказал:
– Добыча ваша нестоящая. Разве собакам отдать.
Алек с трудом встал на ноги и поднял сову над головой:
– Лети, совушка, подружка моя! Ещё увидимся!
Птица несколько раз взмахнула крыльями, тяжело оторвалась от рук своего благодетеля. Сначала полетела, снижаясь, но потом в несколько сильных взмахов поднялась и исчезла за деревьями. Анфим оглянулся на братьев:
– Ну, вот как с вами на охоту идти? В игрушки играете… Ладно, этот, малой ещё, но ты-то, Лога!
– На что тебе сова? – спросил Дьячок. – Пусть летает, мышей меньше будет. Давеча вон просвирки-то погрызли…
– Вот то-то, что с совы вашей толку нет, – отвечал старший брат.
Он взял Алека подмышки, поднял на валежину и подставил ему спину:
– Полезай, брат! А то с тобой до ночи не дойдём к табору. Э, да в тебе весу, как в той сове!
Софья с Терезкой и Патринкой встретили братьев на опушке. Девушки копали и складывали в мешок сладкие корешки медовой огнецветки. За спиной Терезки в тёплой шалюшке дремал ребёнок.
– А у меня вот тоже дитёнок за спиной! – весело закричал Анфим.
Смеясь и перешучиваясь, весёлая компания отправилась к табору.
Только когда девушки принялись щипать и потрошить охотничью добычу, погрустневший Алек сказал так, что слышала только Софья:
– Я их есть не буду… Они живые были.
Софья обняла его и зашептала ему на ушко:
– Миленький мой! Ты ведь знаешь: вокруг нас всё так! Если бы рябчик в силок не попался, его бы ястреб поймал. Волк овечку ест, лисица мышку ловит. По-другому они не могут! Господь их такими создал! И нас Господь создал так. Дороги наши дальние, на одной траве не проживёшь! А тебе и подавно кушать надо: хворый ты, ножки худые!
Алек со слезами побрёл к брату:
– Лога, зачем Господь велел нам мясо кушать? Я не хочу! Я птиц и зверей жалею!
Лога, помолчав, серьёзно ответил:
– На Петровский пост я тоже мяса не ел… Да и не было у нас, помнишь? А сейчас поста нет, можно… Пока здесь стоим, на хлебушке, на корешках да на травах продержимся… А пойдём – тяжело будет.
Но с той поры Алек не ел ни похлёбку из птицы, ни мясо, как его ни уговаривали. Иногда мог покушать немного рыбы, если кому-то удавалось её поймать в быстрой речке. Софья специально чистила для него печённые в костре корешки огнецветки, размышляя над его странностями и при этом любя его всей душой.
– Вот братовья у меня! – посмеивался Анфим. – Дьячок да монашек!
В ночь перед смертью отца Алек не спал, сидел у костра, не сводя глаз с раскалённых углей и бормоча что-то себе под нос. Молиться, как Лога, он не умел, но в его бормотании слышались просьбы к кому-то неведомому, с кем он будто бы был знаком.
К утру, за несколько минут до того, как, будя табор, закричала, заголосила в палатке мать, он встал и, закрыв лицо руками с тонкими, худыми пальцами, тихонько заплакал.
Отца Лога отпевал как умел, как помнил виденное за небольшой срок прожитой жизни.
Цыгане слушали серьёзно, подпевали, крестились, иногда невпопад, поправляли неумелое троеперстие детям.
У женщин по щекам катились слёзы: хороший человек был Артюх, пожил не шибко много, а добра людям много сделал… Софья обнимала всхлипывающего Алека. А когда все были готовы в путь и братья усадили его на задок телеги, он попросил:
– Ты, Софьюшка, за моей кибиткой иди. Я буду тебе батюшкину душеньку на небе казать. Я её вижу. А мама не видит.

Оглавление
Музыка | Екатерина Квитко
Кума-Кума | Иван Гобзев
Лариса | Анна Пашкова
Дуремар | Василий Вялый
Аделаида | Дарина Стрельченко
С последними лучами солнца | Артём Северский
Конфеты Светы Пшеницыной | Александр Олексюк
Цыля | Олег Золотарь
Национальность робот | Оганес Мартиросян
О синем рыцаре и девочке | Александр Шилякин
Чаепитие | Николай Старообрядцев
Таборные | Ольга Иванова