Вениамин Анисимович КОЛЫХАЛОВ
«ВАСЮГАН — РЕКА УДАЧИ»
Могучее древо-Сибирь
Трудом великим, терпеливой отдачей сил приращивали нарымские поселенцы немалое богатство земле российской. Поставляли звонкоствольный лес, пушнину, икру да рыбу цепных пород. Сибирь — древо могучее, ветвистое. Многие века наши предки срывали с этой обильной кроны плоды надземные. Не догадывались, что корни сего древа уходят в глубины, где в вековечном таинстве отлеживается в черных пластах ценнейшая жидкость с коротким емким названием — Нефть.
Что для Времени два десятилетия! Но в судьбе родной Томской области — это целая эпоха особого восхождения и взлета. Давно ли я, пролетая над белым безмолвием снегов, над немыми широтами северного края, раздумывал: «Чтобы воззвать к жизни эту громадину далей, не хватит, наверное, нашего века». Не мог предположить, что могучей силой невиданного созидания люди спрессуют время, подчинят его бескорыстному служению стране и эпохе.
На томской земле не открыты месторождения, равные по мощи Самотлору. Возможно, усиленные поиски палеозойской нефти дадут обнадеживающие результаты — будущее покажет. Нашим нефтяникам волей-неволей приходится вести долговременную осаду таких болотных широт, на которых расположена васюганская группа нефтяных месторождений, на земле, где строится город Кедровый.
Прилетев на наш нефтяной Север, везде видишь старательную работу станков-качалок. Эти «механические пчелки» обладают великим терпением и усердием. Не легкая нефть заложена в большие планы производственного объединения «Томскнефть». Ее берут с боем — тяжело, принудительно, планомерно.
У времени свой бег — безустальный, неостановимый, скорый. Люди учатся опережать его, предъявляя жизни и деятельности жесткие требования. Именно такие требования прозвучали на XXVII съезде партии. Рад, что нефтяники Васюганья высоким полетом своих дел преумножают славу Отчизны, славу нашей северной земли.
Много разных больших и малых рек пришлось мне повидать на вольной земле Родины. Но Обь и Васюган были для меня самыми дорогими талисманами. Они сберегали в душе и сердце горячие чувства привязанности к родному краю. Не простая созерцательность влекла на берега этих северных рек. Влекли люди, запятые переустройством жизни, обновлением нарымской земли.
Книга о нефтяниках Васюганья была задумана давно. Однако многочисленные поездки по стране, по большим новостройкам задерживали осуществление плана. С годами яснее и отчетливее сознаешь: реки твоего детства имеют все большую притягательность и силу влечения. Они призывают, подают властный зов: приди к нам, вглядись попристальнее. Мы стали не такими, какими были в годы твоего детства и в годы твоей пролетевшей юности. Не просмотри бурную жизнь сегодняшних дней.
И хочется не просмотреть ее. В мои блокноты, дневники, записные книжки занесены сотни цифр, имен и фамилий. Материалу столько, что хватит работы на многие годы. Текли перед глазами, словно реки, людские судьбы: волновали, тревожили, заставляли сопереживать.
Пока живы эти чувства, пока ощущаю пульс быстролетящего времени, не перестану, Васюган, бывать на твоих берегах…
Автор.
Остров глубинных сокровищ

1
Если посмотреть на буровую со стороны, то увидишь небольшой пятачок земли среди голубовато-серой розливи, ряд приземистых балков с покатыми крышами. Поодаль от крашеных домиков — бочки с соляркой, бензином, машинным маслом. Ровным штабельком трубы, под брезентовым пологом мешки с цементом. Возле сосновых бревен вездеход. Слева вдоль него распластана по земле тяжелая гусеница. И над всем немудреным хозяйством гордой охранительницей возвышается буровая. Кажется, вышка своим недремлющим оком видит все на исхлестанной дождями земле и дальше за водью, где кромка неба беспрепятственно легла на обскую гладь, где от далекого пространства размываются очертания; туда всматриваешься, невольно прищурив глаза.
Зима была многоснежной, с резкими, упрямыми ветрами. Теперь, в разливную пору, растопленные снега и льды будто мстили людям за то, что их секли гусеницами тягачей, уминали скатами трубовозов, всаживали бульдозерные ножи.
Суточная прибыль была пока незначительной. Буровой мастер Пахомов знал: Обь сумеет еще отыграться за свое полугодовое пленение. Ее пока устраивало временное затишье. Река и так успела отвоевать себе великие пространства. Пахомову думалось: их буровая — единственная часть суши на всем белом свете. Куда бы ни смотрел человек, везде были взбугренные ветром водимы: серые неохватные дали с потопленными тальниками, кустами боярки, крушины, смородины, с залитым кочкарником, где любит вить гнезда всякая пернатая живность.
Буровики окрестили пятачок суши островом сокровищ. Люди не сомневались — они, эти сокровища, есть под землей. Земля на многие километры вокруг прострелена глубокими скважинами. Разведчики недр уже не раз испытывали упоение восторга от «меткого попадания» в нефте- и газоносные пласты.
Вахтовики не пропускали ни одного бревна, ни одной доски, проплывающих мимо острова. Добрый хозяин буровой Иван Герасимович Пахомов знал, что все может пригодиться, когда находишься в окружении такой вздыбленной многоводной реки. За бревнами охотился дизелист Складпев, рослый парняга родом из Томска. Он выезжал за ними на дюралевой лодке с подвесным мотором «Нептун». Двадцать три лошадиных силы мотора плюс недюжинная силенка Владлена позволили приплавить много сосновых, кедровых бревен, плах и горбылей.
Над островом сокровищ ползли низкие угрюмые тучи. Каждая спешила послать земле тугие струн. Им было тесно. Они толклись, наскакивали друг на друга. Налетающий часто порывистый ветер приглушал шум дизеля, позвякиванье поднимающейся трубы, зычные людские голоса. Уныло кругом, неуютно. Лишь высокая стальная вышка — островная затворница — имела вид бравый, неунывный. Ничто не могло смутить ее устойчивого спокойствия.
В балок зашел корреспондент Вдовенко. Потер руки, словно пришел с матерого мороза.
Позавтракали? — Мастер, не зная для чего, переложил вахтовый журнал с одного конца стола на другой.
— Да, подкрепился. Здорово ваши повара готовят.
— Здесь же не ресторан, — улыбнулся Пахомов. — Надо кормить буровиков вкусно и сытно, чтобы калории дух и тело крепили.
— Правда, такие кулинары для ресторанной кухни — большая роскошь. — Вдовенко присел на тонконогий стульчик. — Попал я прошлым летом в Нижневартовск. Зашел в ресторан пообедать. Читаю меню: фирменное блюдо — котлета по-самотлорски. Подали какую-то поджаренную подметку, обваленную сухарной крошкой. Хотя бы не позорили прославленное имя Самотлор… Иван Герасимович, будет сегодня вертолет?
— Едва ли. «Амфибия» должна прийти. Привезет бензопилу, топоры, скобы. Обь напирает. Придется лежневку поднимать, плоты делать. Сверху цемент брезентовые полотнища от мокроты охраняют. Сколотим плоты, перетаскаем на них мешки. На Севере килограмм груза золотой, беречь надо. Гравий в низовье из-под Томска везут. Толкачи в две тысячи силенок горбатятся на обских плесах. Цемент более долгий путь до нас совершает… Оставайтесь, о борьбе со стихией очерк напишите.
— Рад бы. Ведь для районного газетчика три дня командировки — целая вечность. Строчки гнать надо. Не знаю пока ни одного существа прожорливее газеты. Иван Герасимович, вот ваша бригада славится скоростной проходкой скважин. Дежурный вопрос: за счет чего?
— Земля мягкая: грубы, как гвозди в деготь, сами лезут.
— Кроме шуток.
— В Приобье много буровиков-скоростников. Есть у кого поучиться, уму-разуму набраться. И в моей бригаде бывают пробуксовки. Буровая ведь — слово женского рода… капризное племя…
— Сколько знаю Пахомова, все он ответы на шуточки переводит.
— Чего не пошутить, да еще в такую прекрасную погодушку. Шутка — отдушина добрая. Вся скорбь земная через нее улетучится… Что сказать о своих париях? Для их общей характеристики можно применить такой термин: высокая душеотдача. Оно действительно так. Ведь сколько души вложишь в дело, такой и результат будет. Я мастер не по секретам — по бурению. Рад бы о секретах труда рассказать, да их нет. Вот смекалки у парней хватает, знаний не занимать. Про нас говорят — счет на минуты ведут. И это верно. Иная минута дороже дня.
Пахомов посмотрел в мутное окошко. Из него были видны плескучие волны.
— Чем хороша вода — дороги не ухабистые. «Амфибия» должна из-под черты горизонта показаться. Не погода — истязание души… Вы бы, товарищ корреспондент, о поварихах наших написали. Та, что с веснушками, Нина, зелень выращивает для стола: лучок, укропчик. Приедете в июне — редиской свежей угостит.
Заинтересованный сообщением, Вдовенко вскоре ушел.
— Пусть напишет, — словно убеждая кого-то, проговорил мастер. — Каждое теплое слово, сказанное о человеке, на пользу коллектива робит, на нашу буровую мельницу воду живительную льет.
Перед обедом вдали, на широкой глади Оби, показалась темная точка. Дождя не было. Сероватая пелена не могла скрыть приближающуюся «амфибию».
— Ползет путешественница! — обрадовался Пахомов и засобирался на улицу.
Ничто так не ценил буровой мастер, как четко выполненную просьбу, высказанную по рации или в личной беседе с руководством. Пообещали недавно «амфибию» — и вот она, все отчетливее прорисовывается на фоне начинающего светлеть неба.
Мастера рассердило то, что вместо бензопилы привезли двуручные пилы, какими он не раз пилил дрова на делянках в детстве. Принимая от водителя «амфибии» зубастую сталь, Иван Герасимович проворчал:
— Ничего, кое-кому напомню на партсобрании о пилах. Везде борются за сокращение ручного труда, а тут…
— «Дружбы» новые есть, да цепей нет, — смущенно пояснил водитель.
— Тебя не виню, ты не снабженец. Топоры привез?
— Сейчас достану.
Парень расстегнул «молнию» меховой куртки. Он явно робел перед известным буровым мастером, хотел казаться бравым, непринужденным. Но от Пахомова не ускользнул его вороватый взгляд. Мастер шагнул вперед и, не глядя на оттопыренный карман водителя, вроде бы нечаянно обухом топора с силой задел по спрятанной бутылке. Раздался глухой звяк. Синяя штанина сразу взмокла.
— Ну зачем так-то?! — обиженно и в то же время конфузливо произнес смуглолицый, осторожно выбирая из кармана осколки.
— Кому привозил? — сердито спросил мастер.
— Да это моя… кровная… на случай простуды, — сбивчиво лепетал водитель в рыжеватые усы.
— Не родился пока такой гаврик, который Пахомова об… ведет. Не вози сюда эту градусную дребедень. Иди в столовую, пообедай. Не обессудь, что без чарки трапеза пройдет.
Ссутулясь, «контрабандист» направился не в столовую — к буровой.
— Пошел моим хлопцам в жилетку плакаться. Ты хоть на плаху гостя веди — не скажет, кому вез. Кержацкий характер, крепколобый… Мне правятся такие.
На какой бы точке окруженного водой острова ты ни находился, черная вышка магнитом притягивала взгляд. Мы неотрывно смотрели на стальную великаншу. Внутри ее кипела работа. Прытко бегали вверх-вниз упругие тросы, взмывали и опускались трубы. Представлялось, что никогда не иссякнет энергия, заключенная в могучее мускулистое тело многометровой громадины. В ее стальном подреберье бились сердца электромоторов, питающих многочисленные механизмы. Над всем, что было скрыто под землей и что высилось над глинистым плато, властвовал человек в меховой тужурке, в черной кроличьей шапке с опущенным козырьком. У него было много подручных, умеющих потрошить глубокие пласты. Помощники давно научились упрямо преодолевать трудные вертикальные версты. Двое из бригады ушли, не выдержав строгой фронтовой дисциплины и жесткого ритма. Лопнула оболочка ложной романтики.
Буровая не терпела нытиков и лодырей. За свою сравнительно недолгую жизнь она насмотрелась всяких. Заглушала непрерывным шумом брюзжание хлюпиков, зло размазывающих по лицу брызги цементной жижи, разглагольствующих о женщинах и длинных рублях. Все понимала, но не все принимала хотя и металлическая, но чуткая душа буровой.
Пахомов с прищуром смотрел на эту мощь и сталь. Глядел с неотрывной надеждой, что на сей раз он откроет свое Эльдорадо. Каких бы душевных и телесных мук ни стоило ему самовольное заточение на острове, какие бы новые заботы ни принесла большая вода, он купит победу не ценой отчаянья и случайности — ценой повседневной упрямой борьбы за трудные метры проходки скважины.
Бур удаляется вглубь и вглубь, туда, где еще хранится вековое тепло, согревает подземное царство и его драгоценные черные масла.
Приснился однажды мастеру сон: не серое обское водополье окружает его буровое хозяйство — нефтяной океан, недвижимый, отливающий ярким глянцем. И на этом черном фоне, как на аспидной доске, начертано ослепительными буквами его имя. Вместо восклицательного знака стояла вверх ногами буровая вышка. Будь такой сон, как говорится, в руку — прогремел бы Пахомов на весь мир, а уж на всю страну — само собой… Звание… Премии… Почести… Он думал и не думал о них. Деньги его не испортили. Если придет слава, тоже не поддастся. Да будет ли она?! Сколько простых, работающих на нефть и газ людей на Севере! И гремит о них — первопроходцах земных глубин — коллективная, самая почетная, слава. Не всем ведь носить на груди звезды Героя в звездный для Родины век. Пахомов— бурильщик высокого класса, и кто сейчас скажет, как обернется судьба в будущем, чем отблагодарит людей мерзлотная сибирская земля за их нерасторжимую связь с ней.
До вечера мы вкапывали вдоль лежневки сосновые стояки, всаживали аршинные гвозди, скобы. Когда гвоздь входил в древесную плоть по широкую шляпку, из-под топора летели брызги и крошево коры. Мастер орудовал, как заправский плотник, подрядившийся на случай паводка возвести над лежневкой второй этаж.
— Герасимович, чего убиваешься? — подошедший дизелист Складнев скрестил на груди крепкие руки. — Вода больше не поднимется. Примету знаю. Пойдем в балок, в шахматы не с кем сыграть.
Старшой ничего не ответил, яро всаживая топор в боковину толстой плахи.
Работал он озорно, красиво, с чуть слышным характерным кряком, приоткрыв рот. Ослепительно белели плотно сидящие зубы. Завороженный дизелист загляделся на мастера, любуясь его ловкими сильными движениями. Взяв ломик, прижал плаху к настилу. Она перестала дребезжать, не мешала стесыванию щепы.
— Понятливый у меня народец, — улыбнулся Пахомов. — Никогда не пройдет мимо, обязательно поможет. Есть у слова воспитующая сила правды. У доброго дела — воспитующая сила примера. Разработай, Владлен, глубже эту тему. Может, диссертацию защитишь.
— Чего себя-то хвалить?! — упрекнул помощник.
— Чудак человек! Да если никто тебя не хвалит — хоть сам о себе доброе слово скажи. Иль не так?
— Не поднимется, говорю, вода до такого уровня, — стоял на своем густобровый молодец, налегая на лом.
— Знаешь, Складнев, притчу о двух русских братьях? Одного Авось, другого Небось звали. Шли они как-то по лесу, ветер ураганный поднялся, тучи налетели. Один братец говорит другому: «Неплохо бы перекреститься, гром скоро вдарит». А тот отвечает: «Когда вдарит, тогда и перекрестимся, и так рученьки устали». Небось: «Не загремит небесная колесница».
Авось: «Гроза стороной пройдет». А в это время ка-ак громыхнет. От неожиданности и от страха братья лбами стукнулись и потеряли разум. Мораль выводить не буду. Ты в технике сильно петришь, поймешь и это… Убери-ка пока лом.
Складнев появился в бригаде год назад. Мастер уважал людей сноровистых и сильных. Новый дизелист принадлежал к такой породе. Владлену силенка досталась от батьки, который за один жим высушивал в кулаке мокрую мочалку. Душевную отраду Владлену приносила не работа, требующая мускульных усилий. Его любимицей была Техника. Природа наградила парня большой энергией и пытливым умом. Он усердно и досконально изучал моторы, машины, одолевал скрытую в проводах силу электрического тока. Постигая в техническом училище премудрость различных схем и чертежей, распутывая их сложную вязь, он пропускал танцы, другие сборища.
2
Компрессоры, дизельные установки, моторы, крупную и мелкую технику Складнев знал так же хорошо, как свои девять пальцев на руках (мизинец ему под корень отчиркнула циркулярная пила). Не отдерни вовремя руку — быть бы и другим пальцам в клыкастой пасти циркулярки. Парня терзала мысль, что его, беспалого, обязательно разлюбит девушка. Но такой напасти не произошло.
На острове сокровищ бурильщики шутили над Владленом, проделывая хитрые фокусы с подвесным мотором. Хозяин «Нептуна» и дюралевой лодки «Прогресс» быстро находил и устранял неисправности. К подвохам относился с юмором, но просил об одном: не насыпьте в бензин песку. Когда мотор заводился с первой раскрутки шнура, «Нептун» словно радовался возможности вновь кромсать бешеным винтом обские воды.
Буровому мастеру в начале знакомства дизелист отрекомендовался так:
— Полковник технической службы Складнев.
— Почему не генерал?
— Ракетную технику не знаю.
— А рацию починишь?
— Это могём!
— Сделаешь — отпущу тебе сто будущих грехов.
— Отпустите лучше один настоящий… ожидаючи вертолет, двух Адамов приговорил к смертной казни — утопил.
— Евы не нашлось? — ухмыльнулся мастер, понимая, что имеется в виду под Адамами. Так называлось плохонькое винцо «Агдам», разлитое по длинногорлым бутылкам. — Что ж, честное признание снимает половину вины. Вторую скошу, когда рацию починишь.
— Бу сделано!
На другой день можно было с утра выходить на связь с Большой землей.
— Где ты рацию постиг? — мастер проницательно и заинтересованно посмотрел на дизелиста.
— В армии не прохлаждался. Попутной специальностью овладел.
По утрам «полковник технической службы» изнурял себя продолжительной зарядкой. Буровой мастер давненько раздумывал, как бы с пользой для всех применить эту силу.
— Владлен, занялся бы ты полезной физкультурой: в третьем вагончике дверь плохо прикрывается.
— Не завхоз я, — огрызнулся дизелист, продолжая подниматься на носках и резко ударять пятками о землю.
Однако к вечеру дверь была навешена на новые шарниры.
Как-то повариха Нина заглянула в балок, где жил Складнев, и замерла от неожиданности. Повернув лицо к зеркалу, висевшему слева над кроватью, парень корчил дикие рожи. Девушка в испуге отпрянула.
«Псих, шизик», — решила она, но вспомнив, зачем сюда шла, вернулась в балок. Надо было наточить нож для мясорубки. Она его держала в потном кулачке. Нина просунула голову в дверной проем и громко закашляла. Владлен встретил ее такой задорной улыбкой, что у гостьи от ясного, зажигательного взгляда даже колотнулось сердце.
«Да он ли сейчас гримасничал перед зеркалом?» — усомнилась повариха.
Выслушав просьбу, Владлен взял из дрожащих пальцев Нины стальную вертушечку с квадратным отверстием в центре, пощупал тупые грани ножа.
— Бу сделано! За такую работенку потребую с общепита лишнюю котлету или добавочный гуляш… бесплатно.
— Владька, че ты сейчас перед моим приходом делал?
— Как че, улыбался.
— Перед зеркалом?.. Ты, случаем, на психе в Томске не лечился?
— А-а-а, подсмотрела! — не смутился Владлен. — Это я делаю массаж лица по известной системе академика Микулина. Знаешь такого?.. Стыдись! Великий конструктор авиадвигателей. Молодчага! Захотел старости под дых дать и дал. Опроверг грустную поговорку «старость не радость». Живи по сто системе, занимайся лечебной физкультурой, и дряхлость поборешь. Вот ты, наверно, огуречную кожуру прикладываешь к лицу, чтоб морщин не водилось? Кремы разные при меняешь, пудры? Че-пу-ха! Ты погримасничай минут пять-семь в день. Вспомни, как в школе рожи друг другу строили.
— Я не корчила — тихая была… да и училась мало — шесть лет.
— Что так?
— На работу пошла. Мама болела. Силы на ферме подорвала. Безотказная. Нынче таким особенно трудно. Я ей всегда помогала. То соломки телятам постелишь, то загородки побелишь. Халаты дояркам стирала, подойники мыла, фляги, полы скребла в телятнике. Я их, теляточек ушастеньких, страсть как люблю. Бывало, только иду, они уже начинают жалобно взмыкивать, обиды свои высказывают, просьбы. Так бы и расцеловала их всех в мордашки пупырчатые.
— Нин, лучше меня расцелуй. Ни одной пупырышки на роже.
— Ну тебя!.. Ты нож наточи поострее да побыстрее, надо успеть мясо перекрутить.
— Бу сделано!.. Нинок, ты про мою лицевую зарядку никому не говори. За дурачка посчитают.
Но в бригаде и без поварихи узнали о последователе микулинского учения. Однажды Пахомов сказал ему:
— Правильно делаешь, Владлен, себя на прокорм лени не отдаешь. Книгу об активном долголетии и я читал. Про бани русские и все такое прочее. Автор там приводит цитату из летописи мудрого Нестора. Дай бог памяти… Ага, вспомнил. Вот как летописец о наших предках-парильщиках высказался: «Возьмут ветвие (понимай: веники) и начнут ся бити… и облиются водою студеною и та ко живут…»
— И тако живут, — поддакнул дизелист, удивляясь цепкой памяти старшего товарища по буровому оружию.
— И неплохо жили, — согласился мастер. — Сейчас почему так сильно рекламируют спорт? Призывают бороться с леностью мышц? Люди сумели взнуздать машины, моторы, сами только покрикивают на них. Если работенка под руками имеется — к чему руками на физзарядке махать, пританцовывать на земле?!
— Че опять для Складнева нашел? — поняв хитрость Ивана Герасимовича, спросил здоровяк, уперев мускулистые руки в гладкие лоснящиеся бока.
Мастер понял, что под шумок можно заложить парню работенку покрепче.
— Проследил я — цемент как попало разгрузили.
Извлеки, братец, пользу: склади мешки аккуратно, прикрой.
— Извольте, сударь! Для блага буровой сделаю, — неожиданно быстро согласился Владлен.
Так постепенно крепла привязанность мастера к «полковнику технической службы».
Владлен прижимал ломиком плаху. Она даже не шелохнулась под резкими ударами острого топора.
— Будет у нас двухэтажная лежневка! — радовался Пахомов. — Заякорим ее — станет Обь облизываться, да не укусит. Я научен горьким опытом. Однажды Обь перехитрила меня, чуть не поломала мостки. Не догадался расчалки натянуть, старые траки вместо якорей бросить в нескольких местах. Беда сразу о всех промашках напомнит.
3
Волны у берега на миг-другой утихали, будто прислушиваясь к словам человека: что же о них говорят? Майский леденящий ветер, обретая новую прыть, взбугривал охряписто-серую массу, и она походила на грубую глиняную лепнину.
Бельевой веревкой провисла над конторкой антенна. От гудящего ветра не слышно было ее постоянного стенания. Повернувшись лицом в северную сторону, Пахомов уперся правой рукой в топорище, затяжно вздохнул. Такого углубленного в себя взгляда мне еще не удавалось подметить на лице мастера. Взгляд был отрешенный от мелких земных нужд, от буровой, лежневки, к которой все равно подберется мутная вода. Человек смотрел на широкоформатную Обь, на небесный припай у горизонта, не замечая того, что вокруг. Складнев задал мастеру вопрос, но ответа не получил. Да мастер, по-видимому, и не расслышал вопроса. Находят иногда на человека временная глухота и ослепление, их порождают тяжелые думы о чем-то.
Там, куда смотрел Иван Герасимович, находился город Стрежевой — Большая земля. Там были управления, тресты, дома с просторными лоджиями, детские сады, школы — все, без чего не могут жить люди, обустраивающие неприветливую на первый взгляд нарымскую землю. Люди как бы взяли поручительство застроить пустующие просторы и неукоснительно его выполняют. Северяне расшивают болота и урманы лентами бетонных и гравийных дорог. Возводят жилые поселки. Монтируют станки-качалки, дожимные насосные станции. Кивая людям и трудной земле, станки-качалки не убаюкивают ее, наоборот, не дают ей спать.
Тень задумчивости растаяла, в глазах Пахомова зажегся спокойный свет.
Оказалось, что у бурового мастера сильно болеет восьмилетняя дочка. Майя родилась слабенькой, плаксивой. Румянец редко окрашивал ее щеки. Часто в тельце девочки бился такой слабый огонек жизни, что родители опасались, выживет ли она вообще.
Мы с Пахомовым долго не могли уснуть в ту майскую неспокойную ночь. Белые северные ночи только начали набирать силу. Не будь ненастья, свет погулял бы еще над разливами, над временным поселением буровиков. Но тучи плотно зашторили все небо. Лишь в редкие отдушины струисто лились белые полосы.
Обь расправлялась с землей по-свойски. В наступающей темноте были отчетливее слышны набеги неусыпных воли. Казалось, настырная вода успела подобраться под бок зеленого вагончика и монотонно бьётся в металлическую обшивку, проверяя ее на прочность.
Многоснежная зима, поздняя весна с обильными осадками сотворили многоводье на радость рыбе и на горе людям. Плавильные цеха природы долго и усердно растапливали высокие сугробы, толстые льды на больших и малых реках. Вода обрела подвижность, живучесть, силу, породила бесчисленные затопи. И хозяйничает, где хочет, Обь — в низкоберегих поселках, на поскотинах, на огородах. Вода успевала побывать там, где монтируют блочно-кустовые насосные станции, прокладывают выкидные линии нефтепровода, строят дороги. Река спешит успеть везде. Торопится посмотреть, что же натворили пришельцы в этом когда-то пустынном крае.
Пахомов покрутил рычажок транзистора. Красная стрелка остановилась напротив четко написанного слова «Москва». Передавали скрипичный концерт Паганини. Мы находились во власти то запальчивых, то нежно льющихся звуков. Когда концерт закончился, Иван Герасимович сожалеюще вздохнул:
— Люблю скрипку… нежная у нее душа. Ни один инструмент не сравнится с ней по силе музыкального воздействия на человека… Слушаю, и всплывают воспоминания разные… рельефнее проступает прожитое время. Вот лежу и дочку вижу, как она, бедненькая, на больничной кроватке мучается. Приду к ней, она так укорно-укорно на меня смотрит. Заплакала раз: «Па-ап, возьми меня отсюда». Сжал зубы. Не хочу слабость отцовскую показывать. Сдержался. Приду домой из больницы, уставлюсь на корешки книг, как на иконы, сплету пальцы и молюсь: «Господи! В чем провинился я? Неужели ты мстишь за гнезда, разоренные в детстве? Неужто разоришь мое, так трудно свитое гнездо?» Знаю, что никто мольбу мою не услышит, но шепчу и шепчу…
Когда Майе седьмой годик пошел, мы с женой воспряли духом: болеть перестала, все ест. Сласти попросит — пожалуйста. Ватрушки с творогом — вот тебе, доченька, и ватрушки. Жена моя, Лена, мастерица по части стряпни. Таких крендельков напечет — слюнки текут… Однажды дочка апельсинов попросила. Все стрежевские базы объехал — нет. На самолет — и в Томск. Достал. Это не детский каприз. Видимо, организм человека имеет свойство самонастраиваться на то, что ему необходимо. Когда Лена носила дочурку, она то одно, то другое требовала. Селедки, киселя клюквенного, моркови. Обеих моих женщин я привык баловать. Ни в чем отказа не знают.
Дребезжало оконное стекло. За игрушечным нашим домиком раздавались сиплые звуки, шорохи, вой ветра. Слышался лязг металла, доносились крики — буровики несли ночную вахту. Много предстоит им выполнить спуско-подъемных операций, пока все бурильные трубы пройдут запланированный километраж — свой подземный маршрут от устья до забоя скважины. В небольшое окошко была видна буровая, залитая тусклыми огнями. В переплетении световых и теневых полос мелькала на площадке фигура верхового рабочего.
Пахомов приподнялся с кровати, хлебнул из зеленой фарфоровой чашки крепкого чая.
— Живу вот с Леной, а в мысли иногда вливается какая-то подмесь — любовь ли у нас? Неужели, думаю, оборола меня привычка к сытой спокойной жизни, засосала семейщина? Денег на книжке — тысячи. Гарнитур болгарский. Ковры, паласы. А мысли какие-то дерюжные точат и точат. Главная моя ценность — книги. Я читаю, а на жену литература вместо снотворного действует. Для нее что есенинская «Анна Онегина», что толстовская «Анна Каренина», что карамзинские «Письма русского путешественника» — все сонливники. Ей стоит полстранички прочесть, и книга из рук валится, испеклась моя Леночка — спит. Но зато чистюля какая! Посуда, раковина на кухне, ванна — все блестит. Запасливая. Порошки стиральные, пасты, рулоны туалетной бумаги… туфель пар двенадцать… как нынче без запаса, промелькнет дефицит — и нет его. Во дожился! Стал женины мысли точь-в-точь пересказывать.
Странно устроен человек. Только войдет душа в равновесие, добьется благ материальных, устроенной сытой семейной жизни, что-то подтачивать тебя начинает: не обворовывает ли тебя судьба, та ли дороженька перед тобой расстилается? Работа моя приносит удовлетворение, личная жизнь — нет. Потомкам на память город новый поставили. Не одно месторождение открыли. Еще наверняка откроем. Тут у меня сердце в ладах со временем и веком. Чувствую: это жизнь, не тина, не вода застойная.
Раздумываю: чего ты, Пахомов, нос задираешь, чего тебе неймется? И луна бывает ущербной, все периоды свои являет перед землей. Но луна одна, судеб — прорва. Опровергну плаксивые доводы, неделю — другую спокойно живу. Потом мысли по новому кругу начинают заход делать. Наверное, муки человеческие с тех пор и начались, как люди стали искать объяснений тревожащих чувств, поступков, требовать от других совершенства. Не встреться на моем жизненном пути Лена, броди я с экспедицией не по тайге, как, думаю, обернулась бы жизнь тогда? И прокручиваю в памяти разные варианты, ставлю на место жены другую женщину. Страшно, когда люди ставят много опытов в личной жизни. Сколько их, подобных опытов, пустых, необдуманных… разводы, горе, безотцовщина.
— Не спите еще? Ну и правильно. — Пахомов поставил чашку, вздохнул. — Ценные годы уходят на сон. Умудрились подсчитать, сколько времени тратится на застегивание пуговиц, на бритье, на еду, на сон. И выходит — чистой жизни всего ничего… Чуете — Обь надвигается? Я ее наступательную силу физически ощущаю. Прекрасная река. Иные матюкают ее — такая-сякая. За что? Ведь она у природы в подчинении живет. Нынче ей приказано разлиться — она тут как тут. На будущий год будет довольствоваться жизнью в своих искривленных берегах. И не услышишь от реки ропота на человека. Каждой реке свой край. Каждому краю своя река. Радоваться надо, что она Сибири досталась. Всевышний промашки не допустил.
Мастер помолчал, подумал. Мысли его перекинулись на другое.
— В школе я всегда избегал диспутов о любви. Можно ли поцеловать? Можно ли обнять на улице девушку? Е-рун-да! Наших длинноволосых вахлаков лучше бы учили поприлежнее любви к природе, животным, искусству, литературе. Учили бы любви к ближнему. Педагоги думают, если ученики знают теорему Пифагора, разбираются еле-еле в образе Базарова, Татьяны Лариной, то и к жизни уже подготовлены. Геометрия, физика хороши, но без эстетики, без понимания великой первоосновы — природы — нам не прожить. На пользу ли нашим вьюношам диспуты о любви и дружбе, если они, выйдя за школьный порог, березку могут сломать, разворошить муравейник, матюкнуться при людях. Молодежи сейчас знания, как пирог на блюдце, преподносят. Она нос воротит: не та начинка. До смешного дожили — учителя ругают за то, что двойку неучу влепил. Плодим недоучек. К чему?! — воскликнул недоуменно Иван Герасимович. Он поворочался на кровати, громко хмыкнул. — Был у меня в экспедиции один варнак по кличке Шпаргалка. Ел за троих. На рубке просек сачковал, анекдоты травил, сальности про женщин рассказывал. Стал ему лично дневные задания давать. Взвыл. Говорит: школа — каторга, тут втройне Колыма. Сбежал. Сейчас в какой-то джазбанде ресторанной молотит на барабанах, перепонки у людей портит.
Пахомов скрипнул кроватной пружиной, сказал доверительно:
— … Если бы не Майя, дочка, — испробовал бы другой вариант судьбы… запасной. Была в геологоразведочном техникуме девушка. Ольгой звали. Дружили. Мечтали. Долго переписывались, а потом время вроде бы остудило чувства. И что в итоге? У меня не жизнь — индивидуальный коммунизм. Все есть и ничего нет… кроме дочки… Встречаю прошлым летом Ольгу в томском аэропорту. Похорошела — страсть! Обрадовались встрече, разговорились. Не замужем. Аспирантуру заканчивает. В Чите живет. В Томск к родственникам приезжала. Ворохнулась душа. Чуть не махнул в Читу. Никчемными показались прожитые годы, будто себя обокрал. Хандра после Ольгиного отлета и навалилась.
Вернулся в Стрежевой и первый раз за все время по-крупному поговорил с женой. Ни с того ни с сего нагрубил ей. Куркульшей обозвал. Сказал, что дух мой поработила. Столько накуролесил, стыд потом жег. Тогда и великое внушение себе сделал: «Нет, Иван, черт ты неуемный, живи по первому варианту, не помышляй ни о каком втором и третьем… ишь, губешки раскатал, о запасных ходах размечтался!» Взвесив все «за» и «против», убедился: не нужна никакая перемена. Никто на меня семейную узду не набрасывал, потому не моги травмировать душу другого человека. Теперь наша с Леной жизнь у меня как бы на второй план довитой порослью. Встречались возвышения материковой тайги. Они походили на острова в незыблемых океанских широтах.
Люди бросили Васюганью дерзкий вызов. Посягнули на его извечное спокойствие. Наступать нефтяникам было куда. Отступать не предусматривалось бурным временем и упрямыми делами людей. По воле судьбы сокрытая под трясинами нефть диктовала только бой — великий, неотступный, долгий.
Болота являлись свидетелями человеческой неустрашимости и упорства. В необозримых мшистых пустынях дороги служили кровеносными сосудами, питающими огромное живое тело ударной стройки. Истерзанные техникой летники, вожделенные зимники, рукотворные бетонки смело вторглись в пределы болот. Протянулись к месторождениям, буровым вышкам, скважинам. Здесь было наведено множество воздушных мостов. Сновали по ним крылатые и винтокрылые машины, совершая привычный небесно-земной круговорот.
Люди ждали нашествия зимы, морозов. На главных базах Большой земли скапливались для северян горы неотложных грузов. Огромный поток машин должен был хлынуть после крепкой проморозки зимников.
Нарушая календарный устав, забесновался ранний снег. Завыли в луженые глотки ветры. Будто в обморочном состоянии пребывала напуганная природа.
Никто не знал, по какой раскладке заварит кашу новая зима. Прежние были теплые — сиротские — с частыми оттепелями и тиховейными ветрами. Кое-где оголенные трубы теплотрассы, опоясывающие вахтовый поселок, вызывающе поблескивали черными боками. На трубы садились погреться суетливые вороны. Блаженно растягивались на изолировочной ленте раскормленные собаки. Поселковая котельная весело дымила высокими трубами.
— Не кипятись, рыбак! Ты же знаешь, здесь места для нереста рыбы. Пережди недельку-другую.
— Брось меня учить! Рыбнадзор! Нерестилища!.. Мы нефть выметываем вместо икры. Родит она что?!
— Вот что, Складнев, иди завтракай! И к штабелю шагом марш! Плот будем делать. Видишь, твои прогнозы, братец Авось, не сбываются — Обь наступает.
— Её дело… Я не рабсила… не нанимался плотничать.
— Дважды повторять не буду, — сказал старшой и медленно направился в конторку.
Помучившись с мотором, так и не заведя его, Владлен сел в обласок и налег на весло, всаживая в воду всю лопасть. Долбленка ходко побежала к месту, где стояли ловушки.
Неудачи преследовали парня одна за другой: улов был мизерный, а на обратном пути недовольный рыбак чуть не вывалился из обласка. Зачерпнул бортом много воды, она налилась за голенище сапога.
Проходя мимо столовой, Складнев услышал оклик Нины:
— Владь, заходи. Завтрак тебе оставила.
— Не хочу, — буркнул дизелист. — Возьми вот рыбу. Ни к черту добыча.
— Пахомов приказал не брать, не готовить…
Владлен не дал договорить. Всунул дужку ведра в руки растерянной поварихи, процедил сквозь зубы что-то нелестное в адрес мастера.
— А ты сготовь, дорогуша! — миролюбиво добавил он и слегка щелкнул пальцем по вздернутому носу опешившей Нины.
В балке переобулся и отправился к буровой, где стучали топоры, похрапывали пилы. Среди рабочих выделялась фигура старшого. Ослушник невольно залюбовался этим человеком. Придай природа Ивану Герасимовичу побольше роста, награди пышными усами — напомнил бы он Петра Первого на верфи. Здесь, правда, возводили не корабль — четырехнакатный плот, но Пахомов работал с таким же увлечением, как молодой царь, жаждущий славы Российской державе. Вахтовики торопились. К острову смело подбиралась студеная вода.
Взяв лом, Складнев включился в работу, поглядывая исподлобья на мастера. «Не прогнал, и то хорошо», — подумал дизелист, подсовывая лом под комель толстого соснового бревна.
Скоро должны приступить к цементированию. Нагнетательной силой насосов через обсадные трубы вольют цементный раствор, создадут монолитность стенок скважины.
Чувствовал и сознавал вину перед мастером дизелист Складнев. Каждое ослушание он осмысливал позже. Вгорячах мог наговорить много дерзкого, обидного. Потом ощущал горечь сказанного, терзался, костерил себя в душе. Владлен называл такое состояние поздним зажиганием. Не часто оно случалось, потому что все отходящее от нормы поведения машины, человека дизелист считал явлением ненормальным, старался не допускать его.
К рыбалке он пристрастился с детства. Рыбачил, когда хотел и где хотел, считая такую вольность законом для иарымчап. Назови Складиева врагом природы, он, закипев от злости, даст в ухо тому обвинителю. Природу он любил, доверял, как другу, затаенные мысли и чувства, которые никогда бы не решился высказать даже близким людям. Но ее считал за грех поймать на уху стерлядей, тем более несколько ведер просторыбицы. Бригада вкалывает в полевых условиях, дополнительный прикорм подкрепит братию. Не оскудеют обские запасы.
Невеселые раздумья теснились теперь в голове парня.
Готов был третий накат бревен. Скобы, зазубренные на концах, впивались в бока, в торцы, выжимая беловатую пузырчатую соковицу.
До позднего вечера перетаскивали на готовый плот цемент. Складнев взваливал на плечи по два мешка, все так же наблюдая за мастером со стороны. Во взгляде Пахомова была неумолимость начальника, и Владлен ясно сознавал: сегодня или завтра не избежать с ним крупного разговора.
Из порванного мешка за воротник насыпался холодный серый порошок. Дизелист даже не попытался вытряхнуть его. Парню не хотелось заканчивать вахту ссорой. Старшого он ценил за прямодушие, за совершенное знание бурильного дела. Не хотелось разрушать дружбу, привязанность, менять добрую веру друг в друга. Виноват мотор. Заведись он сразу, не было бы встречи с мастером. Умотал бы скоренько по морю-океану, поминай как звали…
Вчера проиграл мастеру партию в шахматы. Совсем близка была победа. Поторопился, глупо проиграл ладью. Что ж — проиграна партия и сегодня. Второй проигрыш крупнее: не будет теперь тех отношений, что раньше. Не положит, как прежде, Иван Герасимович руку на плечо, не спросит: «Ну что, полковник, как дела?» Спроси он так сегодня, Владлен бы ответил: «Плохи дела, мастер, мать тяжело болеет. Операция скоро».
К ночи поднялся шторм. Недостающую силу водная стихия черпала в ураганном ветре. С утроенной энергией тягучая масса обрушивалась на незадачливый островок. Волны плескались у самых балков, обдавая брызгами оконные стекла, бревна-лежаки. На них покоились однокалиберные домики.
Складнев предложил буровому мастеру установить ночное дежурство. Вызвался отстоять самую неудобную по времени вахту — с двенадцати до трех часов ночи. Сейчас и дизелист поверил: Обь долго не успокоится, выместит до конца дерзкий гнев. Нешуточный у реки характер.
Моторную лодку пришлось подтянуть почти к самой лежневке: сюда по ложбинкам успела подкатиться вода. Невозможно было определить направление ветра. Обладая демонической силой, он месил воздух, расшвыривал его струи во все стороны. От него нельзя было ждать снисхождения и поблажки.
Натянув на кожаную куртку брезентовый плащ, Владлен ходил по лежневке, как по капитанскому мостику, не слыша своих шагов. Он притопнул каблуком сапога о щербатую плаху, но и тогда слуха не коснулся довольно сильный удар.
— То ли еще будет! — пробасил ночной сторож, направляясь к буровой, к несущим вахту друзьям.
Вышка в расплывчатых пятнах огней стояла все так же бесстрашно и гордо. Верилось: никакие бури, никакие стихии не заставят ее отшвартоваться отсюда, от этой трижды обетованной земли.
4
Прозорливость, предусмотрительность мастера не позволили Оби выбить бурильщиков из привычной трудовой колеи. Большая вода упорно продержалась до середины июня. Потом река стала нехотя отступать от плота, от балков, везде оставляя метку своего высокого уровня. Ни на день не прекращались буровые работы. Пахомов красным карандашом вычерчивал график бурения. Нескрываемое чувство удовлетворения, рабочей гордости светилось на его смуглом обветренном лице.
Наступили жаркие дни. С болот, с заиленных низин потянуло душными испарениями. Не первый год Владлен видел белые ночи Нарыма. Их пришествие встречал весело, словно июньский обворожительный свет не только окрашивал в бледно-голубой колер небеса, кустарниково-лесное окружение, по и проникал в человека.
Еще до захода солнца, с наступлением прохлады со всех сторон налетала плодовитая комариная братия. Воздух наполнялся жужжанием и звоном. Владлен давно перестал сердиться на упрямую легкокрылую рать.
Душные солнечные дни сменялись ветреными, пасмурными. В Стрежевой улетала на отдых одна вахта, на смену появлялась другая, чтобы продлять безустальную работу бура, прошивать и прошивать земные напластования, пока не выяснится картина: чего же стоят островная земля и упорство островитян?
Однажды в Стрежевском общежитии, где жил Складнев, появился буровой мастер. Отдавая флакончик с лекарством, сказал:
— Возьми. Твоей матери после операции понадобится.
Растерянный дизелист взял продолговатый пузырек, бросил взгляд на название: то самое лекарство, за которым тщетно охотился не первый месяц. Он тепло, благодарно посмотрел на старшого, срывающимся голосом пробормотал: «Спасибо». Почему-то вдруг сейчас вспомнилась большая вода,
представилось обиженное лицо мастера во время неприятного разговора перед самовольным отъездом на рыбалку. Забытый стыд за допущенную ранее грубость ожил, забуйствовал вновь. Сколько раз собирался Владлен извиниться перед Пахомовым, но что-то мешало совершить покаяние. Сейчас, конечно, не время, размышлял парень. Подумает старшой: «Ишь, когда проняло… лекарством разжалобил…».
Надо было о чем-то толковать с мастером, но Владлен под гнетом мыслей не мог выговорить ни слова.
Из затруднения вывел гость:
— Родители в Томске давно живут?
— С войны. В эвакуацию с заводом приехали… А как вы узнали про лекарство? — Складнев посчитал сейчас неуместным обращаться к мастеру на «ты».
— На вахте краем уха слышал… Не бренчи, не бренчи. Никакая плата не нужна.
— Оно же дорогое.
— Не дороже денег. Не все, паря, монетой измеряется… Чисто в комнате. Молодцы! Книг много… так, так… Куприн, Джек Лондон, Блок, Бернс. Прекрасное издание шотландского поэта. Маршак его отлично перевел. И у меня есть такой томик.
Складнев вслушивался в голос старшего товарища и чувствовал: все сужается и сужается полоса отчуждения между ним и мастером. Дизелист не раз убеждался, как легко и приятно работать с этим знающим свое дело человеком. Сегодня, вот сейчас, он по-особенному почувствовал несгибаемую силу товарищества, братства, той крепкой людской привязанности, которая делает нас щедрее и богаче душой. С той злополучной поездки на рыбалку Владлен не услышал от мастера ни слова упрека и теперь сознавал, что такое наказание молчанием страшнее самых язвительных слов.
— Владлен, ты лекарство не посылай бандеролью — длинная песня. Перешли с кем-нибудь из знакомых, кто на днях в Томск летит… Завтра к вертолету не опаздывай. Новое место обживать начнем.
Сидя у вертолетного окошка, Складнев озирал бесконечную панораму лесов, болот, обширных лугов, удивляясь многообразию зеленых оттенков. Сквозь голубовато-слоистую дымку неясной казалась зеркальность озер, вертлявых речек и проток, словно от дыхания сырых мшистых трясин огромные стекла успели запотеть.
Вчера Владлен отправил лекарство с улетающим в отпуск знакомым шофером и теперь испытывал доброе чувство от выполненного важного дела. К этому чувству прибавлялась радость, что испытания пробуренной на острове скважины дали обнадеживающие результаты. И снова вспомнилась многоводная Обь, предусмотрительно поднятая лежневка, сколоченный плот, гудящая на пронзительном ветру буровая. Недалекое, но уже прошлое. Впереди новые кочевья, забурка скважин, вахты, вахты, вахты… днем, ночью… зимние, летние… И все для того, чтобы окончательно раскусить нарымскую землицу, открыть вековую тайну глубоких темниц.
Нигде, наверное, так не питают надежды юношей, да и взрослых людей, как в нефтеразведке. Нарымская земля не куражливая, если разведчики земных глубин, те, кто эту землю обустраивают, ищут богатства, имеют большие знания, накопленный опыт и трудолюбивое отношение к делу огромной важности. Складнев верит, что пахомовцы такими качествами обладают в достаточной степени. Они живут надеждой открыть такое месторождение нефти и газа, чтобы шум его фонтанов прогремел на всю страну, как в свое время громко отсалютовал Самотлор.
Вышкомонтажники с опережением графика закончили сборку блоков буровой. И снова в аккуратном порядке выстроились балки, на этот раз под боком молодого сосняка и кедрача. На каждом новом месте буровики давали улице повое название. Каких только не было: улица Счастья, Робинзоновская, Кедровая, Олимпийская. Эту решили назвать улицей «XIX съезда комсомола». Буровой мастер название одобрил. Предложил не менять его и пронести с честью, сколько бы кочевий ни выпало на долю их крошечного поселения.
Пахомов мог умело, незаметным образом в любом разговоре напомнить о нуждах своей бригады, остановиться на нерешенных задачах. Вот и сейчас, говоря о новом имени улицы, он тактично упрекнул бурильщика Сергиенко:
— Ты у нас главный, — он подчеркнул это слово интонацией, — редактор «Комсомольского прожектора». Почему же потух высвечивающий недостатки огонек? Разжечь его надо, да поярче.
— Недостатков нет, — оправдывался Борис.
Мастер от удивления широко открыл глаза.
— Иль скоростная проходка так убаюкала вашу совесть? На острове сонно работали… Правильно, перевыполнили план по метражу проходки, но все равно не так быстро бежали под землю трубы, как этого хотелось… — Мастер сказал было «мне», да вовремя спохватился, уточнил — Как этого хотелось экспедиции, как требовали интересы страны. На острове хоть и небольшие, но были простои. Два мешка цемента утопили при переноске на плот… Мелочи? Пет, дорогой Борис, у нас нет мелочей. Каждая скоба, вбитая в наш тротуар и плот, каждый килограмм солярки, доставленный на буровую, каждый мешок цемента в наших полевых условиях ценится вдесятеро. Не думайте и не надейтесь, что слова экономия, экономика когда-нибудь утратят в нашей стране свое неоспоримое значение. И хотя пролетарский поэт сказал, что слова ветшают, как платья, но эти слова в утиль сдавать не придется. Мы еще не совсем проникли в их высокий смысл, не осознали их внутреннюю силу и правомочность.
В другой раз ершистый Владлен обязательно огрызнулся бы, выпалил старшому: «Нечего нам лекцию читать, сами грамотные». Теперь молчал, остро чувствуя правоту мастера. Он ждал, что Пахомов напомнит о рыбалке в запрещенный период, упрекнет: «Комсомольский прожектор» мог бы полоснуть лучом и по дизелисту Складневу, упрямцу и браконьеру». Мастер не бросил эти обвинительные слова, только цепко посмотрел сперва в глаза бурильщика Сергиенко, потом в глаза дизелиста, как бы начертал незримую строку, которую предстояло прочесть парням самолично. Слушая Ивана Герасимовича, Владлен воспринимал не только смысл убедительных слов, но старался «прочесть» значение веских пауз между словами и предложениями. Складнева радовало это новое прочтение мыслей мастера. То, что он промолчал о рыбалке, Владлен понимал и принимал по-своему, находя в этом и критику, и осуждение, и укор. Молчание мастера окрашивалось в черный цвет, и дизелист пытался на этом броском фоне начертать невысказанные слова. Тяжелее всего было осмысливать затяжное молчание. Разные догадки и предположения теснились в буйной головушке «полковника технической службы». Желая меньше попадать под незаметный, но хлесткий огонь такого отмалчиванья, Владлен с каждым месяцем становился уравновешеннее.
С реки тянуло прохладой. Оттуда доносился сладковатый, приятный ему запах ила.
Жизнь буровиков входила в их привычный ритм. Проверяли оборудование. Занимались его опробованием.
Возле вышки лежали аккуратно уложенные на стеллажах бурильные трубы, свечи, состоящие из двух или нескольких труб. Такие непотухающие свечи успели озарить светом открытий не одну многоверстную глубину. Бессчетное множество свеч «зажгли» буровики в нарымской земле, чтобы она смилостивилась, отдала людям скрытое в недрах черное золото.
И вот трубы готовы вновь обрести боевое вертикальное положение. Они будут настойчиво ввинчиваться в многослойную твердь, пока не достигнут нужной отметки.
В походной столовой всегда оживление. Мелькает поварешка в руке расторопной Нины. Пахомов по старшинству и по положению мог бы первым подойти к поварихе, но не спешит. После других получает полную миску жирных дымящихся щей и три котлеты с двойным гарниром. Сергиенко не теряет случая подкузьмить:
— Герасимыч, что же это получается?
— А что?
— Экспедиции разорение. Экономия должна везде проявляться, как вы нас учите. А сами что делаете?! Получить три котлеты, да еще каких! — решетом не накроешь. У нас каждый килограмм мяса, каждый килограмм картошки на учете. Подрываете продовольственный баланс нефтеразведки.
Мастер знает цену шутке. Отмалчиваться не намерен.
— Борис, тебе вообще в столовую ходить не надо. Есть тем более. Сколько ни ешь — все скелет. Подожди, не хватит бурильных труб, тебя на подмогу в землю загоним. Заодно принюхаешься к пластам, скажешь, где нефть. Нина, сними его с довольствия, пусть недельки три посохнет для прочности.
— Мы его в клей бээф обмакнем, — поддержал дизелист, — станет еще прочнее.
А вскоре случилось ЧП: Сергиенко убил на таежном озере четыре ондатры. Буровому мастеру стало не до шуток.
— У меня что — бригада буровиков или браконьеров?! — отчитывал Пахомов в конторке нарушителя. — Зверьки сейчас потомством заняты, у них основной выплод… уж не самок ли хлопнул?
— Самцы, — пробубнил Сергиенко, опустив голову.
— Сам-цы! Проверил на расстоянии ружейного выстрела? Шкурки ты сдашь в зверопромхоз. Штраф уплатишь, какой полагается по закону… Не возникай! Улицу именем комсомольского съезда нарекли. Бригадой передовой называемся. Мы не для проформы боевого коммунистического звания добились. Только долдоним: природу надо беречь… Проку от таких воздыханий! Куда ни переедем, везде мзду с природы берем. То рыбой, то погубленным молодняком кедра, то постреляем утиный выводок… Вечером созовем экстренное комсомольское собрание. Готовься к ответу.
— Иван Герасимович, не буду больше, — по-детски поджав губы, выговорил бурильщик.
— Покаешься перед коллективом. Парни рассудят.
— Я «Прожектор» выпущу… сам себя раздраконю. Вашу заметку помещу, если напишите.
— Писать не буду. На собрании тебе дадут… материал.
К удивлению мастера, на собрании первым взял слово Складнев. Поднялся и долго не мог начать. Подбодренный теплым взглядом Пахомова, заговорил:
— Мне трудно упрекать Сергиенко. Сам такой. Да и не я только. У всех дробометы, хоть оружейную палату на буровой открывай. Уток хлещем не в сезон охоты, а попадется другая живность — и ей проходу-пролету не даем. Не с голодного же мыса явились мы сюда. Вот я рыбачил в период нереста, для вас же старался. Отныне — ша! Только удочкой и… когда положено. Предлагаю: ружья и собак на буровую больше не брать. Сколько птенцов наши лохмачи погубили!.. Знаете, ребята, и так совесть неспокойна: к нашей нарымской земле мы как к мачехе злой относимся. Чем же она провинилась перед нами?! В нерестовых протоках нефть плавает. Лесорубы кедровники чиркают под корень. Природа — друг надежный, но молчаливый. Не крикнет, не попросит пощады. Не надо нам в шкодливых пасынков превращаться. Любые открытия месторождений не могут покрыть наши грехи по отношению к этим лесам, болотам и рекам…
Владлен не ожидал, что его голос может так предательски дрожать, руки вздрагивать от волнения. Он старался не смотреть в лица парней, в лицо мастера. Блуждающий его взгляд говорил о неспокойной, разбуженной совести, точно Складнев выносил приговор самому себе, своим необдуманным поступкам и действиям.
«Такого можно перековать, — удовлетворенно подумал Иван Герасимович, вглядываясь в волевые лица буровиков. — Да они все неплохие парни». Мастер видел в каждом добрые черты, и это еще больше укрепляло его мысли. Он делил с ребятами радости и огорчения, журил и одобрял, отстаивал свою линию, убеждаясь, что с каждой новой перевахтовкой крепнет дружеская спайка, идет незримое накопление душевной энергии, которую надо неустанно направлять в русло упорного труда и нравственного возмужания.
И снова во всей красе явилась белая ночь. Природа казалась погруженной в матово-голубую океанскую пучину, полонившую все: приречные травянистые дали, смутно проступающие перелески, покосившуюся старую геодезическую вышку на крутобережье.
Первые метры проходки. Устье повой скважины. Именно сюда, к устью, устремится когда-нибудь подземный поток нефти, чтобы влиться в искусственную стальную реку из труб. И вырываются из недр по всей-то Сибири тысячи таких живительных родников.
Васюган — река удачи

1
Вдоль кудрявых зеленых извивов нехотя плетется к Оби подкрашенный торфяниками Васюган. В лоцманских картах темноводный приток назван тихим, спокойным. Обладая дьявольским упрямством, пробирается он по извилистому руслу, минуя редкие правобережные яры, глухие заросли кустарников, припойменные луга и мочажины.
По обе стороны реки тянутся многоверстные тонкие низины, покрытые дурманным багульником.
Материковый берег в густом разнолесье. Над лиственными породами возвышаются тонкоствольные кедры и сосны. По тонкому рямнику разбрелись сухокорые, мелкохвойные деревца. Ружейными шомполами торчит рогоз в обрамлении длинных саблевидных листьев. Тянутся бесчисленные зыбуны с окнами темной и ржавой воды. Даже застекленные морозами, они таят для тяжеловесной техники постоянную опасность.
Уже давно и упорно велись здесь разведочные работы на нефть и газ. Геофизики намечали маршруты буровым вышкам. Буры прощупывали глубины. Прошли годы и вот — есть васюганская нефть! Васюган назвали рекой удачи.
Века и века ее охраняли коварные топи. Отыскав нефть-скрытницу, люди сотворили славу себе и томской северной земле: на ней они утвердились надолго. От первых тонн нефти, добытых почти десять лет назад, до многих миллионов по теперешнему счету — таков нелегкий путь покорителей васюганских недр. Обустройство Оленьего, Первомайского, Катыльгинского, Лугинецкого месторождений, прокладка по болотным хлябям дорог с бетонным покрытием, бурение разведочных и эксплуатационных скважин, строительство вахтового поселка Пионерный потребовали от рабочих, инженерии огромных физических и духовных затрат, от государства — огромных капиталовложений.
Не скажешь про томский Север — тут непочатый край дел. Початый. Не сам по себе возник город Стрежевой — средоточие боевой юности. Не сами по себе пролегли дороги, прошагали вдоль и поперек линии электропередач. Наведены воздушные мосты, связывающие областной центр с нефтяной столицей — Стрежевым и поселком Пионерный. А сеть нефте- и газопроводов?! А миллионы тонн доставленных северянам грузов?! А заложенный на томском Севере новый город Кедровый?!
Каждое месторождение здесь можно считать отдельным фронтом. Наступающие армии рассредоточили свои силы по огромным площадям, где в основном болота, бездорожье, рассеченная просеками тайга, водные преграды.
Нефтегазодобывающее управление «Васюганнефть» за годы своей деятельности не раз находилось на гребне трудовой славы. Поучительны история становления и сегодняшний день этого коллектива.
Первым начальником управления был Фанзиль Галимзянович Гарипов. Именно ему с небольшим в то время составом сослуживцев предстояло осуществить прорыв к открытым месторождениям. Выражаясь по-фронтовому — это было направление главного удара. Все бралось с боем: строительство дорог, один километр которых иногда не укладывался в миллионную стоимость, транспортировка оборудования, материалов, монтаж станков-качалок, подстанций, возведение жилых поселков.
Товарищей по ратному труду часто брало удивление: какая энергия скрыта в их начальнике?! Бесчисленные собрания, заседания, проверки, комиссии, деловые поездки в столицу, областной центр. И в этой динамичной повседневности надо было двигать главное дело, ради которого жизнь всколыхнула тут столько человеческих судеб и страстей. Многие знали: Гарипов не отличается крепким здоровьем. Тем больше поражала его работоспособность. Взгляд у Фанзиля Галимзяновича сосредоточенный, глаза наблюдательные: чувствуется неспешная, глубинная работа мысли. Немногословен, тихоголос. Он, кажется, видит собеседника насквозь.
Начальник — ядро. Вокруг него вращается весь сложный производственный механизм с разнохарактерными людьми, их радостями, семейными неурядицами, надеждами. Ф. Г. Гарипов оказался на редкость крепким ядром. На долю первого выпала нелегкая роль по формированию коллектива. Одновременно надо было вести наступление на болота, тайгу, строить вахтовый поселок Пионерный, возводить дожимные и блочно-кустовые насосные станции. Главное — давать плановую нефть нетерпеливо ожидающим заводам, стране.
Более четырех лет возглавлял новое управление выпускник Уфимского нефтяного института Ф. Г. Гарипов. Потом — пост председателя Стрежевского горисполкома. И по-прежнему в беседах голос руководящего работника — тихий, убедительный, исключающий откованные нотки.
Проблем у горисполкома — море. Надо быть толковым штурманом, прокладывая верный, надежный путь. Возникла гаражная проблема. В молодом городе много личных машин, каждой надо искать «тепленькое местечко». Пришла в кабинет женщина с радостной вестью: коровенку купила. Лужок для сенокоса требуется. Вот и втолкуй доходчиво покупательнице буренки, что сперва надо было сенокосным угодьем обзавестись. Не так-то просто за шестьдесят второй параллелью отыскать лужок, да не один. Приходится находить, отводить участки под дачи, огороды, удовлетворять растущие потребности нашей северной столицы, поставленной волей судьбы на нефтяной меридиан.
Все для северян: хорошо налаженный быт промысловиков, комплекс теплиц, многоэтажные белокаменные дома, красиво орнаментованные красным кирпичом, детские сады, дороги из крепких бетонных плит. Центральный комитет на XXVII съезде партии особо подчеркнул: все доброе, сделанное для людей, окупится сторицей. Забота о человеке никогда не будет снята с повестки дни.
Был Ф. Г. Гарипов и начальником НГДУ «Стрежевойнефть». Стрежевское и Васюганекое нефтегазодобывающие управления соревнуются. Трудовое соперничество велось с коллективом, которому отдано много сил» энергии, времени, потраченного не зря.
Достойным преемником гариповских дел по Васюганскому управлению стал Фанис Идрисович Бадиков. Сейчас он — главный инженер объединения «Томскнефть». Он тоже отдал много плодотворных лет нефтяному краю. Немало славных сынов Башкирии трудится сегодня в многотысячной армии томских нефтяников. К их числу относится начальник Васюганского управления буровых работ Анатолий Васильевич Андриянов. Чем ценны такие люди рабочим коллективам? Они с должным уважением относятся к каждому труженику, постигли основы и тонкости своего труда. Еще тем ценны, что сами прошли путь «нефтяных пехотинцев»: работали бурильщиками, слесарями-монтажниками, дизелистами, операторами по подготовке скважин. Эти изначальные трудовые тропки выводили их постепенно на широкую дорогу, требующую иных усилий, иных способов ее преодоления.
Непроста сегодня психология рабочего человека. Разобраться в ней, найти кратчайший путь к доверию, пониманию каждой личности — дело не из легких. Вахтовый метод труда налагает на современных руководителей ряд сложных проблем, которые по причине своей новизны и злободневности не успели найти разрешения на страницах вузовских учебников. Жизнь опережает программы. Не всякий ухватит суть, увидит за многоликостью дел главное. Питомцы Уфимского нефтяного института видят. В настоящее время Ф. Г. Гарипов занимает пост генерального директора объединения «Томскнефть». Он и А. В. Андриянов недавно удостоены Государственной премии СССР.
Чуткий к русскому слову и русской душе Александр Твардовский метко сказал:
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд…
На Севере труд — бой. Именно за такой героический труд страна отливает медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Коммунисты Ф. Г. Гарипов, Ф. И. Бадиков, А. В. Андриянов по достоинству получили эти награды. Всех их Север давно знает в лицо, видит их большие дела.
У дружбы томичей с башкирами, татарами, казахами, людьми многих других национальностей есть свои чистые истоки. Они слиты в одну многоводную реку, имя ей — Труд. Посланцы нефтеносных земель Башкирии, Татарии находятся сегодня на важных участках партийного строительства, прокладывают новые трассы. Работают шоферами, операторами, наладчиками. Шутливые черноголовые парни спросили меня как-то в общежитии Пионерного:
— Какую республику мы покорили без единого выстрела?
Видя мое затруднение с ответом, обнажая белизну зубов, сами пояснили:
— Васюган.
Что ж, республика Васюган благодарна за такое завоевание. Многонациональная, она еще щедрее распахнула свои кладовые.
Не потому ли легко приживаются башкиры на земле нарымской, что она, как и их уральские степи, отличается широтой просторов, высоким взлетом небес, вольной волюшкой, доверительной душой природы? Великий знаток Урала, его людей, Мамин-Сибиряк устами героя из рассказа «Озорник» говорит: «… Башкирскую-то землю пьяный черт мерил после дождичка в четверг… Сколько этой земли — никто не знает…»
От одной вольной земли потянуло молодых инженеров Гарипова, Вадикова, Андриянова к другой. Плавным наплывом текут под самолетом зеленые равнины болот с замысловатыми изгибами безымянных речек. Их мерцательный свет колеблется под тенями неторопких летних облаков. Лавами разлитой ртути лежат кривоберегие озера. Кучерявятся кусты, лиственная разнопородица деревьев. Среди них темными вкраплинами крепколобые кедры, шлемовидные ели. Возникнет продавленная вездеходами колея, разрежет неплотную ткань тайги ровненькая просека, всплывут и утонут за густой дымкой увалы. И снова обманчивая гладь болот с разбросанной по сторонам стальной стружкой речушек, ручьев и проток.
В Пионерном под кабинет Ф. И. Вадикова была отведена комната во втором общежитии. Портрет Ленина. Стулья вдоль стен. Т-образно стоящие столы. Висят различные графики, схемы: автомобильных дорог, капитального строительства и бурения васюганской группы нефтяных месторождений. Красным цветом отмечены месторождения, находящиеся в разработке, желтым — введенные в разработку до 1985 г., зеленым — те, что будут введены до 1990 года: Игольское, Таловое, Лонтынь-Яхское, Ломовое, Урманское. Внушительно смотрится карта генерального наступления на тайгу и топи. От разноцветных, оконтуренных месторождений веет какой-то необъяснимой тайной. В их замысловатых конфигурациях скрыта не одна надежда васюганской земли. Расшифрованные глубины — молчащие до поры до времени нефтеносные притоки. Их тоже вовлечет в оборот человек, направит в одно широкое русло нашей могучей индустрии.
Взгляд Ильича на портрете вопрошающий, вдумчивый. Обращал он свой прозорливый взор и «к северу от Томска». Поражаясь «дикости и полудикости» тогдашней жизни на мертвых пространствах нарымского края, вождь верил в пробуждение, рассветный час северных окраин. Вот о таких, нужных Северу людях, как Ф. И. Бадиков с его сослуживцами, мечталось когда-то Ильичу в годы Шушенской ссылки и в относительной тишине кремлевского кабинета.
От ученика слесаря-вентиляционника до начальника крупного управления и главного инженера объединения «Томскнефть» — путь долгий. Не «выбиться» в начальники ставил своей целью молодой коммунист Бадиков. Хотелось держать в руках горячее дело. А на сегодня нет горячее точки, чем нефтяное Васюганье, обустройство месторождений, добыча черного золота.
Без высокой, взыскательной требовательности руководителя, о которой говорилось на XXVII съезде КПСС, сегодня немыслимо осуществление сложнейших задач, стоящих перед нефтяниками. Некоторые считают Вадикова чрезмерно строгим. Да, он непримирим к очковтирательству, производственной неразберихе, возникающей по вине инженеров или рабочих. Осуждает кампанейщину, за которой скрывается увиливание от дел, нежелание разобраться в возникшей сложной ситуации, найти верный и кратчайший выход из трудного положения. Бадиковская строгость основана не на мелочных придирках. Она продиктована душой и сердцем коммуниста, поставленного у руля большого коллектива. Будучи членом бюро Стрежевского горкома партии, объединенного парткома васюганских предприятий, Фанис Идрисович Бадиков умело находил главные точки приложения своих способностей. Коллектив управления учился у него. Он учился у коллектива. Взаимная паука, обретенная в беспокойных буднях, помогала васюганским нефтяникам добиваться побед в социалистическом соревновании, завоевывать знамена, грамоты, премии — награды за большие деяния сравнительно молодого коллектива.
При въезде в Стрежевой, справа от автострады, идущей от аэропорта, броский лозунг: «На Севере много трудностей, но у нас есть опыт их преодолевать». Опыт преодоления. Он дается не сразу, приобретается в процессе жизни и борьбы. Есть трудности реальные. От них не уйти в стремительном круговороте будней, не победить их только плакатами и лозунгами. Но есть на Севере также трудности искусственные. Такие трудности— подводные рифы. Как часто разбиваются намеченные планы об эти рифы по вине поставщиков, проектных и подрядных организаций. Подобные рифы громоздятся межведомственной несогласованностью, соблюдением только своих интересов. Против таких трудностей, взращенных холодным примиренчеством, бесхозяйственностью, устно и печатно восстает Ф. И. Бадиков. Он умеет заглянуть не в день — в год завтрашний, слишком хорошо чувствует живое, ускользающее время. Низкие темпы капитального строительства в поселке Пионерный. Медленная прокладка дорог, связывающих вахтовый поселок с месторождениями Первомайское и Оленье, затянувшаяся выдача проекта обустройства Катыльгинкого месторождения повлекли за собой ряд значительных срывов, разрушили многие планы нефтегазодобывающего управления и Васюганского управления буровых работ, снизили темпы добычи нефти. Об этом во всеуслышание не раз заявлял начальник НГДУ «Васюганнефть» на собраниях партийно-хозяйственного актива, конференциях, совещаниях.
Развивающееся Васюганье — второй нефтяной фронт. Без должной поддержки большой земли, ее крепких тылов, нельзя вести широкозахватное наступление. Зачастую тылы подводят нефтяников. Неритмичное материально-техническое снабжение, плохие внутрипромысловые дороги, слабые производственные базы на месторождениях и в Пионерном, отсутствие своего транспортного предприятия — были мощными тормозами в работе промысловиков. Таких трудностей можно было бы избежать при дальновидной политике всех служб, запятых сферой обеспечения. Не сетью излишних проблем — сетью надежных дорог надо было заранее покрыть все подступы к месторождениям, ведь на Васюгане любую дорогу без преувеличения можно назвать дорогой жизни.
С неизбежными трудностями легче бороться. Знаешь: они слиты воедино со всем процессом работы. Гораздо труднее вести борьбу с трудностями, допущенными по чьей-то халатности, нерасторопности, нерадению.
Про нерадивых начальников говорят: им приходится работать вполсилы. Одной рукой бумаги подписывать, другой за кресло держаться. Комсомол, партия научили Фаниса Идрисовича Вадикова работать без страха, с полной отдачей сил, опыта, знаний.
Ему претят начальственная нервозность, все незначительные срывы души. Крик — не артиллерия. Громкие «снаряды» слов хоть и лягут кучно, по они обычно не приносят должного результата. Сейчас стали часто показывать в спектаклях, кинофильмах взбалмошных, крикливых руководителей. Говорят но телефону — мембраны лопаются. Распекаемые подчиненные трубку на вытянутую руку относят. На заседаниях, планерках — производственная грызня. Глядишь — план сорван, «неотложка» кого-то с инфарктом отвозит. Такая «громкоговорящая» метода приносит мало пользы.
Помнится мне один деловой разговор Вадикова с представителем Васюганского управления технологического транспорта. Казалось бы, как не «взорваться» от такого вопиющего факта: разукомплектовали еще годную технику — три подъемника для ремонта скважин и два компрессора.
Скорее всего волей, чем сигаретной затяжкой Фанис Идрисович отвоевал время на спокойное раздумье, четко, вразумительно произнес:
— Всю технику вернуть на исходную позицию! Министерство на все объединение пока один подъемник выделило, а вы?!
И производственная драма не состоялась.
2
Тягловая сила малых нарымских рек в полную мощь используется весной. По Чузику завозятся грузы для строящегося города Кедрового. По Васюгану для строительства Пионерного, обустройства новых месторождений.
На арочном складе управления технологического транспорта прибивали лозунг. Запрокинув красивую голову с черными волнистыми волосами, Ринат Ахметов следил, чтобы красное полотнище расположилось на торцовой части склада по ровной линии, было прибито крепко. Северные ветры напористы. Переделывать дважды работу парень не любил: ценил время товарищей и свое.
Ветер вырывал из рук полотнище. Комсомольскому секретарю пришли на память слова песни:
У истории ист ветерков,
у истории только ветры…
Отец Рината защищал Родину в Великую Отечественную. Каждая короткая весточка, полученная с фронта, дышала жизнью и верой в победу. И вот однажды пришла свинцовая весть — похоронка. А через некоторое время за этой ошибочной бумагой явился раненый, контуженый отец. Он был выходцем не с того — с этого страшного света войны.
Глаза у Рината карие. Усы с рыжинкой. Губы пухлые. Ростом и силой не обижен. Уверенность, зрелость жизни пришли к нему под северным небом и солнцем. Прямодушный парень не утаил от меня, что когда-то хотел устроиться в Уфе дворником, лишь бы жилье получить. Ходил по жилищно-коммунальным конторам, предлагал свои услуги. Не оказалось ни одной «свободной метлы». Сейчас Ринат говорит: хорошо, что не нашлось.
Кажется, только вчера переступил порог Васюганского управления буровых работ, робко вошел в кабинет начальника. Анатолий Васильевич Андриянов пристально посмотрел на крепкоплечего парня, подумал: «Этот на Севере не сплошает». Не по одежке привык Андриянов определять значимость человека.
Пройдя свои университеты на широтах тюменской и томской земель, Андриянов поднялся в «табели о рангах» от рядового труда до командира сложного производства. Его родители прожили мало — полвека на двоих. Отец погиб в сорок третьем. Мать умерла через три года. Воспитали близкие родственники. Если андрияновскую школу жизни разделить на классы, то старшие приходятся на период освоения васюганских месторождений.
Возможно, Ринат знал, что его будущий начальник начинал с дизелиста на буровой. Про таких на Севере говорят: «Хватил буровицкой жизни». Ахметов тоже хотел начать с низов. Вышкомонтажник — звучало!
— Вы же, молодой человек, педагог по образованию. Наверно, болта от гайки не отличите? — с необидной усмешкой спросил Андриянов.
— Осилю эту науку.
«Верно, осилит», — окончательно поверил в пария начальник управления, подписывая заявление.
Выходя из кабинета, Ринат вновь мысленно отметил: «Легко имя, отчество начальника запомнить — Луначарского так звали».
Ребята-вышкомонтажники охотно приняли в свои ряды новую «рабсилу». Производили демонтаж, передвижку и монтаж буровых станков на Оленьем месторождении. Через полгода Рината выбрали звеньевым. Потом бригадиром в вышкомонтажном цехе. Был прорабом на буровой. Однажды зимой передвигали сорокатонный блок очистки раствора от шлама. Махина покоилась на трубчатых полозьях. Они просели, вмерзли в кремневую от морозов землю. Думалось: нет силы вырвать, освободить установку из плена. Доставили сюда две передвижные паровые установки. Включили. Блок очистки, покрытый кусками льда, раствора, снега, утонул в клубящихся парах. Над полозьями образовалась лава. Под мощным напором паровых струй пенилась и бурлила вода.
Наготове стояла упряжка из десяти тракторов. Были припасены тросы, бревна. У Рината от изморози подковка усов стала серебряной. От схватки пара с морозом вокруг неумолкающих установок все было покрыто махристым куржаком. Под блоком образовалась яма, наполненная ледяной водой. Вода клокотала. Оттуда вырывались тягучие брызги, летели на робы, красные лица парией. Скоро кому-то надо будет погрузиться в «горячую» водичку, зацепить блок очистки тросом. Ринат знал: скажи любому из бригады — «сделай» и отговорки не будет, несмотря на то, что кого-то донимает радикулит, у кого-то сердчишко слабое. Хотя, честно говоря, кому охота принимать «грязевую ванну», когда столбик термометра скатился под отметку сорок.
Ринат был не из тех, кого надоумить надо. Вода опалила. Извивался в руках тугой трос. Парни шутили:
— Смотрите — сталь судорогой свело, Ринату все нипочем.
— Смелее, командир! Готова третья паровая установка — баня!
— Она с тебя весь ледяной панцирь снимет…
Ах банька-спасительница! Ринат подбадривал каменку кипятком. С улицы доносилось дружное рычание тракторов. Успели по каткам-бревнам вызволить из ямины многотонную тушу блока очистки.
Слаженный повседневный труд, ощущение своей пригодности северной земле приносили Ахметову светлые чувства. Коллектив был для него братским трудовым сообществом, где ценится все: дружба, взаимовыручка, юмор, щедрота сердец. С горячностью молодости брался Ринат за дела, но делал их не наскоком, обстоятельно. Стрежевскому горкому комсомола нельзя было не заметить такого парня. Он стал секретарем комсомольской организации одного из крупных васюганских предприятий— управления технологического транспорта. Коллектив комсомольско-молодежный, выполняющий важную задачу по доставке грузов, транспортировке оборудования на месторождения, отсыпке полотна дорог.
Васюганье — часть огромного нефтегазодобывающего региона Западной Сибири — отнесено к разряду Всесоюзных ударных строек. Во время, когда создавался этот очерк, в двадцати комсомольско-молодежных коллективах насчитывалось восемьсот комсомольцев. Председателем совета секретарей комсомольских организаций Васюганья был Иван Канна. Внешне он немного похож на юного Свердлова. Был водителем «Татры». Возглавлял комсомолию в управлении технологического транспорта. Совет многонациональный: Иван — украинец, Ринат — татарин. Есть кореец, чечен, калмычка.
Вахтовый метод труда нефтедобытчиков, водителей, дорожников, работников сферы обслуживания заставляет совет проявлять особую оперативность, боевитость, организаторские способности. Стрежевской горком ВЛКСМ направляет, контролирует работу, оказывая постоянную действенную помощь комсомольско-молодежным коллективам ударной стройки. Жизнь, время, условия работы потребовали создания внештатного комсомольского отделения милиции. Про оперативный комсомольский отряд — ОКО — в Пионерном идет добрая слава. ОКО видит зорко и далеко. Оперативниками «первого призыва» были Александр Моисеев, крановщик базы производственно-технологического обслуживания и комплектации, Сергей Кизилов, мастер холодильных установок орса, Мухамед Исхаков, водитель, Татьяна Канна, работавшая ранее поваром, потом диспетчером в аэропорту Пионерного. Командиром объединенного оперативного отряда является Иван Каниа. Однажды жена услышала в автобусе разговор двух вахтовиков:
— Есть в Пионерном милиция?
— Тут грознее любого милиционера парень в кожаном пальто.
Татьяна улыбнулась, внимая информации о муже — «грозе».
Сами отремонтировали вагончик-штаб в Катыльге, где имеются причалы, куда поступают все доставляемые грузы. В навигацию — по Васюгану. Когда морозы сковывают болота и реки — по дорогам-зимникам. Оперативники вплотную занялись проверкой работы транспорта, следили за сохранностью материалов и оборудования, соблюдением паспортного режима, порядком в общежитиях и общественных местах.
У молодежи нефтяного Васюганья немало и других забот.
Томский Север получает от страны самое современное оборудование, машины новейших марок, добротные строительные материалы. Не из сказочного мешка изобилия сыплются они — произведены на отечественных заводах и фабриках, куплены за большие деньги у иностранных фирм. Далекий, кружной путь проделывают грузы, чтобы осесть на базах Васюганья, пойти по назначению к буровикам, лэповцам, нефтедобытчикам, строителям. Только от Томска до Катыльгинских причалов водная дорога по трем рекам составляет более тысячи километров. На Севере ввели термин — зимняя навигация. Да, поток грузов набирает силу с вводом дорог-зимников. Он увеличивается с каждым годом. Ведь с каждым годом возрастает добыча нефти, властно требующая притока рабочей силы, падежной материально-технической базы.
На щедроту страны нефтяники отвечают щедрым трудом. Встречаются, правда, случаи пренебрежительного отношения к государственному добру. Под маркой «север спишет» гибнут многие тонны цемента, горюче-смазочных материалов, железобетонные плиты. Валяются, ржавеют брошенные трубы, бездействует оборудование, разукомплектовывается техника.
Постоянные рейды «Комсомольского прожектора» направлены на то, чтобы хозяйственная политика руководителей предприятий, рабочих строилась по жесткому принципу экономии, бережливости. Проходил как-то рейд по проверке использования насосно-компрессорных труб — НКТ. Стоимость десятка так необходимых скважинам труб — шестьсот пятьдесят рублей. Импортные, доставленные из Японии и Бельгии, ценятся и того дороже. Прожектористы выявили около полутора тысяч НКТ, используемых не по назначению. Они применялись 58 для строительства эстакад, стеллажей, для ограждения территорий, для паро-водоводов при обустройстве кустов, жилых поселков. Поврежденные трубы валялись по кюветам. НКТ плохо складировались на базах. Рейдовые бригады не просто высвечивают какие-то стороны бесхозяйственности, терпеливо добиваются их устранения.
3
Пионерный — поселок особый. Не встретишь в нем школьников, стариков, бабушек с колясками. Здесь сильный сгусток молодого рабочего класса Васюганья. Поток труда непрерывный, как непрерывно течение Васюгана. В усталые струи рабочей силы вливаются новые, отдохнувшие за двухнедельный срок. Это нужное обновление помогают совершать услужливые самолеты и вертолеты.
Несведущий человек, прочтя в газете или услышав из чьих-то уст всего четыре слова — васюганская группа нефтяных месторождений, — не вообразит, каких неимоверных трудов потребовалось, чтобы запульсировали тут нефтяные глубины, ожили станки-качалки, встали на искусственных островках буровые вышки, появилась взлетно-посадочная полоса неподалеку от Пионерного, возник поселок с теплыми, уютными общежитиями, столовыми, гостиницей, пекарней. Пионерный растет, набирает силу.
Невдалеке от поселка производственные службы: строительно-монтажный цех для ремонта и восстановления бурового и нефтепромыслового оборудования, управление технологического транспорта, котельные. Действует установка подготовки нефти. Это лабиринт из хитроумно изогнутых труб, серебристых резервуаров, различных сепарирующих агрегатов, где поступающая с месторождений нефть проходит сложный процесс очистки и облагораживании. Оборудование, сработанное на заводах ГДР, смонтировано нашими специалистами при техническом содействии немецких коллег. На самой высокой отметке установки символом мира и дружбы полощется огненно-красный флаг.
Васюганские топи называют непроходимыми. Люди не только прошли болота, они прошили их суровыми нитками дорог, отсыпали площадки, установили дожимные и блочно-кустовые насосные станции. Пробурили множество скважин, связав их линиями нефтепроводов и водоводов. Тут приходится биться в трудовом бою не за каждую высотку — за каждую низинку. Природа словно нарочно упрятала нефть во глубину васюганских нелепо-мшистых морей, полагаясь на ее недостижимость. Не все нарымские болота можно перейти вброд. В иные ухнешь и ахнешь, если успеешь. Крепкие гнезда из бревен, песка и гравия надо вить для буровых вышек при разбуривании так называемых кустов. Непросто «вырастить» такой куст на торфяной жиже, пустить от него отводки труб.
Летим на Первомайское месторождение. За годы странствий по тюменскому и томскому Северу насмотрелся на холодную землю из вездеходов, вертолетов, машин, при пешей ходьбе. Все равно каждый раз тянет к вертолетному окошку. Спешу обозреть мою великую васюганскую пустыню с некрутыми «барханами» мшистых грядин, искривленными полосами леса, гладью затерянных в топях озерушек и речек: им ни за что не выпутаться из лабиринта заболоченных равнин, кустарниковых островков. От иных озер отходят щупальца нешироких ручьев, отчего они походят на омертвевших спрутов.
Под нами заторфяненное море. Кто-то назвал месторождение, куда мы летим, — Первомайская лава. Не первый год опоражнивают нефтяники эту перспективную лыву.
Со мной в гулком чреве вертолета те, кто изучил всю васюганскую группу нефтяных месторождений «от и до». Ремонтная — служба недремная. Вызовы к насосам, станкам-качалкам, нефтепромысловому оборудованию частые. Хотя у всех агрегатов «железное здоровье», но и оно подводит при изнурительной работе на износ. Вся лекарская деятельность падает в основном на центральную базу производственного обслуживания и прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования. Механик этого цеха Владимир Дмитриевич Хохлов — душа речная. Многие лоцманские карты прочитал от корочки до корочки, прежде чем замкнул путь речника на нефтяном Васюгане. Самолетно-вертолетная навигация для него круглый год. На вахту летает из-под Томска. Живет в Моряковке, где находится известный затон.
Под гудение вертолета вспоминаю его рассказ из детских лет. Нашли они с приятелем громадные кости, понесли сдавать в «утильсырье». Идут, рассуждают дорогой: теперь озолотимся, тут их пуда два будет. Дяденька из «утильсырья» огорошил известием: не приму кости, животина какая-то незнакомая — лось не лось, медведь не медведь. Толкнитесь, хлопчики, в музей, авось, там определят, что это за зверь. Животина оказалась редчайшая. На теперешних лугах, в любой лесной глухомани не встретишь такую — мамонт. Лишил утильщик ребят первого «самостоятельного» заработка. Зато потом у Хохлова этих самостоятельных было не счесть.
Справа от меня сидит слесарь но ремонту нефтепромыслового оборудования Анатолий Васильевич Брагин.
Чуть сутуловат. Нос крупный. Говорит приглушенным баском. Время успело набросить на лицо крупноячейную сетку морщин. Нисколько не удивился, узнав, что у Брагина имеется диплом о высшем техническом образовании. Инженер-конструктор. Имеет патенты на свои изобретения.
На многих ударных стройках страны встречал среди рабочей гвардии разнообразный люд — полковники в отставке, чемпионы, по разным причинам бросившие большой спорт, бывшие летчики, педагоги, артисты даже… Сцена жизни огромная, без намалеванных
декораций. Не всякий до конца выдерживает отведенную роль.
У Брагина крепкие руки слесаря-ремонтника, светлая голова конструктора и рационализатора. До сих пор, возможно, работал бы в прежней фирме — умолчу название, — да встретились люди, умеющие скоренько прибирать к рукам чужие изобретения.
Свободное от вахт время Анатолий Васильевич не теряет даром. Работает на полставки конструктором на Томском заводе резиновой обуви. Занят разработкой специального штампа для облегчения нудного ручного труда. Штамп будет действовать заодно с пресс-формой, производящей резиновые подошвы, станет выбивать их автоматически и складывать стопкой.
— О моей жизни книгу можно написать.
Не раз приходилось мне слышать подобное высказывание собеседников.
Прилетели на месторождение. Пробираемся по тягучей грязи к блочно-кустовой насосной станции. Ремонтников давно поджидают Валерий Тимофеевич Шегай, заместитель начальника базы производственного обслуживания, и Марат Габдулловнч Тахавов, начальник цеха поддержания пластового давления. По их перепачканным рукам видно, что они уже «добирались до души» 62 подпорного насоса, не желающего гнать сеноманскую воду с должным усердием. На металлическом полу клубками серых змей лежит веревочная сальниковая набивка. Механик Хохлов поясняет:
— Для насосов с малыми оборотами вращения идет пеньковая сальниковая набивка. Для высокооборотных насосов, да вдобавок работающих в горячих средах, применяют асбесто-графитовую.
Шегай широкоскулый. При улыбке и без того узкие щелки глаз почти закрываются. Шляпа не может пригнуть его дегтярно-черные кучерявые волосы. Они пружинисто встают на крупной голове, сбегают на крепкую короткую шею. На светло-коричневом лице между гладких лоснящихся щек — некрупный приплюснутый пос. Во время туристической поездки по Японии Шегая признавали «за своего», заговаривали с ним по-японски. Несколько раз через переводчика приходилось разубеждать желтолицых островитян: я не японец — советский кореец. Хозяева страны недоуменно смотрели на туриста.
Родился Валерий Тимофеевич в Узбекистане. Детство и отрочество провел в Казахстане, три года учился там в корейской школе. В Сибири с шестнадцати лет. Как тесен все же мир! Узнаю, что Шегай закончил одно из старейших ремесленных училищ Сибири — Томское горнопромышленное — ныне СПТУ № 1. В нем учился и я, овладевая специальностью слесаря по ремонту промышленного оборудования. На одном заводе — Томском электромеханическом — проходили практику. Позже на этом заводе Шегай был начальником пятого цеха. Вот я-то имею полное право принять Шегая «за своего».
Произвели в подпорном насосе уплотнение сальников. Включили. Смотрим на манометр. Давление поднялось до шести атмосфер. Минут пять стрелка дрожит на этом делении и начинает уклоняться влево. Давление падает. Сальниковую набивку выдавливает. Веером разбрызгивает воду.
Пришлось делать разборку капризного насоса. Позже механик Хохлов в рабочем журнале запишет: «При вскрытии насоса подпорного обнаружено: вал насоса лопнул со стороны муфты в районе шейки сальника». Обнаружили трещину — заводской дефект. Надо производить замену вала.
«Консилиум» специалистов решает: можно ли без подпорного насоса включить главный. По рации из Пионерного центральная инженерно-технологическая служба торопит: включайте! Шегай и оператор станции Марина против. Девушка, видно, любит ловить свое изображение в зеркальцах: одно на маленьком подоконнике возле гаечного ключа и трехгранного напильника, другое— на рации.
Все собрались около технологической схемы насосной станции. Выясняют, какие вентили надо перекрыть. В большом насосе не так давно была произведена сборка зубчатой муфты и кожуха, центровка индикатором. При включении сработала автоматика, указывая на перегрузки. Мастер из цеха автоматизации производства — длинный, сутуловатый мужчина — торопливо бегал от щитка к щитку, следил за лампочками, показаниями многих приборов. Видно было, что он остался доволен всей сложной службой охраны и контроля работы центробежного насоса. Приборы не подводили. Своевременно срабатывало реле защиты. Пришлось воспользоваться запасным насосом. Резервный не подвел. Все меньше и меньше стало выплескиваться сеноманской воды через горловины многокубовых емкостей-булитов.
Блочно-кустовая насосная станция с гудящим агрегатом, вздрагивающим полом, короткими крутыми лестницами, вентилями, оплеткой труб, поручнями по бокам узких коридорчиков, походила на речное судно, невесть как попавшее на земную твердь. В трубах шла напряженная работа воды. Большая туша центробежного насоса хотя и дышала ритмично, но надо было скорее сменить вал подпорного — его меньшого брата.
Я помогал держать на весу диск. Шегай меткими сильными ударами кувалды бил по короткому стальному пруту, поставленному на торец вала. Удары наносились точнейшие. Ни разу инструмент не пошел юзом. Смотрел на «чистую» работу Валерия Тимофеевича и думал: не вдруг найдешь такого молотобойца для кузницы. Он слесарничал на томской ГРЭС-2 и, видно, успел «набить руку», обучиться меткости ударов. На той электростанции несколькими годами раньше мне довелось работать монтажником-верхолазом. Наши жизненные дороги пересекались.
В горнопромышленном училище, из стен которого мы вышли, мастера производственного обучения давали дельные навыки, учили не робеть перед металлом, по-свойски расправляться с ним при помощи напильника, ножовки, сверла и зубила. Учебник предлагал: на зубило надо надевать резиновую предохранительную накладку. Но мы на практических занятиях не пользовались охранным резиновым кругляшком. Заживали одни ссадины, появлялись другие. Но с каждым днем вернее и метче были наши удары. Нас вели к истокам слесарного мастерства, надеясь, что мы не спасуем впоследствии в заводских, фабричных цехах.
Сейчас была аварийная ситуация. Не без удовольствия наблюдал, как мастерски, деловито выходили из нее командиры производства и слесари-ремонтники. Надо было скорее ликвидировать разрыв в цепочке труда, наладить ритмичную работу насосов. В настоящее время ремонтниками были все: А. Е. Береговой, старший мастер центральной базы производственного обслуживания, М. Г. Тахавов, возглавляющий цех поддержания пластового давления, мастер Хохлов и заместитель начальника базы производственного обслуживания В. Т. Шегай. Проворнее всех «шаманил» над насосом А. В. Брагин. Казалось, в небольшом, слаженном оркестре, где хорошо сыгрались музыканты, Брагин был и за дирижера, и успевал управлять ударным инструментом. Барабанными палочками мелькали в его широких мускулистых руках молоток, гаечный ключ.
К ночи запустили подпорный насос. Давление показывало заданное число атмосфер. Со спокойной совестью возвращались в поселок, расходились на ночлег по вагончикам.
Утром на вертолетной площадке шли разговоры, далекие от ремонта. Вспоминали начало строительства Пионерного. На стрелы крапов, столбы ЛЭП, крыши балков садились глухари и куропатки. В жаркую пору в ремонтные цеха заползали змеи, искали прохладу в углах, под станками…
Вертолета все нет.
— Вот так, случается, сидишь часами, — рассказывает Хохлов, — считаешь на вертолетке от безделья бревна, скобы. Однажды пять часов ждал вертолет возле разведочной скважины. Ягода рядом, наелся досыта. Из-под бревен ящерица выползла. На первое ее комарами накормил. На второе жука разорвал. Надоело мерять бревна вертолетки ногами, на руках по ним прошелся. Тогда легкой атлетикой, гимнастикой занимался… Безделье тяжелее любой самой нудной работы.
Тема разговора меняется почти каждую минуту. Не помню кто, кажется, Брагин, вспомнил, как наше изречение: «Кто старое помянет, тому глаз вон», англичане перевели: «Феноменальная память ухудшает зрение». Добавляю:
— Французы тоже умеют творить «чудеса перевода». «Ах вы сени, мои сени» перевели: «Вестибюль мой, вестибюль». Слова из песни «И кто его знает, чего он моргает» — «Никто не знает, что у него с глазом».
Шутки шутим, как видите…
Получаем последнее сообщение: вертолет прилетит через час. Идем по протоптанной тропинке к факелу. Справа остается недавно смонтированная дожимная насосная станция.
Явственно начинаем различать гудение пламени. Вот за леском показался большой гривастый огонь. Он кажется распятым на высокой Т-образной трубе. Бьётся, старается отделиться от своего черного креста, не в силах преодолеть его адского притяжения. Вокруг метров на сорок обгоревшая земля, обрызганная густыми выбросами липкой сажи.
Не могу без глубокой сердечной грусти смотреть на подобное зрелище. Видел много раз, как понапрасну сжигают газ на тюменщине и на томской земле. Слишком медленно у нас строятся газопроводы для его утилизации. Мы не выводим на широкую дорогу отечественной индустрии этих многочисленных «попутчиков», позволяем им денно и нощно самосжигаться, улетучиваться миллионами рублей.
Вокруг факела свой микроклимат. В большом радиусе постоянного тепла мы наблюдали пришедшее в мае лето: поднялась трава, зеленели хвощи, кипрей. Собирался зацвести шиповник. Низкорослые березки успели покрыться листочками с ноготок…
Потом, когда под вертолетом проносились сухие гривки леса, станки-качалки, плотностоящие домики-вагончики, опоры ЛЭП, я неотрывно смотрел на привораживающий огонь факела. Он походил на широкую оранжево-красную ладонь, посылающую всем нам, сидящим у окошек ревущей машины, земной прощальный привет.
Летим в сторону Васюгана — счастливой, удачливой реки.
Вахтовик Комель

1
Весна надвигалась споро и неотвратимо, как старость на человека, которому перевалило за шестьдесят. Короткие пригревы марта не могли расшевелить дремотную землю. Зато апрель отсалютовал крупной капелью, рьяно набросился на снега, давил их, уплотнял, сплошь покрывая ломкими проточинами. Недавно грузные, стерильно-белые сугробы стали войлочно-грязными, но не настолько, чтобы не разглядеть на них занесенные ветрами семена припольных сорняков и трав.
Тонюсенькими ручейками марева переливчато текла с пригорков измельченная в пар дорогая влага полей. На клочках подсохшей соломы сидело суетливое с вес ной воронье, усердно выискивая разбухшие зернинки. Густо-синее небо отпрянуло от земных пределов, раздвинув призрачные горизонты.
Нежданная распутица скоренько распустила на свободу большие и малые дороги. Расползлись они по черной земле с нетерпеливой порывистостью отпущенных на волю пленниц.
Пока взрывчатая сила тепла всколыхнет на деревьях, кустарниках почки, пройдет недели две-три. Незаметно и молча весна будит их для повой жизни. Вербняк по краям петлястой околопольной дороги стоит облитый матовым светом красиво нанизанных на ветки лампочек— верб. Апрельское напористое солнце поднимает с коленей сухую, пригнутую недавно снегами траву, она шевелится над кудлатыми кочками. По стеблям вяло ползают букашки, стараясь попасть на солнечную сторону.
Справа, метрах в двухстах, вздутая водой Томь. Изредка средь оживленных деревьев мелькнет сероватая чистина плеса, противоположный пойменный берег с пятнами живучих тальников. И снова перед глазами тонкоствольный лесок, раскидистый чернокорый черемушник, иглистый боярышник, заросли желтой акации с сухими крылышками раскрытых тонких стручков.
Хочется во все глаза смотреть на лес, на широкое море полевой земли, перепаханной с осени, лежащей графитовыми пятнами среди спрессованных ноздреватых сугробов. Свету вдосталь и мир открыт беспредельно, по в голову лезут неотвязные мысли: вдруг это твоя последняя весна… всякое может случиться… уходят близкие люди и быстро уходят… кого рак валит, кого инфаркты, схватывая сердце цепкими клешнями… для кого-то автомобиль горем стал… Мало ли что каждодневно случается на бесчисленных житейских перекрестках. Вот и гляжу жадно, ненасытно на каждую земную складку, на всякую гибкотелую травинку, склоненную под шильцами сосулек. Много еще будет разлито по земле неучтенного запаса света, но тот свет будет предназначен для других глаз. Сегодня он твой, поэтому снова потянуло испытать наслаждение от манящей дороги, от разгонных ливневых потоков солнца. Ему, неведомо когда и кем коронованному, долго править неспокойным миром, раздумчивой природой. Оно никогда не бывает во гневе, всесильно, мудро и работяще.
Вышел в путь с рассветом. Тонкие льдинки, окантованные по краям белыми трещиноватыми полосами, стеклянно крошились под крупной насечкой кирзовых сапог. По армейской привычке ношу обувь на размер больше. В тесные сапоги разве втиснешь ноги, запеленатые в мягкие байковые портянки? В рюкзаке румяный каравай, завернутый в чистую тряпицу, термос с густым чаем, брусочек вынутого из тузлука сала, морковные пироги и несколько луковиц.
С наступлением весны плохо работалось. Не было на сердце тяжелой неизбывной тоски. Но и не светилось особой радости. Просто с движением соков двинулась упругими толчками кровь. Удары сердца передались ногам. Зудко сделалось им от предчувствия скорой дороги.
Из всех существующих на земле скоростей предпочитаю шестикилометровую в час: мой пеший ход. Каждый шаг преодоления земного пути достоин благословения, того истинно русского, возвышенного, коим благословляли и посох, и степную былинку, и алмазную крошку-звезду. Не всякий идущий осиливал путь. Но всякий, осиливший его, прибавлял что-то миру и своей душе.
2
Вчера останавливался на ночлег в деревне Бобровке у знакомого вахтовика — скуластого, большебрового парня. Глаза у него маленькие, зеленоватые, прыткие, по-крестьянски все видящие и понимающие. Левый слегка обесцвечен полукруглым бельмом. Испещренные мелкими, радужными точками зрачки почти не блестят, придавая лицу мертвенное выражение. Но когда, окаймленные плотными, прямыми ресницами, глаза начинают торопливый бег, кажется, они собираются взлететь на крепких изогнутых крыльях землистых бровей.
Звали вахтовика Тарасом. Носил он редкую фамилию Комель. Она подходила к его плотно сбитой комлеватой фигуре. Поставьте на попа тугой, наполненный мукой или сахаром куль, приладьте к нему короткие моги в штанах из черного сукна, водрузите глобусообразную, давно не стриженную голову, опустите по бокам волосатые руки — и можете мысленно представить великого знатока совхозной техники.
Редко кому в деревне не пристанет сургучно-цепкая кличка. Приштамповали ее и к степенному Тарасу, хотя при его фамилии можно бы обойтись и без прозвища. По веселой прихоти деревенских остроумов Комель стал Сутунком, жена, соответственно, — Сутуниха, а два их чада — Сутунятами.
Жена Анна — совхозная доярка — полная противоположность главе семейства: суетлива, длинна, худосочна. Обладает той отличительной сухостью деревенской работницы, которая дает право предположить: отпущенный природой телесный материал был неэкономно употреблен на кожу, жилы и кости. Если Анна спешит за водой, крашеное коромысло и ведра несет порознь, особенно при ветре. Пробовала носить пустые посудины на дужках, но от резких воздушных порывов чуть не проплыла мимо колодца под железными гремучими парусами ведер. Осердясь, Тарас Иванович называет ее сухостоиной, оглоблей, дылдой, выструганной из корабельной сосны. Под тяжестью воды Анна скрипит и гнется, как мачта в бурю. Коромысло сильно пружинит, заставляя пританцовывать наполненные до краев ведра. Если вы подумаете, что женщина малосильна — ошибетесь. Тяжелые бачки с вареной картошкой и распаренным комбикормом для двух упитанных свиней Сутуниха ворочает с завидным проворством, успевая поддать гранитной коленкой любому из подвернувшихся сынков, если тот зазевается и не вовремя откроет дверь.
Она не сутула. Красивую голову вскидывает высоко и гордо, отчего сухая желтоватая кожа на горле натягивается до барабанной упругости. Лицо не бледно и не румяно, его словно подсвечивает слабонакальная лампочка. В Анне таится неиспользованный запас прочности и неучтенной бабьей силы. Если стукнет наотмашь похмельного Тараса Ивановича — подобное случается редко — то примерно одинаковое время муж чешет ушибленный бок, а Сутуниха — отбитый кулак.
Мальчишки в отца: стоят рядком, как бабки на кону — крепенькие, малорослые, с гладкими лоснящимися пузцами. Материнского в них — уши: круглые, оттопыренные, со странной конфигурацией ушных раковин, будто раскололи пополам грецкий орех, вынули хрустящую мякоть и прилепили пустые дольки на стриженные виски.
Когда цветасто и безвкусно одетая Анна ведет под руку в кино своего благоверного, обмундированного в хромовые начищенные сапоги, синий с широким поясом плащ и велюровую коричневую шляпу, то рядышком парочка походит на заглавную букву Ю из детской раскрашенной книжки. Вторая половина чуть ниже первой, но высокая тулья комковато сидящей шляпы слегка скрадывает подобный изъян.
В их высокопотолочной избе есть все: цветной телевизор, саморазмораживающийся холодильник, стиральная машина и «швейка». На крашеном полу горницы от стены до стены — малиновый палас. Ковры в сельских избах редко где увидишь брошенными под ноги, они покоятся на побеленных стенах. Это вам не какая-нибудь дерюжка, одного ворсу набито килограммов двадцать. По ворсу мастера ткацких дел пустили замысловатые узоры — один краше другого. Комели живут с обильным достатком. В избе кроме паласов и гобеленов у детских кроватей три матерых ковра. Под потолком самой большой комнаты — четырехступенчатая люстра с пластмассовыми, под хрусталь, висюльками. Случается, баловники-детки запустят нечаянно в люстру мячом, она не звенит — шуршит, как крошево льда по заберегам.
На пухлых подушках, под наклонно повешенным зеркалом, на коврах и гобеленчиках — произведения вышивальщицы Анны. Особенно удаются ей на рисунках кошки. Ничего, что вместо продолговатых кошачьих глаз по два бордовых или голубых крестика, пипетка носа искривлена от нитяной набивки, хвост походит на беличий. Кошку все же можно принять за кошку — не за волчонка или пуделя. Есть на рисунках девочка с мухомором в руке, подобие космической ракеты и олень, почесывающий отвилину рога о высокий пень.
Двор в хозяйстве Тараса Ивановича образцовый, чистый, просторный. Не будь покрыт новеньким смолистым тесом, сюда смело мог бы сесть вертолет. У бревенчатых стен бани, гаража, длинной стайки — тугие поленницы осиновых, березовых и сосновых дров. Причем каждая древесная порода занимает свое место в многокубатурном скопище печного топлива. К бане и стайке ведут неширокие, но без щелей, крепкие тротуары. Доски прибиты к поперечинам аккуратно — шляпки идут ровненько, словно дырки по ремню. Гвозди в дерево приглублены миллиметра на три, потому что Тарас Иванович снимал шероховатости рубанком, купленным в деревенском магазине, над дверью которого висит облупленная вывеска «Товары повседневного спроса». Нынче деревня повседневно запрашивает много. Кооперация зачастую бессильна перед натиском требовательных емких слов «надо… где взять?» Комель знает, где. Под навесом несколько рулонов рубероида, солидные стопы шиферных листов и оцинкованного железа, уложен на ребро силикатный кирпич. На седле сенокосилки пачка импортных электродов. Дышло сенокосилки оседлала расписанная самим Тарасом Ивановичем дуга. Слева от крыльца, на избяной стене, висят связки тонких и толстых веревок, ременные вожжи и неимоверно большой хомут. Если, конечно, позаимствовать лошадь у Ильи Муромца или Добрыми, этот хомутище подойдет к вые. На колхозных и совхозных лошадках, которые с годами выродились, такой экземпляр шорной работы повернется на шее, как бублик на пальце.
Поинтересовался у Комеля: применима ли в его хозяйстве подобная амуниция? Ухмыльнулся, хитро почесал за ухом и, взбодрив на кирпичном лице шустрые глазки, заметил:
— У всякой иголки свое ушко.
Столь мудрое высказывание требовало расшифровки. Сообразительный Тарас Иванович понял это но моему молчанию и вдумчивому выражению лица.
— Если у иголки ушко с пылинку, не буду же я туда дратву вдевать. В это ушко — он ткнул кургузым нальнем в войлочную окантовку хомута — надо вдеть добрую шею. Вопрос: есть ли такая шея в хозяйстве Комеля? Ответ: есть. Вечером сынишка-старшак пригонит с посева хозяина этой хомутины.
Впервые я познакомился с Тарасом Ивановичем два года назад. Стоял июнь — жаркий, с сухими, частыми грозами. С лесной стороны наплывал на поля, на деревню Бобровку едкий слоистый дым пожаров. Томительно-напряженное сухогрозье продержалось недели две. Травы почти прекратили рост. Хлеба стояли вялыми. По земле ветвисто расползлись глубокие трещины.
В страшной духотище дня таилась взрывчато-опасная мощь. Казалось, голубо-серые небеса, как огромный купол стратостата, уже до отказа наполнились сжатыми газами, они вот-вот поднимут иссушенную землю и унесут ее невесть куда.
Душным вечером, сидя с Комелем на широком крашеном крыльце, я услышал за воротами тяжелый топот. В легком застиранном трико, без рубашки, хозяин в предвкушении радостной минуты улыбался и усердно чесал налитую барашковую грудь.
Он попросил меня зажмуриться, схватил за руку и, как слепого, вывел за ворота.
— Открой глаза.
На траве, будто вкопанное, стояло густогривое, большеголовое, большетелое, длиннохвостое чудовище лошадиного происхождения. На широкой — со столешницу — спине восседал довольнющий мальчишка, держа в руках похожую на вожжи, новую, сшитую на заказ, узду.
— Федюнька, поставь Малыша боком, — приказал сынку-первородку Тарас Иванович, не переставая любоваться мохноногим исполином и его личным пастухом.
Старшак исполнил желание отца. Неуклюжая шерстистая сила развернулась вдоль улицы и предстала во всей своей натуральной плоти. Толстенький Федюнька величественно смотрел в нашу сторону. Если бы Малыш не имел короткие, тумбообразные ноги, неохватную руками шею и туловище цистерну, он, слитый с седоком, походил бы на одногорбого верблюда. Вот горб зашевелился, сполз, как по круче, на землю и пролепетал сконфуженно «здрасьте».
Федюнька — ясноглазый парнишонок — покосолапил к отцу и передал ему узду-вожжину, вверяя сытую лошадиную силу.
— Каков, а? — восхищался тихим битюгом Комель, запуская пятерню под длинную рыжую челку. — Федюнька лестницу подставляет, когда скребницей его чистит. Любит, шельмец, почесуху, ох любит.
3
— Где вы откопали такое сокровище?
— Длинная история… в Салехарде… Я его в тракторную телегу пробовал запрягать — тянет. Пристроил к тележке оглобли, хомуток напялил. За милую душу топну кукурузной резки вывез. Управляющий говорит: давай его в тракторную бригаду определим, овса в совхозе вволю…
— Он у меня и от травы справненький.
Справненький стоял смирно, пошевеливая мясистыми ушами, отгоняя бойких паутов.
— Насколько мне известно, за Полярным кругом тяжеловозов не разводят.
На мое замечание Комель отреагировал тихой ухмылкой. Его огнеупорное лицо так и полыхало явным удовольствием от созерцания приобретенного битюга, сплошь покрытого густой мамонтовой шерстью.
— Одно меня гнетет, — посерьезнел Тарас Иванович, — пары ему для любви не находится. Такой ухажер любой нашей кобыленке вмиг хребет раскрошит.
Скрипнула калитка. Вошла Дина, видимо, слышавшая последние слова мужа.
— Внушала дурню: продай этакую гориллу. Вся польза — сенокосилку Малыш один таскает, пашет ли хо. Зато жрет за пятерых. Лучше бы нам вторую корову купить.
— Ладно, не ной, — миролюбиво перебил муж. — Будешь плакаться, сведу красавца в татарскую деревню, на колбасу перегонят. Одного ливера полбочки выйдет.
— Стой уж, — Анна так и произнесла стой, — колбаса, ливер. Две тыщи ухлопал на гориллу. Вот и вышло: телушка — не полушка и перевоз в триста рубчиков стал.
Хозяйка посмотрела осуждающе на мужа, полустрого — на меня: призывала во свидетели своих обличительных слов.
— Судовая инспекция два раза на самоходку наведывалась, — словно чему-то обрадовавшись продолжал, осклабясь, Комель. — По какому, грят, праву животину такую гигантскую везете вместе с едовым грузом?! Самоходка до Нижневартовска продукты доставляла. Пристроил я Малыша на другую посудину. Мы уже не по тюменской — по томской воде ехали. Сколотил Малышу громадный ящик-стойло, кузбаслаком с нижнего до верхнего угла написал — не кантовать! За нефтяное оборудование сошел работничек мой. Днем стоит в стойле, не мозолит глаза инспекторам речным, овес хрумкает. Ночью выведу его под звезды, любуюсь коньком, не налюбуюсь. Ночи северные куцые, отбеленные. Чем ближе к дому, тем сильнее отемнение стало на небеса находить. Хоть на час-два, да ночка… Еду, значит, дуюсь с командой в домино. По обским берегам бурлили уже сенокосы. На ярных, продуваемых местах — станы покосников: шалаши, палатки, тракторы, кони. Малыш в ящике дневал, не видел, но чуял своих сородичей за версту. Таким, бывало, громовым ржанием зайдется! Капитан даже сирену включал, глушил.
Анна ушла хлопотать по хозяйству. Тарас Иванович на время прервал рассказ, распахнул ворота, завел коня во двор. Шарахнулись испуганные кудахтающие курицы. Франт-петух, как и подобает настоящему рыцарю со шпорами, торопливо, но степенно удалялся от мохнатой громадины, следя за ней агатовой горошиной глаза.
Хозяин достал из погреба холодного, терпкого квасу — бесценный напиток в адскую духоту и жару, ощущаемую даже вечером.
— Он мне дороже машины, конек мой былинный, — прервав молчание, продолжил Комель. — От любого богатыря спина не прогнется. Сена, овса много ест — экий упрек! Да в наших поймах травы — певпрокос. Кошу на нем — сенокосилка гудит. Гребу — конные грабли порхают над кошениной. Пашу огород — лемех плуга, как весло воду рассекает… Спрашиваешь — почему в Салехарде тяжеловоз оказался? Сначала надо рассказать, какой черт меня в Заполярье занес. Я раньше дальше Томска никуда не выбирался. Приду на базар, расфугую мясо, накуплю в универмаге подарков и вертаюсь. Такой крестьянский мужичий характер: боишься землицу без присмотра оставить. От страды до страды — труды и труды. Совхозные. Свои. Помочи разные. Дело деревенское, почти семейное. Куму баню поможешь построить, свату погреб выкопать, сестре огород вспахать. Колесом работы, катом дела.
Давно нудил наш профсоюз: поезжай, Иваныч, на курорт. Большой выбор: Ессентуки, Сочи, Белокуриха. Ты, грят, пахарь-передовик, путевку бесплатную получишь. Вот горящая есть — в Гагры. Отвечаю: догорай она синеньким огоньком, путевка ваша, у меня поросята болеют, колодец чистить надо. Погреешь пузо на юге, зимой в нем черноморские валы ходуном заходят, если продуктами не запасешься. Профсоюз не отступает. Спрашивает: должен ты свой край родной знать? Отвечаю: должен. Тогда садись на прекрасный белый теплоход и ехай туристом до Салехарда. Двадцать ден все удовольствие займет. Кормят хорошо. Барышни в шляпках будут. Барышни, говорю, — это замечательно, только с моей ли рожей ущелкивать за ними?! Анька терпит, и то слава богу.
Уговорили все же. Двинулся родной край изучать. Сел в Томске в каюту теплоходную. Чистенько. Зеркала. Рукомойничек с патефонную головку. Повернешь — оттуда струйки тоненькие в раковину бегут. Хожу по палубе, пялю на все глаза. Никогда туристом не был. Такая тягота вскоре от безделья одолела, хоть в воду прыгай и по берегу домой шпарь. Хожу, об Аньке думаю. Вот она комбикорм запаривает. Вот пол подметает. Поехала в пионерский лагерь навестить ребятишек. Пригласила ветеринара к больным поросятам… Э-э-э, черт, — подумал запоздало, — ветеринар-то моложавый, холостой… ну, да ладно, поди, обойдется…
Последний десяток слов Комель произнес шепотом, заговорщицки, прикрыв плотнее сенную дверь.
— Услышит моя сухостоина — озлится. Она при людях смирная. С глазу на глаз боксануть может, если не по ней что… Так вот — жму в Заполярье. Не думал, что Обь такая бесконечная река. День за днем — вода и вода. Под Ханты-Мансийском обнажения скальные пошли. Потом лесотундра потянулась. Деревья угрюмые, будто в сиротстве росли… Ладно. Вот и Салехард — деревянный град. Расползлись туристы: кто рыбу покупать, кто меховые изделия. Деньжат я захватил порядком: песцов хотел купить жене на шапку и воротник или собольков. Наговорили мне, что этого добра в Салехарде — хоть пруд пруди. Вранье. Армяне, эти, правда, попадались часто. На базаре ранними помидорами торговали: по червонцу кило. «Креста на вас нет», — шептались люди, искоса поглядывая на смуглявых, и все же покупали золотую овощь.
Битюга я увидел возле водокачки. Парень-верзила подставил огромную сварную бочку, укрепленную на такой же огромной телеге, под черную гофрированную трубу. Стукнул в пыльное окошко водокачки. Из трубы с шумом засверкала струища. Долго лилась она в нутро безразмерной посудины.
— В какую артель водицу возишь? — спросил я парня.
— В самтрест. Не понял?
— Нет.
— Пить захочешь — поймешь.
Водовоз снова стукнул кулаком в раму оконца. Река так же быстро исчезла, как и появилась.
Стоял, примагниченный к великану-коню, к телеге-платформе и неимоверно вместительной бочке. Пошел следом за парнем, вспоминая начало крыловской басни: «По улице слона водили, как будто напоказ…»
Проезжали по глухому грязному переулку. Возле изб стояли большие и маленькие бочки, кадушки, фляги, бачки. Водовоз открывал кран, приваренный к торцу своей громадины, наполнял пустую тару.
— Вот и вся артель, — объяснил он. — Турист?
— Ага. Узнал как?
— Просто. В нашем городе таких полоротых не сыщешь.
— Конек твой больно приглянулся. Тепловоз — не конь.
— Конь мировой, да сенов ему не напасусь. Дорогонько столование обходится. Что заработаешь, почти все на прожор уходит. Пять копеек ведро воды. Можно бы жить, харчиться, но север рубли как из глотки кусок рвет.
И рассказал парень все. Как купил тяжеловоза на Дону. Как доставлял его. Заготовленное в первое лето сено по злобе сожгли. Бочку ломом пробивали. Раздумаешься так — что за народ?! Живет человек, пользу приносит, ему же пакостят.
4
Тарас Иванович усердно почесал крепкое, выгорбленное брюхо битюга.
— Вот у меня справа, в соседях, семейка живет. Молодые. Детей что-то бог не дает. Может, видел на улице парня: толстогубый, чернолицый, небритый, большеголовый? Его башкой можно тазики медные штамповать. Жена детинушку горячим раз в день кормит. И то не всегда. Чаще сам варит. Женушку от книжки не оторвешь. Раз Димка подсунул ей роман про Обломова. Она корочки книжные об его голову обломала. И все по-прежнему: жена в книжку глядит, муж кастрюлями гремит. Говорю соседу: подавайся на Север, там хоть в столовых будешь по-человечески питаться. А то баба-язва, да еще язву желудка наживешь.
Заглянул как-то Димка ко мне на огонек, плачется: «Жена — социально-опасный для меня человек: бьет. Сварит щи — рот полощи. Мне внушает: у тебя ума — тю-тю, всухомятку проживешь… А-а-а? Скажи, Тарас, верно это?»
— В каком месте лень в человеке отростки пускает? Моя жизнь тоже написана корявым почерком. Грамотешки— пуп заткнуть не хватит. По в работе! — Комель до покраснения сжал кулак, потряс в воздухе. — В работе, браток, меня не всяк переплюнет. Что тут в деревне было, когда узнали, что на свой Север подаюсь! Директор совхоза на газике прикатил. Издалека пошел в наступление.
— Тарас Иванович, ты «Ниву» не хотел бы иметь?
Смеюсь:
— У нас и так эти нивы кругом. Куда мне еще! Каждую зорюшку работы вволюшку.
— «Жигуленка» продашь, — клонит к своему директор. — Машину высокой проходимости купишь. Ведущие— все четыре колеса.
— Иван Степаныч, не темни! Вахтовиком скоро стану. Мои колеса тоже все ведущие, — показал ему на ноги, — в Пионерный ведут — в столицу Васюганья.
— Ну, чем ты недоволен? Кто обидел? Управляющий? Да я его…
— Управляющий толковый. Душа моя простору запросила. Думал сперва — весь белый свет клинышком в Бобровку уперся… Зачем вы меня в путешествие по Оби отправили? Поезжай, край родной посмотри, поизучай, засиделся… Поехал. Посмотрел. Изучил. Жизнь-то какая, Иван Степаныч, на берегах?! Да ты не переживай! Я пятнадцать дней буду вахту нефтяную нести, пятнадцать полевую. Сено буду к фермам подвозить. И на комбайн сяду.
— Тебя что, деньги большие прельстили?
— Обижаешь, дорогой!
— Ну, а если в твое отсутствие тут Анька начнет… того…
— Тогда я ей вот этого!
Тарас Иванович сделал такой выразительный жест кулаком, что не оставалось никаких сомнений — он сотрет бабу в порошок, ежели что.
Вызвали в райком партии. Там говорили другим, не упрашивающим тоном.
— Выбрось дурь из головы. Нефть нефтью. Хлеб хлебом.
— Знаете что? Солнышко — оно всем угождает. Человек — не всем. Я — рабочий совхоза. Считают меня передовиком, орден это подтвердит. Пятнадцать лет одному классу — рабочему — принадлежу. Не сидел сложа руки. Позвольте мне перейти в другой класс — тоже рабочий, только нефтяной.
— Продовольственную программу на какой класс оставляешь?
— На всю трудовую школу страны. У нас там, на Севере, все программы сошлись — энергетическая, топливная, продовольственная. Нефтяники свои подсобные хозяйства организовывают. Заготавливают сено, витаминно-травяную муку, веточный корм. И нефть успевают качать. Новые скважины бурят. И палеозойскую нефть ищут. Нефть-то золотом становится, когда в трубу попадет, к заводам прибежит. А в земле она — суррогат, ее из пластов-то за шиворот вытащить надо…
— Видим: ты политически и хозяйственно подкован.
— Я не только единые политдни посещаю. Политучеба — не сезонное мероприятие. Я в этой пауке крепко затвердел.
Комель разгорячился, словно был перед ним не гость-путник, а тот, райкомовский представитель, который совестил, распекал, отговаривал.
Но решительный шаг был сделан. В одном и том же рабочем классе Тарас Иванович словно пересел с одной парты за другую. Вернее, пересел с машины на машину.
Жена Анна отнеслась к вахтовику спокойно. Муж привозил такую замазученную робу, что проще было ее выбросить и купить новую.
— Испытывают меня, Аня. Машину дали нервнобольную. Закаляю. Не будь я Тарасом, если ее по силе и крепости духа Бульбой не сделаю. Себя на запчасти разберу, но ее до ума доведу.
— Сманил бы ты с собой Димку, соседа. Жалко смотреть на него. Ходит с синяком под глазом. «Че, — говорю, — с глазом?» — «Да, — отмахнулся Димка, — моча в голову ударила». «При чем же тут синяк?» «Так моча без горшка не летает»… Встретила Верку, стыжу: «Че, мол, ты с мужем вытворяешь?» Хихикнула, крутнула бедром: «Я ему не фонарь — прибор ночного виденья подвесила. Пусть, выходя на двор, свет не зажигает, мне не мешает спать…».
Тарас глянул на жену заискивающе.
— Редко бывает каша без пригари, а баба без придури. У Верки от книг потемнение мозгов произошло. Я не Димку на Север сманивать буду — тебя. В Пионерном небольшой свинокомплекс построили. Вот бы тебя туда свинарочкой. Будем летать попеременке. За ребятней всегда пригляд будет.
— И не заикайся. Никуда из Бобровки не поеду. Ты и так меня дома закабанил — вон каких двух кабанов поднимаю. Да гориллу твою кормлю. Продай Малыша совхозу.
— Подумать надо.
Малыша все же совхозу продал. Сказал директору:
— Сам уволился, три лошадиных силы в одной шкуре оставил. Берегите Малыша. Если позволите — буду его напрокат брать во время сенокоса.
5
Тарас Иванович, пожалуй, легче переносил перебои в своем больном сердце — по этой причине не служил в армии, — чем в автомобильном моторе.
— Не знаю, что у меня за организм, — сокрушался он, — КрАЗ забарахлит — давление повышается. Бегает нормально — давление сто двадцать на восемьдесят: как у космонавтов.
Сменщику по машине внушает:
— Браток, ты мне баранку черствой не передавай. Горячую получаешь, такую и мне изволь вручить.
В Пионерном водителей обслуживает столовая «Лайнер». В мае встретил возле нее Тараса Ивановича. Стоит, уныло смотрит на жирных, лоснящихся ворон. Те расселись по вершинам деревьев, бродят за трубами теплотрассы. Их называют здесь «орсовскими косачами». Столовых отходов много, их пока не используют: сдача свинокомплекса затянулась. «Косачи» плодятся, тучнеют, перелетая с места на место большими стаями.
— О чем грустишь, Тарас Иванович? — спрашиваю водителя. — Машина поломалась?
Пет… Сев на бобровскпх полях идет. Перевахтовка через неделю. Может, успею чем помочь механизаторам.
— Болит сердечко по полю?
— Колотится. Храбрился тогда — сменю сельский рабочий класс на нефтяной… Сменил. Здесь — золотая целина. Там — черная пашня, давно поднятая плугом. Приеду в деревню, на меня, как на отступленца смотрят. От многих вместо «здравствуй» «бур-бур» слышу. Я что здесь, песенки пою?! До обеда три ходки из карьера сделал. Во сне плиты бетонные перед глазами бегут. Крутишь баранку полсуток — руки в крюки. Вечно под напряжением, как провод высоковольтки. За машину трясусь. Есть шофера-ухорезы. Не углядишь — обчистят. Зеркало сняли, ключи утащили. Я бы таких монтировкой крестил, по чарке солярки подносил: испей крови машинной, дизельной, коли своя рыбьей стала. Устами старины тоже истина глаголет. Дедок мой говорил: у каждого вора своя свора. Вольно в степи, да тесно на цепи — на тюрьму намекал.
Комель ел без аппетита. Лениво ткнул вилкой в желтый глаз яичницы, поддел, опустил на тарелку.
— Над полями сейчас марево сеется… дых у земли ровный, приятный… Приду с сева, Федюнька-старшак за руку в баньку тащит. Успел натопить, веник распарить… Деревня моя, деревенька-колхозница…
Вышли из столовой. Вахтовик ковырял в зубах спич кой, икал.
— Аннушка вспоминает. Мет, не поедет сюда свинаркой. Была бы незаменимой работницей. Несколько раз ходил смотреть наш свинокомплекс. Помещение хорошее, клетки просторные. Вот денничок мал. Отгородили бы им вольерной сеткой полгектара. Ходи, ковыряйся рылом в земле, выкапывай коренья. Свинья и в торфе болотном найдет себе витамин. Допусти — весь кочкарник рылом снесет…
Долго удивлялся я, глядя на Тараса Ивановича, как при его «приземленности» отважился он сделаться вахтовиком. Неужели действительно путешествие по Оби натолкнуло его на мысль «понюхать Север»? Или утомило напряжение крестьянского труда? Но здесь он выматывался больше. Дорога из Катыльги в Пионерный — не пряник. Местами плиты волнами идут. Замучишься тормозить возле каждой выбоины. Навстречу несутся самосвалы. Зазеваешься — протаранят. Тут не игра в кубик Рубика. Тут надо живые кубики грунта перевозить, тоннаж множить, километраж накручивать. Водители из Целинограда, Павлодара, Новосибирска, Донецка, Томска. Не с бору по сосенке — крепкими вахтами летают. У всех тысячи путей-дорог за плечами. Кто целину поднимал. Кто на Байконур вел дороги. Кто БАМ строил. Поселок Пионерный можно считать побратимом со многими населенными пунктами страны. Здесь свое братство — северное, васюганское. Тарас считает: Бобровка — тоже родня Пионерному. Один он из деревин, но вахтовый поселок принял его с горячими объятиями, посчитал кровным братом, членом большой семьи.
В тот апрель по холодку я уходил из Бобровки дальше по весям родной земли. За поскотину меня провожал Комель. На вахту ему надо было лететь через четыре дня. Шли крепкой обочиной. Тарас Иванович рассказывал:
— Вчера общежитие приснилось. Комната наша трехкоечная. Сосед мой, Игната Булкин, говорит: «Скучаем без тебя, Комель. Вертайся скорее». И захотелось опять в Пионерный. Так между двух огней и живу. Правда, огни яркие. Ты думаешь, я тут отдыхаю? Весь свой полумесячный срок в ремонтной мастерской провел. Ишь, землица торопит…
Поле лежало широкое, вольное. Вблизи дороги между двух жирных пластов земли лопотал ручеек. Он подтверждал слова пахаря и вахтовика.
Бобровские петухи выявляли друг перед другом незаурядные певческие способности.
Прими меня вновь, светлый мир весенней земли…
Нарымское сено

1
С обеда — нудный холодный дождь. Из мутной пелены выныривают вертолеты, садятся на аэродромный «плитняк». Мы пристально всматриваемся в черные номера на фюзеляжах: ждем свой борт. Он где-то застрял между небом и землей или отсиживается на бревенчатом пятачке, дожидаясь ясного неба, чтобы поплыть по нему в пашу сторону, к Пионерному.
У нас в машине баллон пропана, мешки с солью, бачок солидола, пачки электродов, листовой металл, бочка дизельного масла. Все это ожидает кормозаготовительный отряд, составленный из нефтяников. Он далеко, в пойме Оби.
Для подкрепления сил сводного отряда по заготовке сена летят электрик Саша Андреев и сварщик Галиахмет Гафуров. Галиахмета мы называем Витей. Откликается, словно это его родное имя. Надо ли добавлять, что он смуглолиц, черноволос, кучеряв? Четвертым пассажиром с нами лайка Дружок, шестимесячный пес, начинающий привыкать к небесным путешествиям. Электрик Саша — заядлый охотник и рыбак. Смастерил из дюралюминия лодчонку, прихватил с отрядным грузом.
Ветер треплет тучи за серые загривки. Они покорны и понуры.
Узнаем: наш вертолет неисправный. Ожидаем другой. Ревниво следим за двумя последними цифрами номерного знака. В пасмурную погоду зажжены и часто мигают на вертолетных хвостах красные огоньки. Всматриваюсь в импульсную работу лампочек, мысленно читаю:
не ваш борт, не ваш борт. Верно. В этот день мы так и не дождались
своего вертолета.
Гафуров внешне спокоен. Не зря за старшего в нашей небольшой группе. Возможно, в его душе творится сумятица, но по лицу это не прочесть.
Назавтра будем делать подвеску, чтобы не мучиться с загрузкой и выгрузкой. Сложим наш груз в сваренную из труб вместительную корзину. Когда она повиснет под вертолетным брюхом на четырех расчалках крепчайших тросов, то будет походить на гондолу аэростата.
Пришел новый день. Мы без привязи привязаны к аэродрому. Отлучишься на минуту — и МИ-8 может мелькнуть хвостом. Пилоты ждать не любят. Авиация прессует свое летное время.
Вот он — наш! Молодого пилота, повернувшего к нам узкое, безусое лицо, мы принимаем за бога. Бог взглянул на нашу подвеску, увидел краснотелый баллон пропана, бочку дизельного масла, солидол. Это соседство показалось ему подозрительным и опасным. Напрасно втолковывали ему: не пропан — кислород боится масла, взрывоопасен. Никакие уговоры не помогли. Вертолетная дверца
захлопнулась. Птица отпорхнула в сторону.
Мне припомнилась известная загадка о волке, козе и капусте, которых без ущерба друг для друга надо перевезти на другой берег реки. За волка мы приняли злосчастный баллон, упрятали его под мешки с солью. Бачок с солидолом придавили листовым металлом.
Другой вертолет клюнул на нашу уловку. И вот мы в воздухе. Стальная вертолетная упряжь натянута до предела. Соединенный со специальным замком-приспособлением трос ныряет в квадратный люк. Глядим в него и видим корзину-гондолу, застропленную с четырех концов. Ее качает, раскручивает. От подбрюшного груза машина дрожит. Каждый бешеный поворот винтов приближает нас к обским лугам.
Непривычно смотреть под прямым углом на макушки пролетающих внизу деревьев. Откованные пики елей словно вонзаются в тяжелую подвеску. Крупноголовые сосны и кедры бодают ее. Им помогают ветры — живой природный и искусственный, рожденный скоростью винтокрылой машины и бесприютностью трубчатой корзины. Толстые листы металла мощными струями воздуха подняло, поставило на ребро. Притискивает то к одной стенке корзины, то к другой. Один лист вышвырнуло из вращающейся люльки. Он бабочкой запорхал над зеленью куполов. Не сносить головы сосне или кедру, если эта бабочка случайно опустится на них. Хорошо, что под нами безлюдные пространства хвойных грядин, зажатых тисками хлюпких болот…
Еще в апреле деловой предусмотрительный начальник васюганских нефтяников Фанис Идрисович Бадиков издал приказ о создании бригады по ремонту сельскохозяйственной техники. Подшефный совхоз «Дружный» передал в аренду тракторы и навесные агрегаты. Их требовалось отремонтировать, произвести регулировку. Первой в приказе числилась фамилия Козлова, начальника прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования. На Владимира Ефимовича возлагалась главная задача — с небольшой ремонтной бригадой оживить к началу сенокосной страды всю отведенную технику.
Оживить, влить в нее силу для трудной работы на лугах.
С Козловым мы ровесники — родились за три года до начала войны. Его родина — деревня Большая Речка в Новосибирской области. Моя родина — Нарым. Есть у меня в родове тоже Большая Речка — Обь. Она помогала взрослеть, набираться терпения и житейского ума-разума.
Владимир Ефимович работал слесарем-лекальщиком. Знаток механосборочных операций. Слесарное дело и по сей день осталось любимым делом его жизни. Однако из-за несчастного случая пришлось отойти от него. Отняли этому жизнелюбивому человеку левую руку. Но судьбе не удалось отнять, поколебать его волю, ослабить характер. Выход из трудного положения был найден такой: Владимир Ефимович закончил Томский автодорожный техникум, остался в родном цехе рядышком с металлом, станками, главное — с людьми, производящими ремонт нефтепромыслового оборудования. Не очень-то его прельщает должность начальника цеха: он успел попять, оцепить великую ценность и значимость рабочего человека. Его «металлический стаж» большой, почти три десятка лет. Внедрил на производстве много дельных рационализаторских предложений. Я радовался предстоящей встрече с Козловым на сенокосных угодьях.
Полуденное солнце обжилось в высоких голубых хоромах. Велик и красочен мир земли, утопающей в его щедрых лучах. Потянулись припойменные равнины. Не поймешь: кустарниковые островки забредают в воду или выбредают из нее. Поражает причудливость серебристых завитков проток и речек, обилие больших и маленьких озер.
Узорчатое полотно убегает к светло-зеленой дымке горизонта и где-то там сшивается с новым затейливым кружевом.
Гигантскими рептилиями выползают из вод травянистые гривы. Ярко-изумрудные спины взблескивают под напором лучей, словно пошевеливаются, скатывая с себя остатки влаги.
Обские воды нынче вновь обошли, обхитрили огромные пространства вокруг своего излюбленного ложа. Они подмяли под себя грядины кустарников, обременили тяжестью луга, растворили в мутной пучине озера. Матерая река давно откатилась к своим границам, оставив в спешке и забывчивости множество потопленных низин: близлежащие луга возле них, как невыжатые мочалки. С косой еще можно пройтись по травам, выстричь прокосы. С техникой лучше не соваться.
Но не везде такая картина. Кое-где сухие гривы в шлемах стогов. У нарымчан так: воду брани, да не упускай дни. Прозвенит бубенчиком короткое северное лето, не ухватишь его, не попросишь: повремени, не успел корма заготовить.
Нынче васюганские нефтяники пошли «в отдел» от подшефного совхоза. Выделили им далеко не золотое местечко — луга вблизи протоки Муч. Совхоз «Дружный» их не выкашивал несколько лет, отчего они потеряли свою продуктивность, местами, как бородавками, покрылись кочкарником. На луга по закрайкам стали наползать кустарники. Вот тебе и Муч! Будет мучение с сенокосом, ведь надо поставить в стога ни много ни мало — шестьсот тонн сена. План, как приказ. Кругленькая цифра многим ввинчивалась в голову, заставляла проявлять расторопность, предпринимать решительные действия.
…Притерпелся к вертолетному шуму. Сосредотачиваю внимание на диковинном живом холсте земли. Каждый год воссоздает природа эту великую картину, обновляет ее. Сколько затрачено мастерства и красок! Прогибы нежно-зеленых ложбин. Скопище кудрявоголового ракитника. Охряно-коричневые разводья на заболачиваемых низинах. И повсюду нерасшифрованные иероглифы безымянных речек, невесть откуда появившихся ручьев и проток. Земля кажется накрепко зашнурованной этими стальными жгутами, надежно опечатана личными печатями озер. Но давно уже эта нарымская земля — не тайна за семью печатями.
2
Гафуров дремлет. Саша возится с Дружком: поглаживает нежно кобелька по голове. Терпи, Дружок! Твой собрат в космосе побывал, а ты летишь всего лишь на километровой высоте.
Вот и отрядный стаи показался: рядок аккуратно расставленных вагончиков, похожих на длинные бочки, бревенчатая изба в стороне, другие постройки, соединенные между собой тротуарами. За волейбольной площадкой тракторы, навесные агрегаты. С одной стороны огромный луг упирается в полосу берегового кустарника возле широкой протоки. С другой его поджимают озера.
Воздушный извозчик осторожно опускает подвеску на обозначенной флажками площадке. Приземляется сам. Мы выпрыгиваем вслед за Дружком. Саша не забывает прихватить самодельную лодчонку.
Первый, кому я пожал руку на луговом станс, был Станислав Владимирович Кузнецов, секретарь объединенного парткома васюганских предприятий. Он отлетал с этой машиной. Мы успели переброситься двумя-тремя фразами.
С Кузнецовым познакомился год назад. Меня всегда поражал прямой доверительный взгляд его до удивления голубых глаз. Они были под цвет весеннего, пронизанного солнцем неба и не внушали ни малейшего опасения, что их обладатель может когда-нибудь сфальшивить, поступить не по совести. Его отец три десятилетия работал электриком на буровых. Сын по эстафете перенял эту специальность. Только по дороге знаний ему удалось вырваться вперед: закончил Томский политехнический институт. Был командиром стройотряда. В молодом еще Стрежевом прокладывал лежневки, занимался бетонными работами. Монтировал первую буровую на Оленьем месторождении. Однажды вышел из строя мотор весом около четырех тони. Раньше его заменяли, теряя уйму времени и сил. Теперь решили сами запаять обмотку, заизолировать. Включили. Сколько же было радости, когда электрическая махина ожила, продолжила исправно служить нефтяникам.
Ставили Станислава Владимировича комиссаром кормозаготовительного отряда. К этому поручению молодой коммунист относился с такой ответственностью, точно от его выполнения зависел исход сражения. Каждая ежегодная битва за корма требовала победы. На малолюдном севере и один на лугах — воин. Когда засыпали от усталости молодые трактористы, подвозившие траву к агрегату по производству витаминно-травяной муки, садился за трактор Кузнецов. Не знала передышки гудящая сушильная машина. В мешки сыпалась и сыпалась пахучая сенная мука. Зачастую спать приходилось по три-четыре часа в сутки. Комиссар, его отрядная гвардия хорошо научились наращивать время суток за счет нового, пришедшего на смену дня.
Создания объединенного парткома потребовала сама жизнь. Нефтяное Васюганье стало важной ключевой позицией, где развернулись большие дела, сошлись горячие интересы многочисленных крупных и мелких организаций. Оркестр большой, несыгранный. Объединенный партийный комитет направлял деятельность всех предприятий в русло главных дел. Их немало. Добыча нефти. Строительство. Быт вахтовиков. Обустройство новых месторождений. Бурение. Прирост фонда скважин. Воспитательная работа. И конечно — участие нефтяников Васюганья в реализации Продовольственной программы.
Вертолет взмыл теперь уже налегке. Долго носились над базой кормозаготовителей сухие травинки.
Приглядываюсь к лицам. Мимо меня, насупясь, прошел длинный, слегка сгорбленный парень. Заглянул в корзину, доставленную из вахтового поселка.
Навстречу мне со скупой улыбкой идет вразвалочку Михаил Петрович Вайнер, главный механик Васюганского нефтегазодобывающего управления. Он и тут за главного — командир отряда. Встречал его раньше на планерках и совещаниях. Легкая смуглота лица. Закругленная валочком шкиперская бородка. Если бы еще торчала изо рта трубка с длинным изогнутым чубуком, то портрет морского бывалого скитальца был бы полностью завершен.
Здороваемся. Видно, что я, гость-чужак, не ко времени в отряде. Вот прилетевшие электрик и сварщик — другое дело. Читаю в глазах отрядного командира: «Досаждают тут разные…» Позже узнаю: здесь побывали уже газетчики, разные комиссии, проверяющие подготовку отряда к сеноуборке. Даже гостила группа немецких специалистов — шеф-монтажная группа из ГДР, следящая за монтажом установки подготовки нефти. Установка, произведенная в ГДР, раскинулась на вместительной площадке рядом с поселком Пионерный. Неоднократно встречался с немецкими инженерами в поселковой гостинице «Юность». Сидя за чаепитием возле сверкающего русского самовара, эти мастера-весельчаки походили на членов одной дружной трудолюбивой семьи.
Устроился в первом — гостевом вагончике. Отрядный завхоз Рамиль Сагдиев — низкорослый, шустрый, жилистый паренек — выдал мне одеяло, марлевый полог от гнуса, постельное белье. В минуты сильной озабоченности и волнения у Рамиля подергиваются мышцы лица. Проживя в отряде неделю, узнал, что завхоз работал чокеровщиком в леспромхозе, его стукало сосной: не делю в правую сторону засматривался. Он весел, бодр, любит построжиться. Обязанности «главного каптенармуса» выполняет ретиво.
На крылечке вагончика сидит раздетый до пояса молодец лет двадцати пяти. Взгляд «заземлен», лицо в глубокой задумчивости. Не хочу нарушать его созерцательного покоя, прохожу мимо. Заговорил сам:
— Надолго к нам?
— Как поживется… кем в отряде вон тот длинный, что спешит по тротуару в штаб?
— Хмурый-то?
— Да.
— Комиссар наш.
— Всегда он такой хмурый?
— Лет тридцать семь, наверно… с рождения… фамилия у него такая. Как сказал один классик: у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь.
— Литературой увлекаетесь?
— Всем понемногу… Рисую. Стихи пишу…
«Ну, вот и славненько, — подумал я, — свой человек в отряде».
Анатолий Пилипенко — так звали моего нового знакомца — поднялся с крылечка, и я увидел его покрытый крупными шрамами живот.
Нефтяники устроили свой трудовой лагерь великолепно. Большая столовая «Васюганочка» с электропечами на кухне, вместительными холодильниками. В бочкообразных, с любовью отделанных вагончиках не тесно, уютно. Достраивалась баня на берегу протоки. За складами, примыкающими к столовой, дизельная. Отрядный штаб сооружен из крепких сосновых бревен. В нем рация. Маленький городок радиофицирован. В столовой находится центр общественно-политической работы. На длинном столе телевизор, книги, журналы и свежие газеты, доставленные сюда на вертолете, совершающем ежевечерний облет покосов. С размахом устроились нефтяники. Вот если бы еще десятка два стогов стояло на лугах. Но их пока не было. Технику на баржах привезли поздно. Много новой требовалось собрать, отрегулировать, испытать.
Застал я отряд за горячей работой. Неподалеку от озерушки, похожей на большой гнутый пряник, на площадке за стеной густой травы разместились главные тракторные силы — «Беларуси», «Владимирцы», «Казахстанцы», К-700. Ничего собрался табунок — под тысячу лошадиных сил. Стоял новый подборщик-копнитель. Замер в ожидании дела стогометатель. Шла сборка модернизированных широкозахватных граблей. Регулировалась гидравлика. Опробовались роторная и сегментная косилки.
Баржи приходили в адрес отряда по ночам. Почти до утра разгружали технику, брус, доски, горючее. Короткий сон — и за сборку. Прежний луговой стан нефтяников был на речке Паня. Оттуда вертолетом привезли на подвеске банный сруб в разобранном виде. Отдельным рейсом летали за печкой. Сейчас столяры и плотники из строительно-монтажного цеха делали в бане полок, конопатили степы, наводили на стропила крышу.
Отрегулировав сварочный аппарат, Гафуров занялся любимым делом. Сварочных и газорезных работ в отряде много. Успевай менять в руках держатель на резак. На траве голубой длинный баллон с кислородом, красный, пузатенький — с пропаном. Не зря мы его прятали от вертолетчиков.
Из горелки выбивается гудящее синее пламя. Поворотом ребристой головки Гафуров слегка укрощает его: синева уплотняется. Сейчас Галиахмет-Витя будет резать трубчатые ножи для банной печи. Мелка в его руке нет, режет без разметки. Не подводят «пристрелянные» к металлу глаза. Они у него не крупного калибра, но бойкие, выразительные: думаю, не раз били в девчонок без промаха.
Пламя всей температурной мощью ударяется в горбушку трубы, и вот первые снопики искр летят врассыпную из-под резака, падают светлячками в траву. Резчик раскроил трубу ровнехонько, как саблей сиял четыре ножки за четыре удара резаком. Виктор сам заинтересован в скорейшем пуске бани: заядлый парильщик.
Закончил резку, получил приказ приваривать зубья к волокуше. Накладывает электродом, как кистью, уверенные мазки на металл. Он отличный знаток этих огненных красок. Привезенные электроды расходует экономно. Здесь малая земля, где достанешь, если кончатся. Вспоминаю свою первую в жизни стройку — томскую ГРЭС-2. Был такелажником, монтажником-верхолазом. Не хватало тогда у нас электродов. Пользовались самодельными. Рубили тонкую проволоку, получали из толченого стекла и мела смоченную густую массу. Обмазывали нарубленную проволоку, сушили. Наши самоделки сильно «прилипали» к металлу. Фабричные электроды, особенно импортные, ценились высоко. Чтобы получить новые, надо было поштучно сдавать «огарки» — сгоревшие почти до держателя.
Весной нефтяники ремонтировали тракторы в центральной усадьбе совхоза «Дружный». Владимир Ефимович Козлов с группой ремонтников почти безвыездно находился в Лукашкином Яре. Приказ начальника управления Ф. И. Вадикова был выполнен: все несметные лошадиные силы «подковали» в срок. Не приди: с опозданием новая техника — миссия Козлова была бы давно завершена. Теперь он, начальник отряда Вайнер, его заместитель Бреднев помогали трактористам устанавливать навесные косилки, проверять работу гидравлических устройств. Владимир Ефимович не любил играть роль стороннего наблюдателя, особенно когда дело касалось слесарных и сборочный; работ. Взяв гаечный, ключ, он с великим проворством притискивал его к головкам болтов. Иной и двумя руками не действует так. ловко, как орудовал единственной рукой мой ровесник… Костюм был покрыт въедливыми мазутными пятнами. Густая чернота на ладони, пальцах.
— Владимир Ефимович, дайте ключ. Мы сами, — упрашивает тракторист Николай Гребнев. — Козлов; упорно и молча продолжает закрутку.
Подшефный совхоз мог бы выделить нефтяникам: одного-двух помощников для ускорения сборочных работ. Ведь здесь собрались люди, в общем-то не имеющие отношения к сельскому хозяйству. Они были неплохими: знатоками нефтепромыслового оборудования, работали: операторами, ремонтировали различные насосы, станки, качалки. В совхозе «Дружный», наверно, рассудили так: «Отделились нынче нефтяники. А ну-ка, пусть попробуй ют теперь обойтись без нас».
И васюганцы справлялись сами. Пройдет день-другой, и косилки станут бойко валить траву. Цифра 600 четко обозначена оформителями городка на бумаге и стендах. На три стожка походит эта пузатенькая цифра. Но их надо поставить не три — почти триста, если брать за вес стога две тонны. Нефтяники обязались приплюсовать к плану еще двадцать тонн.
Не хочу утверждать, что в подшефном совхозе нерачительные хозяева. Но луга у протоки Муч можно было содержать в лучшем состоянии. Провести бы совхозу несложные мелиоративные работы: срезать кочки, потеснить надвигающиеся кустарники, нарезать осушительные каналы для более быстрого стока вод, очистить луга от коряг. А то оставили луга бесхозными на протяжении пяти лет, и те значительно потеряли свою продуктивность.
Травы наших обских лугов считаются особенно ценными и питательными, если собраны в лучшие, отведенные природой сроки — в июле, августе. В тонне такого сена содержится от четырехсот до пятисот двадцати кормовых единиц. Корма очень богаты протеином.
Земледельцев торопят созревшие хлеба. Кормозаготовителей зрелые травы. И нефтяники торопились. Приезд Кузнецова, проверяющих комиссий ускорили темпы сборочных работ. Наконец-то отладили гидравлическую систему сенокосилок. Довольный Козлов вытер сильную пятерню о тряпку, пропитанную соляркой. Наклонился к примятой траве, стал выпутывать масляные ролики рассыпавшегося подшипника. Назидательно поучал парней:
— Надо собрать — пригодятся.
Послушные парни, внемля деловому совету старшего товарища, тоже принялись собирать стальные ролики.
3
Движимый чувством солидарности и товарищества, не хочу слоняться но городку руки в брюки. Подхожу к Анатолию Пилипенко. Он с Касеном Отарбаевым собирает многоколесные, широкозахватные грабли. Давно по журналистскому и писательскому опыту знаю: ничто так не сближает с героями, как совместное участие в каком-нибудь деле.
В амурской тайге один шурфовщик выразился так:
— Хочешь изучить рельеф моей души — берись за кайло. А я отдохну, чайком побалуюсь.
Пока он обливался потом от густого чая, я усердно потел в шурфе, подбираясь со всех сторон под увесистый, облепленный глиной камень. Вознаграждение меня ждало вечером в таежной избушке, где шурфовщик поведал исповедь своей, как он выразился, ребристой жизни. Знаю: не золотые ключики, не замысловатые отмычки открывают клады судеб. Иногда простое кайло, увесистый колун, лопата, шоферская монтировка, примененные в совместном труде, откроют доступ к чужому сердцу, помогут изучить далеко не ровный рельеф чьей-то души.
Касен, он же по-отрядному Коля, подтягивает болты на новых модернизированных граблях. Мы с Пилипенко вставляем в отверстия колес пластмассовые втулки. В сборе грабли походят на растянутого в гармошку дикобраза: двенадцать ощетиненных кругляшей должны жадно захватывать сенные рядки, собирать их за собой в пышный валок.
Отарбаев родом из Казахстана. Его отец прошел через пекло гражданской и Отечественной войн. На Васюгане Касен работает оператором по исследованию скважин. На лугах будет собирать сено в копна одной из двух волокуш. Они готовы, навешены на «Владимирцы» — шустрые, ходкие двадцатипятисильные тракторы. Отарбаев за свою сравнительно короткую жизнь одержал много побед в труде. Они давались не так трудно, как победа над самим собой. Еще три года назад он не мог совладать с убийственной силой вина. Нелегко было выйти из повиновения ему. Оно властвовало не только над телом — над неокрепшим сознанием. Не хотелось пускать молодую жизнь под уклон. Позже с чувством вины и гадливости вспоминал свои похождения, бытовую безалаберщину. На горьком опыте убедился: нет безвыходных положений. Если проявить волю.
Его лицо освещено ясным светом внутреннего спокойствия. Берет из ящика необходимые для сборки шайбочки, гайки, ловко насаживает на болты. К вечеру грабли собраны. Их надо теперь обкатать, отрегулировать ровный ход.
В отряде кроме Галиахмета и Касена есть еще один «перекрещенец» — Билалов Фидаиль — Федя. Комсомолец. Родом из Башкирии. Служил в Германии. До армии работал в топографической группе. Дорога на Первомайское месторождение построена с его участием. С Севера призывался на армейскую службу. Потом Север снова призвал его: вернулся в родное нефтегазодобывающее управление «Васюганнефть». Он еще) не успел доносить солдатский парадный китель. Готовит «к бою» косилку. Раньше приходилось ему косить башкирские луга на конной косилке, обские будет утюжить на тракторной.
Федя уезжал в мае в отпуск в родную башкирскую деревню. Уехал холостяком — вернулся «женатиком». На семейного мало похож — еще много в нем мальчишеского. Молчалив, замкнут. Рядом с трактором оживляется. Теряется угловатость движений.
Отрядный командир, ветеран труда васюганских нефтепромысловиков Михаил Петрович Вайнер на одной из утренних планерок внушал членам штаба:
— Отряд у нас сводный, имеются представители многих цехов. Поэтому хорошо узнайте людей, с кем нам предстоит делать большой план по сену. Знайте, кто откуда родом, у кого какие наклонности, привычки, интересы. Даже имена их жен вам должны быть известны.
Кормозаготовительный отряд нефтяников был хоть небольшой, но силой. Каждый человек на учете. Каждый должен быть в поле пристального внимания. Флаг над лагерем поднят давно. Пусть на сегодня нет ни одной тонны заготовленного сена, но никого не должно одолевать сомнение, что план будет выполнен.
Вечером мне попалась на глаза старая ржавая коса. Давным-давно забытая покосниками, она валялась в траве, посрамленная перед могуществом колесной и гусеничной техники. Вдоль по косовищу прошел трактор, но чудо: сухое, березовое, оно не сломалось, лишь остались на нем «укусы» тяжелых траков. Поднял косу, проверил подушкой большого пальца острие: хоть до Вологды катись. Ручки на косовище не было.
Держал в руках древнее орудие труда, вспоминал свои детдомовские годы, проведенные в Усть-Чижапке, неподалеку от Васюгана. Наше подсобное хозяйство находилось в Успепке на правом берегу этой хмуроводной реки. Лошади, коровы, овцы, свиньи — все было в крепком детдомовском хозяйстве. На васюганских лугах приходилось ставить много стогов. До конца августа жили в Успенке. Переезжали на лодках на левый, луговой берег Васюгана, «хороводили» с косами, обкашивая озера, протоки, изобилующие рыбой и водоплавающей птицей. Вжиканье кос перекликалось со свистом пролетающих утиных стай, с характерным «блеяньем» упругокрылых бекасов.
Директор детского дома фронтовик-разведчик Виктор Александрович Сухушин, оглядывая луг и вереницу юных косарей, говорил ласково:
— Вот она, моя семейка дружная… невелики хлопцы, но крепенькие, точно курки ружейные…
И мы — «взведенные для сенокоса курки» — старались вовсю: косили, сгребали сено, возили копны на лошадках, сытых от вольной луговой жизни.
Воспитание трудом, как и добрым отеческим словом, было поставлено в детском доме высоко. Вместительные детские души вбирали в себя ласку воспитателей, говорок духмяных ветров и скрытую в книгах мудрость…
Иду за отрядный штаб, в лесок. Срезаю на ручку для косовища черемуховый прут. Завхоз дает брусок. Точу и точу лезвие косы, пока оно не начинает «кусаться».
Обкашиваю за кустами, у озерка, где стоит стеной матерая осока вперемежку с густым пыреем. Подходит заместитель отряда, весело смотрит на мои валки.
— Вот и конкурент нашей технике появился.
— С вашими силами машинными не потягаешься. Траву с этих лугов не уложишь влежку косами.
Сергей Бреднев — старший мастер прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования. Позже он возглавит профсоюзную организацию управления. Его отец работал буровиком в разведочном бурении. Часто брал с собой сына. Заронил в него искру любви к своей профессии. Со школьной скамьи Сергей знал — будет нефтяником. При распределении после окончания Уфимского нефтяного института был в списке девятнадцатым из ста двенадцати выпускников курса. Желающих ехать в Сибирь было много. Выбор пал — в Стрежевой.
Сергей общителен, по отношению к механизаторам проявляет тактичность и выдержку. Под спокойствием не скрывается желание отгородиться от хлопотливых отрядных дел. Комиссар Хмурый вроде бы тоже от них не отгораживается, только ведет себя чересчур начальственно, с прикриком, хотя сам из рабочей среды, по профессии электромонтер. Надо отдать должное — по электрической части большой мастер. На Оленьем месторождении подключал подстанцию, станки-качалки, дожимную и блочно-кустовую насосные станции. Запускал на сто двадцать пятой скважине центробежные погружные насосы. На вахты теперь ему летать трудно: плохо стал переносить перелеты — давление повышается. Живет и работает в Стрежевом. Как и Вайнер, он ветеран нефтегазодобывающего управления «Васюганнефть».
Рассказывали: утром комиссар подходил к моей раскладушке будить лежебоку. Спросонья не разглядел, что под марлевым пологом пусто. Поднялся я рано, принялся докашивать свой клин. Если сейчас какая-нибудь совхозная буренка усердно жует мое, лично заготовленное сено, то говорю ей: приятного аппетита, коровушка! Пусть на пользу пойдет тебе этот корм! Давай побольше молока, корми северян сытно.
Рядом с моей раскладушкой стоит кровать Николая Гребнева. Скоро он выведет на луга «Беларусь» с роторной косилкой и с первых же дней завоюет прочное звание главного отрядного косаря. Про него говорят: в двенадцать часов Коля еще не спит, в шесть утра уже не спит. Он в очках, задумчив. Походит на студента или молодого ученого, стоящего на пороге какого-то важного открытия. Его отец ушел на действительную военную службу в тридцать восьмом году. Служил на Дальнем Востоке. Ударил колокол войны — поехал батя через всю страну на запад. На Дону семья его жила. Так и прошел воинский эшелон мимо дома родного, не задержался на станции ни на минутку: беда, нависшая над Родиной, торопила солдат, откладывая побывку на четыре огненных года. Не всем будет дано услышать победный залп. Дядя Николая сложил голову под Кенигсбергом. Отец был танкистом. Писал брату-пехотинцу: «Ну, браток, держись! Теперь будем взаимодействовать вместе — танки с пехотой…»
Бабушка Николая до смерти ждала возвращения сына: может, без вести пропал или в плену у фашистских лиходеев… вернется, быть может… Уже внук ушел на действительную, а сын с войны не вертался. Бабушка стала говорить: сыночка не могу дождаться, Коленьку-то обязательно дождусь.
— Пришел из армии — ей восемьдесят пять стукнуло. Через год умерла…
Гребнев рассказывает, почти не меняя интонации голоса. За каждым словом чувствуется крепкая суровая правда жизни.
Его прадед, дед, отец — потомственные кузнецы. Дед был оружейным мастером. Получил Николай от предков бесценный клад — трудолюбие. Перенял «родственное» обхождение с металлом, с техникой.
«Беларусь» и роторная косилка — с иголочки. Неделю назад хотели взять новые тракторы для вызволения застрявшего К-700. Воспротивились Николай Гребнев и находящийся в отряде секретарь объединенного парткома Кузнецов. Техника еще обкатку не прошла, а ее уже хотели в тяжеловоз превратить. Это же верная гибель.
Гребнев успел потрудиться и под землей, и на земле. Работал в шахте в Восточном Казахстане. На Васюганье строил дорогу от вахтового поселка на Первомайское месторождение. Бригада состояла из вальщиков и чокеровщиков. Первая скрипка — водитель трелевочного трактора Николай. Прокладывали трассу-просеку шириной в тридцать метров. С поваленным лесом обходились по-хозяйски: он шел на строительство лежневок, на обустройство промыслов.
Много привлекательного в этом тихом, застенчивом парне. Житейской мудростью, внутренним спокойствием веет от кроткого, задумчивого взгляда.
Николай полностью отрегулировал роторную косилку. Завел трактор. Посмотрел на широкий луг:
— Ну вот, теперь можно и в поле.
Он назвал луг полем по-крестьянски светло и любовно.
4
С утра мы наметили для кошения сухие гривки, вплотную подступающие к кустам. К дальним озерам шло заметное понижение: под сапогами хлюпала густая жижа. Не так давно отсюда скатилась вода, просочилась сквозь космы пожухлого застарелого сена. Над пружинистым кочкарником стоял плотный пырей. Ближе к воде он заметно перемешивался с широкостебельной осокой. Северный луг не мог удивить разнообразным травостоем, пестротой цветов, гудением пчел. Комары, правда, с тягучим звоном, с безустальным рвением исполняли нехитрую музыку и порхающие тайцы.
Началось!
Фидаиль-Федя на малой скорости обкашивал сухие ннзкотравные полянки. Напарник напролом врубался в густую пырейную стену. Сделанные из крепчайшей стали ножи роторной косилки не брезговали мелким кустарником, дудочником, зарослями таволожника, если они попадались на пути. Гудящие ножи ссекали их с завидной легкостью, оставляя среди жесткой щетины трав белые срезы прутняка.
Косари отпластывали от луга широкие ленты прокосов, боясь вести тракторы во всю травяную ширь: там подстерегала топь. Дважды Федор попадал с «Владимирцем» в ловушку. Не помогали и двадцать пять лошадиных сил, упрятанных в горячем моторе. Я бегал на стан за гусеничным трактором. Буксующую машину цепляли тросом, вытаскивали на сухое место. Луг можно было условно принять за шахматную доску. Белыми клетками служили крепкие бугристые пятачки. Черными — сырые опасные провалы. Под правые колеса трактора мог попасть плотный участок луга, левые безнадежно проваливались в вязкую почву. Несколько часов был я для трактора и косца поводырем: топал впереди, пробовал сапогами мягкую землю. Начинаю увязать, сигналю руками: стоп, Фидаиль! Держи левее или правее. А там новая замаскированная ловушка под ломким слоем прелого сена.
У Федора косилка слабее. В полотно беспрестанно набивается трава. Останавливается, вырывает зеленые пучки пырея. На полотне расшаталось несколько ножей-сегментов. Бойком молотка поддерживаю заклепки снизу. Косарь расклепывает их, пробуя стальные треугольнички пальцами — не шатаются ли.
Его крепкую смуглую кожу не вдруг прокусывают комары. Увлеченный делом, тракторист почти не отгоняет их от себя.
Выборочное кошение — чистое мучение. Часто приходится буксовать, звать на помощь более сильные тракторы — по одному, иногда и по два сразу. Многие глубокие колеи в липкой черной земле напоминают о следах недавней борьбы с мокрым лугом.
В отряд прилетел Мецкер. Давид Генрихович послан сюда для форсирования сенозаготовок. Вторая декада июля подкатывается к концу — ни одного стога, ни тонны сена из будущих шестисот.
Мецкер — заместитель начальника управления «Васюганнефть» по кадрам и быту. Быт в отряде налажен отлично. Девчата Ольга Башкова и Тамара Нестерова кормят вкусно и, как говорится, на убой. Для жаждущих на высоком крыльце столовой стоит вместительный бачок с компотом. Рядом эмалированная-кружка.
Говорят, в прежнее луговое страдование в отряде были другие повара и успешно «закончили двухмесячный вуз» — вышли удачно замуж. Шутники по этому поводу сочинили стихи местного производства: под словом победа подразумевали замужество:
Хочешь на лугах победы —
Приезжай парить обеды.
И блеснет надежды луч
На кривой протоке Муч.
Нынешних поваров эта проблема не волнует, хотя они и живут под «обстрелом» многих бойких глаз.
Пока не были оборудованы луговой стан, столовая с холодильниками и электропечами, Ольга одна со стоицизмом доброй хозяйки три недели готовила обеды на костре. Борщи, гуляши, омлеты, пропахшие дымком, ели с та-а-аким завидным аппетитом…
Если выдается свободный часок-другой, Ольга вяжет. На Васюганье помаленьку обвыкается, не ищет, как случалось по первоначалу, клюкву на кустах.
Начинаю обживаться в отряде. Командир, комиссар, отрядовцы смотрят на меня теплее. Вот что значит участие в делах отряда!
У Мецкера тоже появился зуд в руках. Взял косу, ловко, напористо погнал широкий прокос. Он косил с захлёбистой, молчаливой радостью — она исходила от всего упругого собранного тела, расправленной груди, сильных, слитых с косовищем рук. Выстригал траву чисто, без огрехов.
— Косить давненько научился, — делился позже воспоминаниями Давид Генрихович, — когда мы обходили луга в поисках новых сухих участков. — Мой старший брат в Кривошенне живет. Перед самым покосом ногу сломал. Жена его, как на грех, болела в то время. Пришлось мне выйти с косой на братнин покос. Мужики на лугу показали, каким манером с травой расправляться. Сперва конец литовки все норовил «землю понюхать» — втыкался. Потом пошло и пошло. Половину покоса сам выкосил, да друзья брата помогли. Полностью сено поставили. Было мне в ту пору шестнадцать лет.
В нефтяном Приобье Мецкер два десятилетия. Участвовал в строительстве шести нефте- и газопроводов. Давид Генрихович говорит: «Кроме вертолета всю живую технику водить приходилось».
Кое-кто в отряде надеялся на представителей подшефного совхоза. Мол, приедут, покажут, где в первую очередь начинать косьбу, где во вторую. Заместитель начальника управления был мнения твердого: на совхозного дядю надейся, а сам не плошай. Ноги при тебе, померь луга во всех направлениях, выясни картину.
Мы исходили с Мецкером многие километры, открыли «сухие залежи трав»: косарям фронт работ дня на три. При строительстве нефтепроводов и газопроводов Давид Генрихович тоже делал главную ставку на свои ноги. Возьмет с собой так называемую карту-трассовку, где в сантиметре уложено сто метров трассы, отправляется в разведку. Уйдет впереди трубы километров на десять-пятнадцать, каждую речушку, каждый бугорок и ручеек в память уложит, наметит пути их преодоления. Следом техника увереннее движется, дорогу торит.
Спрашиваю северянина:
— Наверно, нынче без ручной косьбы здесь не обойтись?
— Все от погоды будет зависеть. Постоит сушь — тогда и косилками управимся. Но в резерве десятка три кос иметь надо.
— В отрядном складе всего пять и то маленьких — детских. Кто-то заточил их на наждачном круге, как стамески. Теперь их отбить трудно. Дерево строгать такими косами можно, а траву вряд ли свалишь.
Менкер прищурил глаза, высек из них усмешку.
— Мое утверждение: если «масла» нет в башке, его, как в машину, не зальешь. Литовки затачивал человек, не имеющий ни малейшего представления о косьбе.
Комары наседают на меня упорно. Над попутчиком их мало. Все равно предлагаю ему мазь.
— Не надо, — отнекивается Давид Генрихович. — У меня с комарами заключен договор о ненападении.
Но вот и над ним закружились серые стан, облепили голову. Улыбаюсь, протягиваю мазь:
— Быстро же комарье договор нарушило. Помажьтесь.
Выдавливает из тюбика белого червячка, растирает в ладонях, мажет шею, лицо, за ушами. Так-то надежнее.
Иногда попадается нам такой высоченный пырей, что его метелки оставляют на наших потных, покрытых мазью шеях и подбородках россыпь мелких семян. Перестояла травушка. Еще бы неделю назад свалить.
В нынешнем году васюганские нефтяники ведут заготовку кормов на два фронта. Если сводный отряд на сеноуборке состоит в основном из рядовых гвардейцев, то в заготовке веточного корма принимал участие командный состав — инженерно-технические работники. И в прежние годы работников управления посылали «на венички». Их заготавливали, сушили и, случалось, они не попадали на скотные фермы — корм пропадал. Ничто так не бьет по рукам, как сознание напрасного труда. Волей-неволей поостыли люди к этой заготовительной операции.
В високосном восемьдесят четвертом году план на управление дали немалый — около ста тонн березового веточного корма. Васюганцы не привыкли вздыхать и чесать затылки. Была объявлена почти всеобщая конторская мобилизация. Мецкер ходил по кабинетам управления и, приятно улыбаясь, показывал на ладони зеленые гранулы.
— Что это, Давид Генрихович? — спрашивали бухгалтерские работники и сотрудники отдела кадров.
— Это частичка измельченного, высушенного и спрессованного веника.
— Как интересно!
— Нынче мы будем готовить веники примерно раза в два крупнее парильных. Их подвергнут измельчению, пропустят через агрегат по производству витаминно-травяной муки. Он выдаст вот такие гранулы. Теперь наш труд даром не пропадет.
И он не пропал. Управление «Васюганнефть» заготовило сверх плана тридцать тони веточного корма.
Общение с Мецкером доставляет немалое удовольствие. Весь он напористый, деловой, с кипучей энергией — она невольно передается и другим. Видимо, и он сам подзарядился энергией от начальника управления: Фанис Идрисович Бадиков — сметливый, хозяйственный человек — привык цепко держать в поле зрения и множество скважин, и не выкошенные пока луга, и сотни других немаловажных забот. Если бы все эти, расписанные по пунктам дела и заботы, вложить в память электронно-вычислительной машины, она бы выдала примерно такой результат: все надо выполнить безотлагательно. Ради этого неоспоримого, требовательного надо приводились в действие важные рычаги управления. Поднимались вертолеты. Шли к покосникам баржи с техникой и горючим. Ремонтировались скважины. Вырастали горы березовых веников. Качалась нефть. Шла незримая, но планомерная работа с людьми.
Объединенный партком васюганскнх предприятий и партийная организация управления являлись в этом целенаправленном труде крепкими, надежными союзки* ка ми. Без слаженного взаимодействия, без постоянной поддержки коммунистов многие бы задачи и планы остались мертвы, невыполнимы.
Скоро собирается прилететь на луга Бадиков. Отрядовцы хотят порадовать его первыми стогами. Теплый ветер неплохо просушивает кошенину. Завтра к вечеру можно будет сгрести сено первого укоса.
5
Вода скатывается неторопко, и протока Муч все еще поражает своей шириной. От нашего стана хорошо видна ее изумрудно-зеленая заводная граница. Длинным, заостренным островком она тянется параллельно кустарниковым грядинам. Трава, словно неосмотрительно рано вынырнула из-под воды, огляделась и находится в раздумье: не скрыться ли опять. Парни ездят после работы проверять сетенки, поставленные у затопленных кустов. Комиссар сердится, когда угоняют дюралевую лодку. Поломается подвесной мотор, на чем попадешь в Лукашкин Яр, откуда привозятся хлеб, запасные части. Хмурый считается капитаном мотолодки. Недавно получил распоряжение командира отряда Вайнера доставить с центральной усадьбы совхоза камни для бани. Предупредил, чтобы синие, угарные не везли. «Мухой» слетал в поселок, отыскал настоящие банные камни без синих прожилин. Плеснешь на такие кипятком — парок будет крепкий, уши в трубочку свернутся от неугарной жары.
В Лукашкин Яр комиссар ездит охотно: привозит оттуда толстых червей для закидушек. Рыбачит допоздна, часто из других суток прихватывает часок-другой, оттого утром кажется сердитым, насупленным. Пилипепко подобное состояние комиссара расшифровывает так: ночью рыбачит, днем тенью маячит. Пет, не только маячит. Иногда он бывает распорядительным, деловым. Если и любит «погаркать», то для пользы дела. Злость так же скоренько потухает в нем, как зажженная спичка на ветру.
Роторная косилка Николая Гребнева напластала уйму пышных валков. Они начинались от кустарниковой стены, бежали к озерной глади. Машинный косец научился по наитию определять топкие места и вовремя уводить от них неутомимый колесник. Избегать крепкую хватку мокрого луга ему позволяла повышенная скорость трактора. Он словно летал над травами на воздушной подушке.
В половине второго ночи комиссар потопал к Николаю. Был злостно нарушен распорядок дня: все спят, а Коля луг прочесывает. Возможно, неудачная рыбалка в эту ночь сделала Хмурого под цвет грозовой тучи. Набросился на косца со словами жгучего упрека:
— Тебе что, дня мало?! Хоть на часы иногда поглядываешь?!
А у Гребнева и часов на руке нет. Его время сенная страда отсчитывала. Торопила минуты и часы. Виданное ли дело — человека с работы гнать, ругать его вместо простой комиссарской похвалы. Тут даже спокойный Николай не выдержал, шумнул на Хмурого. Косец проследил, как светлый вечер перешел незаметно в белую северную ночь. У Гребнева одни колер перед глазами: зеленый. До минут ли и часов, когда матерая луговина раскатилась под горизонт и еще не началось в отряде стогоисчисление.
К нам иногда по два-три раза в день садятся вертолеты. Доставляют продукты, свежие газеты, журналы. Утром с Большой землей связь по рации. Земля ждет сено, но в сводке по-прежнему — ноль-ноль тонн. Говорят— в долгах не деньги, в копнах — не сено.
Вертолет сделал круг над лугом, приземлился на излюбленный пятачок. Не успели мы подойти к открытой дверце, как оттуда посыпались на землю продолговатые банки концентрированного молока. Чернявый малый, сопровождающий мешки и ящики с продуктами, выкраивал летные секунды, выбрасывая ногами рассыпанные в вертолете банки. Мы мигом помогли выгрузить мешок со свежими огурцами, большие мягкие буханки хлеба, флягу с растительным маслом, мясную тушу, чеснок, вермишель. Винтокрылая птица опрометью понеслась по задуманному маршруту. Мы, точно курицы-наседки, прикрывали своими телами и руками коробки, буханки, чтобы не раскатились от могучих воздушных струй.
В нашем вагончике одно оконное стекло расколото. Дыра прикрыта фанерой. В нее дует на Николая и меня: моя раскладушка и кровать главного косца стоят рядом с окном, мы спим головами к нему. Получаю со склада алмаз и стекло, прямо на тротуаре крою нужную шибку. Вставляю. Теперь в нашей спальне комаров и паутов будет меньше, и перестанет настырничать ветер. Временами его порывы бывают такими сильными, что наша жилая бочка слегка вздрагивает и покачивается.
Живем ожиданием «завтра», ожиданием первых стогов. Хватились — нет черепков для трехрожковых вил. Чем же вершить стога, очесывать, приглаживать их? Лохматые, туполобые стога быстро промочат дожди. Значит, плакали многие тонны сопревшего сена. Стогометателем не
придашь стогам красивой формы, как это можно сделать вилами и граблями. Идем с Мецкером в лес вырубать заготовки для вил.
Черенки надо было заготовить задолго до сенокосной страды, чтобы они просохли, набрали крепость. Во обще в отрядном складе необходимо иметь про запас косы, грабли, вилы уже в готовом, рабочем состоянии. Еще бы лучше запастись березовыми вилами-тройчатками.
Раскладываем черепки на просушку возле склада с горючим. Скоро придет баржа еще с двумя восьмикубовыми емкостями солярки. С этим известием комиссар приехал из Лукашкиного Яра. Он был чем-то расстроен, сильно возбужден. Оказывается, речники отпустили для разгрузки цистерн мало времени: на барже имелись грузы для других покосников, их надо было скорее развезти по станам.
И вот теплоход с баржой пришвартовались к нашему берегу. Мы все в полной боевой готовности: подкатили бревна, приготовили троса, ломики. Шустрый завхоз вьюном крутился возле толстого бревна. Подталкивая лом под комлевую часть сосны, громогласно утверждал, что в одном хорошем ломике содержится три мужицких силы.
Руководил разгрузкой комиссар. Мы подняли на борт баржи бревна, они стали к земле под углом. Оплели тросом край цистерны. Трактор К.-700 всей своей мамонтовой силенкой поддернул ее к борту баржи. Такую же операцию проделали со вторым боком емкости. Комиссар громче обычного покрикивал, командовал, размахивал руками. Мы долго провозились с разгрузкой первой емкости.
Мецкер предложил оплести вторую цистерну тросом посередине и одним махом вытащить ее на берег. Хмурый был против. Его бурчание пришлось не по душе Давиду Генриховичу. Он решительным приказом повелел сделать так, как хотел.
Я находился неподалеку от комиссара. Он сейчас безучастно сидел на бревне, скрестив на коленях большие руки. Мол, раз власть перешла к другому, мне тут делать нечего. В тот момент, когда полилась на землю солярка, в глазах Хмурого вспыхнуло злорадство: «Ага, достукался Мецкер, докомандовался! Моли богу, что не отломилось при рывке приспособление, приваренное к торцу емкости для выкачивания горючки… Залил бы протоку соляркой…». Но этого, к счастью, не случилось.
Через день Хмурый откажется отвезти на мотолодке Мецкера по делам службы в районный центр Александровское. Этим неповиновением, упрямством он как бы отомстит за нанесенное оскорбление комиссарскому самолюбию.
Справедливости ради хочется сказать, что отрядовцы не очень-то лестно отзывались об Игоре. Называли его «чужаком», «заготовителем». Ставь закидушки, рыбачь в свободное время, но ведь не для этого ты послан сюда. Хмурый не помогал ремонтировать и собирать технику. Не брался за вилы при стогометании. Все — командир отряда, его заместитель, Мецкер, секретарь партийной организации управления Павел Николаевич Селезнев, приезжающий с отрядом инженерно-технических работников, не покладая рук трудились на лугах. Комиссар до конца страды играл роль большого начальника и… рыбака.
Забегу немного вперед. Девятнадцатого августа кормозаготовители застоговали двадцать пять тонн сена. Последний стог поставили в полночь. Торопились все сметать до дождя. Комиссар спал. Когда лагерь наполнился веселыми голосами удачно и много поработавших людей, Хмурый проснулся. Ему предложили:
— Поздравь коллектив — славно потрудились сегодня.
— Нечего поздравлять, — пробурчал комиссар. — Бывало, и побольше тонн сена в сутки ставили… Поторапливайтесь, парни, разбегайтесь по вагончикам — энергию экономить надо.
— Мы энергию не экономим, — возразил Пилипенко, — а ты дизельной энергии пожалел. Сейчас в бане попаримся, восстановим свои потерянные телесные киловатты.
Комиссар посмотрел на Анатолия Пилипенко косо. Молодой коммунист успел побывать под пулями душманов. Шрамы у него на животе, на ногах. Хмурый не верит в геройство бывшего офицера Пилипенко, а он ведь был командиром взвода, отбивал безымянные высотки, чтобы свободно жилось и дышалось афганским друзьям.
6
Насадил на черенки вилы.
Тракторы с волокушами живо подбирают кошенину, теснят ее в плотные копны. Стогометатель, раскрыв широкую пасть, сжимает их крепкими челюстями, подвозит на видное место, где мы готовы поставить первый основательный стог.
Южный порывистый, но теплый ветер косматит сено, наши волосы. Он, наверно, разделяет радость покосников. Суетится вместе с ними возле основания стога. Подталкивает работников в спину, всячески поторапливает, словно мы без него не знаем цену каждой минуте.
Тракторы — «Владимирцы» Касена Отарбаева и Толи Пилипенко шально носятся по лугу, слизывая волокушами валок за валком. На стогометателе Сергей Корольков — плотно сбитый, с припечатанной подковочкой землистых усов. Парень крестьянского роду-племени. В казахстанской деревне пас коров. Рассказывал мне как-то поздним вечером под скрипичный концерт комаров:
— В моем стаде коровенка ходила дряхленькая. Молока не давала, а блудня была страшная. Могла среди ночи все стадо черт знает куда увести. Кнутом и дерзкими словами воспитывал — не помогало. Думал: тебя — бойня исправит. Однажды взял грех на душу, нарочно ее в ил загнал — утонула по брюхо. Прибежал к председателю— выручайте, чэпэ случилось. Вытащили с трудом еле живую. Поневоле забить пришлось. Мясо такое жесткое оказалось, будто жилы у коровенки из капроновых лесок…
Ясным оком выглянуло из-за облака солнышко, ласково оглядело наш широкопузый стог-первенец. Вблизи он казался несуразным. Мы долго очесывали его бока, бодали головой стогомета, придавая надлежащую форму. Отошли в сторону, поглядели — вроде бы ничего, похож на тяжелый шлем Ильи Муромца. Под трудовой запал поставили еще два стога. И сразу стало ясно, чего недоставало зеленому пейзажу необозримого луга. Он терпеливо ждал завершения широкого полотна, но был рад и первым уверенным мазкам, нанесенным нами неподалеку от лагеря.
К концу страды этих мазков появится множество. Шестьсот двадцать две тонны одноцветной краски разольется но лугам большими каплями стогов. Впечатляющая картина труда нефтяников Васюганья будет передана в дар подшефному совхозу.
После жаркой бани на берегу протоки у костра проводил я в отряде вечер поэзии. Вернее, это была уже ночь поэзии: маленькая стрелка на циферблате подкрадывалась к первому часу. Читал Есенина.
…Эх, вы сан»! Что за сами!
Звоны мерзлые осип.
У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.
Мы все в эту белую северную ночь были сегодня крестьянскими детьми. Из крепкого рода широкой вольной земли, вот этого притихшего луга, струистой протоки Муч, всего, что зовется чистым напевным словом —
природа.
Актированный день

1
Васюганская зима на постой определилась рано. С приходом октября застонали над землей жгучие ветры. Грузные тучи тушили звезды, отторгали планету людей от ледяной выси. Северян угнетало, но не пугало затяжное ненастье. Не приводила в отчаянье близость долгой зимы. Все было привычное, преодолимое, подчиненное незыблемым законам труда и человеческого терпения.
От вахтового поселка на все четыре стороны света лежали не усмиренные веками болота. Великие пустынные пространства беспрепятственно раскатились по мелколесью, среди кустарниковых полос и длинных мшистых холмов. Кругом лежал безмерный океан мхов, утихомиренный корнями невзрачных деревьев и мелкой плодовитой порослью. Встречались возвышения материковой тайги. Они походили на острова в незыблемых океанских широтах.
Люди бросили Васюганью дерзкий вызов. Посягнули на его извечное спокойствие. Наступать нефтяникам было куда. Отступать не предусматривалось бурным временем и упрямыми делами людей. По воле судьбы сокрытая под трясинами нефть диктовала только бой — великий, неотступный, долгий.
Болота являлись свидетелями человеческой неустрашимости и упорства. В необозримых мшистых пустынях дороги служили кровеносными сосудами, питающими огромное живое тело ударной стройки. Истерзанные техникой летники, вожделенные зимники, рукотворные бетонки смело вторглись в пределы болот. Протянулись к месторождениям, буровым вышкам, скважинам. Здесь было наведено множество воздушных мостов. Сновали по ним крылатые и винтокрылые машины, совершая привычный небесно-земной круговорот.
Люди ждали нашествия зимы, морозов. На главных базах Большой земли скапливались для северян горы неотложных грузов. Огромный поток машин должен был хлынуть после крепкой проморозки зимников.
Нарушая календарный устав, забесновался ранний снег. Завыли в луженые глотки ветры. Будто в обморочном состоянии пребывала напуганная природа.
Никто не знал, по какой раскладке заварит кашу новая зима. Прежние были теплые — сиротские — с частыми оттепелями и тиховейными ветрами. Кое-где оголенные трубы теплотрассы, опоясывающие вахтовый поселок, вызывающе поблескивали черными боками. На трубы садились погреться суетливые вороны. Блаженно растягивались на изолировочной ленте раскормленные собаки. Поселковая котельная весело дымила высокими трубами.
Было издано предписание утеплить надземные трубы, опоясать теплотрассу кожухом. Мистическая вера в полосу маломорозных зим притупила бдительность. Кто мог предположить, что новый декабрь крепко ударит по губительным просчетам, создаст аварийную ситуацию. За нее расхлебывались страхом, бессонными ночами тревог, нервозностью обстановки, размороженными батареями и трубами, холодрыгой в общежитиях и столовых.
В жесткий плен мороза взято все: крутоспинные ангарные склады, ровные бруски деревянных общежитий, омертвелые опоры и вся земля, рискнувшая выдержать ярый натиск лютого декабря.
Не сном — оцепенением веет от леса, вмороженного в гранитную землю. Лес избежал корчевки. Не лег в крутые завалы от бульдозерной силушки. Нынче продолжительные ветры-листобои начисто стерли с берез и осин все мазки. Глядя на оголенные деревья, теряешь всякую веру в могущество новой весны. Способна ли она воззвать к жизни эти хрупкие скелеты?
Родька Карнаухов не бросил сегодня родственного взгляда на заснеженные купола кедров и сосен. Насупленно смотрел под ноги. Пимы плющили изморозный налет на дороге, исходя назойливым скрипом. Он спал в одежде, в полушубке. Но все равно не согревали ни бойкая кровь молодости, ни общежитское одеяло, которым закутывал ноги, ни овчина. Чтобы полушубок не сползал, не падал на пол, Родька сначала привязывал его к одеялу. Вскоре от такого варианта пришлось отказаться: без полезной службы оставались рукава. Пришлось просто-напросто влезть в полушубок, укутать ноги одеялом и тонуть в омуте сна. Омут был неглубоким. Приходилось часто просыпаться от холода, ворочаться, бегать в туалет. За окном комнаты таилась ледяная ночь, напуская на парня совсем не сказочные ледяные сны.
Снился высоченный васюганский яр. К подножию подкатились матерые, манящие к себе сугробы. Родька, первый среди деревенской пацанвы, сиганул с яра в белейшую мякоть снегов. Влетел в нее не по грудь — весь с головой. Снежная пучина влекла в жуткую глубину. Великой была скорость погружения: фуфайчонка на мальчике успела измахриться, слететь с худеньких плеч. За нею исчезла залатанная рубашонка, штанишки, сшитые из груботканины. Хотелось крикнуть во всю мочь, позвать на помощь: раскрытый рот был полон снега. Как назло, не обрывался навязчивый сон, не вызволял из беды… Ага, вот, кажется, падение замедлилось… прекратилось совсем… глухо слышны голоса… принялись откапывать…
Проснулся — нет на ногах одеяла. От окна налетают холодные струи воздуха. Горит в комнате свет. Приятели сегодня встали раньше его, что случалось довольно редко. На соседних кроватях вахтовички-певички. Они еще не все припевы вьюг выучили наизусть. Один из них, молодой, но ранний сотоварищ по бригаде, внушал недавно Родиону:
— На Севере не водка — глотка в цене. На градусы крепкую узду набросили. Сухой закон здесь ввели. Но хайло твое никаким законам не подвержено. Ори, отстаивай правоту. Нынче крепко ломить языком надо, чтобы крепкую копейку добыть.
— Руками ломить надо и… головой, — возразил тогда Родион.
Так не хотелось вставать, оставлять теплую постель. Жуткий сои, летящий изо рта пар, не проходящая два дня головная боль — все было выставлено против Родькиной воли. Он даже не стал умываться. Протер полотенцем глаза, лениво позевал и скорым шагом направился в столовую.
Вчера бригада приехала к скважинам, к недвижным станкам-качалкам и просидела из-за неисправного подъемника. Агрегат был парализован, как и четыре качалки неподалеку от него. Операторы по подземному ремонту скважин без подъемника, что колодец без спускной цепи или веревки. Родька напустился на бригадира:
— Гони машиниста подъемника ко всем чертям! Тут не детсад — высшая школа труда! Он эту школу только до трех классов прошел. Опять запишем: простой бригады. Какой тут к лешему простой?! Лучше сказать — просид. Задницы онемели. Сейчас встану на лыжи, зайцев пойду ловить в петли. Они по морозцу, как ошалелые, носятся.
Вчера морозцу было сорок градусов. Сегодня оператор носом чуял: все сорок пять, если не больше. Значит, не рабочий — актированный день. Безделье. Каждая минута — резиновая. Растягивается до часа. Скоро год добежит до финишной черты. Махнет старец безнадежно рукой, скроется от надоевших забот. Бригаде никуда не скрыться. Фонд «мертвых» — простаивающих скважин на месторождениях пока велик. Кроме операторов, никто не вернет их к жизни. Руки есть. Работать хочется. Техника фокусничает. Видите ли, гидравлика не выдерживает. Кровь в жилах не густеет, а масло пасует перед морозами. Пусть в таком случае присылают сюда побольше арктического машинного масла, чтобы все сочленения подъемника, других агрегатов шевелились проворнее…
Такие мысли отрывочно крутятся в больной голове оператора, не дают покоя. Мешает мороз — ладно. Можно на стихийное бедствие списать. Но если мешают люди? Как это назовешь? Нынче для большей пользы дела в стране завод с заводом стыкуются, фабрика с фабрикой. Министерство с министерством плотненько взаимодействуют. А тут в одной небольшой бригаде работяга с работягой язык общий найти не могут. Подряд-то бригадный, да не надо под него всех подряд в рабочую цепочку включать. Не можешь умело работать, не будь обузой в коллективе — сматывайся на Большую землю, доучивайся.
Родька без аппетита съел тугую теплую котлету, запил ее светленьким чаем. В рабочей столовой несмолкаемый гул. Он болезненно отдавался в ушах. Противно гудел надтреснутым колоколом. Бывало, выходил раньше оператор из столовой — полушубок нараспашку. Мороз сторонился, дорогу уступал. Теперь запахнулся в овчину крепенько, но все равно чует спиной и грудью жесткую хватку декабря. Ишь, какую прыть набрал, как художничает — носы и щеки подбеливает. Пока торопился Родька до общаги — двоих белоносых встретил. Ясно: автобус к скважинам не пойдет. Предстоит отсидка рабочих по комнатам. Сегодня это на руку Карнаухову. Тяжела голова от подступающего гриппа. Ломит мышцы. От лопатки к лопатке пробегает скорый ток озноба. Клонит в сон, но не хочется доверяться постели. Попадись в ее мягкие лапы — вконец раскиселит болезнь, обрушит на лежачего давящий груз. Не крикнешь: «Пощади! Лежачего не бьют». И слушать не захочет.
В комнате под пыльным плафоном тускло светит электрическая лампочка. На полу сор, окурки. Валяется растрепанная книга без корочек. Парни ставили на нее чайник, сейчас не разобрать заглавие на титульном листе. Однобригадников подселили к Родьке ленивых, апатичных, зубастых. Разработали они для себя странные путаные воззрения на жизнь: работай, как можешь, по деньгу отдай сполна. Вряд ли этим операторам приходилось испытывать такую усталость, какую не раз испытывал Родька Карнаухов после полусуток честного труда. Спал однажды возле бревенчатой посадочной площадки, и его не мог разбудить опустившийся рядом вертолет. Пилот подошел к «мертвому» оператору, увидал: на лице угнездилось множество комаров, располневших от крови.
Первые месяцы вахтовой жизни выматывали Родиона. Через полгода втянулся. Бегал после долгой смены на танцы. Ложился в полночь. Вставал в шесть утра без будильника, без окрика бригадира.
В прошлом году в этой комнате даже в самый разгар зимы было тепло. Окопные щели не затыкали тряпьем. Не обклеивали бумажными полосками.
Карнаухов пошел к заведующей попросить ваты. Возле кастелянной парни кромсали в коридоре старый матрас.
— Можно мне приложиться? — попросил оператор.
— Дери! Всем хватит, — разрешил малорослый паренек.
У него Родион не усмотрел на правой руке большого пальца.
— Ну и вата — лохмата! — хихикнул беспалый, поднеся клок к носу. — Запашиста, будто хорьки в матрасе жили.
В комнате операторы играли в шахматы. Один из них — плоскощекий, угреватый — смолил сигарету без фильтра, выпуская напористый дым через полуоткрытый рот. Поиграл ладонью, скрежетнул зубами.
— …Проклять! Опять прозевал!.. Ты, Ради-вон, иди вон! Не было тебя — везло. Пришел — началась невезуха. Чеши пока в другую комнату.
От обиды у Карнаухова почему-то всегда сужались глаза. И сейчас он почти сокрыл голубые кружки. Верхний ряд зубов плотно сомкнулся с нижним, как перед дракой. Поначалу хотелось подойти к столу, пинком выбить стул из-под пахала, предложившего покинуть комнату. Салаги! Без году неделя вахтуют, а уже пузырятся, командуют. Сдержал гнев. Сказал спокойным тоном:
— Тебе, гусенок, еще надо пенку с молока слизывать. Подметай пол. Да побрызгай сперва. А мы с Вашохой окно будем заделывать. А то декабрь снегуров из нас сделает.
Вахтовики-первогодки промолчали.
2
Дымы из выхлопных труб машин долго не рассеивались в промороженном насквозь воздухе. Они поднимались лениво, гуртились на одном уровне сплющенным туманом. Над окоченелыми вершинами деревьев держалось боязливое, хрупкое солнце. Думалось: если упругий высокий купол сосны качнется, заденет его нечаянно, то солнце, похожее на красное стекло фонаря, дзынькнет, как от удара камнем.
Уровень воды в котельной падал. Как могло случиться, что несколько питающих артерий оказались неспособны донести земную влагу до котлов? Летом не было перебоев с водой. К зиме провели дополнительную резервную нитку от водяной скважины — и на тебе!
Пожарные машины беспрестанно днем и ночью подвозили к котельной тонны воды. Сливали по шлангам. Вновь спешили к скважине.
Виновато, растерянно чувствовал себя завпаром (так в шутку называли начальника цеха, отвечающего за пароводоснабжение вахтового поселка). Морозы, аварийная ситуация, неполадки в цехе сбили с него спесь, начальственность. Он, как провинившийся школьник, носился от управления к котельной, от ремонтных мастерских к общежитиям: кое-где мороз успел пережать трубам стальную глотку.
Дважды в сутки заседал штаб по ликвидации «маловодья». Технические умы пришли к быстрому, правильному решению: надо немедленно раскапывать траншею, где покоятся водопропускные трубы. Вернее, в данной ситуации их нужно было назвать водонепроницаемые. Догадывались, что при засыпке траншеи тяжелыми глыбами смерзшейся земли порвали трубу. Вода свернула с нужного русла. Бежала не к котельной— разливалась под землей до тех пор, пока ее не оборол мороз, не создал искусственный ледник в траншее.
Мощный японский бульдозер «Комацу» бивнем-рыхлителем вспорол гранитную твердь земли, добрался до «мякоти», которую смог черпать экскаватор.
К чести руководства нефтегазодобывающего управления, все делалось оперативно, по четко разработанному плану. Многим на сон было отведено по три-четыре часа в сутки.
На одном из заседаний штаба начальник управления спросил завпаром:
— Чего не хватает в котельной для нормальной работы, — помолчал секунду-другую, — кроме воды?
Были названы не то трубки, не то прокладки.
— Сколько надо?
— Не мешало бы… с десяток…
— Точнее?
— Ну…пять хватит.
Вот у вас всегда так, — отчитал растерянного просителя начальник управления. — Надо получить по заявке двугорбого верблюда, вы требуете четырехгорбого. Хотя заведомо знаете, что природа такого не создала.
Раскопали траншею. Нашли повреждение трубы. Всю размороженную многометровую плеть от скважины до котельной требовалось заменить на новую.
омнате операторы законопатили на совесть. Сразу потеплело. Заведующая общежитием предложила ребятам вооружиться лопатами, идти делать вокруг здания снежные завалинки. Такая обваловка хоть на градус удержит тепло — и то непропащее дело. Родька швырял снег к нижним брусовым венцам, и каждый бросок больно отзывался в висках. Уйти, лечь в постель, не бороться с гриппом. Он хитер, принимает разные мудреные формы. Бьет то по сердцу, то по рукам и ногам. Рядом лениво бросают снег приятели по комнате и бригаде.
День раскален до пятидесяти двух градусов. Еще немного, и подкрашенный спирт в градуснике может в испуге забежать в крошечную колбочку. Не проклюнется из нее тонюсенький красный лепесток.
Нетерпеливые вышкомонтажники попытались сегодня сделать передвижку буровой вышки. Сожгли много солярки, пытаясь отогреть гидравлические домкраты. Попытка закончилась неудачей. Масло в гидравлике затвердело, стало, как джем. Вышкомонтажники хотели сделать приятное буровикам — переместить вышку для зарубки новой скважины. Ведь конец года, каждый дополнительный метр проходки — это и честь, и слава, и деньги. Но проходка по управлению буровых работ упала до считанных метров. Люди делали все возможное. Не выдерживала техника.
Родька отгоняет и не может никак отогнать навязчивые мотивы песен. Мозг воспален. В нем чаще других вспыхивают слова: «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село». Карнаухов сам выходец из небогатого селения. Мать-покойница часто говорила: «Не жили мы с тобой, Родя, богато, и нечего начинать». «Эх, мама-мама, — рассуждал сын, — не дожила ты до моих больших денег».
— Не-е-ет, не сломаешь, мистер Грипп, — бормочет парень под шуршание сухого сыпучего снега. — Не знаю, из какой провинции мира прилетел ты на Васюган, но не поддамся. Подожди, наш морозец пересчитает тебе ребра. Все вирусы прахом надут.
Родька был у матери нагульный ребенок. С кем слюбилась, кто отец — неведомо. Носила тайну под небом. Не раскрылась, унесла под землю. Сын ни разу не попрекнул матушку ни словом, ни взглядом. Мало ли безотцовщины кругом. Мало ли жизнь трет, мнет, обламывает семьи. На кого-то же должна судьба списывать тяжкие грехи, любые огрехи.
Мать работала уборщицей в сельмаге. Разгружала вместе с грузчиками машины с продуктами, коробки с мылом, ящики с консервированными овощами. Помогала закатывать в склад бочки с растительным маслом. Часто от матушки попахивало винцом. В те дни была услужливой, ласкала сына, ворошила волосы. Иногда, притянув за уши, пристально всматривалась в его невозмутимые голубые глазенки и резко отталкивала:
— Нне ммоя поррода!..
После смерти матери приехала ее старшая сестра. Похоронила. Справила поминки. Продала избу. Забрала пятнадцатилетнего племянника в город.
Тетка — бойкоязыкая, суетливая, с волосатой бородавкой на правой щеке — оказалась скупердяйкой. Вырученные за избу деньги положила на свой счет. На продукты и покупки тратилась неохотно. Племянник стал для нее обузой. Водрузив на цветастую клеенку мясистые руки, сытно икая после обеда, попечительница выговаривала самонадеянно:
— Не будь меня, кто бы тебя — сиротинку — пригрел? Небось, не хочешь в детдом? Не хочешь ведь, ась?!
Парнишка глядит на хозяйку исподлобья:
— Не хочу.
— Еще бы. Чего там хорошего? Отъявленное хулиганье. Шильники. Мордобойцы! Они у меня двух куриц прошлым летом съели. Купила дом на свою погибель неподалеку от их каменного дома. Каюсь, да поздно… Не хочешь ведь в детдом?
— Вы уже спрашивали…
— Не груби. И второй раз ответь — не облысеешь. Ишь, моду взял огрызаться. Ты у меня смотри, не заговаривайся. Тоже… родственничек! Тетка тебя худому не научит. Уважай меня, и я научу тебя копейку беречь. Добытый рубль разменивать не спеши. Без денег человек — бездельник. Многие пасуют перед бедностью, не могут из нужды выкарабкаться. Я всю жизнь рубль с рублем сливаю. Одеваюсь простенько, сам видишь. Но пищей по миру не пойду. Господь не позволит. На земле всем отставка будет. Никому не перехитрить смерть. Пока живешь — уважай грош. Каждую вещь до износу носи. Хлебной крошке не говори брысь. Не сметай со стола на пол. Даже спичка без головки годна в хозяйстве — можно в зубах поковырять. Мне однажды кум подарил пять зубочисток, так я одной ковырялкой год пользовалась. Промою ее с мыльцем в горячей воде и снова тычу в зубы. Вот ты норовишь масла на ломоть толще хлеба намазать. Зачем? Мне врач сказывал: вредно много жиров трескать. Рак может от них заползти в нутро.
Матуха твоя мотовкой была. Какие сбережения тебе оставила? Семнадцать с полтиной в карманах наскребли. Ее похороны мне в двадцать раз дороже стали. Поминки. Девятины. Сороковины. Все по-христиански справила.
— Вы же, тетя, из моих избяных денег тратили, — боязливо вставляет племянник. — Избу-то за сколько продали? Мне соседи наши сказывали — за три тыщи.
— Ври! — гневно обрывает тетка. — Еле полторы с покупщика выбила. Крыша, крыльцо — все ветхое.
— Баня новая была…
— Баня?! Пусть о ней вшивый думает… Ты о деньгах за избу не заикайся больше. Стол, кров, одежда — все мое. Выучишься, авось, мне помогать будешь. На старость лет кусок хлеба поднесешь?
— Мне не жалко. Заработаю — буду кормить.
— То-то: кормить… Без тебя прокормлюсь. Ты после восьмого класса в ремеслуху настраивайся. Одежда, питание бесплатные. Еще какие-то деньги приплачивают. Чем раньше забуришься в работу — тем лучше. Где работа — там деньги. Главное — корень пусти, врасти в труд. Листья-денежки сами зашелестят.
От таких попреков, внушений, назиданий тошно делалось на душе паренька. Он не раз подумывал сбежать от сварливой тетки. Толстуха была богомольной. Перепродавала вещи. Церковь и городская барахолка были двумя мирами ее жизни. По пятницам являлись к ней гости, оставляли свертки. В воскресенье вечером приходили за расчетом. Родя слышал из-за перегородки горячий шепот хозяйки: «Побойся бога, не грабь… ведь выгодно сбыла… прибавь десяточку… свечки в церкви дорогие стали…» Грубый мужской голос перебивал торговку: «Молись рублю — не богу. И свечки не потребуются».
Субботним вечером Родька учил физику за большим шатким столом. К нему за перегородку заглянул кучерявый, большеголовый детина:
— Здорово, академик!
— Зд-расте.
Мальчик не оторвался от книги.
— Неприлично вот так… к гостю спиной.
— Не мешайте учить уроки.
Тетка, слыша неласковое обращение племянника, зыкнула от газовой плиты:
— Встань, когда с тобой старшие говорят!
— Я не помешаю тебе. Я на минутку, — извинительно начал кучерявый. — Хочешь в спортклуб записаться?
Волосы у гостя густые, цвета просмоленной дратвы. Лицо гладкое, смуглое, словно отшлифовано и пропитано олифой. Глаза въедливые, примагничивающие. Глянул в них Родька и не хватило силенок отвести свои — ясные, доверчивые. Верхняя губа незнакомца почти по центру раскроена надвое. Срослась аккуратно, не портила лица, только придавала ему уморительное заячье выражение.
— Ты, парень, про каратэ что-нибудь слышал?
— Это когда кирпичи пополам ладошкой бьют?
— Грамотный. Знаешь. Сдерни рубашку.
— Зачем?
— Проверю пригодность к жизни и судьбе.
Уверенный, грубоватый голос мужчины, требовательный тон, загадочное словечко «каратэ», рыцарский разлет крутых плеч, давящий, властный взгляд заставили паренька беспрекословно выполнить просьбу. Он стянул с себя рубашку, простенькую майку.
Бросив на Родьку беглый, оценивающий взгляд, детинушка довольно хмыкнул и слегка щелкнул своего пациента по пупу.
— Меня зовут дядя Саша. Тренер. Вливаю в кулаки силу обуха. Научу тебя рукой загонять гвозди в доску. Любой твой палец превратится по крепости в железнодорожный костыль. Обучу великим приемам. Они заменят нож, кастет, шило, велосипедную цепь, тяжелую пряжку ремня. Моим ученикам они не нужны в драках. Две руки, две ноги — вот твое четырехствольное орудие. В упор будешь из него лупить.
Тренер сеял усыпляющие слова. Чугунными пальцами ощупал ключицы, ребра, чашечки ног на сгибе. Так больно стиснул шейные позвонки, что у Родьки невольно выкатились слезы. Не пискнул. Стоял, как на врачебном осмотре, и улавливал жар от трех каленых золотых зубов своего властелина. Он, оставшись доволен проверкой, изрек:
— Всегда считал: деревня поставляет стоящий товар. С городскими хлюпиками больше возни. В драках ты как?
— Не люблю драться.
— Напрасно. Параллельно с атомным веком неотлучно идет век ножа и кулака. Слабых ожидает кара. Добавь к этому словечку «-тэ» и получишь антикару. Кара-тэ — великая самозащита и самовыручка. Не жди, когда тебе в драке скособочат нос или вот так размозжат губу, как мне когда-то. Я выпускаю из своего спортклуба орлов бесстрашных. Военную тайну хранить умеешь?
— Умею.
— Добре! О нашем разговоре никому ни словечка. Я готовлю каратистов по секретной программе ДОСААФ. Захочешь — приму в клуб. У тебя есть все бойцовские данные. Соглашайся. Приму ради уважения к твоей хорошей, доброй тете.
3
И в небе, и на земле жуткая белая стынь. Не отогреться Васюганью за сотню лет. Сбудется ли мечта природы, подарит ли когда-нибудь весну тягучее время? Расшевелит ли семена трав? Нальет ли соком деревья?
Представляется Родиону: время установилось на одной мерке, солнце вмерзло в льдистое небо. Раздался короткий резкий треск. Не понять — лопнул ли от стужи стенной брус или порвалась, рассыпалась гирлянда на макушке заиндевелой опоры.
По ночам не наблюдается даже привычная паданица звезд: золотые гвоздочки вколочены по шляпку.
Актированный бездельный день тягучее резины. Читать, валяться в постели не хочется. Кореши смолят сигареты — дым в комнате не висит, лежит вечерними синеватыми сугробами.
Ванюха нравится Родиону больше, чем его угреватый приятель. Он некрасив. Лицо худое, сильно шелушится, будто парень рассыхается. Работал в приобском совхозе механизатором. По его словам, «расслоился с женой». Оставил избу, коровенку. Выпил напоследок кружку рассолу за неимением другого питья и махнул на Васюган.
В совхозе его выбирали редактором стенной газеты. Дружок-дояр подсунул стихи в майский номер:
Выхожу один я на дорогу.
Впереди кремнистый путь блестит…
Редактор принялся отчитывать «стихоплета»:
— Ишь, индивидуй какой! Один на дорогу выходит, без бригады. И какой у тебя тут затесался путь кремнистый?! Кремень-то за уши притянул? Им уже давненько огонь не высекают — спички, зажигалки есть. Брось ты эти штучки! Давай так напишем:
Мы звеном выходим на дорогу.
Впереди совхозный луг лежит…
— Чуешь — современное, в ногу с Продовольственной программой.
Дояр, сдерживая смех, сказал невозмутимо:
— Ох и намял бы тебе, Ванька, бока Михаил Юрьевич.
— Кто это — инструктор, что ли, из райкома? Дудки! Я тебе правильно стих стесал.
И сам Ванюшка казался нагрубо стесанным: уши торчали двумя неопавшими щепками. Подглазья глубокие, желтоватые. Щеки бугристые. Шея в крутых жилах. На подбородке ямка с дынное семечко. Между ключицами и шеей глубокие впадины. Пахло от Ванюхи подгорелой кашей, будто век в армейских поварах прослужил.
Проигрывал он в шахматы спокойно, с зевотой. Но временами накатывала на него волна злости: подозревал приятеля в краже пешек. Колотил по столу кулаком, кричал на плоскощекого оператора:
— Подделка ты — не человек! Ни у скважины, ни за шахматной доской трудиться честно не хочешь… Родион, рассуди!
Карнаухов отмахивался, натягивая полушубок:
— Рассужу, когда у вас в башке булькать перестанет, масса загустеет.
Вышел из общежития. Направился в сторону котельной.
Вдалеке неяркими сполохами северного сияния разлетались отсветы электросварки. Парень охотно пошел на знакомый огонек: четыре года согревал он его на гидроузле. И по сей день не раздружился бы с электродами, держателем, щитком — зрение плошать стало. Склей-ка все горизонтальные, вертикальные, потолочные швы бывшего сварщика Родиона Карнаухова — длинная реченька получится. Вытекала она из-под держателя и электродов упрямая, без пузырей-пустот. Кроил металл газорезкой экономно, расчетливо. Не позволял «лоскуточкам» валяться, тонуть в грязи.
Справа тянется снежная горушка и свежая траншея. За земляным валом лежат подвезенные водопроводные трубы. Много их еще несостыкованных.
Родион подошел к ближнему сварщику, похожему в покоробленной неуклюжей брсзентухе на пингвина. Он только что потушил высокотемпературный костерок, менял электрод в держателе. Морозище докрасна натер кирпичом круглое лицо сварщика. Под еле заметными ресницами часто смаргивали воспаленные усталостью и огнем глаза.
— Помощь нужна? — спросил Карнаухов.
— Начальство прислало?
— Нет. Самолично. Имею пятый разряд сварщика. Сейчас из-за глаз оператором на скважинах.
Мужик протянул коллеге уважительно сперва руку, потом, как эстафету, вручил держатель.
— Хоть перекурю, разомнусь… спина свинцовая.
Вот она знакомая пляска огня и металла за светозащитным стеклом. Беснуются крошечные волны. Шуршит стальная шуга под электродом. Сечет снег мелкая звездынь искр. Родион вслушивается в размеренный говор огня. Всматривается в его ровную, чистую плавку. Струя твердеет быстро. Кромки шва идут аккуратные, нерваные. Карнаухов не без гордости сознает: не разучился «портновскому искусству», игла-электрод не подводит. Прошив такой — ни один отдел технического контроля не придерется.
До последней минуты ощущались непроходимая боль в голове, неотвязный звон в ушах. Теперь, при виде бунтующего огня, разжиженного металла, его адской температуры на плотном стыке, куда-то ушла совсем, растворилась высокая температура тела. Жар головы слился с жаром огненного труда. Не успел электрод опомниться, как превратился из стройного, бравого молодца в крошечного младенца, уцепившегося за развилку держателя.
Родион опустил щиток. Сварщик торопливо прикурил от коротышки-электрода вторую сигарету, бросил секундный взгляд на трубный стык. Почти не раскрывая рта, не впуская в него немую стужу, пробасил:
— А ты мо-гёшь… очень даже мо-гёшь.
Не впервые ухитрялся Карнаухов отвлечь болезнь каким-нибудь делом. Почти всегда удавалось обойти ее недалекой сторонкой. Так случилось и теперь…
После смерти матери Родьке стало невыносимо тяжело и горько. Вместе с родным человеком ушли ласки, улетучились тихие, светлые сны. Мальчик думал, что он никому теперь не нужен, всеми забыт. Весь большой мир, куда он рассчитывал войти смело и гордо, сузился до пределов его клоповного закутка в чужой избе.
Заглянет за перегородку тетка, нашвыряет обидных, несправедливых слов, обзовет лентяем, лежебокой. Еще горше станет на душе. Ведь он не ленив. Приносит дрова. Таскает воду. Расчищает снег у дома и за воротами. Ходит в магазин за продуктами. Даже моет полы. Тетка-маклачка редко когда похвалит. Год назад от нее сбежал сожитель, завербовался в какой-то северный леспромхоз. Лютая тетка не раз выгоняла сожителя на ночевку в сарай. Швыряла в него скалкой и поварешкой. Тихой, кроткой была хозяйка только в церкви и у домашних икон. Делилась с богом вечными обидами, постоянно канючила: «Помоги… вразуми… направь… не забудь вдову бедную…»
В закутке, где поместился Родька, квартировала раньше студентка. Ей пришлось отказать. Пропала ежемесячная двадцатка. И это тоже прибавляло озлобленности еще нестарой барахольщице. За столом на племянника сыпались упреки:
— Сидишь на моей шее. Пить надо было меньше твоей матухе — жила бы еще. Весьма здорово она поступила — сбыла сестре такое сокровище. В детдом, небось, не хочешь? — в бесчетный раз пытала ворчунья.
— Хочу!
— Чего хочешь? — не поняла сразу хозяйка.
— В детдом хочу. К ворью, хулиганью. Лучше с ними, чем с тобой… Там не воруют ребята. Дружно живут. Узнавал.
Толстые теткины губы раскрылись, задрожали. Рука поднялась над головой ослушника для подзатыльника, но надломленно опустилась. На макушку племянника был нацелен цепкий взгляд Христа. Не хотелось призывать его во свидетели скорой расправы.
— Хоррош, братец, хоррош! — негодовала тетка. — Так за хлеб-соль благодаришь? За приют?..
Не лезли в голову школьные уроки. Все сильнее под свою властную руку брала Родьку улица. Приходили дружки по спортклубу. Шли гурьбой на горку. Перемывали дорогой косточки тренеру.
— Черт фиксатый!
— Что за жизнь — не покури, не выпей, не подерись на улице.
— А если, — говорит, — в детскую комнату милиции кто попадет — башку сверну.
— Он свернет. У него не заржавеет — в тюрьме сидел.
Родька сразу невзлюбил «секретный спортклуб». Ходил потому, что некуда было податься. Противная тетка надоела. Уголок за перегородкой тоже.
Каратисты занимались в подвальном помещении полузаброшенного дома. Под облупленным потолком сняла яркая лампочка, высвечивая убожество стен, грязные матрасы-маты, две штанги, гантели, эспандеры. На веревке болталась рваная боксерская груша.
К углу был прислонен брезентовый, набитый сырыми опилками макет рослого человека.
Безустальный тренер изнурял ребят многочасовыми тренировками. Рассевшись на скамейки, каратисты колотили об их грани торцами ладоней. Колотили до онемения рук, до синяков на мякоти.
Родиона, других ребят сразу стал тревожить вопрос: почему дядя Саша делает тайну из их спортклуба. О какой секретной программе подготовки говорит? В школах такие отличные спортивные залы, а тут приходится по-кротовьи спускаться под старый, предназначенный на снос дом, барахтаться на противных вонючих матрасах.
Несколько раз тренер водил свою небольшую паству на кинофильм «Спартак». Просил обратить особое внимание на тренировки и бои гладиаторов.
— Они умели любить свободу. Я вас тоже научу любить свободу и… силу.
Фиксатый тренер крошил своей поистине гранитной рукой кирпичи, паркетную плитку. Отсекал у бутылок горлышки. Ребята пребывали под гипнозом его силы, всесокрушающих рук.
— Хотите ходить по жизни козырем — потейте тут. Ваши руки должны быть крепче хоккейных клюшек.
— Вы куда нас готовите? — спросил как-то Родион.
— Заткнись! И не задавай глупых вопросов! — Из-под заячьей губы тренера сверкнула золотая молния.
— Где шляешься? — набрасывалась тетка, когда племянник, обессиленный от тренировки, поздно вечером являлся домой.
— В школьном спортзале… к соревнованиям готовимся.
— Снег кто расчистит?
— Я утречком.
— То-то: утречком. Совсем от дома, от рук моих отбился.
Все противнее становилось Родьке подвальное логовище каратистов. Тренер распределил ребят попарно, заставлял вступать друг с другом почти в настоящую драку. Шли в дело кулаки, локти, колени, голова — ею приходилось бить напарника в подбородок. Вступали в схватку ногами без помощи рук и руками без помощи ног. Синяков, ссадин, царапин на Родькином теле было меньше, чем у других, но все же гладиаторская выучка злила, угнетала, унижала, настораживала. Раздумывал: «Тренер-ловкач заманил нас в ловушку. Подозрительный. Носит тетке какие-то вещи. Пугает: не явится кто на тренировку — башку с плеч».
Темным вечером, когда сыпался нудный снежок-бусенец, заявился к тетке дядя Саша. Пошептался о чем-то с ней.
— Попей чайку, — предложила хозяйка.
— Некогда, моя хорошая. Академик дома?
— Уроки учит.
— Родьк, а Родьк? К тебе пришли.
Вышел из-за перегородки, мельком взглянул на гостя. Он сейчас показался ему страшноватым, с какой-то большой, недоброй тайной на лице.
— Родион, помощь твоя нужна.
Ехали на «Жигулях» по темным, кривым улочкам.
— Куда мы, дядя Саша?
— На кудыкины горы, где живут воры. Не бойся.
К сестре заеду деньжат занять. Она мне дверь не открывает, боится. Сидел в тюрьме, ну и что? Разве можно теперь за родственника не считать? Подъедем. Взойдем на крыльцо. Постучим. Спросит: «Кто?». Ответишь: «Тетя Даша, вам записка от брата». Откроет. Я в дверь. Возможно, даст взаймы. Она сегодня три тыщи с книжки сняла. Шубу дорогую покупать хочет.
Подождет. Мне на «Волгу» монет не хватает. «Жигуленок» стар. Мотор плохо тянет. Машину добрую предлагают. А то утечет «Волга» и не догонишь. Пока с сестрой буду переговоры вести — стой на крыльце, смотри в оба… Так. На всякий случаи. Возьму в долг, тебе перепадет на гостинцы. Растрясется сегодня сестра-куркульша… ишь, в мехах ходить захотела…
Тренер был болтлив, весел. От него разило вином.
Подъехали к большой добротной избе. Минуты три не выходили из машины. Вокруг теплого машинного мирка выл и гудел сырой, пронизывающий ветер. На лобовое стекло сыпался липкий снег.
Свет в машине выключен. Паренек не заметил, когда тренер успел надеть вместо вязаной шапочки шляпу, напялить темные очки и приклеить пышные усы, прикрывающие раздвоенную верхнюю губу.
На Родьку глядел совсем другой человек. Скорое превращение дяди Саши в кого-то иного, незнакомого, страшного, загадочного, заставило паренька вздрогнуть.
— Не трусь, герой! — успокоил тренер незнакомым голосом. — Маленький маскарад устрою сестре. Она моей рожи пугается, авось, сейчас сговорчивее будет.
— Дядя Саша, я чего-то боюсь…
Потом все было для Родьки как в страшном, неотвязном сне. Стук в дверь. Бряканье открываемой щеколды. Тихий, резкий прием, проделанный сильным мужчиной над обезумевшей моложавой женщиной.
Парень лихорадочно дрожал на крыльце. Озирался по сторонам. Пытался убежать — ноги не повиновались.
Машина была предусмотрительно развернута в сторону, откуда пришла. Родьку поразило хладнокровие дяди Саши, когда он, снова в спортивной шапочке, без усов и очков крутил оплетенную голубым шнуром баранку.
— Вот и все… раскошелилась сестрица — отвалила деньжат. Ишь, крик хотела поднять в сенях. Пришлось стукнуть по сонной артерии. Держи! Тебе на мороженое.
Широкая зеленая бумажка сама залетела пареньку в руку.
4
«Вот тебе и кара-тэ! — терзался в тяжелых раздумьях
Родька, лежа за перегородкой на узкой железной кровати. — Ведь я теперь соучастник грабежа. Влип в историю по дурости и доверчивости».
Ждал каждую минуту — нагрянет милиция. Начнутся расспросы. Тренер припугнул напоследок: «Вякнешь кому про дело — кишки вон. «Пытать будут — молчи».
Нет мамы — все рассказал бы ей, излил душу.
Храпит тетка. Беснуется за окнами ветер. Родя протягивает к столику руку. Берет из стопки учебников верхний. Физика. В ней среди страниц хранится злосчастная пятидесятирублевка. Никогда не было у паренька столько денег. «Эх, дядя Саша, навьючил ты на меня страшную муку. Муторно на душе».
Около месяца не было занятий в спортклубе. Тренер распустил ребят на отдых. А когда в назначенный срок явились на тренировку — того дома с глубоким, сырым подвалом не существовало. Два бульдозера ровняли площадку, перемещая груды битых кирпичей, сломанных рам и кусков бетонного фундамента. В стороне валялась погнутая штанга. Из кучи мусора, словно моля о спасении, торчала изуродованная рука макета: из большой дыры виднелись опилки, и в них купался воробей.
— Разорили наше гнездышко, — вздохнул тренер. — Ничего, новое совьем.
Но свить его не пришлось. На барахолке «застукали» тетку с крадеными вещами. Потянулась ниточка с клубочка. Добрались и до тренера. Ученики-каратисты участвовали в кражах. Сбивали с голов меховые шапки. Опустошали карманы прохожих. В ход пускались приемы, переданные кучерявым учителем. О набеге на «сестреницу» дяди Саши в деле не упоминалось. Но Родька после долгих сомнений и долгой борьбы самого с собой повинился и рассказал все на допросе. Он так и не израсходовал зеленую кредитку. Перекладывал из одного учебника в другой и всегда на пятидесятую страницу. Оставался в избе один, доставал полусотенную. Внимательно рассматривал на свет матовый профиль Ильича. Удивлялся тому искусству, с каким ухитрились люди скрыть в глубине белой полоски портрет вождя. И хотя великий человек смотрел в сторону, не в глаза Родьке Карнаухову, он стыдил, осуждал, клеймил его позором. Мучительно было выдерживать такой всеосуждающий взгляд. Обманутый тренером, парень мог бы найти оправдание, но не искал его. Ни в ремесленном училище, ни на гидроузле он не раскрывал никому печальную тайну. С той поры Карнаухов никогда не рассматривал на свет крупные деньги. Через его руки прошли тысячи — честные, трудовые, добытые потом и мозолями. Дядя Саша показал черную изнанку денег, дружбы и спорта. Позже все — и деньги, и дружба, и спорт — обернулись настоящей, чистой стороной. Родька стал заниматься боксом и тяжелой атлетикой. Накапливал силу в светлых, просторных спортзалах. На беговых дорожках стадионов.
Нерастворимым осадком в душе оставалось давнишнее знакомство с тренером-каратистом. Не покидала мысль, что судьба когда-нибудь сведет их вновь не на узенькой — на широкой дороге жизни, куда Карнаухов вышел благодаря силе воли, житейскому прозрению.
Их пути пересеклись на васюганекой земле.
Не вдруг узнал Родион давнишнего знакомца. Тюрьма проиграла по нему железным смычком печальный мотив. Годы вкривь и вкось исхлестали лицо, шею резко обозначенными морщинами. Потушенный взгляд теперь не примагничивающих глаз делал выражение лица грустным и от всего отрешенным. Он прилетел на вахту из большого города. Родион с комсомольским оперативным отрядом производил досмотр вещей в аэропорту. Некоторые вахтовики пытались провезти спиртное в грелках, хитроумно сшитых поясах и жилетах.
Дядя Саша сразу узнал бывшего ученика. Злобно скривил губы. Во рту теперь сверкнуло не золото — блеснула сталь вставных зубов. Просипел в лицо Родиона:
— Давно в сыщики записался?
— Развяжи рюкзак для проверки, — хладнокровно произнес Карнаухов, словно ни к нему был обращен обидный вопрос.
— Развязывай сам…. По твоей милости я лишних два года отбухал. Взыщу с тебя за уворованную свободу.
Родион проверял содержимое рюкзака. Резиновые сапоги. Свитер. Байковые портянки. Электробритва. Детективный роман. Магнитофон.
— Что, дядя Саша, после каратэ на музыку потянуло? Высоцкий, поди, в записях?
— Голубь мира поет, воркует.
Карнаухов нажал на кнопку включения. Магнитофон молчал — кассета даже не шевельнулась.
— Да он неисправный. Кореши обещали починить здесь.
Встряхнув магнитофон, Родион услышал бульканье.
— В нем детали в жидком состоянии? По какой схеме собраны?
— Попробуй только вылей, — с хрипом пригрозил вахтовик.
Открыв крышку, члены оперативного отряда увидели вставленную в нутро магнитофона аккуратную каин-строчку, спаянную из нержавеющей стали.
— Выливай сам.
— Еще срок отсижу — не совершу такое злодеяние.
«Не вытерпел дурак, чеколдыкнул дорогой. Вот и сгубила жадность фраера, — терзал себя мужик. — Будь канистра полненька, не булькнул бы спирт, не выдал».
На землю потекла тугая струя.
Глядя на нее со стороны, хозяин магнитофона твердо порешил расправиться в скором времени с Карнауховым.
Огромным удавом ползет к котельной плеть сваренных труб: они уже откипели в огненных котлах электросварки. До позднего вечера вспыхивали над траншеей, земляным валом дивные сполохи. Родион подменял уставших сварщиков, давал им возможность поспать.
Мороз не ослабевал. Карнаухов спешил к своему временному пристанищу. Общежития, мимо которых он проходил, казались ему бесприютными айсбергами, занесенными течением в васюганские широты. Ночь давно зажгла сигнальные огни Вселенной.
Улетучилось, растворилось болезненное состояние. Парень радовался, что и на этот раз пересилил, оборол нежданно пришедший грипп. Может, он отступил, затих на время? Навалится ночью на спящего, свяжет по рукам и ногам.
Операторы в комнате спали. Дым от вонючих дешевых сигарет не улетучился. Пришлось открыть настежь дверь. После улицы, адского мороза тепло расслабило тело. Постель желанно приняла уставшего человека, по ночь не насылала на него сон.
Теснились в голове разрозненные воспоминания. Прорисовывались знакомые лица. Мелькали трубы, станки-качалки, звезды, буровые, сугробы, болота, машины — все, что изо дня в день, из вахты в вахту попадалось на глаза, запечатлевалось в мозгу.
Много больших и малых обид перегорело в душе Родиона за его двадцатисемилетнюю жизнь. И унижали. И обижали. Обманывали и обворовывали. Исчезала из кармана последняя пятерка. Но не исчезала из человека вера, что честных и добрых людей все же больше.
Он знал: сила рук будет его союзницей в жизни. Накапливал ее в себе, как накапливает влагу весенний снег.
С дядей Сашей встреча произошла за ремонтными мастерскими.
Волосы у него уже не кучерявились, свисали нечесаными космами. Смуглое когда-то лицо почернело, покрылось крупными угрями. Подошел вразвалочку с растопыренными для драки руками. Родион напряг мышцы, стал в боксерскую позу. Годы, спорт, работа сделали его крепким удальцом. Он полыхал силой. Не мог не усмотреть ее в сбитом, рослом парне бывший рецидивист. Карнаухов видел, как неуверенно, робко подходил он к нему. Остановился в метре, оценивающе посмотрел на молодого вахтовика. Неужели он ощупывал когда-то его слабые ключицы и ребра, сжимал мягкие шейные позвонки. Сейчас этот малый может сам так нажать на позвонки — шея захрустит.
— Давай сперва объяснимся, — явно тушуясь, начал дядя Саша. — Ты зачем меня выдал?
— Не хотел из-за такого подонка, как ты, в колонию попадать. Ограбил женщину. Кольца, серьги прихватил.
— Не вспоминай про дело. Что схлопотал за него — все мое было. Жил и буду жить не по библейской истине. У меня своя библия. Свой устав: рука берущего да не оскудеет. Рука дающего нынче скупа. А мне крохи денежные не нужны.
— Ты врал нам про секретный спортклуб. Школой воров — вот как надо было окрестить твое логово. Трое в колонию угодили из-за тебя. Твердил нам: кара-тэ, кара-тэ. Кара — ты. Каратист-садист. Вот кто.
— Хочешь, я тебе всего лишь одним пальцем кишки выпущу.
— Подходи! Жду! Поглядим: перешибет ли твоя плеть мой обух. — Показал крупный литой кулак.
— Зачем мой спирт вылил?
— Так ударная стройка распорядилась.
Мужик чуял нутром: начинать драку рискованно. Тюрьма, прошедшие годы, убавили в нем силенку и ранешний пыл. «Этот комсомольчик, — думал он, — так изметелит, что угри повыскакивают». Однако посчитал нужным вновь припугнуть парня:
— Ну что ж, ударник труда, ходи пока живой. Разрешаю.
— И ты ходи… пока земля носит…
Ворочается в постели Родион, вздыхает, вытирает полотенцем потный лоб. Вновь из глубины тела выплыл грипп, начинает с лежащим расправляться. Пляшет перед глазами, булькает металл. Искры мельтешат над глазницами, улетают к темному потолку комнаты. Значит, работа, мороз не отсекли болезнь — приглушили ее.
Надо думать о чем-то хорошем. Не заводить мысли в глухие тупики. В городе Стрежевом жена, пятилетний сын Лешка: лучше этих светлых дум жизнь не изобретет. Отец представил тугое, белое пузцо мальчонки. Захотелось домой. Там напоили бы его сейчас крепким чаем с малиновым вареньем. Остудили лоб нежной ладонью.
Оператор Ванюха раздражает больного негромким, но затяжным храпением, словно несмазанные шестеренки притираются друг к другу. Парень носит на шее для форса маленький алюминиевый крестик. «Спаси и помилуй» написано на нем. Тетка Родиона тоже носила крестик, даже золотой. Однако господь не спас ее, не помиловал — попала под машину. Поговаривали: сбили ее. Человек под могильным холмиком молчалив… ставится крест над судьбой и над многими тайнами.
«Спаси и помилуй». Карнаухов видел в этих словах не божественное — человеческое начало. Люди спасают себя и других от бед и напастей. Люди и никто другой. Человек — истинный служитель Земли и мира… Только он может спасти и помиловать сегодня современный, усложненный мир. Людям под силу не ввергнуть планету в жуткую бездну. Для Вселенной Земля — слободка. Уголок общей людской надежды. Другое, самое отдаленное время не сделает подобный слепок нашей Земли…
Карнаухов силится представить огромный мир без себя, своего Лешки, без доброй любящей жены. Без этой ударной стройки, где обрел много настоящих друзей и крепкую уверенность в жизни. Нет, невозможно исчезновение этого мира миров, окутанного сейчас сугробами, звездами, неимоверным холодом.
По придет же когда-нибудь весна. Перехитрит долгую сибирскую зиму. Сплавит по рекам снега и льды. В содружестве с вечным солнцем спасет и помилует новые цветы и новые травы. Помилует все людские души, заблудшие в пути, на перепутьях сложной жизни.
И с этой горячей, выстраданной надеждой Родька стал неспешно уходить из повиновения яви, погружаться в тихое, отрадное забытье.
Берега жизни

1
Матерая Обь, разбуженная теплом торопливого мая, обрадованно неслась по раздолью великих плесов. Она с каждым днем отторгала земные пределы, напористо теснила сушу, черпая в вольной жизни отраду и наслаждение.
Под взбудораженную, неудержимую воду уходили пойменные берега с кудлатыми сухотравными буграми, покосами. Скрывались тропы, тракторные колеи, низинные огороды и поскотины. Река, еще недавно живущая под нудной опекой льда и снега, обрела долгожданную волю. Сильная, она брала в окружение все, лежащее ниже поднятых вспененных водин.
Люди вновь запрягли норовистую реку на денную и ночную работу. Вольная вода несла громоздкие широкодонные баржи-гравийницы, сопровождаемые могучими теплоходами-толкачами. Их немалые измеренные лошадиные силы, соединенные с немереными силами, вложенными рекой в крепкое течение, позволяли судам вести в одном сцепе по четыре и шесть барж с гравием. Спешили в нефтяное низовье большие и маленькие самоходки, нарядные в честь открытия новой навигации. Какого добра только не было в трюмах, на палубах! С весной раскошелились снабженческие базы, спешно посылая северянам товары, продукты, грузы первого назначения.
Природа давно разрешила большой реке быть один раз в году морем. Обь использовала дарованную привилегию, не упускала случая натешиться на пути к океанским просторам.
Насторожилась, присмирела окрест лежащая земля. Сползающие с кромки Небес белейшие облака тонули на горизонте в серебристой живучей пучине. Надо было постоянно вооружаться биноклем, чтобы пристальнее рассмотреть ускользающие дали. Бойкое марево, ослепительные солнечные блики настойчиво перетирали пограничную черту воды и небес: Обь ли воспарялась, синева ли лилась на громадную, открытую взорам равнину — невозможно было разобрать. Река топила в себе все — луга и залуговья, слабые отражения вздыбленных яров, где уже расползалась плодовитая мать-и-мачеха, притесняла семейственные гнуткие тальники на пойменных чистинах. Стыли в ледяной майской воде потопленные по колено осинники, дряхлеющие уродливые осокори, густые краснотальники. Кажется, само небо погрузило в Обь нижнюю кромку безмерного колокола и чуть вздрагивает от соприкосновения с напористыми струями гордой реки.
На полюсе искрящейся синевы тешилось обворожительное солнце. Сегодня мне думалось, что оно живет не для радости всей земли, а исполняет только прихоти нарымских окраинных мест, отдает им все до единого лучика, весь выработанный гудящей плазмой жар. Два половодья — Оби и Солнца — слились сейчас в одно бескрайнее, неохватное даже приставленной к глазам оптикой. Управляемый природой мир воды и света простирался далеко. При взгляде на него испепелялись из души цепкие тревоги, растворялась в сердце осадочная порода людских обид, прощались чьи-то колкие, сказанные в запальчивой необдуманности слова.
Рядом была моя река, давно обжитая упрямыми сибиряками, прадедами и дедами ныне здравствующих здесь нарымчан. О том, что они тут жили и ценой великого труда, терпения, напористости обживали, обновляли землю, свидетельствуют не только тихие старые погосты в ельниках, кедрачах и березняках. Давних жителей тайги и рек утихомирило неуговорное время. Но остались стоять города, таежные поселения. Лежат раскорчеванные под пашню гектары, проложенные широкие тракты в сторону солнцевосхода и к сердцу Руси — Москве.
Река, теплоходы, люди спешили на властный зов Севера, как птицы, возвращающиеся в места гнездовий. И меня, уроженца Нарыма, влекло туда же, в края широкие, обжитые, обласканные светом белых загадочных ночей.
2
Обь моя великая! В какой щедрый час подарила тебя матушка-природа сибирской земле?! Путешествую в твое нефтяное низовье по первой воде и вновь испытываю внутренний трепет, безотчетную мальчишескую радость.
Наша упрямая, сильная самоходка — крошечный плавучий островок. Вольный ветер-верховичок полощет яркий флаг на мачте: он словно перешептывается с небом, солнцем, рассказывает, кто мы и с чем движемся в холодные широты. Во вместительных отсеках трюма — тампопажный цемент, глинопорошок. На палубе — железобетонные изделия, насосно-компрессорные трубы. Груз — строителям, буровикам, нефтяникам. Водный путь свыше тысячи километров. Реку Томь оставили позади. Во всю силу крепкого винта несемся разливанной Обью. А дальше предстоит свернуть с живого широкого тракта, пойти по извилистому темноводному Васюгану до Катыльгинского причала. Здесь база васюганских нефтедобытчиков. Отсюда рукой подать до известных месторождений — Катыльгинского, Первомайского, Оленьего. Нефтяники подают глубинам руку помощи и недра отдаривают их расплавленным золотом.
Давно записал в своем рабочем дневнике почерпнутые из книг высказывания Э. Хемингуэя: «…я никогда не чувствовал себя одиноким у реки…» и В. Гюго: «…реки — такой же удобный путь для мыслей, как и для товаров…». Да, реки умеют разрушать чувство тоски и одиночества. И как-то само по себе у реки всплывают на поверхность сознания различные мысли. Держатся крепко, как заякоренные бакены на воде. Памятью можно быстро навести мосты в детство, перебросить пролет за пролетом в юность, воскресить события вчерашнего дня и пятнадцатилетие!! давности.
Прокладываю свои мосты-воспоминания по северной земле. Связан с ней по родству и духу. Радуюсь деяниям земляков, обновлению окраин, интересным характерам и судьбам нарымчан. Перед глазами борьба нового со старым, ломка отживших понятий, воскрешение забытых традиций. С перестройкой жизни идет перестройка людей, их взглядов, воззрений, методов поиска места под солнцем. И хочется не просмотреть эти бурные процессы бытия, быть сопричастным к жизни, делам современников, не прятаться в крепкую личину квартирных стен. Поэтому несут и несут меня над землей аэрофлотовские крылья, вертолетные винты. А по земле и воде— теплоходы, машины, вездеходы и… ноги, не подводящие пока ни на таежных тропах, ни на болотных зыбунах.
К, вечеру тучи сгуртились, впитали черноту. Покрепчал ветер. Его протяжный, отчаянный свист влетает в рубку. Высокие волны гонят разрозненные льдины. Они кусками грязного пенопласта качаются на мутной воде, приплясывают на ее гребнях. По крутоярью на самом ветробое покосилась степа тонкоствольных деревьев. Некоторые урывают момент, отбивают поклоны реке, нашему теплоходу. О неусыпной жизни Оби говорят сильные береговые оползни. С верхних этажей яров до нижних сползает многотонная масса земли, валится подсеченный обвалом лесок.
Еще недавно тихая река
взбуриовалась, вспенилась похожей на снег пеной. Кидалась на песчаное откосье. Залепляла брызгами железобетонные плиты на палубе. Воде хотелось выйти из повиновения берегов, где еще во многих местах покоился слежалый снег, громоздились выброшенные течением льдины.
Изредка, точно гонимые ветровыми порывами, пролетали над волнистой равниной пугливые утки, скрывались за потопленными тальниками. Пузатые белые и красные бакены, зорко стерегущие фарватер, забуривались на треть в кипучие волны и, словно ошпаренные, выскакивали из них, переваливаясь с боку на бок.
Моложавый, подтянутый капитан Яков Абрамцев, не первый год входящий в собратство обских речников, пристально всматривался в хмурую даль. Его долго и нудно тяготило зимнее безделье. И вот проверенная реками душа открылась ветрам и далям.
В рубке заметно течение холодного воздуха: сигаретный дымок разрывается сразу, исчезает в щелях.
К нам на всех бензиновых парах несется широконосая дюралевая лодка. У подвесного мотора мужичок в старой лохматой — из собачины — шапке. Фуфайка тоже старая. Воротник надорван, из рукавов торчат клочья серой ваты.
Остроскулый мужичонка, приглушив мотор, приставил ко рту рупор ладоней. Пытается добросить до нас связку каких-то слов. Не перекричав ветер и шум дизеля, показал двумя растопыренными пальцами известный жест. Сотворив веером пятерню, трижды махнул ею над головой.
— Начинается! — пробурчал капитан. — Пятнадцать за бутылку предлагает.
Яков поспешно скрестил руки, отрицательно покачал головой: мол, нету спиртного, отваливай восвояси.
Растопыренная пятерня просителя четырежды красноречивым взлетом мелькнула над рыжей меховой копной.
— Тэкс, тэкс… двадцаточка обещана… растет цена… — с долей нескрываемого ехидства твердил капитан. — У-да-лец!
Мы перестали обращать внимание на нежданного гостя. Он безнадежно и зло махнул рукой, сделал презрительную гримасу и завихрил на «Вихре» к деревеньке, сереющей еле заметными крышами на левобережном косогорчике.
Провожая взглядом лодочного всадника, капитан заметил:
— Разбаловали этих винолюбов речники… в основном, конечно, сопровождающие, отвечающие за груз. Прихватят они сверх товарных ведомостей дюжину ящиков и гусарят на реке. По червонцу чистой прибыли с бутылки. Иногда больше. Сейчас прижали хвосты, но не все. Лично я этой спекулянтской пакостью никогда не занимался. Не скрою, возил знакомым мужикам водочку, но в обмен на ягоду, грибы, орехи, рыбу. Все лето, всю осень крутишься на воде и возле лесов, а попробуй заготовь что. Планы — кремневые. Грызешь-грызешь всю навигацию, ломаешь сутки на часы, минуты боишься раскрошить… Да я и горячкой денежной не страдаю. Иной от жадности рожу добела раскалит. Рвет с государства. Тянет с ближнего. Не дай бог попасть в страшное рабство рубля. Трудно вырваться из могучих, когтистых лап.
— Неужто больших денег не хочется? — подзадориваю хозяина судна.
— Пусть свалятся откуда-нибудь… распоряжусь, поди… Но богатой тетки в Америке нет. А в лотерейное и спортлотошное счастье не верю. Что руками и горбом возьму, то мое… В нашу речниковскую братию тоже ведь всякие попадают. На реках мы — казаки вольные. Иной под такое казачество и животину чью-нибудь на берегу пристрелит на мясо. Нарымский скот — особенно личный — в основном самопасом бродит. Скотину гнус зажирает, вот и тянет ее к воде, на ветерок. Хлопнут борова или овечку — ищи-свищи, кто созлодействовал. Кому не хочется шашлыков отведать?! Однажды и моей команде мысля такая явилась. Пристали к деревне, пошли к мужикам барана торговать. За одни голые деньги не согласились продать. Зато на бережку на талиновых шампурах такой шашлычок замастрячили!
В рубке мы вдвоем. Чувствуется, Яков спешит выговориться о себе, о жизни. Судьбы людские изворотливы, как и реки. Абрамцева не раз выносило на житейскую мель, стукало о причальную стенку неустроенного быта. Женат второй раз. До сих пор не уяснил, повернулось ли к нему счастье своей алмазной гранью.
Раздастся иногда в квартире звонок, скажет Яша «алло» и слышит в трубке томительную тишину, прерываемую чьим-то частым дыханием. Яков знает чьим: Звонит первая жена, желая услышать голос любимого человека. Сперва Абрамцев скоренько опускал телефонную трубку на рычаг. Потом стал насвистывать марш монтажников-высотников и песенку — «жил отважный капитан». Иногда читал одно-два есенинских стиха. В ответ ни слова. Была безответной женщина в семейной жизни. Осталась безответной после развода. В пору совместной жизни кашеварила на теплоходе «Песня». Муж механиком был. Возили по приречным населенным пунктам самодеятельных и иных артистов. Столичные дарили портреты, оттиснутые на афишах.
Везли однажды в низовье вокально-инструментальный ансамбль. Парни черноусые, загорелые и с ними две пухлогубые певички-невелички. Дорогой один чернявенький стал к жене механика «клеиться» (термин заимствую у капитана). День проходу не дает, два не дает. Лия его по лицу съездила ладошкой, вымазанной фаршем. Мужу рассказала. Обнаглел музыкантик. Не унимается. Команда терпела-терпела да и расправилась по-свойски. Культурненько, без тумаков высадила духарика на обской остров-осередыш, образованный вдоль речного русла из наносного песка. Саксофон островитянину швырнули с палубы — наигрывай комарикам марши! Лето в зените стояло, гнусу в островном тальнике тьма.
Насупленные музыканты и певички не заступались за новоявленного Робинзона. Но, когда теплоход отошел от острова, пошли всей группой к экипажу, извинились за саксофониста. «Песня» изменила курс, снова взяла на борт нагловатого музыканта.
Три навигации звенела «Песня» в душе Якова Абрамцева. Перешел на самоходку — ГТМ. Буквы расшифровывались так: грузовой теплоход мелкосидящий.
Кто-то из речников окрестил по-иному — Горе-Ты-Мое. Вообще-то горевать не приходилось. На мелкосидящем не было радиолокатора, эхолота. Зато имелся свой кран грузоподъемностью полторы тонны. Дизель сильный. Осадка судна небольшая. По речкам-вилюшкам заходили в глубинки, радовали жителей привезенными арбузами, яблоками, виноградом.
Расстался Яков с Лией и вскоре горько пожалел. Зачем мучал ее неоправданной ревностью? Зачем сперва приручил лаской, добрым обхождением, потом изводил жену постоянными обидами, колкостями, укорами? Лия умела растворять в себе едкую соль мужниных словечек. Слушает, молчит, глушит даже вздох груди. Лишь при последнем уходе сказала медленно, с четкой расстановкой слов: «Яшенька-Яша, Горе-Ты-Мое. Мелкой у тебя оказалась душонка… три фута под килем не наберется…».
Уязвила, резанула словами. Они не зарубцовываются на сердце, кровоточат раны души по ночам.
Ждет телефонных звонков. Ловит ее дыхание. Перестал насвистывать марши, читать стихи. За минуту-другую томительного молчания осмысливает прошлое и ни на что не решается. Чувствует: со второй женитьбой пристал не к тому берегу. Не хватает силенок отойти от него.
Берега жизни… Берега Оби… Всматриваюсь в ваше извилистое очертание, ускользающие контуры. Течение моих мыслей под стать речному — быстрое, с путаницей холодных струй. Не плодим ли мы сами мели в житейских водах? Не наносим ли близким людям пустых непоправимых обид? Не подтачиваем ли равнодушием, бессердечием когда-то крепкие берега семьи? Каждый развод — оползень, обрывающий корни неокрепших деревцев-детей. Ведь не от бедности и безденежья рушатся многие семьи. Неужели отгремит скоро пора золотых и серебряных свадеб?! Скороспелые браки. Скоротечные разводы. Ломка когда-то прочных стенок ячейки общества. Или с глобальным увеличением скоростей человека, как неуправляемый электрон, начинает носить по разным орбитам. Он отдаляется от своего пристанища. Порывает с чувством долга. Становится безучастным к судьбе соседа, живущего этажом ниже, к судьбе Родины.
Омертвение тканей тела — процесс естественный, подчиненный напористому течению времени. Омертвение души — явление более страшное.
Сытая, пустая, безучастная ко всему жизнь плодит мертводушных человеков. Иной ребенок — цветок семьи, — возросший на всем готовеньком, возлелеянный на почве махрового родительского эгоизма, опекаемый их неусыпными сверхзаботами, превращается со временем в шалопая, баловня, бездельника с хваткими замашками потребителя. Вещизм-тряпизм — его конек. Интересно, далеко ли и в какую степь ускачет такой иждивенец на широких спинах папеньки и маменьки?! Рано или поздно «старики» постараются сбросить сынка или дочку со своей шеи. Даже «умудрятся» обеспечить деньгами, кооперативной квартирой, машиной. Нередко все это они добудут жульническими путями, спекуляцией, казнокрадством. Такие окольные пути не всегда обрываются у дверей тюрем. При нашей халатности, при нашем попустительстве пока еще огромное поле деятельности расхитителям всех мастей. Известно: яблоко от яблони далеко не упадет. И вот от таких хватких, «сердобольных» за свой карман и свое чадо родичей выходит надежный кандидат в рвачи, в плуты, в надуватели государства. Он как-нибудь выучится. Или купит диплом. Обязательно устроится в тепленькое местечко, за которым незорко следит начальство и телеглаза. Рассказывали мне, как на одной кондитерской фабрике на всевидящий телеглаз набрасывали платок, когда подходила пора распихать по сумкам на унос сладкую продукцию цеха. Но и сладкая жизнь оканчивается зачастую горькой явью.
Давно стало бытовать выражение: «Скажи, что ты несешь под полой, и я скажу, где ты работаешь». А. П. Чехов высказался в одном из своих рассказов: «…мало ли воров переловлено от Рюрика до сегодня…». Немало, Антон Павлович. Ох, немало. А сколько не переловлено?! Корни воровства, казнокрадства, взяточничества уходят глубоко в древность. Этого века явно не хватит выкорчевать их. Петр I с одинаковым усердием боролся с расхитителями казны и с крамолой бунтующих стрельцов. Однажды, выслушивая насущные сенатские дела, царь в сердцах повелел генералу-прокурору Ягужинскому: «Напиши указ, что если кто и на столько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен…». Генерал-прокурор улыбнулся и ответил: «Государь, неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных?». Печальный, дошедший до нас анекдот имеет под собой крепкую почву. Наши органы, особенно в последние годы, небезуспешно выбивают такую почву из-под ног людей, ищущих легкую наживу. Важно в этой кропотливой борьбе участие всего народа. Чтобы не только лазейки — узкой щелочки не осталось всяческим расхитителям государственного, значит, и народного, добра.
Предпринятая новая реформа общеобразовательной школы даст мало плодов, если мы с первого класса не станем приучать детей к систематическому, не показушному труду. Тут бесценную помощь педагогам может оказать великая воспитательница — Земля. Деревенские ребята мало-помалу помогают родителям прополоть грядки, посадить, выкопать картошку, заготовить сено, у кого в семье имеются, коровы, овны. Городские дети оторваны от этого. Школы будущего мне видятся такими: при каждой заведено настоящее подсобное хозяйство, как раньше при детских домах и некоторых сельских школах. Машинный двор при хозяйстве должен иметь компактную обрабатывающую технику, агрегаты, не превышающие двадцать — сорок лошадиных сил, различный сельхозинвентарь. Почему бы не воскресить конные дворы? Ведь у детей не пропала тяга к лошадям. И верховой езде можно обучаться. И использовать животных на пахоте, сенокосе, уборке общешкольного урожая.
Далеко ли мы пойдем в трудовом воспитании в семье, если дети за каждую вымытую тарелку, за каждый пропылесосенный ковер занимаются явным вымогательством денег у родителей. Надо расширить в школах уроки труда. Оценка за него в аттестате должна быть наиглавнейшая. Как правило, бывших белоручек почему-то тянет в будущем на черные дела.
В школе Яшеньку Абрамцева величали балдой дети и учителя. Шалунишка, ротозей, драчун, выдумщик, он с великими потугами штурмовал таблицу умножения, дроби, законы правописания. Не насладившись вволю миром детских забав, Яша тяжело сносил мученичество тесной парты, требуемое безмолвие на уроках.
«Дурака жизнь доучит», — твердили учителя и с натяжками переводили мальчонку из класса в класс.
Прожив чертову дюжину лет, не угомонившись, этот сущий чертенок испепелял нервные клетки учителей. Абрамцевы жили в пригородном селе под Томском. Однажды мальчишка, сорвав клубную киноафишу, намалевал на обратной стороне такое объявление:
Внемание!
Сегодня состаитця бой племиных быковъ
езвесный мотодор Яковъ Абрамцевъ
вход за конюшъню свободный
Слова были разбросаны по объявлению вкривь и вкось. Управляющий отделением совхоза, усмотрев на афише четыре твердых знака, изрек: «Молодец! Твердый у парнишки характер. Я его после школы рабочим на скотный двор возьму».
Возле животноводческой фермы, по сельским улицам бродили совхозные толстозадые свиньи. Яша любил чесать их за ушами: хавроньи блаженно разваливались на траве, посвистывали носами, похрюкивали. Одну крупную свиноматку мальчишка разрисовал голубой краской «под такси». По левому и правому «борту» четвероногой «тачки» шли, нанесенные по трафарету, клеточки. К загривку свиньи Яшка прикрепил фонарик, огонек зажег: такси свободно. Добродушный управляющий, увидав у крыльца конторы привязанную свиноматку, и к этой забаве отнесся спокойно. Однако заставил смыть соляркой краску и отдраить с мылом породистую супоросную свинью.
Охота к книгам, учебе проснулась в мальчишке позднее, чем охота за утками и боровой дичью. Однако двоек и «колов» приносил домой больше, чем рябчиков, косачей и водоплавающей птицы. «Прозрение» началось позднее. Вечернюю школу в Томске закончил с двумя тройками. Учился на речника, словно песенку любимую пел о капитане, объездившем много стран. Все легко давалось — дизели, судовождение. В родной деревне помогал устанавливать механизацию на ферме. Управляющий похлопывал по плечу, говорил веско: «Ты, Яков Степаныч, из кумекающих парней. Раз призывают тебя на службу реки — жми в институт. В Новосибирске есть такой. Готовит инженеров водного транспорта».
И вот Яков Абрамцев третий курс заочно дожимает…
3
Ветрище заживо сдирает шкуру с реки. Самоходка пытается прижать ее всем телом-утюгом, но постоянно терпит неудачу. Не понять, какая качка сильнее — килевая или бортовая.
Повалил снег — густой, крупный, липкий. Хлопья сшибаются, вырастают до комочков. Вскоре железобетонные плиты, балки на палубе превращаются в сугробы: мы везем в неприветливое низовье островок вернувшейся зимы.
Белеют берега, увалы, полузаброшенная деревенька, что открылась за крутым изворотом. И опять протяженная серая Обь расстелила впереди огромный взбугренный плёс. Вскоре за мокрым снегом обрушивается шуршащая крупа. Наш дизель упрям, напорист, силен. Умолкни он вдруг средь белой вакханалии, и мы — игрушка в руках неистовой разгульной природы. Он не умолкает. Поэтому неуклюжий, пузатый механик блаженно потирает ладони и греется в рубке непроглядно-густым чаем.
Экипаж судна — крепкая, надежная связка, помогающая брать пики труда. Они у речников исчисляются миллионами тонно-километров. Весной самоходка торопится идти почти вслед за послезимним льдом. Глубокой осенью ей надо успеть улепетнуть от предзимнего льда, скрыться в спасительном затоне. И в этом горячем навигационном промежутке времени — рейсы, рейсы, рейсы. Не будет у васюганцев миллионов тонн нефти без тех миллионов тонно-километров.
Удачливым капитаном называют Абрамцева. Вымпелы, денежные премии, благодарственные телеграммы. Удача — не случайный осколок счастливого рока. За нее надо бороться. Не разминуться с капризным фарватером. Ужом вползать в него, минуя песчаные грядины.
Надо не столкнуться с бревнами-топляками. Не пропороть борта и днище о затонувшие трубы, плиты, сваи, оброненные при транспортировке. Надо ухитриться не посадить самоходку на мель, где можно куковать сутками. На «гэтээмке» срочный груз. Впереди лежат водные километры. А ты — песчаный пленник — сиди, смотри с тоской, как другие удачники жмут вперед, взбугривают за кормой волны. Конечно, с мели тебя снимут. При губительной пробоине экипаж выкачает воду, залатает дыру. А время? В навигацию его на вес золота ценят.
Экипаж подобрался на самоходке — душа к душе. Иные семьи так дружно не живут. Не хватает на судне Лии, но все молчат, из деликатности не будят капитанскую совесть. Дело личное — разошлись так разошлись.
Обходительной, улыбчивой, красивой была первая жена капитана. Нет солнышка на небе — Лия обворожительной улыбкой заменяла его. Попадет в ее руки дело какое — не выскользнет. Чистит картошку, моет пол на камбузе, лепит пельмени — всегда песенку примурлыкивает. С виду легкодоступна, но попробуй сунься. И стала подтачивать Яшеньку незримая тля ревности. Такого туману в башку напустит — неделю разогнать не может. Недоверие — фундамент шаткий, почва под ним зыбкая. И вот скособочилась жизнь капитана, на подпорки не возьмешь. Никто еще не поставил опыта по выращиванию искусственных кристаллов души. Человек должен сам заниматься ее кристаллизацией, воспитывать сердце под воздействием людской доброты и любви.
Сознавал Яков всю опрометчивость своего поступка, не делая шага к примирению. На судне красный уголок — рубка. Все тяжелее было появляться здесь, подходить к штурвалу. Кажется, все укоряло здесь: приборы, глядящие большими настороженными глазами, круглые настенные часы, вахтенный журнал. Укоряли бакенные огни, берега, встречные суда, не здоровавшиеся гудками с его самоходкой.
«Мелкая у тебя, Яшенька, душа… три фута под килем не наберется…»
Обидные слова бывшей жены зажигались в мозгу, как бортовые огни импульсной вспышки. На реке капитан всегда знал, по какому борту разойтись со встречным судном. В запутанной личной жизни не знал, надо ли было расходиться с любимым человеком, шедшим с тобой борт в борт.
Лия гордо сошла на безрадостную сушу. Думала устойчивый берег, пятилетняя дочка спасут от нежданного горя. Нет. Кто мог предположить: в двадцать четыре года и разведенка. Навалились тоска, думушки-раздумушки. Росла неуверенность в людях. Терзало одиночество.
Приходила на берег Томи. Вода выводила из окружения гнетущих раздумий. Здесь разгуливал ветер речных странствий — ее друг звал на север. Оставив дочку на временное попечительство старшей сестры, Лия стала половину месяца проводить на вахте.
Тогда уже велась разработка Васюганской группы нефтяных месторождений. В Катыльгу сплошным потоком шли грузы. Везли блоки буровых, вышек, опоры детали станков-качалок, связки насосно-компрессорных труб. Строился поселок вахтовиков — Пионерный. Баржи доставляли кирпич, цемент, брус, пиловочник, ящики со стеклом, облицовочной плиткой. Настоящего причала не существовало. В спешке все сгружалось в основном на левый катыльгннский берег. Он напоминал искусственные горы вулканического происхождения. Вахтовичке Лие при виде «пожарного завоза», творящейся на берегу неразберихи, казалось, что кто-то где-то терпит бедствие и все богатство второпях выгружается здесь для его временной сохранности.
Возмущение против такой вопиющей бесхозяйственности терзало ее еще в бытность камбузной начальницы. Их самоходка доставляла ценный груз до конечного пункта, и по целому дню приходилось искать приемщика. А когда находили его, злого, задерганного, безучастного к происходящему на берегу, он отмахивался от надоедливых речников: «Да ну вас! Сгружайте, где хотите!».
— Вы для чего здесь, а?! — возмущалась Лия. — Вон плиты в воду летят. Поддоны с кирпичом затоплены. Цемент на берегу затвердел, как базальт… Вы знаете, сколько один кирпич стоит? Не знаете — скажу: двадцать три копейки. Это дороже хлебной буханки. Мешок цемента знаете сколько стоит? Не знаете — скажу: четыре рубля.
Приемщик таращил на воительницу красные, воспаленные глаза, морщился, кривил губы. Резко взмахивал рукой возле небритого смуглого лица. Невозможно было понять — отмахивался ли от комаров или отсекал напрочь обвинительные слова въедливой симпатичной поварихи. Он уже привык расхлебывать густую кашу, заваренную на берегу судоводителями. Смирился с их возмущением, нареканием, угрозами.
Лия устроилась кладовщицей. В великоватых сапогах, с облупленным от солнца и ветров носом, порывистая в движениях, носилась по береговой грязи. Зубатилась с грузчиками, крановщиками, капитанами теплоходов, спешащими любыми путями избавиться от трюмных и палубных грузов, опустошить их, выбросить на берег привезенное добро и скоренько уйти в обратный порожний рейс.
Скуластый, толстогубый стропальщик, не выпуская изо рта папиросы, спросил однажды Лию при многих рабочих:
— Комсомолка, поди?
— Комсомолка. Ну и что?
— Сразу видать — е-дей-ная… лозунгами шпаришь…
— После обеда эти трубы перештабелюете. Под низ бревна. В грязь укладывать не позволю.
— За переделку двойную оплату по наряду.
— Одинарную сперва честно заработай.
— Слушай, краля, приду сегодня в балок потемну — не обмани моих надежд.
— Будь уверен, не обману.
Засыпая в полночь, Лия услышала возню у двери, бормотание, настойчивый стук. Подруга по соседней койке уже спала. Кладовщица разбудила: «К тебе ночной гость?» — «Нет».
За дверью послышалась разудалая песня. От нового стука вздрогнул балок.
Лия «обула» правую руку в еще не просушенный сапог, сбросила крючок. Резко распахнув дверь, изо всей силы боксанула резиновой «перчаткой» ночного посетителя. Хотела попасть в вытянутый подбородок, не рассчитала: отштампованная тугая подметка в соединении с грязным каблуком прогулялась по всему лицу.
Наутро стропальщик виновато прикрывал рукавичкой-верхонкой багровый, распухший нос. Косился на кладовщицу, был молчалив. В бригаде стропальщиков-грузчиков за ним прочно зацементировалась кличка Не Обмани Моих Надежд.
Несколько дней ходила Лия с тяжелой гайкой в кармане. Размышляла: «Полезет драться — в обиду себя не дам». Не лез. С воловьим упрямством штабелевал трубы, не ударив ни одну «в грязь лицом».
Однажды Лия подошла к насупленному парню, повинилась:
— Прости за удар… в моей ручонке какая сила… хотела двойной тягой…
— Да, ладно… чего уж… И ты прости: не так о тебе подумал. Другую бы отметелил. Тебя стыдно трогать — симпатяга, глазами сильно блестишь…
В одну из весен темный Васюган вздулся, посуровел. Земля будто окликнула коричневую лесовую воду, и она властно пошла на зов, удивляя устойчивой прибылью, напористостью и мощью. Шумел и шумел нудный, многодневный дождебой, топил сверху. Снизу ему подсобляла река.
Чего опасались все — случилось. Вздыбленная вода затопила поддоны с кирпичом, сваленный в кучу цемент, глинопорошок, соль, приготовленную для бурения. Бочки с хлористым калием проржавели, из них вымывало содержимое. Никто не ждал наводнения. Природа не брала в расчет людские просчеты. Плыли по Васюгану в обратном порядке, каким их доставили сюда теплоходы, сборно-разборные дома, пакеты пиломатериала, рассыпанный брус, мешки из-под буровой соли. Белела на поверхности воды отравленная рыба.
Не крикнешь Васюгану: остановись, черт, куда прешь?! А хоть и крикнешь — не послушает. Кто его сейчас осадит, ужмет в берегах?
Что могли — спасали от наводнения. Не хватало техники, людей, могущих противостоять натиску по-пластунски ползущей воды.
Видя насупленное лицо, влажные глаза кладовщицы, грузчики утешали:
— Не горюй, Лия! Чего не случается средь болот. Ведь освоение края идет. Все, что надо списать, — спишут. И что не надо — спишут. Под шумок беды на убытки пойдет… Да-а-а, оконфузил нас Васюган, страшно оконфузил.
До конца июля конфузила людей петлястая таежная река.
Не Обмани Моих Надежд радовался разгулу стихии. Анекдотничал. Острил. Хохотал. Подтрунивал над кладовщицей:
— Теперь не расхлебаешься за унесенные водой миллионы! Васюган некрещеный. С него спроса нет. Задумалась чего? Думай не думай, а на твое личико тоже лягут морщины в клеточку. Был у нас в зоне мужичок раздумчивый. Все, бывало, ходит-ходит по камере. Я ему втолковываю: «Ираклий, вот чего ты, как маятник, мельтешишь, время в заблуждение вводишь? Думаешь, если ходишь по камере, то не сидишь?! Сидишь, как миленький. И срок твой от этого на убыль не идет. Судьбу еще никто не обхитрил…». Давай, Васюганище, поддай еще хорошенько! Пусть знают людишки, как без причала жить у реки.
Лия ненавистно посмотрела на болтуна.
— Неужели тебе не жалко унесенного добра?
— Жалко у пчелки бывает. Да гори все синеньким огоньком, тони все по горло — не вздохну, не охну. Река весенне-летний проминаж делает. Ей весело. Отчего мне грустить?!
— Сгинь с глаз моих! Плохо твою рожу подметкой опечатала.
— Не вводи мою душеньку во грех — не поминай старое. Позолоти лучше ручку. Погадаю — ждет, ли тебя второй брак.
Рабочие слушали-слушали и предложили с издевкой:
— Чего тебе лапу грязную золотить?! Сходи еще разок, посватайся к Лие. Без гадания узнаешь, что к чему.
— Стропаля-стропаля! — упрекнул говорун
товарищей, — видать, застропила вас кладовщица крепко. Всегда ее сторону держите.
4
Тараним обские волны носом безустальной самоходки. Ночью идем под крупными звездами. С ними весело, охотно перемигиваются бакенные огни и зажженные по ритуалу ночи лампочки проходящих судов.
Дизель бодрствует. Не спится и мне в отведенной каюте. Встаю. Иду в рубку. Абрамцев выстаивает самую трудную капитанскую вахту — с полуночи до четырех часов утра. У штурвала стоит подтянутый, чисто выбритый, в отглаженной рубахе. Моей бессоннице рад. Просто сердечно советует:
— Не ложитесь до утра. Сон заодно со старостью действует. Спишь — стареешь шибче.
— Не слыхал о таком открытии.
— Точно говорю… — И тут же начал о другом — Вот я спервоначала думал: жизнь — простушка. Чего с ней деликатничать? Живи. Пой. Веселись. А начнет иногда судьба коленца выкидывать — тошно делается. Были годы — жил я только для брюха, для своего мещанского «я». Одевался с иголочки. Брючата, свитер, ботинки, дубленочка — все импортное… Но вот подкатил срок — душа моя тоже есть-пить запросила. Долгое время морил ее голодом. На пайке суровом держал. Пузо гладкое, душа гадкая… Повелел себе: стоп, Яшенька! Задний ход. Займись-ка собой, не оставляй свою божью душу в кювете… Пусть мои излучины жизни извилистые, неширокие, по я по ним порожняком идти не хочу… Ну занялся своей душой и чую: не могу с нею совладать. Хочу одно — делаю другое. А все оттого, что у всякого человека двойник есть. Каждый несет в себе себя и чужого. Чужак для других живет, показывает, чего в тебе на самом деле нет. Мы себе врать научились преотлично, другим — подавно. Тряхни каждого — такая окалина посыплется! Подличаем иногда, а себя уверяем в правоте. Мол, так и надо в жизни поступать. Совесть свою убаюкиваем, кутаем в разное тряпье.
Много еще на белом свете людишек, у кого душа черная и двойное дно имеет. Три навигации назад на пашем теплоходе сопровождающий ехал. Брюнет, аж на негра смахивает. Речист. Плечист. Фасонист. На нем был дорогущий костюм-тройка. По галстуку башня Эйфелева растянулась. Запонки массивные, в золоте, в камнях драгоценных — к каждой надо по охраннику ставить. Нарядился, распавлинился — даже стыдно за него. Если бы на эстраду собрался — ладно. А то ведь простой грузоохраниик. Груз, правда, в северный город везли дефицитный: растворимый кофе, цейлонский чай, колбасы копченые, шампанское, коньяк армянский. Были в трюме норковые, собольи и ондатровые шапки, дубленки и прочее добро, за которым охотников тьма.
Угощал нас отменно: всех деликатесов отведали. Раз хочешь быть щедрым паном — будь. Не нам за недостачу отвечать, если случится. Дорогой ценными градусами поторговывал: ящиков пятнадцать коньяка и шампанского спустил. По случаю сенокосной поры везде «сухой закон», поэтому за каждую бутылку звонкая монета катилась в карман грузоохранника.
Месяца через два узналось, каким гадом скрытым был наш доброхот. Подговаривал молодого рулевого, чтобы тот, будто нечаянно, борт или днище самоходки пробил. Чуть в сторонке от фарватера есть пароход затонувший. Ткнись в него, и сам можешь на дно пойти. Знать, в трюме-то нашем кое-чего недоставало, раз через пробоину водичку в него хотелось впустить. Авария. Списалось бы. За выполнение «операции» рулевому пять сотенных обещал. Готовенькие в конверте лежали. Костерил же я потом парня: «Дурак! Чего сразу команде не открылся? Мы бы того добренького подлеца не стали, как саксофониста, оставлять на обском острове-осередыше. Отстегали бы мокрой шваброй да швырнули за борт с его костюмом-тройкой, запонками по кулаку».
Вот тебе балычки! Вот тебе колбаска на угощение! У судна двойного дна нет, и душа не мерзкая, как у того сопровождающего. Оно честно и достойно воюет с водой. Не раскусили мы сразу ту сволоту. Ведь душу человеческую рентгеновскими лучами не просветишь, на снимок не заманишь, не усмотришь язву…
В силках холодной ночи бьются на далеких створных знаках огоньки. Слева и справа остаются молчаливые постовые реки — бакены. Одни, оставленные позади, сослужили нам добрую службу. Другие, возникшие впереди, сослужат.
Подъемный кран на самоходке от самого Томска опустил стрелу и спит, убаюканный постоянным плеском волн.
Вода под тяжестью тьмы загадочнее, страшнее. Но вот слабым, неуверенным крылом шевельнулся восток. До повального света еще далеко, однако ночи придется скоро примириться и уступить дорогу новому дню.
С рассветом ближе, роднее берега. Перестает тяготить разудалое гульбище волн.
К нам снова мчится лодка-быстроходка. В ней двое. Подруливают к правому борту. Парень, сидящий за пассажира, держит перед собой приличного осетренка, показывает нам товар лицом. Голова кострюка выше облезлой. ондатровой шапки парня, длинный скошенный хвост рыбины достает до колен.
— Для ухи мировая рыбка, да не продадут, — вздыхает капитан. — Водку стребуют.
Слышим из лодки бодрый бас:
— Меняемся, ребята?! Баш на баш и товар ваш. У нас полный мешок таких. Все будут ваши за дюжину, по крепкую.
— Рады бы. Не держим! — бросает за борт громкие слова Яков. — Монеты можем предложить.
— Наши монеты куры клевали, да не осилили, поперхнулись. Сами можем по четвертаку за пол-литра выкатить. Раскошеливайтесь водярой. Вон какие добрые пузанчики! — торговец с ухмылкой щелкнул толстым пальцем по тугому рыбьему брюху.
— Нету, парни, нету.
Вы что, с ума посходили?! — озлился в лодке мужичок у «Вихря». — Второй день не можем горючку для горла раздобыть. Теща померла. Поминки нечем справить.
— В таком случае кваском помяните, — Абрамцев резко захлопывает дверь, принимает вверенный мне временно штурвал.
— Беда с этими алкашами. Может, соврал про тещу, может, нет. В городе, говорят, похоронное бюро отпускает вино на случай беды. А тут где раздобудешь?.. Эх, жизня-жизня — каша-размазня. У нас к таинству смерти участливее относятся, чем к таинству рождения. Отдашь концы, и похоронное бюро берет на себя обязанности по обеспечению всем необходимым— от гроба до водки. Почему бы в районных и областных центрах не сделать бюро Рождения? Все к услугам молодых мам и пап: цветы, детское питание, пеленки-распашонки, машина, поданная к подъезду роддома. Ведь человек родился — праздник для земли…
Обиженными отъезжают нынче от нас поселяне. С глазами округленными. Врать вам не собираюсь — есть на судне заначка. По нынче и мыслишки свои я должен в заначке держать. Кто на дюральках подкатывает к нам? Простые смертные или начальство, милиция переодетая? Абрамцеву еще не расхотелось ползать по рекам. Спишут на берег, ведь с тоски сдохну. На меня, на команду Обь и дизель бурлачат, тянут к премии за безаварийность, за сверхзаданные тонно-километры. Перелопатим все плесы, доставим груз в сохранности — еще одно сражение выиграем…
С моим трюмным и палубным грузом все ясно-понятно. Получил — довез — сдал. Вот тут — капитан накрыл растопыренной ладонью место над сердцем — грузище потяжелее. Придет самоходка в Катыльгу — на берегу бывшая жена ждет. Сдам ей привезенный актовый груз, а этот, фактовый, — пятерня опять над сердцем, — она не принимает на подотчет. Так и вожу тяжесть-балласт взад-вперед. Никто в мои тонно-километры личный груз не включает…
Капитан делает большую паузу. Наверно, ждет, что я заполню ее какими-нибудь участливыми словами. Молчу. Оставляю его головушку наедине с необкатанными мыслями. Если он сам не нашел разрешения важного жизненного вопроса, что ему мои вздохи и советы.
— …Лийка неправа. Не теми футами душу мою мерила. Допустим, не морские глубины, но и не мелко плаваю. Для нее жил. Боготворил. Себя переделывал. Раз нечаянно на любовное письмецо наткнулся. На «до востребования» получила. Тогда я и востребовал от жены: говори, что и как? «А так, — говорит, — безответная любовь. С пятого класса парень по мне сохнет и высохнуть не может…» — «К чему переписка?» — «Я не отвечаю… его послания тянет читать… среди нашей прозы жизни поэзией веет от них. И где он слова такие красивые находит?» — «Дура ты, баба, — отвечаю ей, — он Пушкинские или тютчевские письма шпарит, а ты лопухи развесила…».
Дальше — больше. Пошли пререканья. Посыпались колкости. Полетели взаимные упреки. Стали всякую пакость друг в друге выискивать. Это легко делалось… Говорят, французы давно изжили чувство ревности. Могут жену с соседом на ночь оставить — не ойкнут. Ну, нет. До такой мерзости не докачусь. Мое есть мое: и жена, и рубашка моему телу должны быть близки… Лийка — привада, колдунья большеглазая. Ну и тянет на медок мух двуногих. Со всеми она сю-сю-сю. Ужимочки лисьи. Знаю: сам виноват. Распалил воображение. Развелся — не на той странице жизни закладку положил. Пляши вот теперь.
5
По разбитой, измученной колесами дороге, перевозили с васюганского берега грузы в строящийся вахтовый поселок. Тайгу и болота сперва раскроили прямой просекой. Потом сшили наскоро песчано-гравийным швом, готовясь со временем покрыть его широкими бетонными плитами. Руганый-переруганный водителями путь назывался дорогой жизни. Не выдерживали карданы самосвалов, рессоры, топливные насосы. Но грузы с перевалочной базы необходимо было возить, чтобы не замерли нефтепромыслы. Безмерные* стойкие болота отвоевали здесь у природы крепкие рубежи. Люди в борьбе стискивали зубы, забывали про ропот, отчаяние, нытье.
Золотую россыпь месторождений васюганские нефтяники собирали, зажав в кулак свою волю.
Любой водитель сорок километров волнистой дороги променял бы на четыреста верст ровной. Часто машины оказывались терпеливее людей: кое-кто сбрасывал грузы на пол пути к поселку. Слева и справа по кюветам топорщились бетонные плиты, сван. Орудийными стволами торчали из придорожных канав дорогостоящие насосно-компрессорные трубы, специальные штанги для ремонта скважин. Нередко дорожные колдобины засыпались высокопробным цементом. Колеса кромсали мешки, вдавливали в грязь серый порошок.
В жестокой погоне за километражом и количеством рейсов отдельные шоферы вели открытую грязную игру.
Долго Лии не удавалось прихватить с поличным хоть одного водителя-ухаря. Но вот на семнадцатом километре от Катыльги она увидела КрАЗ с поднятым кузовом. Подъехала на трубовозе. Открылась такая картина: поддоны с кирпичом, увлекая песок дорожного откоса, сползали в черную пузырящуюся воду. Некоторые поддоны успели утонуть в пучине вместе с кирпичами. Другие, освободившись от груза во время падения, плавали в приболотной лывине.
Шофер КрАЗа не ожидал увидеть здесь кладовщицу. Машинально включил гидравлику. Высоко поднятый кузов стал медленно принимать горизонтальное положение.
За рулем сидел Не Обмани Моих Надежд, нагловато скалил зубы. Из стропальщиков он ушел, получил почти новый самосвал. Заработки у шоферов были высокие. Лия подумала: «Неужели, гонясь за высокими деньгами, можно так низко пасть, как этот шоферюга?».
Кладовщице хотелось схватить валявшийся возле машины кирпич и разукрасить отвратительную рожу бесстыжего водителя.
— Ты только вякни, вякни только, — летели из кабины слова явной угрозы — Болот кругом топких — тьма-тьмущая. Нырнешь… нечаянно и не вынырнешь…
Лия не устрашилась запугиваний. Добилась: стоимость утопленных кирпичей взыскали из заработка шофера. На год лишили прав.
Лия в управлении и в парткоме «не пищала, не вякала». Рассказала все, как было. Потребовала должного наказания. Она же подсказала ввести дорожно-транспортные накладные. В эту своеобразную путевку вписывалось наименование груза. Без подписи приемщика груза в поселке рейс не считался выполненным. Такой строгий учет отрезвил водителей.
На трубовозах, самосвалах кладовщице приходилось «летать» над ухабами. Подбрасывало высоко, кидало из стороны в — сторону. Лия умела водить легковую машину. Не раз хотелось взять в руки «настоящую баранку», испытать себя на «марсианской» дороге. Однажды хозяин трубовоза предложил:
— Садись. Испытай вкус шоферского хлеба.
За баранку держалась цепко, как при аварии. Не вовремя прибавляла газ. Не вовремя тормозила. Впереди расстилалась дороженька, колеса успели набить ей «крупных шишек». А рослая Лия набивала в кабине головой шишки поменьше.
Ехала как-то на «Татре» пассажиркой. За рулем мужик предпенсионного возраста. Только проехали мимо Мертвого озера, оставленного слева дороги, у водителя омертвела спина. Проснулся застарелый радикулит. Успел повернуть самосвал с глинопорошком к правой кромке дороги, освободить путь. Нажал на тормоз.
— Все! Шабаш! Надо трос готовить. На прицеп возьмут.
— Зачем на прицеп? Я поведу машину.
— Ты? «Татру»?!
Бочком-бочком шофер переполз кое-как вправо. Лия «врубила» скорость, отлично привела «Татру» к медпункту. Отвезла на склад глинопорошок.
Нападали на Лию минуты знобящей тоски. Уходила подальше от причала, шумоты, садилась на берегу Васюгана. Вспомнились грубые, обидные слова Якова: «В тебе похоть подает свой звериный рык». «Врешь! Не подает! — говорила она громко уходящим струям реки. — Многие тут мылятся, да бриться не приходится…». Долго глядела на речную заверть, где бойкая вода крутила пену и сор, размышляла: «Знаю, расслабевают от одиночества женщины. Не каменные. Время упустить не хотят. Осуди их попробуй… После смерти мать-земля всех в правах уравняет. Из материнской утробы выходим, в общую земную утробушку ложимся. Жизнь — шаг. Как его правильно сделать?»
Нетерпеливо ждала прихода абрамцевской самоходки-теплоходки. Готовилась поговорить с бывшим мужем начистоту-напрямоту. Выстраивала в готовые предложения горячие, убедительные слова. Но при виде Якова порывистый голос сердца обращался в немоту губ.
Она била, терзала, мучила Якова стойким молчанием. Такая расчетливая казнь бесила капитана. Теперь он жил с Лией как бы на разных берегах. Не находилось перевозчика, чтобы доставить их друг к другу через разлив тревожащих чувств.
В речном училище курсанты изловили воришку — шарился на вешалке по чужим карманам. Бить не стали. Отвели подальше, «покормили» черноземом: «Кушай, голубчик, землицу, пока не научишься, как на ней жить». Теперь Якову, словно тоже кто-то толкал в рот липкую, проточенную червями землю и, прихохатывая, вытверживал:» «Пожуй, Яшенька, поожуй, голубчик, поучись жить».
В поселке за Лией ухаживали многие парни. Там, у Томи-реки, было их поле боя за красивую девчонку. Не пересчитать у ребят всех подглазных «фонарей», зажженных на улицах детства и юности в честь красавицы Лии. Шли годы. Оставалось меньше соперников. Уходили в армию. Переезжали с семьей в большой город.
И вот осталось два упрямца: Яшка Абрамцев и киномеханик Гаврилка Пупов. Работник клуба превосходил силенкой, красотой, но девушка чаще засматривалась на балбеса Яшу. Она не раз говорила подругам: «Будет свататься Гаврилка — не пойду за него. Лия Пупова — срам какой!»
Любовные баталии парней зашли далеко: вызвали друг друга на ружейную дуэль. Решили стреляться, стоя в обласках на расстоянии сорока метров. Отмерили на берегу рулеткой роковые метры. Спихнули долбушки на воду. Выплыли на середину реки. Расчет был прост: с зарядом дроби в теле кто-то из двоих кувыркнется в Томь. Утонул, да и все. Мало ли случайностей на воде.
Уже чешуйчато посверкивала шуга.
Яков ждал: Гаврилка струсит, запросит мира. Но он, чертенок, готовился к дуэли, как к последней неизбежной операции на пути к сердцу любимой девушки. Долго чистил ружейный ствол. Без плутовства отмерил при Якове положенную порцию дроби, засыпал в патрон, крепко запыжил.
«Дурачина! Неужели он впрямь решил меня продырявить? — раздумывал Яша. — Сказать или нет, что я буду стрелять в воздух? Лучше промолчу. Скажу — подумает: струсил, осмеет перед всеми…».
Нарушая условия дуэли, решили обойтись без секундантов. Гаврилкины ноздри хищно раздувались. Яша старался не смотреть на соперника. Явилась запоздалая мысль: «Надо было письмо оставить. Не думал, что дело зайдет так далеко».
Стояли наизготовку с поднятыми стволами. Киномеханик Пупов не своим голосом прогорланил над водой:
— Отступишься от Лийки?! Последний раз спрашиваю.
— Ни за что!
У правого уха Якова раздался легкий свист, словно пропела синица, а потом больно клюнула в шею. Дуэлянт потрогал шею: подушечки пальцев окрасились кровью. Первый взаправдашний выстрел, выпавший по жеребьевке Гаврилке Пупову, умирал в коротком эхе. Вот и эхо оборвалось. Молодую жизнь Яши выстрел не оборвал. Он, точно родившись заново, хлебнул первый глубокий глоток морозного воздуха.
«По ногам, что ли, его, гаденыша, шарахнуть? Ведь в башку целился!»
Но ружье медленно поднималось над человеком. Ствол вырастал над ним до вершин прибрежных темных елей.
Второе эхо взметнулось, побродило, осеклось.
Абрамцев перевел взгляд с небес на воду и ужаснулся: киномеханика Пупова, недавно стоящего в обласке отличной мишенью, не было перед глазами. Перевернутая долбушка лежачим поплавком качалась в крупной шуге.
Яша быстренько сел на кормовую дощечку, приналег на весло.
Увидев купальщика целым и невредимым, гребущим к берегу изо всей силы, Яша установил его обласок днищем вниз, побуксировал за пловцом. Помог ему, растерянному, окоченевшему, забраться в обортованный легкий челн.
Гаврилкины зубы выстукивали крупную дробь: такую не всыплешь ни в один патрон.
— Ррружжжье жжаллко, ттуллкка оттлличчная.
Костер на берегу излечил Попова от заикания.
— Жду твоего выстрела, тело так затрясло — обласок раскачался. Черпанул одним бортом, другим… Позволишь — свидетелем в загсе буду…
— Сви-де-тель! — Абрамцев обиженно высморкался на кучу принесенного хвороста. — Шею продырявил. Пощупай вот.
— Что-то катается под кожей. Неужто дробина? Ей-богу, влево от тебя стрелял… не целя…
— Не целя! — передразнил соперник. — У тебя, наверно, поджилки начали трястись еще до твоего выстрела. По-е-дин-щик!
— Так, вишь, Яша, дело незнакомое, страшное. Читаешь в книгах — там все просто. Зарядил пистолеты. Разрядил. Кто-то бац со скалы… Последнего момента ждал. Надеялся — сдрейфишь… Да и Лийка-стерва того не стоит, чтобы из-за нее на дно Томи нырять. Говорят, она в Томске с каким-то летчиком снюхалась…
— Заткнись! Не трепи ее имя! Не то я тебе заместо дроби пулю всажу туда, откуда ноги растут…
Долго не знали в поселке про ружейный поединок.
— Ну не дураки ли?! — осудила обоих девушка. — Никто мне из вас не нужен.
Но через год стал нужен Яшенька Абрамцев — балда, сорви-голова, дуэлянт и… любимый человек.
6
Натруженная самоходка-теплоходка из обского разлива вошла в васюганский. Третью по счету реку сечет винт. До конца пути еще далеко. И здесь механизм природы включен на полную мощь: везде майское разгулье воды, залитые луга, закустаренные островки. Бредут не перебредут плескучую ширь деревянные столбы, металлические опоры, согбенные осокори. Разбежались по скрытым сорам — пойменным заливам — гибкие тальники, переживающие веселую пору сокоброда. Под силой течения лихорадочно трясутся ивы, просительно кивают владычице-воде.
Незадачливые речники, по ошибке упустив из-под днища фарватер, заводят судно на мелководье. Кукуют на мели, переживают стыдобушку оттого, что заблудились во чистом море, доверились запоздалому огоньку, горящему на возвышении в чьей-то крайней деревенской избе. Надо много попыхтеть судну-спасителю, вызволяющему Неудачника из открытого плена подвернувшейся мели.
Васюган весь перед речниками — открытый, широкий, с петлястым ходом фарватерной глубины. Множество росчерков сделала по весенним водинам наша самоходка, но ни разу не запнулась о мель, не ославила капитана.
В холодном росплеске волн, в ровном шуме дизеля слышим неотвязный мотив: вперед, вперед, вперед.
Там, где Васюган, уговоренный берегами, сужается до своих пределов, он тих, услужлив, задумчив. Высокие лесистые увалы коренного берега чередуются с травянисто-кустарниковыми понижениями, моховыми болотами, куда вползают отвилины бесчисленных ручьев. Оползневые скосы крутобережья сплошь усеяны «пьяным лесом» — поваленным вкривь и вкось, растущим наклонно к воде или совсем утопившим в ней кудлатые макушки.
Живучие, потемнелые снега, глыбы льда, оставленные недавно раскрепощенной рекой после нашествия вод, унылый темный коряжник, крепкие строевые бревна, походя прихваченные половодьем у лесорубов, встречаются нами повсеместно,
Забираемся ближе к верховью: скатываемся с водяной пологой горки. Берега выше. Васюган уже. Трава по берегам хилая, низкорослая, словно ее вытоптали и выщипали стада коров. Вербняк успел распушиться. Покрытый зелено-серым пушком, напоминает легкую, красивую дымку. Краснопрутник набрал яркую пожарную окраску, полыхает над робкой зеленью раскидистыми пучками.
На озерах еще лежит синеватый ледок, источенный у берегов, доживающий последние деньки.
Из густого кустарника выскочил заяц. Встал столбиком, замер. Взглянув на пыхтящее чудовище с пригнутой шеей — стрелой крана, пустился наутек.
Капитан засветился улыбкой.
— Косой! Хитрюга! Ружо далеко, а то бы… Хотите байку? Гнал-гнал охотник зайца — оба запыхались. Заяц остановился, вскинул лапку, уставился на человека, затараторил: «Ппогоди, оххотник! Не сстреляй! Сперва проверь — есть ли у тебя с собой охотничий билет?… Есть? Хорошо! Взносы за октябрь уплатил? Так. Порядок. Не ранишь? Сразу прибьешь?.. Ух ты какой!» Помахал отдохнувший зайка лапкой возле своего уха. Мол, лопух ты, охотник. Сиганул в сторону — и тю-тю…
На распластанную стрелу крана неожиданно села ворона. Абрамцев торопливо включил сирену. Птица подпрыгнула, как от выстрела, и снова умастилась на крашеной укосине стрелы.
— Падла! Еще сидит!
— Ну и что?
— К несчастью. Случай знаю. Вот так же к моему знакомому капитану опустилась на «гэтээмку» черная тварь. Налетел на затопленную баржу. Пропорол борт пониже ватерлинии. В трюме комбикорма на сорок тыщ пропало. Я не суеверный, но в приметы верю.
Сирена гудела. Ворона сидела, преспокойно чистила перья.
— И пальнуть в нее нельзя — после ружье осечками замучает. Попадать из него не будешь.
Птица-«колдунья» перестала прихорашиваться, полетела бочком к низинному берегу.
Абрамцев заглушил сирену. Повернув голову к левому плечу, трижды сплюнул. Два члена экипажа, находящиеся в рубке, как по команде, тоже отплевались через левое плечо.
— На мель, даст бог, не сядем, — вздохнул капитан. — Без пробоин, авось, обойдемся. Но что-нибудь за рейс случится. Прошлым летом поймали мы заблудшую мотолодку. Привели в деревню. Хозяина разыскали. Думали: обрадуем. Ка-ак разорался владелец лодки: кто вас, таких-разэтаких, просил медвежью услугу делать? Оказывается, мужик нарочно пустил по воде старую мотолодку. С подвесного мотора детали ценные поснимал. Хотел страховку получить за «украденную» дюральку, да мы обедню испортили… Есть же деляги!.. Скоро Берендеевка. Пойдем мешок картошки купим. Картошечка-рассыпуха. Чуток переваришь, заглянешь в кастрюлю — пусто. Сплошным крахмалом на дно ляжет.
Ходко идем по берендееву царству-государству. Слева и справа бесконечные угрюмые берега, пугающие дикостью, далью, безлюдьем. Еще два-три десятилетия назад царила здесь жизнь. На берегах вдоль васюганского черноводья стояли крепкие деревни, поселки со школами, больницами, клубами. Но сселялись люди с богатой земли. Оставляли раскорчеванную под поля землицу, вольные сенокосы, урманы, болота, озера, где рыбачили, шишкарили, заготавливали грибы, ягоды.
Время постепенно вырывало из деревенских улиц избы, как зубы, еще не подточенные гнилью. Таяли полностью улицы, деревни. Волны реорганизаций смывали крепкие гнезда, свитые великим трудом поселенцев. Раскорчеванные гектары зарастали осинником, березняком. Кустарник, пустосел-дудочник глушили выпаса, сенокосы. Исчезали колхозы, рыбоартели, зверофермы.
Смотришь на старую лоцманскую карту, как звонкие слова из оборвавшейся до срока песни читаешь, названия исчезнувших селений: Новомаргино, Усть-Сильга, Волков Бугор, Качарма, Шкарино, Калганак, Муромка, Тимельга… Почти на тысячу сто километров растянулось по нарымской земле черное ожерелье Васюгана. С этой тугосвитой, длиннющей нитки годы непростительно скоро срезали многие и многие драгоценные камни — поселки, деревни, нанизанные когда-то нарымчанами на молчаливые берега. Сейчас позарез пригодились бы стертые с лица земли хозяйства для развивающегося нефтяного края. Вертолеты, самолеты, самоходные баржи не завозили бы в таком количестве, как теперь, мясные туши, цистерны с молоком, горы овощей. Нефтяникам волей-неволей приходится сейчас строить комплексы теплиц, создавать подсобные хозяйства в то время, как они бы могли всецело заниматься своей обширной нефтяной программой.
По нерадению, лености, нехватке времени отдельные районные чины плохо заботились о глубинных приречных поселках. Не стремились противостоять оттоку населения. Один райкомовский работник в беседе со мной честно признался:
— Проморгали мы некоторые крепкие поселки.
Время долго, тяжело залечивает раны, нанесенные чьими-то просчетами, недоработками. Иной руководитель до того ослеплен светом летящих инструкций, циркуляров, указаний, директив, что уже не в состоянии пустить «луч своего мнения». У нас пока еще Бумажное Море самое многоводное, самое кипящее-бурлящее. Тут составить определенную лоцию почти невозможно. Волны бумаг бьются о скалы канцелярий. Отлива почти не бывает. Одни приливы. Брызгами, пеной летят отписки, заверения: «…наладим, уточним, проверим, выполним, пересмотрим…». Дырокол выполнил свое назначение, подарил деловой бумаге парочку аккуратных дырок. Утихомиренная бумага легла в дело, или ее «сплавили» нижестоящим.
Равнодушие к земле, людям, возложенным обязанностям, низкая исполнительская дисциплина приводят к тому, что «промаргиваются» поселки, идет насмарку воспитательная работа, рушатся планы. Бумаги, бумаги. Слова, слова. Иные на трибунах так голосисты, речисты, что их в организациях производят в разряд штатных ораторов. Прислушайтесь к их голосам. Они громки, но слова воздушно-бездушны. Такой оратор сходит с трибуны, словно повинность отбыл. Потом, под «шумок своих горячих речей» добьется какой-нибудь привилегии, поблажки — премиальных, отгула, внеочередной путевки на курорт.
Знавал инструктора райкома. Он, посещая личные хозяйства, любил проверять мешалкой пойло, приготовленное коровам, овцам, «завтрак» или «ужин» хрякам. Если находил там хлебную корку, костерил хозяйку или хозяина прямо в хлеву, шумел на весь район: «Хлебом голимым кормим скотину».
Прошли годы. Мешалкина (так его прозвали) в область не выдвинули по причине тугодумности. Вот и остался «скреплять» районное звено. Когда-то ратовал против личных хозяйств. Позже горячо ораторствовал «за». Видя хозяйку, уминающую в распаренном комбикорме каравай, приговаривал многозначительно: «Корми, корми чушку лучше! Хлебец пользителен не только для человека».
Какая пользителыность райкому от этого «вечного инструктора»?
Берендеевка. Уцелела ты, матушка, на яру. Не сожгли твои избы горе-охотники. Не обломало ветром скворечники. Крыши под жестью, шифером и тесом. Гудит лесопильный цех. На берегу штабелями брус, доски, готовые двери, оконные рамы. Нефтяники получат, скажут людям Берендеевки спасибо.
Идем по новому тротуару к крепкой избе-пятистенке. Наличники крашеные. Штакетник бодрый, голубой. У отворенной калитки такой же бодрый старик в вельветовой рубахе навыпуск. Простые хэбэшные штаны свисают гармошкой над длинными голенищами чирков. Старость не успела подарить этому человеку сутулость, забросить в глубокие воды лет невод морщин. Под настороженными, прищуренными глазами гладкое, без отечности лицо.
— Че, опять по картошку?
Смотрит на капитана открыто. Тут же наполовину глаза закрываются, когда переводит взгляд на меня. Понятно: человек незнакомый. Принесло откуда-то изменчивым майским ветром — раскуси вот: кто и зачем.
— По картошку, Серафим, по картошку, — подделываясь под веселый тон хозяина, приговаривает Яков. — В целом нарымском государстве не сыщешь лучше.
— Не льсти. Лишней не сыпану… Меня, было, сельсовет запугивать принялся: сдавай государству. А катеристы что — не государство? Не в Мурлындию груза везут. Груза — нефтям. Раз выпугнули из глуби нефтя — хватай их, пока тепленькие. Люди сумели запустить ручищи в глубину, вытащить их оттель. Не один пуп развязали. Рапбазе сдашь овощь — червей в нее напустят, сгноят. У вас в гниль не пойдет: команда жоркая.
— Едят — потеют, — подтвердил капитан.
— Ну потейте-потейте. Я на картошке отпотел свое. Сгинувшей осенью сто двенадцать кулей ссыпал в яму. Привар к пенсии.
Спрашиваю Серафима:
— Берендеевкё не грозит крах?
— Какой крах? Вишь, молодеет. Четыре сруба новых. Сюда бы зубодера толкового прислали. Хлеб ладный пекут, и без зубов, емши его, обойтись можно. Но и мясо, рыбу погрызть охота. Не за свой рот пекусь. На моем любом зубу еще подковину отковать можно. Нас, старья, полно в деревне. Есть бабки и дедки, у кого зяблик меж зубов проскочит. А у кого пеньки одни во рту вместо былого леса торчат.
— В город не собираешься? — передавая пустой мешок старику, поинтересовался Яков. — Тебе, фронтовику, квартиру дадут.
— Там потолки хлипкие — зыбку не выдержат. Мой потолочек танком не промнешь. Моя зыбочка семерых выкачала… В городе хулиганья полно. На дорогах, как волки, загонным способом охотятся. Деньги у прохожих из карманов трясут. Шапки сшибают, подороже которые. Еще нечаянно голову прихватят. Но не этого боюсь. Мне что? Я уже доски на гроб приготовил. Смолой их пропитал от сыри подземной. За вас, за молодь, боюсь. Легко, игриво васюганские берега бросили. Одни земли оставили, другие пашете, урожаи карманные собираете. Осенью капусту, лук, картошку из Томска в верховье повезете. Васюган скоро от позора в другую тайгу убежит. Имей я зятя в верхах, я бы ему отписал по-стариковски, как с этой землей не но справедливости поступают… Солнце и то взор потупило. Раньше на любой огород лучи сеяло. Ныне в бурьян поглядит и готово плюнуть на людские макушки… Потучнели от сытости, от хлебной дешевизны. Водку домертва жрать научились. Тебя, Яков, наши берендеевские еще не теребили?
— Не успели.
— Припрутся к самоходке. Сороковку за бутылку предложат. Не давай, пусть хоть озолотят.
— Да и нету.
— Дорогой раскумекали?
— Не вожу теперь.
— Ох, Яшка-Яшка, катерист великий! Полкового разведчика провести хочешь. Мне-то хоть принес за картошку? Тройного одеколона нет мухоморы настаивать. На водке спробую. Сырь в тело лезет, натирушки нужны. Налетела на меня вихрем жизнь, растрясла года здоровые, оставила напоследок хворные да вздорные. Ругнусь со старухой, так, веришь ли, будто на деревенской сходке разок побываю. Отечественная война четыре года терзала, избяная — всю жизню.
— Мир почему не берет?
— Мир, Яша, берет. Языками враждуем со старухой. Скоро отвраждуем. Погост помирит…
Несли попеременке тяжелый куль. Чудилось мне: не сапоги скрипят по тротуару — раздается хруст крахмала на спине.
Подходим к теплоходу, встречаем у трапа депутацию берендеевских мужиков. Одни, нечесаный, с куриным пухом в волосах, сует капитану упитанного петуха. Присматриваюсь, вижу: у жар-птицы нет левого глаза. Мозглявый мужичок старается прикрыть страшный изъян грязной пятерней. Умоляет:
— Яшенька, голубчик! Примай! Сверх сороковки подарок. Нутро горит, будто кто огнеметом по нему поливает. Шутка ли — комариную мазь лакаем.
— Ты, Филя, какой раз безглазого топтуна предлагаешь? Ему по весне хохлаток любить надо, а ты героя уволок. Да и какое в нем мясо? Он на жилы весь изошел.
— Жирненький. Истинный бог, жирненький. Пощупай. Палец, как в сметану, лезет.
— Все, Филя, все! Кончились золотые деньки. Прошли былые времена. И не оскорбляй меня: предлагаешь сороковку за бутылку. Очумел, че ли?
— Отстань, Филька! — вперед выступил крутогрудый малый, не выпуская из рук залатанный мешок: в нем кто-то шевелится. — Лезешь со своим инвалидом. Иди, выпусти на волю. Пусть ему другой глаз в петушиной схватке высадят. У меня, Яша, существенная животная. Хватит жарить шашлыки на неделю. Прикрой, братва, сзади, бабы с берега зыркают.
Развязал мешок. Мятая кромка дерюги сползла ниже. Показался узкий конец коричневого собачьего намордника. Выплыла лобастая голова напуганного барана. Попав из темницы на свет, он попытался пожаловаться: бе-бе-бе-да. Но жесткий, еще скрипучий намордник не дал хода бараньей жалобе. В прорезь кожи тесной ременной сетки просунулся розовый язычок, слизнул скопившуюся у рта пену. Хозяин, наверно, в спешном порядке прервал обеденную трапезу страдальца. Тот не успел пережевать захваченное сено. Сейчас отдельные сенинки медленно исчезали над обиженными губешками шерстистой жертвы. «Существенная животная» билась в мешке. Парень успокаивал ее острыми коленками:
— Вудя-будя, дурачок! Хорошим людям на шампуры пойдешь. Не Мамаю отдаю.
Абрамцев сперва подумал: в мешке поросенок. Увидав барана в наморднике, обессилел от смеха. Мешок с картошкой грохнулся на землю.
По случаю воскресенья на яру толпились женщины, ребятишки, старики. Стояли, глазели на хохочущего капитана. Депутация честно прикрывала спинами не бе-бе-кающего барана. Глушитель был новый, с блестящими заклепками на узких полосках кожи. Вот сенники исчезли во рту, баран поперхнулся, кашлянул.
— Будь здоров, подлец! — хохотнул Филька и подставил к ноздрям кучерявенького пленника грязную фигу.
— Не отвертишься, Яков! За такого красавца — литровочку выкатишь.
— На сей раз, хозяин, отверчусь, — отбояривался капитан, вытирая пальцами слезы, выжатые безудержным смехом. — Дело прошлое, забытое. Выкатывал вам бочки с пивом. Водку ящиками возил, дрожжи… да лопнули вожжи… — Абрамцев хитренько посмотрел на меня, подмигнул. — Вот проверяющий из Новосибирска, из речфлота. Какая тут водка! Судовая инспекция два раза на судно наведывалась. С милицией. Проверка шла капитальная. Вся команда дышала в стеклянную трубочку. Знаете, зачем в нее дышат? Ни в брюхе, ни на теплоходе алкоголя не нашли… И к чему это вы, ребята, за бутылку треть получки предлагаете? Денежки трудовые на пустое размениваете. Поберегите. Летом по курортам разъедетесь. Пацанов своих фруктами вдоволь покормите. Чумные вы, право. Сорок рэ за горлышко. Ежели мы из Томска шли бы до Обской губы, то бутылка до сотни в цене подпрыгнула. Так что ли?
— Я-я-яшенька-а-а! Выручи! Хоть «Дэты» дай, пусть брюхо продерет, пока комары не зажирают.
Депутация загалдела разом. Поправили трап. Услужливо занесли на самоходку мешок с картошкой. Филькин петух, выждав удобный момент, больно долбанул владельца в небритый подбородок. Мужичонка бесцеремонно завинтил ему башку, умастил под крыло.
— Я тте, гад, поозорую!
Механик теплохода — его за чрезмерную полноту прозвали в экипаже «двубрюшным» — громко крикнул из открытой двери рубки:
— Капитан, на борт! Срочная радиограмма!
Отошли от берега. Повернулись к верховью. Ту-да, ту-да, ту-да — принялся вытверживать привычным говорком дизель.
— Ловко ты с радиограммой придумал, — похвалил Абрамцев механика. — Чуть не растерзали.
Мы видели, как хозяин «существенной животной» поспешно сдернул намордник, вытряхнул из мешка барана и поддал ему увесистого пинка.
Филька вытащил из-под телогрейки петуха, поднял правое крыло. Одноглазый развинтил голову, тряхнул тяжелым огнистым гребнем. Вытянув шею, петенька хотел пустить звонкую руладу. Успел пропеть сольное ку-ка. Ре-ку не дал докончить Филя — швырнул жирненького в воздух. Пока тот кривобоко и очумело летел до земли, приголубил его вдогонку облезлой шапчонкой.
С яра чья-то бойкоголосая бабенка стращала:
— Вот вернись только, вернись! Я ттебе башку-то проломлю! Покажу, как хозяйство курочить!
Ночью на меня опять навалилась бессонница. «Двубрюшный» механик не один час терроризировал камнепадным храпом. Страшными, накатными горловыми звуками он даже конфузил безобидный доверчивый дизель: его шум тонул, когда взметывался на поверхность рта и носа обрушительный каскад.
Возрастающая цена за горлышко красноречивее лоцманской карты говорила, что мы все дальше забираемся в северные широты, в болотистую глубинку. И сама природа подтверждала это. Была скупее, насупленнее, строже. Не дарила нам тепла. Насылала то ледяной, секущий дождь, то снежную заверть. Немые, настороженные дали, лесистые увалы, вползающая в повороты река лежали под тяжелым гнетом туч, словно плющились под ними, с трудом выползали из-под темных, бесформенных глыбин.
У штурвала стоял механик. Яков высчитывал по карманному календарику, совпадает ли приход «гэтээмки» с вахтой Лии. Выходило — совпадает. Глаза заискрились. Вырвался тайный радостный вздох. Всем стало понятно: ждет встречи. Ведь он в борьбе, в муках, сомнениях учил, воспитывал, пестовал свою душу. Хотел, чтобы плоды труда его не пропали даром, не сгинули, как брошенная в водоверть монетка.
Теплоход с бычьим упрямством раздвигал угрюмые берега. По первой спешной воде забирался в верховье. Ту да, ту-да, ту-да — выговаривал выносливый двигатель.
Важный от многоводья Васюган сегодня особенно желательно, беспрепятственно пропускал нас по изгибистому, тихоплесному пути…
Северная мозаика

Громкие дела
К вершинам труда коммунисты и комсомольцы томского Севера идут в одной крепкой связке, как альпинисты, покоряющие трудные горные высоты. Именно за такое настойчивое восхождение Александровский район, его люди были награждены переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, БЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Помнится мне конференция нефтяников в Стрежевом. Подводились итоги 1983 года. Принимался коллективный договор на четвертый год одиннадцатой пятилетки. Слово для выступления предоставили буровому мастеру Т. Г. Фаттахову, лауреату премии Ленинского комсомола. Возможно, боясь не уложиться в отведенные для выступления десять минут, мастер говорил скороговоркой и тихо. По залу пронесся шумок. Бывший тогда генеральный директор производственного объединения «Томскнефть» Леонид Иванович Филимонов пододвинул к себе установленный для президиума микрофон, отчетливо произнес:
— Тише, товарищи, тише! Прислушайтесь повнимательнее к этому человеку, — посмотрел на Фаттахова. — Он тихо говорит, но громко работает.
Много коллективов, работающих в тяжелых северных условиях, заявляют о себе громкими делами. Буровые бригады 3. X. Усманова, А. С. Репникова, В. А. Иванова, Т. Г. Фаттахова, Н. Я. Гайдая с большим опережением справляются с годовыми планами проходки скважин. Непотухающий огонь социалистического соревнования ярко горит в Стрежевском и Васюганском нефтегазодобывающих управлениях и в управлениях буровых работ. Общий километраж скважин, убегающих в глубь земли, исчисляется многими десятками и сотнями верст. Дистанции поистине марафонские. Только за один месяц буровнки-ренниковцы пробурили без малого восемь тысяч метров горных пород. Был зарегистрирован новый рекорд проходки скважин. За этим рекордом последовали новые.
Громкая слава идет о комплексной бригаде слесарей-монтажников, руководимой Владимиром Кузьмичом Огийко. Его награды — орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени — дань признания трудовых побед, достигнутых бригадой по обустройству нефтяных месторождений.
Буровики производственного объединения «Томскнефть» упорно и уверенно идут к стотысячному рубежу годовой проходки скважин. Эта глубина, которую можно смело назвать высотой труда, тоже будет преодолена.
Ватный соболь
Киношники торопились. До обеда они успели заснять работу операторов по капитальному ремонту скважин, вышкомонтажников. Вертолет доставил их в поселок лесорубов: там проживал известный охотник— промысловик Спиридоний Терентьевич Сухушин. Спешили к нему: известный соболятник возвратился на денек из своих охотничьих угодий помыться в бане, пополнить запасы продуктов и провианта. «Буран» стоял около крыльца весь запорошенный снегом. На широкой лыжине сидела синица и проворно клевала найденную где-то крошку мяса.
Съемочная группа зашла в избу промысловика. Над тусклым зеркалом — широченные с отвилинами лосиные рога. Слева на гобелене именное двуствольное ружье, подаренное за выполнение двух сезонных планов по пушнине.
— Вы Сухушин? — спросил хозяина сухопарый, с длинной красной шеей и острым подвижным кадыком кинооператор.
— Я Сухушин, — ответил растерянно Спиридоний Терентьевич.
— Мы будем вас снимать.
— Откуда? — с ухмылкой спросил промысловик.
— Не откуда — а куда. На экран… Эх, ружьецо какое! — восхитился оператор и щелкнул длинным пальцем по вороненым стволам.
— Памятное ружьецо, — поддакнул охотник. — Вручили мне его за большую пушнину. Получал — попросили слово сказать. Говорю: «Спасибо за подарок, товарищи. В следующий охотничий сезон даю слово промышлять лучше, чтобы пулеметом наградили…».
Рассмеялись все, кроме молодой женщины из съемочной группы: она, загипнотизированная лосиными рогами, не уяснила сути рассказанной шутки.
Хозяин предложил гостям сесть.
— Где же я вам столько пар лыж найду? — озабоченно спросил Спиридоний Терентьевич. — В тайгу ведь пойдем, к моей избушке. А впрочем, я вас на снегоходе отвезу: сзади нарты — и порядок.
— Рады бы к вам в избушку съездить, да времени в обрез, — успокоил кинооператор. — Будем снимать за поселком. Шкура соболя дома найдется?
— Как не быть.
— Вот и отлично. Сделайте быстренько чучело… ну, ватой набейте, пуговки вместо глаз… и на ветку… Вы подходите на лыжах с собакой, стреляете… соболь к ногам. Вот и весь сюжет.
— Никогда по ватным соболям стрелять не приходилось. Ну раз для искусства надо — можно и такого смастерить… Маруся, — обратился он к жене, — напойка гостей чайком с медом, потом ваты из старой фуфайки надергай.
Через час Сухушин вышагивал впереди съемочной группы, неся под мышкой набитую ватой шкурку. Насаженный на медную проволоку соболий хвост вилял за согнутой рукой охотника. Взятые из бус жены два «настоящих глаза» зорко следили за накатанной дорогой, за высокими, ослепительно белыми сугробами. Оператор передал кинокамеру ассистенту, а сам нес на плечо широкие, подбитые камусом
охотничьи лыжи.
Соболя посадили на сосну по всем правилам: любопытный зверек, распушив хвост, зорко глядел на сухушинскую собаку, которая не собиралась его облаивать.
— Усь, Грач, усь! — подбадривал кобеля хозяин, но лайка не понимала, что от нее хотят, не играла роль «для искусства». Грач отбежал к пеньку и без всякого конфуза поднял заднюю правую ногу. Выражение умных сургучных глаз говорило: «Ваша затея не для меня». Пес взвизгнул и слегка потявкал после того, как оператор больно потрепал его за ушами.
— Стреляйте, Терентий Спиридоныч, — перепутав имя и отчество соболятника, выкрикнул оператор, и камера застрекотала возле его виска.
Сухушин поднял тозовку, по привычке прицелился в соболий глаз, да вспомнил предостережение жены: бусину мою не пореши. «А ведь верно… жалко… хорошая бусина, под жемчуг». Но было поздно: сработал инстинкт — яркое соболье око разлетелось вдребезги. Сраженный метким выстрелом соболь упал с ветки и весь хвост, насаженный на медный каркас, утонул в рыхлом сугробе. Дважды убитый зверек воткнулся в снег стоймя. Он стоял, как вылезший из норки суслик, жалостливо подогнув передние сморщенные лапки. Теперь Грач не мог пережить собачьего волнения и азарта. Он налетел на ватного истуканчика, вдавил в рыхлый снег и победно лег на меховую бутафорию шерстистым брюхом. Камера трещала вовсю. Довольный кинооператор сглотнул скопившуюся во рту слюну.
Киносюжета промысловик не видел: охотился в своих обширных владениях. Возвратясь из тайги, встретил соседа — щуплого, горбоносого мужика. Он поведал восхищенно:
— В кино тебя, Спиря, казали — весь поселок смотрел… эк ловко ты ссадил соболька! Хотел он, шельмец, раненый удрать, да твой Грач — не промах кобель: прижучил в сугробе…
Жена зудила:
— Покупай новые бусы.
Сухушин вышел в сени, занес мешок. Вытащил крупную связку собольих, беличьих шкурок. Надел жене на шею.
— Дороже этой нитки бус я тебе, Марусенька, подарить не смогу.
Не шов, а ров
Мастер Вячеслав Гайдин перед обеденным перерывом пригласил электрогазосварщика Пуховикова в вагончик-конторку. Развернул клочок бумаги и положил рядышком на узкий стол сигаретный окурок и не до конца сожженный электрод.
— Что видишь, Вася? — спросил мастер недоуменного рабочего.
Тот заморгал красными, воспаленными глазами и понял все.
— Вот так и получается: свою сигарету почти до фильтра искурил, а государственный электрод бросил «недокуренным». Как же мы собираемся два дня в году работать на сэкономленном материале?!
— Электроды сыроватые, — оправдывался сварщик.
— Ты их хоть под подушкой суши, но сжигай до конца. А швы вертикальные какие у тебя получаются?! Me шов — ров настоящий: по краям подтеки, середина шва в ложбинках и ухабах. Начнешь молотком шлак сбивать — капли металла дождем сыплются. Где можно одним электродом обойтись, у тебя полтора-два уходит.
— Научусь… какие годы…
— Тебе надо было в профучилище учиться. Здесь работа требуется. Говорят, ты в спорте преуспевал, за держатель и резак редко брался… вот и итог. Пойдем-ка со мной.
Гайдин повел сварщика на объект, где стояли близко друг от друга многокубовые прямостенные емкости. Вставил в держатель недоиспользованный электрод, поднес к глазам щиток, стал наращивать шов. Ослепительное пламя озарило сварочный аппарат, переплетение труб под высоким потолком, широкие окна цеха, брезентовую робу молодого рабочего. С минуту бесновалось это залетевшее в цех солнце. Мастер передал щиток хозяину. Оба смотрели на угол емкости, где недавно кипел металл. Рядом с рваным, некрасивым швом Пуховикова красовался хоть и короткий, но до удивления ровный и аккуратный валок, Василий не выдержал, с восхищением и завистью произнес:
— Каллиграфно получилось! У нас даже мастер производственного обучения не так красиво строчил.
— Вот смотри, Василий, ты не кусочек металла на бетонный пол бросил — пять сантиметров шва не за понюх табака швырнул… Подбери с пола все щедрые электродные окурки. Хоть и некогда мне — заботы партгрупорга одолевают, заочно в институте учусь, — но что поделаешь, буду с тобой после работы по часочку практически заниматься. Надо ведь и тебе сварочную каллиграфию вырабатывать.
По кромке бездны
Сидим в теплом, настолько затуманенном от курева балке, что не только топор можно вешать: подними колун на уровень груди и клади его смело на любой сизо-голубой ворох дыма. Бледнолицый, прыщеватый лэповец Захаренко шумным выдохом студит в кружке горячий крепкий чай. Рассуждает:
— Если археологи лет этак через пятьсот будут производить раскопки на Васюганье, они наверняка отыщут мои резиновые сапоги. Утопли они в болоте в прошлом году. Еле сам выбрался из трясины.
— Археологам, помимо твоих старых сапог, будет что искать у нас, — подключается к разговору Баландин. Его приятели называют «человеком-обезьяной» за воздушные выкрутасы на опорах и проводах. — Васюган положил «на хранение» в жидкий торф тягачи, бульдозеры, трубы, машины. Извлеки-ка все из болотных недр — будет работенка сталеплавильным заводам. Ехал как-то по зимнику, смотрю: в стороне от дороги торчит из-под неглубокого снега выхлопная труба бульдозера, как перископ «подземной лодки». Возвращаюсь — ее уже газорезкой чиркнули под корень. Парни говорят: начальство приказало. Пусть, дескать, труба глаза не мозолит. Коли похоронена техника, так нечего «крышку гроба» наружу выставлять. И верно: ведь не каждого утопленника из болота вызволишь.
Захаренко пьет чай, смотрит в заиндевелое окно.
— Всем зима сибирская хороша, да только век долгий: трещит-пищит, а живет аж до мая.
— Украйну милую вспомнил?!
— Эх, Баландин! Вспоминай не вспоминай, а раз взял в жены бабу жгучую — Сибирь, теперь не разведусь. Глядишь, в Стрежевом и серебряную свадьбу справлять с ней придется. Приеду на юг, погреюсь, запасусь теплом и вертаюсь.
— В прошлом году в Пицунде отдыхал?
— Ага. На озеро Рицу ездил. Пещеры осматривал.
— Шашлыков наелся, пещерный человек? — спрашивает приятель Милованов, выпуская из широких ноздрей по охапке дыма. — Или мамонтовую кость глодал?
— Шашлыки — само собой. В совокупности, наверно, барашка два приголубил… Ну и отчаянные же шофера-абхазцы! Мчатся по горным дорогам, будто перед ними широкая магистраль. Там дороги походят на приклеенные к скалам солдатские ремни. Болтаются они над пропастями, где врастяжку, где вскрутку. Вез нас молодой черноусый лихач. Поворот крутущий, внизу, как в преисподней, речушка какая-то блестит, кустарники непролазные. Нежелательно, думаю, на эту перину рухнуть… годы молодые, пожить охота… Усач на повороте скорость совсем по сбавляет. Более того — тараторит без умолку с какой-то кудрявой девахой, опустил баранку да показывает ей пальцами, какие у него в саду крупные апельсины растут.
— Это что?! — перебивает Баландин. — У нас на стройке в Ангарске монтажник был с чудной фамилией Ниппель, так он умудрялся на сорокаметровой высоте стойку на руках делать. Балка узкая, ни слева ни справа опоры нет. Встанет на руки, чуток пройдется, да еще для форсу длинными ногами в воздухе ножницы сделает. Дважды его за такие фокусы премиальных лишали, тринадцатую зарплату не начисляли, разбирали на собрании. «Ничего, — говорит, — поделать с собой не могу. Для меня риск — тот же стакан водки… так и тянет по кромочке бездны походить. Пушкина разве не знаете: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…». Вот вам современный фаталист.
Человек-обезьяна вышел из балка, Захаренко проводил его уважительным взглядом, хмыкнул.
— Если кого надо считать рисковым человеком, так это нашего Баландина. Ведь он с одной опоры на другую по проводам перебирается. Идет по одному туго натянутому проводу, как по канату, за другой руками держится.
— Этот риск проводоходца оправдать можно, — заступается Милованов. — От нас скорейшего ввода линий электропередачи требуют. Вот и приходится иногда для сокращения минут воздушным трюкачеством заниматься. А каскадер бы из нашего Баландина отличный вышел…
Заслышав шум вертолета, мы покинули теплый прокуренный балок. К нам по морозному воздуху летела вместе с винтокрылой машиной серебристая опора.
Ярким и памятный миг
По всему миру разносятся позывные советской «красной субботы». Не представляешь весны, апреля без этого светлого праздника труда. На Васюганье он такой же радостный, оживленный, как и в самых отдаленных уголках огромной страны. Водители многотонных самосвалов, операторы по подземному и капитальному ремонту скважин, дежурные блочно-кустовых и дожимных насосных станций — все несли в ясный день апреля самую почетную и ответственную вахту — вахту ленинского коммунистического труда.
В Пионерном напряженно работал пресс-центр. Беспрестанно звонили телефоны. Заместитель секретаря партийной организации васюганских нефтяников Надежда Ивановна Ярославская, комсомольский вожак ударной стройки Иван Канна, журналист многотиражки Ахмет Чернядьев с завидной оперативностью узнавали, в каких организациях уже прошли митинги, кто выступил, что сделано в трудовых коллективах. Скоро будет выпущена радиогазета.
Сижу в депутатской комнате, где разместился пресс-центр, и, как бывший газетчик, не перестаю удивляться быстроте и четкости, с которой получают различную информацию эти бойцы идеологического фронта. Ахмет заполняет убористым почерком свой блокнот, будет готовить специальный выпуск многотиражной газеты «Томский нефтяник на Васюгане». Иван Канна, получая по телефону различные сведения, радуется слаженной работе комсомолии и молодежи вахтового поселка, на буровых и месторождениях. Надежда Ивановна благодарит какого-то начальника цеха за проявленную инициативу.
Ярославская — ленинградка. На томском Севере — пятнадцать лет. Ветеран труда нефтегазодобывающего управления «Васюганнефть». В грозном сорок первом ей исполнилось семь лет. Родители работали на оборонном заводе. Старшая сестра ходила в третий класс. Надю оставляли с четырехлетней сестренкой. Однажды узнала, что в школе ребятам выдают по чашке супа, положила посудинку в портфель, отыскала класс, где занимались первоклашки. Учительница спросила: «Девочка, ты чья? Как фамилия?» Назвала. «А ты у нас в списках не числишься». Тогда все ребятишки хором заступились за девочку: «Наша Надя, наша. И ей суп положен!». Получила порцию, есть не стала. Принесла домой. Выхлебали жидкий военный суп с младшей сестренкой.
Фильмы о блокадном Ленинграде Надежда Ивановна смотреть не может: эта хроника въявь не один месяц крутилась перед ее детскими, все запоминающими глазами. При бомбежке девочка вместе со всеми бежала в бомбоубежище и всегда по пути заворачивала в ясли-сад. Там нянечки давали ей и подружкам по малютке, завернутой в одеяльце. Так и пережидали вражеские налеты в укрытии с ясельными ребятишками на руках.
В марте сорок второго мать с тремя дочерьми эвакуировалась к дальним родственникам в Костромскую область. Ехали по ладожской «дороге жизни». Многим она стала дорогой смерти: фашистские стервятники беспрестанно бомбили, поливали пулеметным огнем. Стояли на льду солдаты с флажками, показывали шоферам путь. Колеса машин утопали в воде, перемешанной с крошевом льда и снега. Водители стояли на подножках, наблюдая за падением бомб. Надя видела: снаряд попал в машину, идущую впереди, и та разлетелась.
Отец, отправляя семью, дал матери для обмена на еду несколько бутылок спирта и кусков мыла. Вознице, который довез их до места на костромской земле, пришлось отдать последнюю печатку мыла и бутылку спирта. Помнит Надя: тетя умиленным голосом спросила при встрече: «Что тебе, детонька, надо?». И девочка ответила тихо: «Хлеба».
О, этот бесценный, золотой хлеб войны!
Советую Ярославской:
— Надежда Ивановна, неплохо бы вам на каком-нибудь собрании или едином политдне рассказать молодежи о цене того блокадного хлеба, чтобы люди больше ценили нынешний щедрый хлеб Родины.
— Да, надо бы рассказать, — соглашается заместитель секретаря партийной организации. — Помню, мать получила неслыханное богатство — две буханки хлеба. Я видела, как тут же, у хлебораздачи, некоторые отощавшие люди съедали с голоду по большому куску и вскоре падали замертво или страшно мучились.
Ярославская — выпускница Ленинградского института культуры. Закончила библиографическое отделение. Пятнадцать лет работала библиотекарем в Кронштадтском Доме офицеров. Любуюсь ее красивым почерком — она выводит в верхнем углу папки: «В помощь пропагандисту».
— Мне приходилось заниматься оформительской работой, вот и отладился почерк.
В пресс-центре на столе — «молнии», чистые пока листы «Комсомольского прожектора». Скоро все это будет заполнено фамилиями, цифрами, фактами самого горячего трудового апрельского дня. Если этот день принять за миг истории, то он — яркий и памятный миг.
Неистребимая весна
Конец мая. Лес еще не налился силой листвы. За столовой «Тайга», за коленчатыми трубами теплотрассы, опоясывающей вахтовый поселок, на фоне тонкоствольного березняка и осинника выделяются темно-зеленые мазки кедров. Деревья приземистые, ниже своих светолюбивых подруг. Природа живет ожиданием ежегодно свершаемого чуда расцвета. Даже старые сухие травы, чья песня спета еще с прошлой осени, весело шелестят на ветру, согревая под золотисто-серым пологом юную стрельчатую поросль. Обрел парусность опушенный вербняк, не уклоняется от ветра — встречает его грудь в грудь.
Мастер Семен Евстигнеев, присев на невысокий пенек, пытается запечатлеть в акварельных рисунках взросление весны. Вчера у него закончилась вахта, но он не улетел в Томск. Взял этюдник, бродит в окрестностях Пионерского, наслаждаясь музыкой майского света, яркостью заманчивых красок.
Два года назад, принимая производственный участок, Евстигнеев всплеснул руками: половина вверенной участку техники бездействовала, была неисправной, разукомплектованной. Это «недвижимое имущество» требовалось сделать движимым. Не прошло и месяца — закрутились колеса, зарокотали гусеницы.
— Любое дело надо поставить на колеса, там оно само побежит, — любимое выражение мастера.
И дело участка бежало споро.
Он долго всматривается в голубо-искристое небо, пытаясь постигнуть таинства цветовой гаммы. Солнце искусно вплело в полотно небес тончайшие золотистые нити. Не вдруг разберешь замысловатость рожденных узоров. А как передать чутко-тревожную настороженность леса? Каждая новая весна никогда не подражает весне ушедшей. Она торит свои тропы в природе самостоятельно и надежно.
— Интересное состояние в душе, — восторженно произносит художник, — хочется затоковать по-косачиному на весь этот приободренный лес… Ах ты, весна-весна — попечительница земли!.. Ведь весны не уходят, не уступают дорогу лету красному. Они незримо присутствуют в каждом из нас. Вот в этих березах и мхах, в свежем ветре и в речке Палпмке. Они неистребимы, как жизнь и природа…
Вокруг пел и смеялся хмельной, новобрачный май.
Прощай, радикулит!
Банно-прачечный комбинат поселка Пионерный в сфере обслуживания вахтовых рабочих имеет такое же первостепенное значение, как поселковая пекарня, столовые, общежития. Бесплатная баня для вахтовиков славится отменным паром-жаром. Испытываешь великое блаженство, попав с мороза, почти из Арктики в Африку. Правда, не под палящие лучи солнца — в невидимые клубы обжигающего пара. Если в руках у тебя березовый или пихтовый веник — прощайся с радикулитом и всякими простудами.
Мужичок лет под пятьдесят стоит рядом со мной на полке, постанывая, покряхтывая, нахлестывает бока и спину крупнолистным веником. Над островком жиденьких волос парильщика, словно из примятой пожухлой травы, возвышается камнем-голышом блестящая лысина.
— Говорят, американцы какой-то пояс из шерсти придумали, будто при долгой носке он радикулит из поясницы изгоняет, — делится услышанным сообщением мой голый сосед. — Хоть заокеанцы башковитые люди, я им не верю. Вот он — лучший в мире пояс против радикулита, — парильщик поднял победно веник над головой. — Мою спинушку простреливало во всех направлениях. А я против той канонады выставил вот эту березовую артиллерию. Веники заготавливаю в Петров День. Прекрасные агрегаты получаются: за восемь заходов из строя не выведешь.
— Прошли спинные прострелы?
— Напрочь… так, покалывает чуток… А шерсть, хоть и бизонью, носить бы не стал на пояснице.
И он с повой силой принялся опоясывать себя привезенным из Томска агрегатом.
Короткая исповедь
Замолк пронзительный свист вертолета, принялись истошно кричать кедровки, спеша воспользоваться короткой тишиной. Они хозяйственно расселись на макушках деревьев, долбили крепкими клювами еще неспелые шишки. Устав от утомительной кузнечной работы, оповещали тайгу о своем присутствии.
Бульдозерист Сергей Силантьев бежал в балок, доставал из-под кровати тозовку. Целился в кедровку долго, почти всегда мазал, и повариха Раиса потешалась над парнем:
— Эх ты! Тебе в бульдозер с трех шагов не попасть.
— Молчи, Раюха-краюха! А то задам тебе я сегодня баню!
— Девчонки тебя даже к балку нашему не подпустят.
— В трубу залечу — я такой.
— Твой кулачина в трубу не пролезет, не то что сам.
Силантьев забыл о кедровках. Рая радовалась: заговорила бульдозериста. Зачем убивать кедровок, птицы пользу приносят.
Сергей носил кличку Гулливер. После вахты приходил измазюканный, видя его грязное широкоскулое лицо, совсем почерневшую ложбинку под носом, парни потешались:
— Серега, отгадай: что такое нечистая сила?
— Ее нет. Они только в сказках.
— Как нет?! Нечистая сила — неумытый Силантьев.
— Ну вас к шутам, — отмахивался парень и шел к умывальнику.
Рая, проходя мимо, вскидывала густые ресницы, улыбалась, отчего ямочки на щеках делались еще глубже и округлее. Ей не хотелось уходить от парня. Стояла и крошила сухую былинку. Бульдозерист умылся, направился к балку. Девушка чуть-чуть придержала его за локоть, спросила:
— Ты откуда прилетел на Север?
— Мичуринск слышала? Я там покупаю яблоки по рублю ведро. В Стрежевом залетным ловкачам по десятке за кило помидоров выкладываю. Это разве дело?
— Уезжал бы на родину.
— Зачем?! Нарым мне по душе и по карману… да и причина есть, почему я тут.
— Какая, если не секрет?
Много, Раюха, будешь знать, скоро старухой сделаешься… Ты помнишь свой первый день приезда сюда?
Забыла что-то, — усмехнулась повариха. — Я же здешняя.
— А-а-а… А мне хорошо помнится тот день. Приземлился, пошел в деревянный аэропортик. Какой-то бородач долбанул по плечу.
— Здорово, кирюха! — сказал борода.
— Привет, коль не шутишь
— По портрету вижу: бич… работенку калымную ищешь.
— Ты телепат или придурок? Шустряк какой: по лицам о желании угадываешь.
Слово за слово. Разговорились. Три года отработал я в горячем цехе, сталь варил. Для закалки души и тела прикатил в холодный цех — нарымский край… Что это я разоткровенничался с тобой, Рая?
— Раз начал — рассказывай о своем первом дне. Чем же он был примечателен?
— Он так засел в моей башке, что теперь этот сгусток памяти ни за что не вытравит время… Моего нового знакомого звали Ярославом. О себе он помалкивал, меня пытал. Борода у него была — в беремя не заберешь. Ярослав прятал в нее слова, она от них точно косматилась и разбухала. Что-то долго мне втолковывал, я долго не мог уяснить — что. Думал о том, зачем приехал в Томскую область. От мыслей сделалось на душе жарко. Испугался, что выболтаю бородачу тайну. Зубы крепче сжал, кончик языка прикусил, глаза зажмурил — исчезло бородатое видение. Пошли в зал, заставленный чемоданами, рюкзаками, забитый людьми. На улице пуржило. Так гудело, выло, улюлюкало, точно ведьмы в белом отплясывали дикий танец. Слушал пургу и уносился в мыслях далеко-далеко.
— Почему ты молчишь? — рассердился тогда Ярослав. — На вопросы мои не отвечаешь?
— Ты разве их задаешь?
Буровик любил покрасоваться. Скажет слово — долго не закрывает рот: смотрите — какие белые зубы. Я своими похвастаться не мог. На них желтый налет, словно в царапины на эмали въелась ржавчина.
— Ярослав, ты северянин? Долго дырки в земле сверлишь?.. Натыкаетесь на что-нибудь?
— Скажи, Серега, честно: ведь ты ищешь работу?
— Угадал. Коплю сразу на «Волгу», кооперативную квартиру и на жену. Отхвачу какую-нибудь кандидатшу паук нестарую. Триста рэ в месяц — не мал золотник… Шучу, борода.
— Сергей! Дубина! Неужели ты веришь в любовь?
— Верю не верю — не твоя забота. Любовь — вещь неосязаемая. Она в груди и имеет форму сердца… Каждому она дана. Слышишь ты, борода, каждому. Ухвати! Без любви человек нищий… О чем мы с тобой толкуем? Ведь ты не понимаешь меня… Послушай, зачем ты торчишь в порту?
— В Пензу лечу. Северу ручкой делаю. Прощаюсь с ним.
— Вот те раз! А зовешь в свою бригаду. Сейчас порву твою записку к какому-то Сейфуллину. Сам устроюсь, если захочу.
Прилетел — пурги не было. Теперь за окнами колобродил такой ветрище, просто — ах! Интересно было видеть такое ожесточение ветра и снега. Рая, я уважаю любую силу, пусть в человеке или природе. Помнится, сказал я тогда Ярославу: «Тебя сегодня не унесут крылья». Экспромт ему выдал:
Крылья иметь
За плечами охота —
Свои, а не
Аэрофлота…
— Борода, — сказал я беглецу с Севера, — мне сегодня же надо попасть в Таежное. Сколько до него километров? Всего-то восемь?! Вот здорово! Поставь меня лицом к нему, только точно до градуса. Не бойся, не заблужусь. Или пойду сейчас шофера какого-нибудь уговорю. Суну в лапы четвертак — баранку в бараний рог согнет.
Ярослав поинтересовался:
У тебя в Таежном родия или любовь?
— Угадал. Иду к девушке. Дурак был, поссорился когда-то с ней… уехала… вот теперь расхлебываюсь за глупость… Нет, больше ни слова не скажу…
Борода тоже проговорился: уезжал с Севера из-за женщины. Не знаю, может, и верно поступал. Ведь есть женщины, от которых надо бежать без оглядки. Я сначала хотел рассказать буровику о своей любви, о сложностях наших отношений. Но не стал открывать душу.
— Где же, Сережа, сейчас твоя любовь?
— Там же — в Таежном. Напрасно летел к ней… Спросил шофера, который вез меня в поселок: знает ли он Нину Королеву? Он округлил голубые глаза: «Как же Нинку. не знать?! Мой братень на ней женат. Только теперь она Евстигнеева».
— Давно ли свадьбу сыграли?
— Не очень. Голова еще толком в поправку не вошла.
— Слушай, браток, — сказал я тогда шоферу, — поворачивай оглобли… я бумажник забыл в гостинице…
— Мочи нет жить неподалеку от Нины… жить и мучиться…
— Уезжал бы к своим яблокам в Мичуринск.
— Нельзя. Мечтал на стройке большой поработать… Любовь потерял, нефтепровод оставлю — совсем тошно жить будет. Подожду, может, рассосется в груди… Возьму вот с тобой с тоски задружу.
— С тоски, Сереженька, не надо. Заболею еще я от тебя тоской, кто вылечит от такой напасти?!
Они поднялись с валежины, пошли к городку, не слыша ни крика кедровок, ни гудения антенны, ни порывов ветра, шумящего в кронах. Углубленный каждый в себя, может быть, думая друг о друге, они медленно проходили по узкой песчаной дорожке. Перед балком Сергей тронул девушку за плечо, попросил:
— Ты не рассказывай никому… ведь тебе первой поведал…
Страстишка
Собирает бабушка на берегу Пасола травку с желтыми цветочками, похожую на зверобой. Срежет ножичком и в матерчатый белый мешочек складывает.
Спрашиваю:
— От какой болезни травушка?
Поправила снежок волос под простеньким платком в горошек, посмотрела испытующе. Дескать, можно ли тайну доверить незнакомому человеку? Промолчала.
Сорвал несколько трудноломких цветоножек, подаю скрытнице. Отмякла взглядом, произнесла почти шепотом:
— От сглазу травка… душелюбка называется.
Не слыхал про такую. Зимолюбку знаю, помогает при больных почках.
— Отвар пить надо или под подушку класть?
— Над изголовьем молодых пучок должен висеть.
— Пожилых разве сглаз не берет?
— Дурной глаз больше юных да малолетних портит… Я в Стрежевой ко внучке замужней приехала. Год с мужем душа в душу жили. Раздор не брал. Деньги не делили. Степан ее из Томска приехал. На химбинате робил. Потом завахтил. Он у внучки-то второй. Первый был вахлак, не приведи господь. Псих. Напьется, пластинки крошить начинает. Так Зыкину искусал, Райкина, эту, как-е — Пу… Пу…
— Пугачеву?
— Во-во. Хорошая такая пластинка, про розы. Машенька песню эту слушать любила. Степан попервости был самостоятельный. Пил не до донышка. Чего бы не жить, правнучка моего Ванятку не ростить?! А все змея заоконная виновата. Живет спроть их дома на четвертом этаже разведенка длинноволосая. Есть у ней страстишка— в биноклю окна чужие разглядывать. Догляделась. Сглазила парня. Маша его от окна отгоняет, он нарочно круть-верть, круть-верть. Да в трусах, да грудь колесом. Жена шторы начнет закрывать, муж рычит: «Ты чего солнце уворовываешь? На Севере и так тепло по карточкам выдают, пусть лучи гостями у нас будут». Говорю внучке: «Иди, разбей биноклю у бабенки. Нечего чужое счастье через стекло к себе приближать». Смеется, отмахивается… Вот душелюбку собираю. Поможет, нет ли — бог весть. Может, Степка-то вином зашибать меньше будеть да перестанет, негодник такой, у окна крутиться.
Передаю бабушке пучок душелюбки. Насобирал во время ее короткого рассказа.
— Ты себе возьми. Мало ли что — авось, пригодится.
— Ведь она молодых спасает.
— Не спеши в старики записываться. Приходит и в твои лета любовная маята. Маленькие-то вы все за подол материн держитесь. После бабий подол вас держит.
Пытаюсь заглянуть в ее глаза, где иногда скрываются призраки былых страстей. Травница умело маскирует взгляд, старается стоять ко мне в профиль, наклоняет голову к душистому, разнотравью. Вижу нос орлицы, щеку почти без морщин, большие разомкнутые губы.
Собираюсь уходить. Желаю крепкого здоровья.
— Крепкое-то прошло. Изнашиваю остатнее… Зрение садиться стало. Пришла нонешней весной в полклинику, прошу: «Пропишите очки». — «Ваша карточка?» Не поняла, глаза таращу. «Скажите номер вашей карточки?»— спрашивает молодайка. «Не знаю, — говорю, — впервые у вас». «Сколько вам лет?». — «Ко второму Спасу семьдесят семь жахнет». Разулыбалась девочка, зубик золотой блеснул. Повела меня к очному врачу.
Подобрали стекла. Теперь библию читаю — буквы с тараканов…
Эх, если бы у всех было такое остатнее здоровье!
Приданое
У приземистого вагончика-диспетчерской, где проводится оформление заявок, запись вахтовых рабочих, стоит худощавый парень в потертом плаще. Курит. Выходит молодая женщина, сообщает ему: записалась на Вах. Ей лет тридцать. Нос вздернут. Губы тонкие в малиновой помаде. Поправляет плотную шерстяную кофту ручной вязки, трет кулачком маленький подбородок. Подошли к газетному киоску, напротив здания Стрежевского аэропорта.
— Надь?!
— Че, Сереженька?
— Сколько так можно? Ты на Вах, я в Пионерный.
— Устраивайся в наше управление.
— Нет, Васюган не оставлю.
— Замкнутый круг.
— Давай разомкнем: поженимся. Тебя к нам переведут. Узнавал — операторы нужны.
Прищурилась, посмотрела на парня с обворожительной улыбкой, положила руку на его плечо.
— Зрение от электросварки не потерял? Не видишь разницу лет? Да ты еще и для мужа не созрел…
— Не обижай, начальник! Я к тебе по-серьезному.
— И я по-серьезному говорю: нажилась замужем. Раз судьба на волю выпустила, дай полетать, свежим воздухом подышать. Деньгами не бедствую. Приданое у меня большое…
— О чем речь?! И я к тебе не с пустыми руками явлюсь. На книжке четыре тыщи восемьсот. Твое приданое да мое — капитал целый.
— Где, Сережа, таких наивных делают? У меня ведь особое приданое: двое детей. Не говорила тебе о них раньше. Напоследок берегла снаряд.
Парень поперхнулся дымом. Швырнул окурок в траву.
— Задала ты мне задачку… с двумя неизвестными. За пятнадцать дней вахты, может, решу.
— Решить-то решишь, да с ответом моим не сойдется…
Объявили посадку на Вах.
Эй, дубинушка, ухнем!
На строительной площадке стоял бездействующий автокран, сиротливо опустив длинную стрелу. Перевернутым вопросительным знаком висел на тросу стальной гак. Крановщик второй день не мог устранить поломку. Кто-то набил травой его старую мазутную робу, вздернул на гак. Пришел из ремонтной мастерской, увидал — озлился. Сорвал чучело, вытряхнул траву. Изорвал робу на обтирки.
Прораб Перегудов, счищая сапогом с сапога комья грязи, спросил крановщика:
— Когда оживишь машину?
— Деталь точат, — буркнул сухощавый мужичок, проверяя пинком переднее колесо.
Перегудов собрал бригаду. Расселись в бытовке на почерневшие скамейки.
— Вижу, без песни у вас дело плохо идет. Лениво брус, кирпичи вручную перетаскиваете. Я попросил машинистку отпечатать десять экземпляров «Дубинушки». Разучите сегодня же русскую народную песню. Чтоб все без исключения знали наизусть. Это известный гимн ручному груду. Получим, крановщику — первый экземпляр. Приказываю вместе с плотниками и каменщиками исполнять, когда техника простаивать будет. Есть и музыкальное сопровождение.
Включил принесенный магнитофон. Горным потоком грянул мощный шаляпинский голос:
…Ээй, дубинушкаа уухнем!..
— …Ухнете сегодня на второй этаж пачку бруса. Крановщик подсоблять будет. На один ведь наряд работаете…
Через два часа кран бегал по стройплощадке рысью. Первый экземпляр «Дубинушки» прикрепили в бытовке рядом с годовыми обязательствами. Там, в седьмом пункте, говорилось: «Сократить до минимума ручной труд».
«Нет счастья в жизни»
Такая наколка была на руке водителя «Татры» Еременко. Когда надевал рубашку с короткими рукавами, синие слова походили на свисающую с кромки материи бахрому. Парни язвили:
Возьми карманный фонарик, поищи свое счастье.
— Тебе какую надо фортуну — денежную или женскую?
Еременко просили сказать: «Я получил в месяц четыреста пятьдесят рэ». Рэ у него походило на «ррр», будто он рычал на заработанную сумму. Ребята хохотали: «Хохла большим заработком не испугаешь».
Наколке он был не рад. Навел ее один «бродячий художник» за пять пачек сигарет и три кружки пива. Согласился сглупа. Терпеливо переносил «укусы» трех связанных иголок. Лакнет жало синюю тушь, вонзится в тело. Парень, переживающий тогда щенячий возраст, пробовал для храбрости кривить улыбку. Противна теперь ему эта наколка, содержание ее, потому что пришлось испытать и семейное счастье, и счастье сурового северного труда.
Принялся потихоньку срезать наколку лезвием бритвы. Выжигал горючей серой. Вытравливал кислотой. Чуть-чуть не получил заражение крови.
Теперь на месте наколки бугристый продолговатый шрам. Сквозь него проступают упрямые синие точки. С опозданием надоумили парня: «Чего дурака свалял, руку изуродовал?! Говорят, сейчас в косметическом салоне легко наколки сводят».
Всем, имеющим различные «художества» на теле: выколотые перстни, звездочки, имена, годы, якоря, солнечные полудиски с лучами, «глубокие» изречения, могилы с крестами, Еременко хочет сказать так:
— Братцы! К чему все это?! Чистая кровь не нуждается в красителях. Человеческое тело должно быть телом — не доской объявлений, не рисовальной бумагой. Предостерегаю: берегитесь ядовитого жала обмакнутых в тушь иголок! Наколки въедаются в кожу, в душу. В минуты раскаянья не сбросишь, не сотрешь их. Тяжела и утомительна постоянная носка ненужных, ветхих «нарядов».
Братцы! К чему все это?!
Смена декорации
В шестьдесят восьмом общежитии Стрежевого свободные от вахты парни пили дрянненькое винцо «Агдам». Сухопарый, с большим кадыком Авдюхин имел сиротское выражение лица. Собутыльника Фасеева от ужина всухомятку мучила икота. На столе — крупно нарезанный хлеб, открытая консервная байка ставриды, плавленый сыр, пачка «Беломора», зажигалка, растрепанный журнал, пущенный на «салфетки». Парни забавлялись. Авдюхин запускал под стол длинную руку, стучал по столешнице козонками пальцев. Приговаривал:
— Тук-тук!
Подавив икоту, напарник спрашивал весело:
— Кто там?
— Агдам.
— Сколько грамм?
— Восемьсот.
— Впустить! Налить!
Из-под стола извлекалась новая зеленотелая бутылка.
В комнату постучали. Фасеев хотел по привычке спросить: «Кто там?» — но опомнился, пробасил:
— Вваливайся!
Вошла застенчивая молодая женщина, представилась:
— Учительница вечерней школы — Гаврилова.
Растерянные сотрапезники вскочили, пододвинули гостье стул.
— Чем можем быть полезны? — Авдюхин прикрыл газетой следы пиршества.
— Записываю молодых рабочих в вечернюю школу.
— Не по адресу… ик-ик… обратились. У нас с Федькой Авдюхиным шестнадцать классов… ик-ик… на двоих.
— Или восемь на одного? — улыбнулась учительница.
— Знаете арифметику, — осклабился Федор. — Нам хватает образования, чтобы получать в месяц по четыре сотенных… чистыми. Нынче с дипломами в рабочие бегут. Ромбик есть, денег нема… припирает…
— Мне ли вам, ребята, говорить, что не все рублем измеряется. Знания возвышают душу, вырывают ее из плена скучной обыденщины…
«Скорее бы ушла. Выпить хочется», — сверлила обоих мыслишка.
— … Вы сейчас ходите по околице. Неужели нет желания заглянуть в открывающийся за горизонтом мир?
— Нагляделись с вертолетов на все миры и горизонты…
— Я, между прочим, ик-ик, в Анапе и в Болгарии был…
— Напрасная агитация.
— Ну что ж, приятного аппетита! На всякий случай оставляю адрес школы и телефон директора. Если надумаете…
После ухода учительницы парии повертели в руках лощеную бумажку, придавили ее бутылкой вина.
— Нашлась тоже… ик-ик… горизонты, наука…
— Молчи! Она права, — Авдюхин шумно сдунул пепел с папиросы. — Кто тебя за язык тянул: шестнадцать на двоих. Ишь уравнял! У меня девять. У тебя семь. Заимей в мозгах две новые извилины, потом равняй..
Прошло два месяца. То же общежитие. Та же комната на третьем этаже. Те же действующие лица. Декорация переменилась.
На столе — стопка общих тетрадей, книги, атлас мира, логарифмическая линейка.
Авдюхин морщит красный лоб, «вгрызаясь» в какую-то двухэтажную формулу. Изредка для отдыха мыслей стучит козонками по столешнице.
— Тук-тук!
Дружок, не отрывая взгляда от книги, спрашивает:
— Кто там?
— Агдам.
— Пошел вон!
И снова вдумчивое чтение, полет к иным, не вертолетным горизонтам.
Летуны
Нефтегазодобывающие управления Стрежевское и Васюганское находятся в одном здании. У крыльца двое мужчин лет сорока ведут неторопливый разговор:
— В какое НГДУ махнем?
— Давай на Васюган. Говорят, в Пионерном житуха хорошая. Горячая вода в общежитиях. Бильярд. Цветные телевизоры. В столовых мясо постоянно. Хлеб в пекарне вкуснющий выпекают — кореш угощал.
— А на Вахе рыбалка хорошая.
— Из Пионерного в Томск самолеты напрямую летают.
— До Ваха дорога хорошая: сто верст и все плитами.
— Закрывай глаза. Крути пальцы. Сойдутся два раза — выбираем Васюган.
Не сошлись. Пошли устраиваться в Стрежевское НГДУ. Каждый нащупывал в кармане свои «корочки». Специальностей много: сварщики, слесари, монтажники, трактористы.
К великому огорчению, обоих не приняли на работу ни в одном управлении. В отделе кадров, полистав трудовые книжки, разбухшие от вкладышей, ставили безошибочный диагноз: летуны.
— Ваши рабочие не летуны, что ли?! — напирали обладатели «корочек». — Тоже во все концы летают — вахты из Томска, Новосибирска, Целинограда, Павлодара, Омска, Донецка…
— Наши летуны особые — стрежевского неба, — отвечали им. — А вы весь Союз облетали, не нашли себе постоянного рабочего места.
— Обещаем по три года не срываться с якоря.
Но якорь у томских нефтяников брошен не был.
В фонд Жизни
Идут молодые вахтовики в сберкассу, переводить в Фонд мира добровольные денежные взносы.
— Внесу 25,— говорит коренастый Семенов, неуклюже переставляя по бетонным плитам великоватые резиновые сапоги.
— Гри-и-ша! Ведь у тебя дед погиб под Варшавой, — напоминает приятель, перекладывая сетку со свежими огурцами из правой в левую руку. — Деду-то всего двадцать восемь было…
— Переведу сорок, — после короткого раздумья и глубокого вздоха повысил сумму Семенов.
— Гри-и-ша! У бригадира нашего отца убило.
— Ладно. 60 и точка!
— А сколько наших земляков-сибиряков полегло?!
— 80!
— Про двадцать миллионов погибших соотечественников не забудь. Мы же, считай, сейчас в фонд Жизни пойдем переводить деньги.
Семенов воодушевился.
— Давай по 120! Чего нам мелочиться?! Это же сумма премиальных за два месяца.
— Округляй до 150. Будет мир — будут у нас новые деньги.
Тщательно вытерли сапоги.
Торжественно зашли в сберкассу.
Хитрое завещание
Два праздника — добычу миллионной тонны васюганской нефти и стомиллионной стрежевской — водитель КрАЗа Андрей Сухоруков отмечал в ресторане «Сказка». В общежитии улыбался до ушей и ворчал на ребят, почему они равнодушны к таким важным событиям.
Сосед но комнате Горкасспко, родом с Полтавщины, скосив на шофера маленькие зеленоватые глаза, ехидничал:
— Дурак ты, Аидрюха! Радуешься невесть чему. Что, тебе богатая тетка миллион в наследство оставила?!
— Ничего ты не понимаешь! — не теряя веселого расположения духа, совестил черноусого пария Сухоруков. — Если ты землю теткой считаешь, то она и тебе кое-что припасла в наследство. Оставила она всем нам хитрое завещание: возьмите, дескать, мои миллионы нефтяные из-под болот и тайги. А-а-а? Уяснил?!
— Спи, миллионер!
— Нет, вдумайся в цифру, захолустная твоя душа! Первый миллион васюганской нефти! Родился он 20 мая 1982 года. Даже время точнейшее зафиксировано — 16 часов 50 минут. Миллион?! Потом их будет много, но первый! Это же единица и шесть нолей по соседству!
— Ты единица или ноль? — гнул свою линию Горкасенко, доставая пальцами из стеклянной банки консервированную сливу.
— Я-то?
— Да, ты-то.
— Я, может, точка после этой цифры. Высыпал последний самосвал песка на площадке под новую буровую вышку — и поставил этим точку.
— Ро-ман-тик!
— Хочешь, врежу?! — соскочив с кровати, подступился к скептику Андрей. — Не додай тебе копейку в получку— бухгалтерию передушишь. Приехал со своим безразмерным аршином северные рубли мерить. У одной
«Татры» душу вытряс. За другую примялся. Крутить баранку и осла можно научить. Эта машина знаний требует. Сам ты ноль пустостенный!..
Напуганный неожиданным оборотом дела, Горкасенко молчал, выпучив на водителя боязливые глазки. От волнения он не мог выдавить зубами и языком косточку из сливы. Она торчала за щекой большим бугристым нарывом.
— Ты мой миллион не трожь! — ворчал, укладываясь в постель, шофер. — Мне его не тетка — мать-земля дала… там их еще много… да, много… все наши.
Причащение
Бывший таксист Ефремов везет меня на КрАЗе из Катыльгинского песчаного карьера в Пионерный. Разговорились.
— Я «Волгу» на Васюган променял. Не жалею. В городе светофоры, клиенты, гаишники замучили. До сих пор дверцы в голове хлопают… Выполнял раз необычный заказ: привозил для церкви три ящика кагора. Это вино у церковников за кровь господнюю сходит во время причащения. Подают его к обедне с кусочком просвиры… Ладно. Везу. На первом сидении заказчик в черном одеянии. Глаз со счетчика не сводит, вздыхает. Думаю: «Ах ты, церковная крыса, копейки считаешь! Или приход обнищал? Пузо-то у тебя, чай, не воздухом накачано?!». Ладно. Приехали.
Помог из багажника ящики выгрузить.
— Можно, — басит служитель, — с тобой кагорчиком рассчитаться?! После работы «причастишься» с устатку.
Отвечаю:
— Завтра на Север еду. Там васюганской нефтью причащусь. Господняя кровь жиже земной… Плати по счетчику и прощай!
Мимо с коротким рыком проносятся порожние «Татры», КрАЗы, трубовозы.
Смотрю на кованые, в рыжей шерсти, руки водителя. Думаю: они по крепости не уступят тому материалу, из которого отлита черная отполированная баранка. Везем песок для отсыпки дороги на Оленье месторождение.
— … Вот еще случай был, — вспоминает Ефремов, гуднув встречной машине. — Вез морского офицера. Стал он рассчитываться полусотенной бумажкой. Я ему всю выручку на сдачу сбагрил. Новая такая денежка, хрустит, как лист капустный. Стал после смены ее из кармана вынимать: вместо одной — две ассигнации в руках. Так плотно притиснуты были раньше. От тряски машинной разошлись. По забывчивости клиенты оставляют в такси зонтики, перчатки, книги, авоськи с фруктами. Но чтобы полста рубликов?! Сдал в стол находок. Самое интересное — офицер не хватился полусотенной. Видно, денег куры не клюют…
Бетонка от Пионерного повернула круто направо.
Сшитое счастье
Супруги В-вы при разводе делили все: мебель, посуду — все, вплоть до постельного белья. Никто не хотел отдавать «живьем» другому узорчатый палас. Он занимал в квартире почти весь пол большой комнаты. Жена предлагала за него японский сервиз, пылесос «Буран», набор позолоченных ложек. Муж не уступал. Пришлось ровно по линейке разрезать палас надвое опасной бритвой.
Прошло полтора года.
Ни он, ни она не смогли порознь устроить свое новое семейное счастье. Злая или добрая судьба свела их снова под одну крышу. Опять стопками легло в шифоньер белье. Сервиз замял привычное место в буфете. Пылесос усердно вдыхал в себя общую пыль двухкомнатной квартиры.
В одно из воскресений супруги сшивали палас. Жена плотно притискивала ворсистые борта. Муж, заправив в большую иглу толстую капроновую нитку, вел аккуратную стежку. Протыкая кривым шилом очередную дырочку, пробовал шутить:
— Ничего, роднуля! Сшитое-то счастье прочнее.
Соседи, приглашенные на свадьбу, судачили меж собой:
— Идем в гости… к молодоженам…
— Разведенка-сведенка больно грустная…
Живите мирно, люди сшитого счастья!
Явился дух стальной…
Буровик Гавриил Ненашев давно «прижег» две язвы— вино и курево. Не играл в карты даже в «дурачка». Любил разводить
аквариумных рыбок. Занимался спортом. Коллекционировал значки и монеты.
Брови у него лохматые, чернущие. Перешейка между ними нет, будто над носом висит третья бровь. Пышной продолговатой сайкой надежно уместились усы. Любит Ненашев рассказы о таинствах природы. Вычитал где-то о шаровой молнии, вылетевшей из телефонной трубки во время разговора. Друзья не верят, потешаются:
— Этак из мясорубки может выскочить огненный шар.
— В одно ухо влетит, из другого деру даст.
— Недаром ты, Гаврила, от гориллы произошел — всему веришь.
Парень необидчив.
— Объясни, почему нефтя черные? — пытают его.
— Полежи-ка в бездне земли века — и ты почернеешь, — деловито объясняет Ненашев, перелистывая общую тетрадь в коричневом коленкоровом переплете. Туда он записывает различные изречения. — Теперь ты, мудрец, ответь, чьи это слова: «…если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода…».
— Из сельхозпособия.
— Сам ты — пособие. В евангелии от Иоанна сказана сия великая истина. Множество существ умирало на протяжении миллионов лет, и родился плод подземный — нефть.
— Грешно молодому коммунисту библию да евангелие читать.
— Ничего не грешно. Грех не знать, о чем люди до тебя думали, чем жили. Я вот верующего своими доводами сражу, докажу: бога нет. А тебе он как дважды два четыре втолкует, что есть, и ты его не припрешь к стенке убийственными доводами.
— Кулаками припру… Ты блюдцем духов не вызывал в полночь? А зря. Мы под Новый год вызывали на откровенный разговорчик духа нефти. Он изрек таинственно:
— Бууриитее глубжее! — На палеозой намекал… Витал по комнате дух стальной в образе нефтевышки и кричал: «Пррреммиальные! Пррреммиальные!» Год благополучный был: план перекрыли.
Ненашеву не хочется оспаривать парней. Не стальной дух предсказывал им успех. У васюганских буровиков есть свой могучий Дух — дух соревнования, дух борьбы за скоростную проходку скважин, за безаварийность работ, за строгое соблюдение технологии бурения. Без своего доморощенного духа управление буровых работ не занимало бы по министерству призовые места.
Гавриил терпеливо выслушал весь надуманный рассказ про. ночное гадание, подытожил:
— На духов надейся, буровик, а духом не плошай!
Сенсации не получилось
Самолет вылетел из Томска в Стрежевой с большим опозданием. Со мной рядом сидит пышноволосая девушка. Глаза — васильки в росе: плакала или недавно смеялась до слез. Такое мое состояние: хочется заговорить, и боишься быть навязчивым.
Первой нарушила молчание соседка:
— В Стрижах живете?
— В Академгородке под Томском.
— А-а-а…
— Почему Стрежевой в Стрижи перекрестили? Лично мне птичка нравится, а переименование города нет.
— И мне не нравится… так… все: Стрижи да Стрижи… сократили. Вахтовики — перелетные птицы. Прижилось сокращение.
Глядя на сильно загорелое пухлощекое лицо, спросил:
— С моря возвращаетесь?
— Ага. Южных кровей стала. Надолго ли?! Север скоренько обесцветит… В Гаграх отдыхала. Девчонкам чемодан подарков и фруктов везу… Марина. На насосной станции работаю… Ох, и дурачились на юге! В карты на спор играли. Проиграешь, накрутишь три любые цифры по телефону — у каждого в номерах были аппараты — кто ответит, гавкнешь — и трубку на место. Больше почему-то на мужчин попадали. Однажды во втором часу ночи я проиграла. Набираю трехзначную цифру наугад. Голос мужской спросонья ответил: «Алло? Это ты, милая?». Так мне тембр голоса поправился. Спокойный, красивый. Видно, ждал ночного звонка жены. Разговориться с ним хотелось, а тут гавкать надо. Я: «Гав!». Он: «Не понял!». Я еще: «Гав-гав!» — и скорее трубку на рычаг… Девки визжат от хохота… Долго не спала потом, себя корила: «Дура!
Почему номер не запомнила…».
Быстро пронеслась воздушная дорога.
Пригласили к выходу.
— Вы мне поможете чемодан поднести к автобусной остановке?
— Конечно. И в городе до общежития донесу.
— Вот спасибочки. В Домодедове за семь лишних килограммов груза доплачивала.
От черного пузатого чемодана несло запахом осеннего сада.
Автобус остановился на проспекте Нефтяников. На подходе к общежитию попутчица предложила:
— Можно, я вас девчонкам как мужа своего представлю?
— Зачем?
— Нуу… для сенсации. Девки в обморок упадут!
— Обязательно упадут, подсчитав в уме разницу наших лет.
— Нет, не то. Сейчас модно за «старичков» выходить. Просто мы их ошарашим известием.
В Марине еще не перебродили курортные шалости.
Был поздний вечер. Во многих окнах горел свет. Не спали и в двадцать восьмой комнате. «Жена» постучала.
— Дево-о-очки-и! Ау!
За дверью — радостный визг. Подруги стиснули путешественницу в коридоре, не обращая на меня никакого внимания.
— Ну будет, будет лизаться! — остановила она девчонок. Взяв меня за руку, ввела в комнату.
— Знакомьтесь: мой муж! Прошу его не любить — я ревнива, — но жаловать! — объявила громко курортница, когда я поставил тяжелый кожаный чемодан возле встроенного шкафа.
Все, кроме радости, выразили девичьи лица: недоумение, растерянность, огорчение, иронию, недоверие. Они, наверно, приняли меня за носильщика, которому их подруга дала заранее на магарыч.
Сенсации не получилось. Никто не упал в обморок: нервы у северянок оказались крепкими.
— Дуры! Не верите, что ли?! — подогревала их души Марина. — Все! Распрощаюсь с общагой. В Сочи жить будем…
— Без тебя насосы захандрили, — виновато проговорила простоволосая подруга, машинально разглаживая голубенькую шелковую скатерть на столе.
— Ах вы, уродки! Довели их до ручки! Что с ними?!
В голосе слышался неподдельный испуг, осуждение «уродок», точно речь шла о ее родных детях, попавших в беду.
Я, хорошо сыгравший роль носильщика, но плохо играющий роль мужа, сидел на стуле, долго слушал «технический отчет» о водяных насосах. Ждал окончания спектакля, начатого и забытого «капитаншей» насосной станции.
«Смени пластинку, Ира»
У штукатура-маляра Ирины Голубевой сегодня меланхолическое настроение. Неторопливо водила она терочкой по известково-песчаному раствору, нанесенному на стену. В такт тихой работе пела:
То ли встречу, то ль не встречу,
То ль найду свою судьбу,
То ли нет…
Мастер, наблюдающий за тихоней, хотел отчитать ее гневливо, да передумал. Вспомнил о своей воспитательной роли, успокоил учащенно бьющееся сердце. Подошел к отделочнице.
— Поешь?
— Пою.
— Какое сегодня число?
— Тридцатое.
— Какой у нас объект?
— Пусковой.
— Так будешь трудиться, Ира, свою судьбу долго искать придется. Чародейка-девушка, а зачем грустное ноешь? Смени пластинку. Ты в начале месяца можешь себе такую тягучую песню позволить. Дай-ка терочку.
Принялся быстро и ловко производить затирку раствора. Согласуясь с темпом отделки, запел:
Ах вы, сени мои, сени,
Сени новые мои.
Сенн новые, кленовые,
Решетчатые…
Или сегодня вот эту песню можешь петь:
Погоня, погоня,
Погоня, погоня
В горячей крови…
Ирина отвернулась, прыснула со смеху.
— Повеселела?
— Ага.
— Оказывается, могу работать в службе веселого настроения.
— Вполне. У нас всегда так: конец месяца — и начинается погоня, будто объект малярия болотная трясет.
Заработала быстрее, замазывая тощие ребра дранки.
Довольный уроком мастер ушел в «погоню» за другими объектами.
Через минуту терочка снова лениво елозила по стене. В пустой гулкой комнате раздавалось:
Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги
Да стенной бурьян…
На улице во всеуслышание заявляла о себе напористая васюганская весна — виновница грустного настроения Ирины.
Фокус-покус
Недавно демобилизованный ефрейтор Григорий Степаненко служил в десантных войсках. Приехал по комсомольской путевке осваивать богатства Васюганья. Сказать про него «верзила» нельзя. Высокий, но весь такой складный, подобранный. Силу в работе проявляет умно, расчетливо, без пустых лишних движений. Надо перенести баллон с кислородом — товарища звать не будет: взвалит на плечо и не крякнет. Шаги крупные, метровые, особенно когда спешит в столовую занимать очередь на обед. Неплохой рассказчик. Бурлит в нем еще армейская жизнь, свежи воспоминания.
— Был у нас в роте Ваня-Небоскреб. Ростом два ноль пять. Плечи хоть рулеткой мерь. Из сибирской староверческой семьи: крестился двухпудовкой, так гиря широко вокруг груди летала. «Газик» мог на бок положить. Мы говорили силачу: «Ваня, в любой организации, где будешь работать на гражданке, требуй смело трехкратную зарплату». Дружил он с парнем смоленским, знающим много фокусов. Особенно ловко узлы развязывал. Свяжут за спиной руки ремнем или веревкой, скоренько от пут освободится. Ваня ему раз и предлагает:
— Спорим, ты мой самый простой узел не развяжешь?
— Развяжу.
— А вот нет. Проспоришь — покупаешь три блока жевательной резники. У меня племянницы есть, каждой надо гостинец послать.
Дружок заложил руки за спину, ждет. Мы окружили, наблюдаем. Небоскреб заранее обмотал изолентой прут арматурной стали, чтобы кожу фокусника не повредить. Легко, точно это были концы косынки, стянул арматуру на кистях рук. «Узелок» был завязан туго и по всем правилам. Такого фокуса-покуса друг не ожидал.
— Развязывай, Ванек, перехитрил меня. Проспорил я вчистую. За сообразительность твоим племянницам кило шоколадных конфет прикуплю.
Не дай бог обучить Ваню приемам каратэ: наверно, пальцем стену проткнет…
Очередь в столовой «Синильга» продвигалась быстро. Григорий держал на языке привычную фразу:
— Два первых, три вторых и… море компота.
Деликатные медведи
Просеки, бетонные дороги, нефтяные и газовые реки разграфили болота, тайгу, прошли по вековым владеньям лосей и медведей, урезали территорию берендеева царства.
Живут среди северян рассказы о встречах с рысями, медведями, лисицами.
Поехал любитель природы на мотоцикле по новой бетонке, что ведут до Пионерного дорожники Казахстана. Облюбовал в сторонке кедр. Рюкзак у дерева бросил, приготовился лезть. Вдруг шишка упала. Вторая, третья. «Кедровка старается», — проговорил шишкарь, собираясь обхватить ствол кедра. С вышины как рявкнет «кедровочка». Если бы судьи включили в тот момент секундомеры, был бы наверняка зарегистрирован новый олимпийский рекорд в беге на… энное количество километров: заготовитель орехов, забыв про мотоцикл, очухался неизвестно где, пропустив под собой множество бетонных плит.
Вечером поехал вызволять мотоцикл. Предполагал: мишенька его в лепешку расшиб. Нет. Целехонький «Иж» лежал на боку, только зеркало было снято. Неизвестно, на каком пне установил его косолапый и любуется иногда на свою сытую мохнатую морду.
Второе приключение произошло с женщиной, собирающей малину. По раскорчевкам, вдоль просек и трасс густые заросли малинника. Насобирала женщина почти полное пластмассовое ведерко ягоды, идти домой собралась, да встретилась носом к носу с хозяином тайги, а значит, и этого малинника. Он объедал ягоду со своей лесной стороны.
Ягодница от страха онемела, села на мох. Закрыла лицо правой рукой, левой мертво за дужку ведра держит. Подошел сластена, обнюхал ни живую ни мертвую сборщицу, принялся за даровое угощение. Ведерко скоренько опустело. Пришла в себя женщина — ни медведя, ни ягоды. Можно было бы все это за сон принять, да на ведерной дужке черные шерстинки остались.
Месяца два заикалась баба и лечилась от нервного потрясения.
Оленье месторождение по числу медвежьих визитов держит первенство. Слесарь, обслуживающий буровую, нес ночное дежурство на насосно-компрессорной станции. Михайло Иваныч ввалился в дверь по-хозяйски. Встал на дыбы, удивленно рассматривая диковинное оборудование, которое, как ни странно, ревело сильнее его.
С легкостью серны рабочий забрался на резервуар, нажал на ручной клапан для сброса воздуха. Раздался оглушительный шум, принудивший ночного гостя убраться восвояси.
В Катыльге от прежнего большого поселения осталось несколько изб. Имеется метеостанция. Улицы «балковые» и «вагончиковые». Разгрузочные причалы. База производственно-технологического обслуживания и комплектации оборудованием.
В балках и вагончиках, естественно, проживает молодой рабочий класс.
Делая ночной обход владений, медведь забрел и в Катыльгу. Подошел к балку, почесался об угол. Парень, вышедший с полминуты назад по своему делу, увидав пришельца, с испугу вполз в узкий собачий лаз под полом балка. Если бы ночной визитер, просунув лапу, захотел вытащить на белый свет скрывшегося человека, то он бы, пожалуй, только оторвал ногу — так туго «запыжил» себя находчивый малый между землей и полом. Так туго, что часом позже пришлось подгонять автокран и приподнимать балок.
Однажды ягодник возвращался из лесу с рюкзаком клюквы. Присел у тропы, закурил. Неожиданно подкатился к нему медвежонок, принялся обнюхивать носки резиновых сапог. Где-то поблизости была медведица. Человек знал это и испуганно озирался по сторонам.
Струей папиросного дыма, направленной медвежонку в нос, вахтовик хотел отогнать малыша. Тот чихал, отмахивался лапой от вонючего облачка и не отходил. Губы у сборщика клюквы тряслись, дымовая струя получалась ломаной.
Минуты три медвежонок крутился около человека, потом покосолапил к нетерпеливой матери, подавшей ему призывной сигнал.
Нет, что ни говорите, а деликатными стали нарымские медведи.
Легкий якорь
Расшалились апрельские вьюги. Ни единой прогалинки над томским аэропортом. Трубно гудит в дверных тамбурах ветер, сбивает пепел с сигарет курящих пассажиров. Нефтяники, улетающие вахтовым самолетом в Пионерный, держатся особняком. На обзаведение бород Север отпустил им добротный материал. Некоторые бородищи настолько роскошны, что походят на пристроенные к щекам и скулам шиньоны. Черные. Аккуратные. Кудлатые. Цвета махорки. С рыжинкой. В бородах еще «не звенит» серебро седины.
— Пионерный открыт? — спрашивает словно всех сразу горбоносый парень в меховых сапогах с застежками поверх тугих голенищ.
— Открыт, Олег, открыт! — успокаивает мужчина лет сорока, гоняя вверх-вниз язычок молнии на синей куртке. — Позаимствуй у Бабы-Яги метлу, ступу и шуруй. Этим летательным аппаратам никакие метеоусловия не страшны.
Олег низкорослый, приземистый. Глаза большие, простодушные. На тыльной стороне рыжеволосой ладони татуировка — якорь, обогнутый цепью. Посмотрев исподлобья на сказавшего про метлу и ступу, вахтовик с ноткой обиды в голосе ответил:
— Одному-то, граф Нулин, скучно лететь. Ведь почти семьсот верст небесным пёхом надо добираться. Не полетишь ли со мной?
— Сугрев дорогой будет?
— Свой вези. Денег зашибаешь — сберкасса трещит.
— В Пионерном «сухой закон».
— Размочим… не впервой. И к чему ввели сухозаконие? В Америке оно не прижилось.
— Тут тебе не штаты — звонкая стройка. Вахты по двенадцать часов. Работа без вина пьянит, с ног валит.
— Тоже мне — звонкая стройка!
— Чем она тебе не по душе, Авдотьин?
— Захудалого ресторанчика в поселке нет.
— Неужели тебе городских мало?
— Негусто. Раньше стиль барокко был, теперь «баракко».
— Слушай, старик, наши общежития — далеко не бараки. Подведенная горячая и холодная вода. Душевые комнаты. Парикмахерская. Швейная мастерская есть. Цветные телевизоры. Бильярд. Постельное белье у нас регулярно меняют. В поселке три столовые, четвертую кирпичную скоро сдадут. Пожил бы ты, как мы, в палатках, когда Стрежевой строили.
— Исчезнувшая романтика.
— Романтика, Олег, видоизменяется, но никогда не исчезнет. Она вечна, как материя мира.
Тот, кого назвали графом Нулиным, разгорячился. На лбу, в мелких морщинах скопился пот. Какой-то салажонок, залетающий на вахту всего третий раз, будет спорить с первостроителем Нефтеграда Сергеем Нулиным?! Он замолкает, уносясь памятью почти к двадцатилетней давности. О чем-то болтает с вахтовиками скептик. Сергей не слушает его. Насмотрелся он всяких летунов-говорунов. Захлебывались такие Севером от нескольких глотков ледяного воздуха. Первые жгучие ветры продували мозги насквозь. Никакие надбавки не удерживали. Мчались, сломя голову, до дома, до хаты, вили гнезда на других, не головокружительных параллелях. Чует Нулин: не привьётся этот дичок к северному молодому древу жизни.
— …В Прокопьевске дело было, — балаболит Авдотьин. — Лектор у нас в цехе выступал. Скажет десяток слов о космосе и к графинчику с водой руку тянет. Кончил скучную речь, спрашивает: «Вопросы будут?».
«Будет, — говорю, — товарищ лектор, вопросик».—
— «Какой?» — «Стаканчик когда освободишь?».
— Если бы ты, парень, так же руками ломил, как языком, — упрекнул Нулин, запивая чаем из термоса бутерброд с колбасой. — Твой ручной якорь, — Сергей с ехидцей посмотрел на наколку, — видно, долго на одном месте не держит. Легок он, да и цепь коротка…
Вылетели в Пионерный под вечер. Многие дремали под львиное всхрапывание моторов.
Сергей был прав. На следующую вахту Авдотьин уже не летел.
Главный пункт
В нефтегазодобывающем управлении «Васюган-нефть» борьба с прогульщиками, пьяницами жестокая, непримиримая. Партийная, комсомольская, профсоюзная организации — триединая сила в этой планомерной целенаправленной борьбе и работе. Профком управления разработал специальную «памятку прогульщика». Очень мудро поступили составители памятки, назвав первым главным пунктом по отношению нарушителей трудовой дисциплины неуважение товарищей. Ниже идут сведения, как прогул повлияет на заработную плату, сколько будет отторгнуто дней от отпуска.
Лишиться уважения, доброго товарищеского отношения — значит окружить себя страшно холодной атмосферой коллектива. Трудно бывает потом растопить лед недоверия.
Из Стрежевого в Пионерный отлетала вахта. Сильно захмелевший парень еле удерживал потрепанный рюкзак на плече. Шатался, несколько раз пробовал запевать «Звенит морзянка…». Больше двух слов вспомнить не мог. Его отстранили от полета. Сухощавый, с жидкой бородкой вахтовик резко сорвал с рюкзачной лямки бирку «ручная кладь», прицепил за ухо гуляки:
— Иди сдайся в камеру хранения!.. Кладь двуногая!
— Гриша… бригадир., да я… да прости… — бубнил виновный.
— Ты не патрон в нашей обойме — гильза пустая, — судил Григорий, отстраняя от себя притихшего пария. — Второе пятно на бригаду садишь…
Вахтовики направились к самолету. Никто не подал на прощание «гильзе» руки. Никто не оглянулся на жалкую фигуру. Парень как-то мгновенно отрезвел, грохнулся на колени перед сотрудницей милиции, производящей досмотр вещей:
— Милая! Пропусти!
— Выходи, дверь открыта!
Забыв сдернуть с уха бирку, «двуногая кладь» поплелась к автобусной остановке. Так отрешенно и понуро выходят осужденные из зала суда.
Приказ Зеленого Змия
Водитель «Татры» Павел Азимов служил в Морфлоте — на Балтике. Видно, оттуда прихватил с собой две крутые волны плеч и «штормовой» взрывчатый характер. Он резко проявлялся по отношению к шоферам, гробящим технику из-за нерадения и плохого знания ее устройства.
— Баранку медведи и обезьяны умеют крутить, — напускался он на какого-нибудь «татриста» или «кразиста», не ухаживающего за машиной. — Тут тебе не цирк — работа. Неужели не чуешь — топливная аппаратура барахлит? Лишний расход горючки. Гонишь свои тонно-километры, а сменщик твой будет лапу сосать на ремонте… Нагар с клапанов снять можно, с души — трудно…
— Катись ты! — бросят ему в сердцах.
— Я-то покачусь. Дорога прямая. Мотор как часы… А ты снимай насос да в цех неси.
Сидим с Павлом в его комнате. По коридору общежития раздаются частые шаги. Со стены, оклеенной обоями салатного цвета, смотрит грустноватый портрет Анны Герман, любимой певицы Азимова. Рядом белый динамик. Идет передача о скорой стыковке на трассе БАМа.
— Везде стыковки: в космосе, в Забайкалье, в политике, у нас на Васюгане.
— У нас где?
— А нефтепроводы, газопроводы. А при бурении — труба к трубе. Потом вся колонна к нефтеносным пластам… И пошла на-гора нефть…
Призадумался, глубоко вздохнул.
— …Душа с душой тоже стыкуются. Хорошую к хорошей тянет. Дрянь с дрянью роднится. Все о своей шоферне думаю. Если бы ее не через отдел кадров — через Луговского Николая Васильевича пропускали, больше оседало бы на Васюгане толковых ребят. Давали бы каждому испытательный срок месяца на два. Начальник наш любой орешек раскусит. Откалибрует, пустостенные выявит. А то доверят человеку новую технику, а у него старые рваческие замашки не изжиты. Встречал здесь таких. Побичуют месячишка три-четыре, сматывают удочки. Управлению технологического транспорта нет большой потери, что с крючка такая «рыбка» сорвалась. Потеря в другом — успела эта рыбка много воды намутить, технику испортить. Наша водительская фирма — не богадельня. Начальник — не нянька. Прижал ханыг, бездельников, пьяниц — не взбрыкнутся.
Был у нас один бородач по кличке Семинарист. Рожа широкая, вся конопухами вымощена. Мужиковатый. Злоязыкий. Говорю ему на собрании: «В тебе градус вкорененный, оставляй баранку — беду натворишь». С месяц держался. Потом снова «кадык шлифовать» стал. Поймал я однажды гадюшку в горельнике. Посадил в зеленоватую бутылку из-под вермути. Пробкой заткнул. Положил на сидение машины Семинариста. Под бутылкой оставил записку: «Приползла к тебе по поручению Зеленого Змия с приказом: бросай пить!
Дыхни на меня — заспиртуй. А по сему — аминь».
Увольнялся, спросил:
— Ты удружил гадюку?
Я, ваше преосвященство!.. Драться будем?
— Можно бы, да шатуны у тебя пароходные.
Дал ему последний дружеский совет:
— Не будь тучкой небесной, гонимой ветром туда-сюда. Правь парусом своей судьбы сам. Морюшко жизни велико и бурливо. Как бывший балтиец тебе говорю. Верь!
Птичий сад
Неподалеку от Катыльгинского причала земснаряд намыл многие холмы васюганского песка. Они походили на маленькую пустыню среди огромных оазисов тайги, болот и кустарниковых гряди и.
День и ночь многотонные самосвалы перевозили искусственные барханы для отсыпки строящихся дорог на Оленье и Первомайское месторождения. Вода из буртов успела высочиться. Песок стал плотным, на нем оставались следы от зубьев ковша экскаватора. Отвесные стены выработанных карьеров походили на крутые речные берега. Когда песчаные яры освещало солнце, они золотились и сверкали ослепительным слюдянистым блеском.
С приходом тепла возвратились на васюганскую родину суетливые ласточки-береговушки. С рождения утреннего света до его исчезновения они носились над широко разлитой рекой, осматривали и заселяли свои старые жилища-норки, спешно рыли новые узкие тоннелики. Клювики служили им при строительстве дорог-подземок отбойными молоточками. Крылышки и лапки заменяли лопаточки.
В это время из Катыльгинского карьера на время перестали возить гидронамывной песок. Скорым налетом колония стрижей заселила всю верхнюю часть выработанного экскаватором яра. Его направление совпадало с курсом васюганских берегов. Птички не ошиблись в выборе, облюбовав такую прекрасно сложенную береговую кручу.
Когда экскаваторщик приехал в карьер, береговушки успели справить новоселье. Они опасливо и недоуменно разглядывали человека, копошащегося в своей огромной неуклюжей машине. Машинист экскаватора часто поднимал голову, оглядывал панораму гнезд-проточин и, светло улыбаясь, бормотал:
— Ишь ты! Ну и ну! И разрешения не спросили. Без прописки живете.
Завел экскаватор. Впервые за все годы работы на нем недовольно проворчал:
— Черт! Гремишь-то как!
Тихим ходом увел машину в другое место, оставив ласточек в покое. Холмов было еще много.
У стрижей вскоре появилась главная забота их птичьей жизни: выводили птенцов.
Говорят, длиннохвостые ласточки привязывают своих птенцов к гнезду за лапки конским волосом, смоченным клепкой слюной. Такая мера предосторожности продиктована родительской заботой. Сиди до поры до времени на привязи. Птенец не выпадет из гнезда. Не подползет к его выходу, где может подкараулить хищная птица.
Вряд ли ласточки-береговушки прибегают к такой технике безопасности. Кто-нибудь из старших почти неотлучно дежурит в норке, охраняет потомство, вылетая попеременно на кормежку и за «обедами» для малышей.
Шло время. Сменялись вахты экскаваторщиков. Пробегали мимо нового стрижиного поселения порожние и груженые самосвалы.
Пришел час, и чистый песчаный «берег» карьера огласился звонкой пискотней. Многочисленные выводки птичьего сада проносились над исполосованной шинами дорогой, «Татрами» и «КрАЗами». Улетали к Васюгану, ловили на лету комаров и мошек. Механизаторы, как дети, радовались бесплатному кино. На широком экране яра, испещренного норками, шла озвученная картина из бытия природы.
Экскаваторщики вместе с лобастой сильной машиной передавали по вахте друг другу веселый птичий сад.
— Живы ребятки?
— Живы! Шустрыми очень стали: чуть ли не с носа комаров ловят.
Наступила осень. Подули холодные ветры. Начались предотлетные птичьи хлопоты.
Пришел грустный день: умолк птичий сад. Осиротелым смотрелся карьер, где недавно шла такая задорная жизнь ласточек-береговушек.
А вот в другом карьере — Развил — они не поселились: гам в гидронамывном грунте было много глины, илистого песка.
Возвращайтесь, стрижики, с новой весной!
Соображает…
Филиалом Стрежевского учебно-курсового комбината заведует в Пионерном Николай Ильич Черняков. Фронтовик. Старший лейтенант запаса. Мастер производственного обучения. Вахтовики без отрыва от производства повышают свою квалификацию, приобретают специальности операторов, стропальщиков, трактористов, машинистов бурильно-промысловых агрегатов.
В свободное время Н. И. Черняков любит бродить в окрестностях вахтового поселка. Собирает лекарственные растения, брусничный лист, колбу, ягоду, грибы. Страдает фронтовик стенокардией, поэтому в путь без сердечных таблеток не выходит.
Любимое его выражение: соображает. Положил на стол компас, видя, как конец стрелки, напав на след, упорно «ищет» север, изрек:
— Соображает, чертовка!
Его выводы, отзывы о «житейщине», политике, искусстве строгие, категоричные.
— Однажды в Новосибирском Академгородке вы ставку абстракционистов посетил. Подошел к полотну и так на него смотрю, и этак. На нем будто приклеен кусок материи, как от кальсон старых, пуговка даже при лоскутке. Все это выдается за извержение вулкана. Другие визжат от восторга. Я говорю: мазня, шарлатанство!
— Наверно, новое течение в искусстве, — робко вставляет его приятель Василий Федорович Бирюков, старший инженер по технике безопасности.
— Это не течение — сорный водоворот… типа. Реализм в живописи, вообще в искусстве, всегда был, есть и будет коренником. Прилипал всяких и раньше хватало. Ими и сейчас хоть пруд пруди. Во всех сферах культуры. Вот и выдают грязные кальсоны за вулкан.
Разговорились о политике, о скорых выборах президента в штатах. Николай Ильич достал пластмассовый пенальчик, извлек ватную затычку. Выкатил на ладонь три крошечные белые таблетки. Проглотил.
— Штатам не повезло: Рейган — ковбой, не президент. Сначала стреляет, потом думает. Политическая шельма! Ратует вроде за мир, а сам пальцем на кнопку войны нажимает. Фашисты тоже нажимали. Чем кончилось — планета знает.
О Чернякове можно сказать его любимым изречением: соображает. Себе на уме. Не терпит зазнайства, обмана, взяточничества, чинобоязни. Ценит в людях простоту, деловые качества.
Приезжал к нам министр пищевой промышленности. Не стал отдельно от рабочих есть. Из общего котла пищу отведал. Вот это по-нашему, по-человечески.
Предложили как-то Николаю Ильичу:
— Хотите, по гороскопу вам погадаем?
Хмыкнул. Вздохнул. Около сердца руку положил.
— Без гороскопа знаю: скоро в ящик сбрякаю.
Такие минуты хандры редкие. Он весел, общителен, бодр.
В одно из воскресений мы выходили с ним с клюквенного болота. До ЛЭП, до бетонной дороги, идущей на Первомайское месторождение от Пионерного, надо было пройти чуть побольше километра. Видно, леший водил нас в тот вечер: дважды возвращались к болоту, хотя оно должно было оставаться у нас за спиной.
— Левишь сильно, Анисимыч, — упрекнул меня попутчик.
Повел сам.
— Ильич, правишь очень.
Пыхтит, идет своим курсом.
ЛЭП таинственно ускользала от нас. Небо хмурое. Ни лучика на нем. Вокруг однообразный пейзаж: тонкостволые кедры, хилый березняк, бурелом, заросли багульника, мхи.
Действительно, мы справили: вместо десятого километра вышли на бетонку почти к одиннадцатому.
— Главное дошли, — изрек Черняков, тяжело дыша. — Мне хоть через Пензу, лишь бы до дома скорее добраться.
Самое смешное — о компасе вспомнили на дороге, не догадались посмотреть на сообразительную стрелку, взять направление на юго-восток.
Кто мог предположить, что при выходе с болота в воскресный день лесовику придет в голову забава поиграть часа два с усталыми людьми.
Тиходум
Электрик Велимир Абросимов — щуплый, низкорослый. Голова маленькая, слегка согнутая.
— Тебя, Велька, в ножны можно вкладывать! — шутят парни.
— А вас в футляры от виолончелей, — отбояривается он. — Разъелись на вахтовских харчах: по три глазуньи, четыре гуляша за одни присест умолачиваете.
Прозвище его — Тиходум.
— Над твоей головой надо станок-качалку устанавливать — мысли выуживать из подземелья души.
— Спешка при экзекуции блох нужна… Вот вы за зубрили призыв: экономика должна быть экономной, а сами добро топчете. Провода, изоляторы валяются — вам и дела нет. Школу конкретной экономики посещаете. К чему тогда учеба? Попугайство одно! Когда Козьма Прутков говорил «зри в корень», он не только корни грибов имел в виду. Зри в корень — гляди в душу человека. Привыкли душу потемками считать. Дескать, впотьмах сам черт не разберет, что в ней творится
Был бы жив Козьма Мудрый, он бы добавку ввернул к своему изречению: зри под ноги. Что только не валяется: трубы, шестерни, гвозди, электроды, кирпичи. Работаете при дневном и электрическом свете, а во тьму кромешную государственные деньги бросаете.
— Разговорился Белька! — усмехнулся взъерошенный напарник Пупко, щелчком большого пальца выбивая сигарету из пачки.
— С вами разговоришься… подними предохранитель… сюда положи. Его бы не в распределительное устройство — в тебя вставить надо. Чтобы предохранял от прогулов, расточительности, пустозвонства.
— Слушай, хватит, а?! У нас бригадир агитатором числится.
— Я не выборный. Я от себя… Числится? Скоро начнем по описи бумажной общественные нагрузки передавать. Агитатор. Политинформатор… Вот ты, Пунко, бога или человека больше любишь?
— Богу свечку поставишь, хоть премиальных не лишит.
— О ближнем будешь заботиться — надежнее. Сегодня твой самый близкий родственник — план. Или вы его в родию не берете?
— Гоним ведь его.
— Именно гоним. Он в гоньбе не нуждается. Ты его веди умело, на колдобины не направляй.
— Тиходум, ты чего сегодня взъерепенился?
Долго думал, для разговора созревал… Посмотри-ка на левый карман комбинезона.
— Ну… посмотрел.
— Засунь руку.
— Засунул.
— Что нащупал?
— Изоленту. Медную проволоку. Сигареты.
— Еще?
— А-а-а — дыра! Так она давнишняя. Я через нее, паразитку, пассатижи потерял.
— Эти? — Абросимов держал на ладони новенькие пассатижи. На их ручки были надеты пластмассовые токозащитные насадки.
— Велька! Друг! Они самые. Ах вы, черти! Да я вас!
— Не ты их, они тебя высечь должны.
— «Ладно, давай находку.
— Зашей карман — получишь.
— Сегодня же в общаге зашью.
— Сейчас.
Тиходум снял шапку, достал из-за козырька большую иголку с черной ниткой, подал товарищу.
Когда карман комбинезона был зашит, Велимир, передавая пассатижи, внушил:
— Ты через конкретную дырку конкретный инструмент потерял. Говоришь: бог в свечке нуждается. Не экономике ставить не надо, хотя она и является на сегодня нашей богиней. Не темная наука — не заблудится в пашем огромном государстве.
Пупко слушал с хитрым прищуром и чесал пятерней шею.
Кормилица
Сидим на поваленной сосне. Смотрим на срез пня: он медленно покрывается каплями клейкого сока. Застыли обнаженные годовые кольца дерева, потому что застыла сама сосна, упав вершиной по направлению к широкой многокилометровой просеке.
Глазастый теодолит следит, чтобы просека была прямехонькой, ни на шаг не метнулась ни влево, ни вправо. Вальщик Аркаша Банников, хмурый, сиплоголосый парень, докурил «беломорину», потушил окурок о голенище резинового сапога. Для верности поплевал на черный торец папиросы, швырнул на сухой мох.
— Дай закурить, — просит Евстигнеев, водитель трелевочного трактора, заглушив его в двух метрах от поверженной сосны.
— Попроси хорошенько!
— Аркадий Васильевич, пардон. Не изволите ли папиросочку.
— То-то.
Сидят, дружелюбно смотрят друг на друга.
Чувствую: от бензопилы исходит тепло. К бачку, моторчику «Дружбы» прилипли опилки, крошево коры. Многозубая цепь блестит на солнце начищенным серебром.
— Расскажи человеку, — Евстигнеев кивнул на меня. — как твоя кормилица от медведя спасла.
— От медведицы. Давнишняя история… В леспромхозе вальщиком работал. На сухой гриве сосняк пластал. Воды кругом нет, жажду брусникой утолял. Ну и наткнулся на мамку с медвежонком. Она за мной, я к бензопиле драть. Подскочил, завел. Медведица уже в воинственную позу встала, на меня надвигается. Я со своим «пулеметом» на нее пошел. Думаю: кедры в два обхвата валю, тебя-то, голубушка, хоть страхом пройму. Цепь ревет. Медведица тоже. Не выдержала поединка, развернулась, отстрелялась пометом в мою сторону и к малышу убежала.
— Не заела она тебя, но уела сильно! — ухмыльнулся тракторист. — «Дружбе» спасибо скажи. Не заведись она с маху — не трудился бы сейчас на нефть.
— Моя пила осечки не дает.
— Что верно, то верно, — подтвердил Евстигнеев и таким же манером потушил окурок, как это сделал вальщик.
Аркадий ласково посмотрел на бензопилу, похлопал ее по верху бачка, как по холке лошадь.
— В майские праздники дело было— ко мне домой нагрянули леспромхозовские парни. Подзадоривают: не соберешь «Дружбу» с завязанными глазами. Кореши успели пилу до винтика разобрать… Натянули мне на голову две вязаные шапочки, глаза закрыли… «Поехали!», как сказал Гагарин… Я в армии карабин и автомат, не глядя, быстрее других солдат собирал. Верите ли — все детали, как на свету, вижу…
— Сова! — похвалил водитель трелевочника.
— …Собираю, значит, припеваючи. Все ладненько подходит. Слышу: кореши шушукаются. Что-то звякнуло на брезентушке, где детали «Дружбы» лежали. Позже выяснилось, они мне подбросили курок от ружья, шпонку от винта подвесного мотора, пружинки, шайбочки, шурупы разные, еще какую-то мелюзгу металлическую… Собрал кормилицу, спрашиваю: «В бачок песку не сыпанули?»
— «Нет, Аркаша, до этого не додумались». Завел с первого раза. Сдернул с глаз шапочки. Смотрю: на брезенте подброшенные лишние «запчасти» лежат. Взял шуруп, говорю: «Ну, сознавайтесь, кто удружил, с курса сбить хотел? Кому завернуть кой-куда?».
Молчат. Качать меня, подбрасывать принялись.
Перед нашими глазами тянулась голубая чистина просеки. За нашими спинами стояла зеленая стена тайги. Ей предстояло вскоре рухнуть, открыть взору новую даль.
Репродукции...
с работ члена Союза художников СССР
Юрия Михайловича ПАВЛОВА
 Моя Сибирь
Моя Сибирь
 Безмолвие
Безмолвие
 Над тайгой
Над тайгой
 Трубопровод
Трубопровод
 Пасмурным дочь
Пасмурным дочь
 Вахтовый поселок Вах
Вахтовый поселок Вах
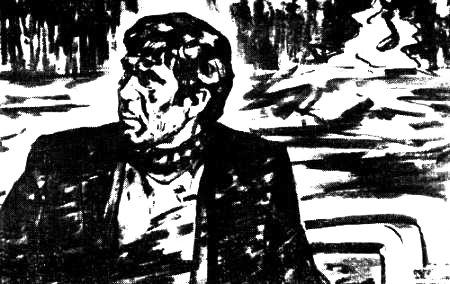 Старшим геолог Ваха
Старшим геолог Ваха
 Буровая
Буровая
 Оператор
Оператор
 Вахта в пути
Вахта в пути
 Плотник
Плотник
 Строитель Стрежевого
Строитель Стрежевого
 Над Васюганом
Над Васюганом
 На магистрали
На магистрали
 Бурильщик
Бурильщик
 Облачный день
Облачный день
 Весна
Весна
 Весенние каракули
Весенние каракули
 Половодье
Половодье
 Купель
Купель
 Дыхание севера
Дыхание севера
 Июньский снег
Июньский снег
 Крутояр
Крутояр
 Бабье лето
Бабье лето
 150-километр
150-километр
 Небесный свет
Небесный свет
 Конец бабьего лета
Конец бабьего лета
 Тайга
Тайга
 Первый снег
Первый снег
 Место леших
Место леших
 После дождя
После дождя
 Волшебное озеро
* * *
Рецензент — член Союза писателей СССР Т.А. Каленова
Волшебное озеро
* * *
Рецензент — член Союза писателей СССР Т.А. Каленова
---
Вениамин Анисимович КОЛЫХАЛОВ
ВАСЮГАН — РЕКА УДАЧИ
Художник Ю. М. Павлов
Редактор Г. В. Жога
Художественный редактор О. В. Натрина
Технический редактор Р. М. Подгорбунская
Корректоры: А. А. Сискевич, М. В. Скурлатова
ИБ № 73
Сдано в набор 10.XI. 1986. Подписано в печать 29.V. 1987.
К300080 Формат 70х108-1/32. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 11,55+1,4 вкл.
Усл. кр.-отт. 13, 22. Уч. — изд. л. 10,64+0,75 вкл.
Тираж 2000. Заказ № 1601. Цена 75 коп.
Томское книжное издательство, 634050, г. Томск, проспект Фрунзе, 103.
Типография издательства «Красное знамя», 634050, г. Томск, проспект Фрунзе, 103.
Оглавление
Могучее древо-Сибирь
Остров глубинных сокровищ
Васюган — река удачи
Нарымское сено
Актированный день
Берега жизни
Северная мозаика
Репродукции...


