Борис Николаевич Камов
СУМКА ГАЙДАРА
ПОВЕСТЬ-ПОИСК
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1982
Камов Б. Н. Сумка Гайдара : повесть-поиск. — М. : Дет. лит., 1982. — 319 с. : ил.

Эта повесть учит мужеству
В августе 1962 года начинающий, мало кому известный журналист приехал в село Леплява под Каневом. Он задался целью разгадать тайну гибели писателя-партизана Аркадия Петровича Гайдара.
Эта работа заняла у Бориса Камова без малого два десятилетия. Он объездил всю страну, разыскал множество людей, которым довелось в 1941 году встречаться на войне с Аркадием Гайдаром. Их воспоминания, записанные на пленку, позволили Борису Камову создать книгу «Партизанской тропой Гайдара».
Повесть выдержала несколько изданий, и теперь десятки тысяч ребят с этой книгой в руках приезжают в Канев и Лепляву, чтобы пройти боевыми тропами писателя.
И вот перед нами новая повесть, которая продолжает и дополняет первую, — «Сумка Гайдара». В ней рассказано о том, как автор на протяжении многих лет искал пропавшую сумку Аркадия Петровича с его дневниками и рукописями.
Но содержание книги гораздо шире. Это прежде всего повесть о писательском подвиге на войне, когда Гайдар на фронте и в партизанском отряде, в перерыве между боями, изо дня в день неутомимо продолжал свою литературную работу, готовясь создать много новых книг.
Осуществить свои планы Гайдар не успел, но из повести мы узнаём, что он писал, о чем собирался написать, когда вернется домой. Борис Камов вводит нас в его «военно-полевую» творческую лабораторию.
В повести «Сумка Гайдара» Аркадий Петрович предстает и как опытный солдат, и как мудрый друг, умеющий ободрить, сказать в трудную минуту нужное мужественное слово.
Мы видим, что и на войне он был неразлучен с детьми, которые оказывались рядом с ним в самой неожиданной обстановке.
Мы видим Гайдара в книге глазами множества людей, в памяти которых он жил и живет до сих пор. Гайдар предстает в повести как героическая и романтическая личность, обладающая большой притягательной силой. И каждый из нас, особенно юный читатель, найдет, чему у Гайдара можно поучиться.
С большой любовью рассказано в книге и о двух самоотверженных партизанских семьях — Степанцов и Швайко, где окруженцам и партизанам помогали и взрослые и дети.
Низкий поклон таким людям, без которых было бы невозможно вести борьбу во вражеском тылу.
Лично я глубоко взволнован тем, что Гайдар в октябре 1941 года собирался с товарищами перебраться из-под Канева в Черниговские леса и создать там партизанское соединение. Если бы Аркадий Петрович не погиб, кто знает, быть может, нам и довелось бы воевать с ним вместе или хотя бы рядом...
Повесть «Сумка Гайдара», как и первая книга — «Партизанской тропой Гайдара», учит мужеству, любви к Родине и великим законам человечности и товарищества.
Это произведение интересно еще и тем, что в нем раскрываются методы поисковой, следопытской работы, которые позволили автору так много узнать о всеми нами любимом писателе-солдате.
«Сумка Гайдара» поможет пионерам, которые ведут поиск на дорогах и тропах минувшей Великой Отечественной войны.
Дважды Герой Советского Союза А. Ф. Федоров
«НАШЛАСЬ ЛИ СУМКА?
В 1965 году в издательстве «Детская литература» вышла документальная повесть «Партизанской тропой Гайдара» — о последних 127 днях жизни писателя, о его подвиге на войне.
В книге есть глава «Где сумка?». В ней рассказано, что на фронте и в партизанском отряде Аркадий Петрович много работал. Дневники и рукописи своих уже законченных или только начатых произведений Гайдар носил в сумке. А после его гибели она исчезла.
Глава «Где сумка?» маленькая. В ней всего пять страниц. Но вот уже полтора десятилетия в издательство «Детская литература», Дом детской книги и даже во Всесоюзный штаб Тимура при журнале «Пионер» идут письма с одним и тем же вопросом: «Нашлась ли сумка?»
«Если сумку уже нашли, — просят ребята, — то сообщите сразу нам в школу. Мы очень хотим знать, какие книги Аркадий Петрович написал на войне и скоро ли их можно будет прочесть».
«Мы живем далеко на севере, — говорится в другом письме. — Нам с женою положен большой отпуск. Если бы нам указали место, мы бы приехали искать сумку».
И вот история сумки перед вами.
В этой книге все правда. Я не придумывал ее сюжет. Его придумала жизнь. Мне оставалось собрать факты и коротко пересказать их.
В книге «Партизанской тропой Гайдара», обращаясь к читателю, я писал: «За тридцать семь лет своей жизни Аркадий Петрович прошел немало путей и дорог. Я последовал за ним только по одной. Быть может, ты, или твой друг, или твои сверстники пройдут по остальным и дополнят мой рассказ».
За минувшие годы пионеры-тимуровцы, литературные следопыты сделали немало ценных открытий. Главное из них принадлежит ребятам из школы № 16 города Черногорска в Хакасии. Вместе со своей учительницей Надеждой Петровной Карповой они разыскали людей, которые знали в 1922 году начальника второго боевого района по борьбе с бандитизмом Аркадия Петровича Голикова, а иные даже служили под его началом.
Черногорские тимуровцы пригласили меня к себе в гости, подарили тетрадный листок с восемью адресами. С помощью ребят удалось восстановить одну из самых волнующих страниц боевой юности Гайдара: его поединок с неуловимым атаманом Соловьевым.
«Сибирский эпизод» жизни Гайдара лег в основу фильма «Конец императора тайги», поставленного на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. А. М. Горького.
И я снова говорю:
— Следопыты, тимуровцы! На путях-дорогах Гайдара вас ждет еще немало открытий!..
Часть I. «Я СЕГОДНЯ ВОЮЮ ПЕРОМ»
Кажется, что сейчас откроется дверь... и раздадутся его тяжелые шаги. Он войдет со своей полевой сумкой, висящей сбоку на ремешке, сядет на диван и положит ее рядом. В этой сумке — я уж это знаю хорошо — лежит начало, а то и конец его новой повести.
Эта сумка всегда была с ним, словно хранил он в ней собственную душу.
Я. Фраерман. Любимый писатель детей
ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ
А давай-ка, Светлана, возьмем мы из-за печки мою походную сумку...
Аркадий Гайдар. Голубая чашка
Аркадий Петрович выскользнул из-под одеяла. Быстро и бесшумно, по давней армейской привычке, оделся. Взял со стула ремень с командирской пряжкой и на цыпочках вышел в коридор.
В ванной комнате он умылся. Причесал коротко стриженные волосы. Пройдя на кухню, выпил кружку холодной воды. И, довольный тем, что никого в такую рань не разбудил, тихонько отомкнул замок и очутился на лестничной площадке.
Здесь Аркадий Петрович взглянул на часы — двадцать минут седьмого. В самый раз.
По Большому Казенному переулку Гайдар спустился на улицу Чкалова, повернул направо, к Курскому вокзалу.
На привокзальной площади собралось много народу: штатские, военные, дети, женщины. Здесь смеялись, плакали, угощались на дорогу, пели под гармошку, где-то в стороне гремел духовой оркестр.
Отъезжающие — на прощание — держали на руках сонных в этот ранний час детей; перекрикивая музыку и неумолчный гул, спешили что-то сказать напоследок.
Внезапно, словно по волшебству, смолкли все оркестры и баяны. Командир с орденами, поднявшись на возвышение, прокричал в жестяной мегафон команду.
Площадь замерла... Затем тут же пришла в торопливое движение. Те, кто уезжал, снова стали прощаться, но уже поспешно и отрешенно, словно очутились вдруг за какой-то незримой чертой. И площадь медленно колыхнулась в сторону платформ и стоящих на путях эшелонов.
И Гайдар вспомнил: в августе четырнадцатого года, когда ему было десять лет, он бежал за ротой, с которой уходил на войну отец. Отец был в длиннополой шинели, папахе, с тяжелой винтовкой на плече. А он, мальчишка, не спускал с отца глаз и думал: «Неужели папку могут убить?» И вдруг не выдержал и со стоном зарыдал.
С той поры Гайдар терпеть не мог проводов, на себе много раз испытав: легче ехать на фронт самому, чем кого-то провожать.
И сейчас, не всматриваясь и не вслушиваясь в то, что происходило на площади — это все ему предстояло, — он спустился в метро. Доехал до Библиотеки имени Ленина. Прошел к Военторгу. Здесь у витрин и возле входа тоже собралась большая толпа. Все нетерпеливо поглядывали на стрелки круглых уличных часов.
Ровно в семь заговорил мощный репродуктор, установленный на фонарном столбе, и открылись двери Военторга. Народ спешно хлынул в магазин — многие очень торопились. А Гайдар и еще несколько человек подошли ближе к репродуктору: передавали сводку.
«В течение девятнадцатого июля шли ожесточенные бои на Псковском, Смоленском и Новоград-Волынском направлениях...»
...Что-то давнее, казалось, напрочь забытое начало всплывать в памяти... Ну конечно, девятнадцатый. Он, Гайдар, был курсантом Киевских командных курсов. Его выбрали — в пятнадцать лет — секретарем партячейки, дали отряд и поручили в лесах под Новоград-Волынском уничтожить банду атамана Оглобли. Но Оглобля был опытен и хитер, его долго не удавалось обезвредить, пока... не помог сам атаман.
Оглобля подослал всыпать яду в колодец, из которого черпали воду бойцы. Отравителя поймали, тайком от всех спрятали в погреб. А жителям Гайдар (в ту пору еще Голиков) велел, чтобы готовили к утру подводы: красноармейцы, мол, заболели животами, нужно везти в больницу.
О «повальной болезни» стало известно в лесу. Ночью разбойничья ватага с криком «Ого-го, мухи дохлые!» ворвалась в село и... полегла под огнем четырех пулеметов.
...В Новоград-Волынском направлении Аркадию Петровичу предстояло отбыть и завтра, 21 июля 1941 года.
По широкой мраморной лестнице Военторга Аркадий Петрович поднялся в отдел оптики и купил полевой бинокль в толстом футляре. Затем выбрал солдатский мешок с матерчатыми лямками. Тут же в витрине для туристов увидел складной ножик с несколькими лезвиями и компас.
Заплатил, прошел в соседний отдел, купил две тетради, четыре карманных блокнота, дюжину простых карандашей, коробку цветных, под названием «Тактика», две резинки — одну для стирания записей карандашом, другую — для чернил. И две пачки писчей бумаги. Сложил все в мешок, затянул шнурком и направился за последней покупкой — сумкой.
К полевой сумке он привык еще на гражданской. Тяжесть невелика, а удобство большое: возникла необходимость, положил сумку на колено, вынул тетрадь, набросал приказ или записал дельную мысль — для памяти, — или несколько слов срочного донесения.
И после увольнения из армии Гайдар продолжал ходить в шинели, гимнастерке, сапогах и со старой своей полевой сумкой. Но теперь, собираясь в дорогу, Аркадий Петрович решил, что купит новую.
Гайдар попросил продавщицу показать ему сумку, которая висела на стене рядом с кобурой для нагана и портупеей. Девушка молча сняла сумку с гвоздя. Аркадий Петрович выдернул кожаный язычок замка, заглянул внутрь: два отделения, гнездо для карандашей, специальное окошко для компаса.
— Возьмете и кобуру? — спросила девушка. — У вас наган или ТТ?
— Спасибо, кобура не нужна.
У Гайдара не было ни нагана, ни пистолета. Свой револьвер за № 5056 Аркадий Петрович в 1924 году сдал рыжеусому начальнику оружейного склада в подвальном этаже Реввоенсовета.
Помещался Реввоенсовет в ту пору на Знаменской (позднее переименованной в улицу Фрунзе), в высоком светлом здании бывшего Александровского военного училища. И в 1941-м в этом здании — в двухстах метрах от
Военторга — располагалось какое-то военное ведомство. И Гайдар подумал: «Что, если мой маузер до сих пор лежит на том же складе?»
— Тогда, быть может, вам нужны кубики или шпалы?
[1]
— Благодарю. Кубики мне тоже не нужны.
На гражданской войне, в семнадцать лет, Аркадий Петрович уже командовал полком. И мог сейчас носить по меньшей мере четыре шпалы. Но в двадцать четвертом из-за тяжелой контузии врачи признали его непригодным к дальнейшей службе. И на все случаи жизни Гайдар имел теперь одну только должность и одно звание — писатель.
...Дома Гайдара ждал завтрак. А на диване, стульях лежали рубашки, платки, носки, полотенца, новая гимнастерка, шарф, перчатки — это Дора Матвеевна готовила его в дорогу.
— Дорик, не нужно мне столько, — сказал он мягко, — я еду всего на десять дней.
Не прикасаясь к завтраку, отобрал из вещей необходимое, положил в мешок и, подсев к письменному столу, занялся снаряжением сумки.
Гайдар заточил карандаши и вставил их в гнезда. Закрепил в «оконце» компас со светящимися стрелками. Опустил в главное отделение две столистовые тетради, четыре блокнота и пять экземпляров книги «Тимур и его команда», щелкнул замочком и повесил сумку на спинку стула — он был готов к отъезду.
ПРОВОДЫ
Тимура в Москве не было: он находился в Чистополе. Провожали Аркадия Петровича Дора Матвеевна и Женя.
Когда все трое вышли из подъезда, они увидели, что на тротуаре и мостовой дожидается толпа ребят. На девочках белые кофточки. На мальчишках чистые рубашки. Галстуки парадно отглажены. И у каждого красная командирская звездочка на груди.
От неожиданности Гайдар остановился.
— Здравствуйте, Аркадий Петрович, — негромко, вразнобой произнесли ребята.
— Здравствуйте, — все еще недоумевая, ответил Гайдар. — Вы кого-нибудь ждете?
— Ждем, — смутились ребята. — Вас.
У Гайдара перехватило дыхание, и он стал поправлять ладно сидящий на нем мешок. Ребят, которые толпились сейчас на тротуаре и мостовой, Аркадий Петрович знал по имени и в лицо. Помнил, кто в каком подъезде живет, хорошо ли учится и что у него за семья. Это были его товарищи.
В минуты сомнений, когда возникали конфликты с редакторами, или «педагогическая общественность» возражала против фильма о Тимуре, или когда просто казалось, что недавно начатая вещь не получается, Гайдар шел к ребятам.
Вот этим мальчикам и девочкам, сидя на поленьях во дворе, Гайдар впервые читал «Чука и Гека», «Тимура» и «Коменданта снежной крепости». От них выслушивал первые, для него самые авторитетные суждения и тут же вносил огрызком карандаша поправки в текст.
Зато, когда случалась радость или выпадал большой успех, Аркадий Петрович тут же сзывал ребят со всего двора и вел к мороженщику. По дороге он также приглашал всех детей, которые попадались навстречу.
«Ребячий телеграф» срабатывал молниеносно. На приглашение сбегались девочки и мальчики со всей улицы. По просьбе Аркадия Петровича мороженщик отмерял каждому специальной жестяной формочкой самую большую порцию, с двух сторон обложенную вафлями с витиеватыми вензелями. Гайдар щедро за всех платил. И никогда не брал сдачи.
А то еще бывало: Гайдар откупал в ближайшем кинотеатре целый сеанс. Занимал место контролера. И если незнакомые ребята, не смея поверить, что пускают без билета, робко останавливались у входа, Аркадий Петрович их подбадривал:
— Пожалуйста, проходите. Сегодня вы мои гости.
Случалось, в зале уже негде сесть, а гости все идут.
Тогда Гайдар сам приносил стулья из фойе.
И вот ребята сбежались снова.
— Откуда вы узнали? — удивленно спросил Аркадий Петрович.
Мальчики и девочки загадочно улыбнулись. И только Женя с рассеянным и равнодушным видом поглядела в сторону. И Гайдар догадался: позывной номер один общий дала она.
Гайдар сам придумал этот ритуал. В книге и фильме про Тимура и его команду весь поселок — дети и взрослые — с песней провожают на фронт Георгия Гараева. А теперь ребята из Большого Казенного переулка и с окрестных улиц сбежались проводить его. Но Аркадий Петрович вспомнил, сколько сейчас народу на Курском вокзале, какой там стоит плач, и сказал:
— Только до угла.
На углу Большого Казенного и улицы Чкалова Гайдар остановился и каждому из детей, чуть наклонясь, дружелюбно пожал руку. Затем вместе с Дорой Матвеевной и Женей они повернули направо, к вокзалу.
Сзади нетерпеливо загудели на разные голоса грузовые и легковые автомобили. Гайдар обернулся.
Не смея нарушить приказ: «Только до угла», ребята вышли на мостовую и вытянулись в цепочку, перекрыв движение. Заметив, что Аркадий Петрович остановился, они замахали ему галстуками и стали что-то кричать. Но из-за гудков невозможно было разобрать ни единого слова.
Гайдар высоко поднял свою широкую ладонь — «Вижу и благодарю» — и резко махнул ею: «Немедленно возвращайтесь». Гудки мгновенно прекратились.
— Вы тоже сейчас пойдете домой, — сказал Гайдар Доре Матвеевне и Жене. — Только сперва зайдем сюда.
И Аркадий Петрович показал на моментальную фотографию: он с детства любил фотографироваться.
В двух полутемных комнатах было тесно от народа. На несколько мгновений вспыхивал яркий свет. И снова устанавливался полумрак. Седой хромающий фотограф быстро щелкал деревянной рамкой кассеты и приглашал: «Следующий». А его жена, худая старушка, выписывала квитанции.
— Товарищи, вы не позволите? — обратился Гайдар к публике. — Я на поезд. Долго прихорашиваться не буду.
В комнате засмеялись.
— Фронтовики без очереди, — пояснил фотограф, перезаряжая аппарат.
Аркадий Петрович, не снимая мешка, присел на самый край стула. Вспыхнули лампы.
— Готово, — произнес фотограф. — Благодарю за оказанную честь. Желаю вам, товарищ фронтовик, вернуться с победой.
Выйдя на улицу, Аркадий Петрович протянул Доре Матвеевне квитанцию:
— Получи завтра снимки, и давайте попрощаемся здесь. Я не хочу, чтобы вы с Женей шли на вокзал.
На другой день Дора Матвеевна забрала фотографии. Гайдар выглядел на снимках непринужденно: полувоенная фуражка с матерчатым козырьком слегка сдвинута к затылку, глаза веселые, рот полуоткрыт (хотел сказать что-то смешное). А грудь и плечи перехвачены множеством ремней: два продольных, простроченных — от рюкзака; два тонких, крест-накрест, — от бинокля и туго свернутой плащ-накидки. И пятый, широкий, через левое плечо, — от сумки.
Обыкновенной. Кожаной. Командирской. Пока еще ничем не знаменитой.
ВОСПОМИНАНИЯ О СУМКЕ
Гайдар прибыл на Юго-Западный фронт, в Киев, где он воевал еще в гражданскую. Дни и ночи проводил теперь Аркадий Петрович на передовой. Вместе с бойцами отбивал наступление противника и ходил в контратаки. Вместе с разведчиками отправлялся во вражеский тыл. Его принимали у себя саперы, летчики, артиллеристы. Много времени провел он у десантников Героя Советского Союза А. И. Родимцева.
И все, кому довелось познакомиться с Гайдаром в ту пору, замечали его сумку. Она стала характерной чертой его облика солдата и журналиста.
— Я познакомился с Аркадием Петровичем в Броварах под Киевом, — рассказывал в 1963 году полковник Александр Дмитриевич Орлов, бывший начальник штаба 36-й истребительной авиационной дивизии. — Гайдар пришел в просторный деревянный дом, где размещался командный пункт командующего военно-воздушными силами Юго-Западного фронта.
«Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Гайдар», — отрекомендовался Аркадий Петрович.
Сдержанный, немногословный, подтянутый, — признаюсь, все это произвело на меня хорошее впечатление. Но я сразу приметил, что у Гайдара нет оружия — только полевая сумка.
«Где же ваше оружие, товарищ корреспондент?» — спросил я его.
Он смутился, потом быстро ответил:
«Я сегодня воюю пером, товарищ полковник».
«А что, удается вам сменить перо на что-нибудь... подальнобойнее?»
«Бывает... если удается удрать на передовую».
А я еще, помню, подумал: «Неробкий, наверное, это человек, если он ездит на передовую с одной только командирской сумкой через плечо, зная, как быстро и порой драматично меняется тут обстановка».
Помнил сумку и бывший командир второго батальона 306-го полка Иван Николаевич Прудников, о котором Аркадий Петрович писал в очерке «У переправы»: «Это самый лучший и смелый комбат самого лучшего полка всей дивизии».
— Гайдар приехал ко мне на командный пункт под вечер. Расстегнул сумку, достал наполовину исписанную тетрадь в черном переплете и попросил меня рассказать о лучших бойцах. В разгар беседы отворилась дверь, вошел командир взвода разведки Бобошко и доложил, что бойцы к выполнению задания готовы. Я объяснил писателю, что разведчики идут за «языком».
«Товарищ старший лейтенант, — произнес Гайдар, — позвольте пойти вместе с ними».
Я растерялся:
«Стоит ли рисковать собой, товарищ писатель?»
«Я могу писать только о том, что сам видел».
«Что же, — ответил я, — раз так, то сдайте, пожалуйста, все бумаги, какие у вас с собой, документы и орден».
Гайдар вынул из нагрудного кармана членский билет Союза писателей, отвинтил орден «Знак Почета» и снял полевую сумку. Взамен я дал ему свой планшет с картой.
...Взвод вернулся под утро. Бойцы привели пленного унтер-офицера и принесли тяжело раненного Бобошко.
Гайдар получил обратно свои документы, орден и сумку.
«Вот теперь мне есть о чем писать», — сказал Аркадий Петрович.
С передовой Аркадий Петрович прислал снимок, который теперь широко известен. Гайдар сидит на пеньке. Слева от него одинокая береза. У Аркадия Петровича могучий разворот плеч. На голове каска. На коленях пистолет-пулемет. Но фотография донесла до нас еще две важные подробности.
На гимнастерке сильно оттопыривается правый карман. В нем трофейный пистолет вальтер, о котором речь впереди. А правый локоть Аркадия Петровича лежит словно бы на широкой подставке: за футляром с биноклем висит до отказа набитая сумка.
Та самая, купленная в Военторге. Это первый и последний случай, когда у нас есть возможность увидеть хотя бы ее краешек...
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ
Через несколько дней Гайдара вызвали в Москву. По дороге на железнодорожный состав налетели самолеты. Машинист остановил эшелон, чтобы пассажиры выскочили из вагонов. Аркадий Петрович тоже выпрыгнул на песчаную насыпь и побежал в реденький лесок.
Он лежал под дикой грушей и, прищуря глаза, наблюдал за поединком машиниста с немецкими летчиками. Машинист разогнал состав. «Мессеры» стали заходить в хвост эшелону. Машинист резко затормозил — бомбы ударили далеко впереди паровоза. Самолеты пошли на разворот. Машинист набрал скорость и, когда немецкие истребители появились опять, снова резко затормозил. Но фашистские пилоты учли маневр и сбросили бомбы, не долетев до состава.
Гайдар видел: одна небольшая бомба отделилась от крыла, описала дугу и ткнулась в крышу темно-вишневого вагона. Темно-вишневый в составе был один. Гайдар ехал в нем. Бомба разнесла вагон в щепы. А в купе оставались вещи и сумка Аркадия Петровича — с тетрадями и блокнотами, с законченными и только еще начатыми очерками и рассказами, с первыми заготовками — «на потом» — для новых, уже задуманных книг.
В Москву Гайдара довез другой эшелон. У себя в квартире Аркадий Петрович появился без шинели, бинокля, фуражки, вещевого мешка. И без кожаной командирской сумки.
С удара бомбы в темно-вишневый вагон и начинается полная драматизма история сумки Гайдара. Точнее, сумок.
ВТОРАЯ СУМКА
В Москве Гайдар пробыл недолго. Он отчитался в редакции «Комсомолки». Внес поправки в сценарий «Клятва Тимура»: картину запускали в производство. Выступил с рассказом о положении на фронте в Союзе писателей. Обратился с речью по Центральному радио к школьникам и комсомольцам. И напоследок зашел в Детиздат, который помещался возле самой площади Дзержинского.
Аркадий Петрович навестил своих редакторов. Поделился впечатлениями, как там, на передовой.
Говорить о новой книге было еще рано. Очерки и рассказы, которые Аркадий Петрович думал предложить издательству, погибли вместе с сумкой.
Но Детиздат приступал к выпуску «Военной библиотеки школьника». Готовился сборник «Советским детям» — слово наших писателей о войне. Согласие участвовать в сборнике уже дали Илья Оренбург и Алексей Толстой.
Гайдар сказал, что может предложить только текст своего выступления по радио «Берись за оружие, комсомольское племя!». И вынул из кармана несколько вчетверо сложенных листочков.
Больше, полагал Гайдар, в Москве ему делать нечего. Снова нужно было собираться в дорогу. Аркадий Петрович снова поехал в Военторг и купил новую плащ-накидку, фуражку с лакированным козырьком и звездочкой, петлицы, которые сам пришил к своей старой гимнастерке, и заплечный мешок.
В канцтоварах он попросил сразу сотню простых карандашей — дарить в окопе, а также полдюжины блокнотов, полдюжины тетрадок в тяжелых коленкоровых переплетах. И у той же продавщицы, что спрашивала в прошлый раз, не нужна ли ему кобура, — новую темно-коричневую командирскую сумку.
Дома Аркадий Петрович опять заточил карандаши, вставил их в гнезда, опустил в сумку четыре тетради, три блокнота и небольшую стопку своих книг.
С книгами Гайдар придумал небольшую хитрость: если он хотел попасть на такой участок, где было особенно опасно и журналистов не пускали, он шел к командиру, от которого это зависело, дарил ему «Тимура» или «Судьбу барабанщика» с автографом — и получал разрешение.
По традиции, которая уже начала складываться, по дороге на вокзал Гайдар зашел в полном походном снаряжении в ту же самую «моментальную» фотографию. А квитанцию снова оставил Доре Матвеевне, которая на другой же день получила снимки.
Эти снимки — последние.
На них видно, что за время, проведенное на фронте, Гайдар похудел. Стало моложе лицо. Стройнее осанка. Грудь Гайдара снова перехлестывали ремни. Один из них был от новой, второй сумки.
ГЛАВНАЯ СУМКА
Аркадий Петрович вернулся во фронтовой Киев. Начались журналистские будни. На передовую в первые дни Гайдар ходил пешком. В очерке «У переднего края» он объяснил это тем, что «по машинам... открывалась стрельба минами. На одинокого же идущего человека мину тратить не расчет».
Но была еще одна причина, по которой Аркадий Петрович предпочитал пешую ходьбу: по дороге на передовую и с передовой он... работал. В такт шагам он думал. В ритме движения складывались фразы.
Он держал их в своей могучей памяти, пока не возвращался в гостиницу. Здесь, наскоро поев, садился за массивный письменный стол и слово в слово записывал на больших листах все, что сложилось за день в голове, потом заказывал Москву и диктовал очерк по телефону редакционной стенографистке.
В поисках подробностей жизни Гайдара той поры перечитываю его немногочисленные письма с фронта. Вот предпоследнее:
«Если от меня долго не будет писем, — предупреждал он жену, — это значит, что далеко ходить на почту».
Ясно. Почта с фронта поступает через Киев. Если на почту ходить далеко — он на передовой.
Но что это?
«Со мной пока случилось только одно горе: при одном обстоятельстве у меня п р о п а л а с у м к а (разрядка моя. —
Б. К.), которую ты так заботливо мне собирала. Ну, ничего. Выдадут другую».
Выходит, погибла и вторая? Но как? Почему? И что в ней было? Звоню Доре Матвеевне. Она соглашается со мной встретиться. Снова расспрашиваю, как уезжал на фронт Гайдар. И под конец прошу:
— Расскажите, как вы собирали Аркадию Петровичу в последний его приезд сумку.
Дора Матвеевна задумывается.
— О какой сумке вы меня спрашиваете?
— О кожаной, командирской, купленной во второй раз в Военторге.
— Почему вы решили, что я ее собирала? — недоумевает Дора Матвеевна. — Что я могла в нее положить — мыльницу?
Достаю четвертый том сочинений Гайдара. Читаю вслух письмо о пропавшей сумке.
— Это он не про кожаную сумку, — улыбается Дора Матвеевна. — Это он про заплечный мешок. Мешок я собирала. Верно. Приготовила еды. Положила полголовки сыра. Консервы «Крабы»: он любил. Теплые вещи: дело близилось к осени.
...На этот раз, понял я, кожаная сумка уцелела.
Но, как выяснилось, ненадолго.
В Харькове в 1965 году я познакомился с Сергеем Федотовичем Абрамовым. Он впервые встретил Гайдара уже в окружении под Киевом, в Семеновском лесу. Было лейтенанту Абрамову в ту пору двадцать лет. Его профессиональную наблюдательность сапера усиливал острый интерес к личности писателя. Я ждал точных, неожиданных подробностей. И не обманулся.
— Вы сказали, на Гайдаре при встрече была фуражка, шинель внакидку... Что еще? — допытывался я.
Абрамов пожал плечами:
— Когда Аркадий Петрович показал нам удостоверение, мы увидели над карманом орден... Пистолет в кобуре. Кажется, ТТ. Шинель на боку у него сильно оттопыривалась: под ней висела сумка.
К сумке я разговор и вел. Спросил как можно будничнее:
— Какая?
— Какая? — переспросил Абрамов, начиная обижаться, что я пристаю с пустяками. — Обыкновенная. Брезентовая. Противогазная.
— Противогазная?!
— Почему вы удивляетесь? Многие носили. Противогаз выбросят, а в чехол положат чего им надо.
Проводив Сергея Федотовича до трамвая, я долго бродил по душным улицам.
«Брезентовая... противогазная... многие носили... — повторял я слова Абрамова. — Именно поэтому Сергей Федотович мог и ошибиться».
Я поднялся к себе в номер, зажег настольную лампу, придвинул стопку почтовой бумаги и сел писать в Киев, полковнику Орлову.
«Александр Дмитриевич, — спрашивал я, — какая же все-таки сумка была у Гайдара? Мнения расходятся. И я растерялся — какую же искать?»
В Москве меня ждал ответ.
«Тетради, — сообщал Александр Дмитриевич, — Гайдар носил в сумке. В Киеве сумка у него была кожаная, командирская. А когда мы встретились с ним в окружении в лесу под Семеновкой, то на плече висела брезентовая, противогазная... Потерял ли он кожаную или нарочно поменял, не знаю...»
Значит, Абрамов не ошибся: у Гайдара в самом деле появилась третья сумка. Куда же девалась вторая?.. Повесил в блиндаже, а в блиндаж попал снаряд?..
Оставил на короткий срок товарищу, а тот потерял, вынужден был бросить или погиб?.. Все могло быть...
И все же... У Аркадия Петровича было правило: не повторять ошибок. Потеряв первую сумку, которая осталась в разбомбленном вагоне, Гайдар, надо полагать, позаботился о том, чтобы не пропала вторая.
Бывший батальонный комиссар Е. Ф. Белоконев рассказывал: даже идя на разведку в уже оставленный нами Киев (это было 19 сентября), Гайдар взял с собой свои тетради.
Что, если Аркадий Петрович вторую сумку не терял? Что, если он ее... поменял?
Менял же он оружие: сперва у него был наган, потом парабеллум, а затем ТТ. Аркадия Петровича видели то с немецким шмайссером на шее, то с ППД на плече.
Мог ли быть практический смысл и в замене сумки?..
Раньше сумка предназначалась только для тетрадей и блокнотов. Но окружение рождало добавочные заботы. Кроме бумаг, нужно было носить при себе запасные патроны и обоймы к револьверу, гранаты и запалы к ним (Аркадий Петрович не любил, когда гранаты болтались и стукались на поясе). А кроме того, хотя бы немного еды: краюшку хлеба, банку консервов, два-три пищевых концентрата.
Вещевой мешок, который собирала Дора Матвеевна, «при одном обстоятельстве» пропал. Обзаводиться новым перед самым падением Киева Аркадий Петрович не стал. По крайней мере, с вещевым мешком никто Гайдара в окружении не помнил. А в кожаной сумке, полной тетрадей и бумаг, гранаты, патроны, еда уместиться не могли.
Вот почему я думаю, что Аркадий Петрович, по примеру других, взял пустой чехол от противогаза и переложил в него все из кожаной сумки и карманов.
...Искать нужно было сумку из брезента.
ЧТО БЫЛО В СУМКЕ?
Много народу на фронте и в партизанском отряде внимательно наблюдало за тем, как Гайдар ходит, сидит, ест, разговаривает, смеется, носит оружие, затачивает карандаши, греет руки возле огня, перематывает портянки, запахивается в шинель, беседует с детьми, действует в бою.
Окружающие знали, что Гайдар писатель. И в обстановке, где не было радио и не приходили газеты, замечая, что он всегда спокоен и сдержан, люди были глубоко убеждены, что Аркадий Петрович в силу своей профессии обладает особым даром знать и видеть такое, что недоступно другим. И Гайдар не разрушал этого убеждения, хотя оно ему дорого стоило.
Он не мог показать, что устал, не мог признаться, что ему нездоровится, даже если обострялась давняя его болезнь. Не мог никому сказать: «Послушайте: я такой же, как вы. У меня нет прямой радиосвязи с Москвой. И Верховное Командование со мной не советуется». Он понимал, что говорить этого нельзя. Что его присутствие для многих поддержка и надежда.
И Гайдар шел в разведку, когда другие отдыхали, нес оружие соседа, если во время долгого марша тот выбивался из сил, и отдавал последний кусок сахара — свой НЗ, — если кто-то падал от голода...
И люди старались держаться поближе к Гайдару...
Но это неотступное и для Аркадия Петровича утомительное внимание позволило по прошествии двух десятилетий собрать ценнейшие сведения о Гайдаре. И о том, что было в его сумке.
* * *
Александр Дмитриевич Орлов вспоминал:
«Я часто слышал от Аркадия Петровича:
— Эх, и напишу же я, товарищ полковник, обо всем, как оно было!
Но о том, что он пишет, Гайдар говорить не любил и мне свои записи ни разу не показывал. И я бы никогда не узнал, что он носил в своей сумке, но помог случай.
Скрываясь от преследования, мы переходили ночью вброд речку. А когда под утро сделали привал, Гайдар обнаружил, что документы в кармане и рукописи в сумке искупались вместе с ним. Он встревожился. Тут же вытряхнул из сумки все, что в ней было. И занялся прежде всего тетрадями и блокнотами. К счастью, они пострадали не очень.
Зато намокли записи на отдельных листках, которых в сумке было множество: тут и вырванные тетрадные страницы, обрывки театральных афиш; он писал на бланках полетных листов, которые брал у меня, на чистых сторонах листовок, наших и немецких, и даже на обертках от концентрата.
Тетради свои Аркадий Петрович берег. Заносил в них лишь особенно важное. Остальное записывал на чем попало: с бумагой на фронте было туго.
Разгладив листки, каждый в отдельности, он принялся их сушить, наколов на ветки вокруг костра. А несколько страничек долго держал над огнем в руках. В тот вечер Аркадий Петрович признался мне, что есть у него два законченных очерка. Один о летчиках нашей дивизии лейтенанте Хлястаче и капитане Солдатове, подвиг и гибель которых он видел. Назывался очерк «Во имя Родины». А второй — «Варвары двадцатого века» — был о зверски замученных людях: гитлеровцы обмотали их колючей проволокой и живыми бросили в пруд.
Я попросил Аркадия Петровича при случае эти очерки почитать. Они произвели на слушателей большое впечатление. Были у Аркадия Петровича и другие вещи, незаконченные. О них он со мною ни разу не говорил».
***
«...Аркадий Петрович рассказывал в Семеновском лесу, — вспоминал бывший лейтенант Сергей Федотович Абрамов, — как он тонул в речке Трубеж. Это была неширокая, болотистая речушка на пути отступления наших войск. И многие, думая, что ничего не стоит ее перейти, спокойно шли в воду, а их начинало засасывать. Гайдар в ней чуть не погиб, но какой-то красноармеец его спас.
И хотя случай был скорее грустный, чем веселый, Гайдар так смешно изображал, как смело он сперва ступил в воду, но тут же поскользнулся, думая удержаться, сделал шаг, а нога почти по колено ушла в илистое дно и как потом незнакомый этот боец тащил его за воротник, что все, кто слушал Аркадия Петровича, покатывались со смеху. Но смеяться громко было нельзя — неподалеку находились немцы, — и оттого становилось еще смешней.
Гайдар написал потом про этот случай рассказ, и в партизанском отряде под Леплявою бойцы часто просили его этот рассказ прочитать».
***
Одно из самых ценных свидетельств принадлежит разведчице партизанского отряда Марии Моисеевне Денисенко (по отцу — Ильяшенко). В 1941 году ей было пятнадцать лет. И Гайдар звал ее «Желтая ленточка».
«Мы сидели в лагере у костра, — вспоминала Мария Моисеевна. — Кто-то вдруг обратился к Гайдару:
— Аркадий Петрович, прочтите, что вы пишете. Хоть сколько-нибудь.
Мне показалось, что Гайдар смутился: уж очень искренне его просили, — но что-то мешало ему согласиться. Он помолчал, потом ответил:
— Записки свои читать сейчас не буду. Это еще только заготовки, наброски. Над ними нужно много работать. Вот напечатаю книгу, сами тогда и прочтете. А пишу я о том, что мы с вами из разных мест, у нас непохожие судьбы, но неожиданно и тревожно повернулась жизнь, и мы стали «лесными братьями». Я много о вас написал. Думаю, напишу еще больше. И если выйдем из леса, из кольца, страна трудов ваших не забудет.
Я подошла к Гайдару попрощаться и спросила:
— Аркадий Петрович, а вы разве пишете только о войне?
— Я пишу о многом, но о войне, конечно, в первую очередь.
— Но раньше у вас были только детские книги. А теперь, значит, будет книга для взрослых?
— Я надеюсь, — ответил Аркадий Петрович, — что напишу много книг. Я хочу написать роман для взрослых, но в нем обязательно будет про ребят. Я напишу роман для ребят, но обязательно расскажу о мужестве детей и взрослых... И еще мне хочется написать о комсомольцах твоего поколения, потому что, когда мне было столько же лет, сколько тебе, я тоже впервые воевал здесь, на Украине, и дымное то время и себя той поры я хорошо помню...
Потом я узнала, что Гайдар убит и неизвестно куда исчезли его тетради. Ни одна страница не попала в добрые руки. А ведь все можно было переписать. Все можно было спрятать.
Но Гайдар не думал, что погибнет. Не верил...»
ПАКЕТ, ПЕРЕВЯЗАННЫЙ ВЕРЕВОЧКОЙ
В партизанском отряде под Леплявою ожидалось важное событие: полковник Орлов, собрав сильную группу, готовился к маршу по немецким тылам и переходу через линию фронта. Гайдар, несмотря на долгие уговоры, заявил, что остается в лесу:
— Я здесь найду для себя материал, и мой пулемет без дела не соскучится, — оправдывал он свое решение.
Часов в шесть вечера 18 октября Орлов пришел в лагерь прощаться. Был он в полушубке, который выменял за свой кожаный реглан, в ушанке вместо фуражки с «крабом», с нарочно подзапущенной бородой, чтоб иметь «селянский» вид. К удивлению полковника, Гайдар пригласил его к себе в землянку (чего прежде никогда не делал). В сыром, тесном помещении на врытом в землю столе метался язычок коптилки. Потолок был так низок, что Орлов не смог выпрямиться, и поспешил сесть на ближайшую койку. А Гайдар прошел к своей, в левом дальнем углу.
В спорах последних дней все было переговорено. Оба помолчали. Орлов — недоумевая, Гайдар — собираясь с духом. Наконец Аркадий Петрович сунул руку под тюфяк и вынул пакет. Он был не толще двух или трех вдвое сложенных школьных тетрадок, обклеен снаружи розоватой бумагой и для прочности перевязан тонкой пеньковой веревочкой.
— Товарищ полковник, возьмите, пожалуйста, это с собой. Если дойдете до наших, перешлите в Москву. А мало ли что произойдет в пути — выкиньте или сожгите.
Полковник смутился.
— Нам предстоит пройти по тылам врага в лучшем случае шестьсот километров, — сказал он, — и я не уверен, что сумею донести бумаги в сохранности.
Гайдар помедлил и небрежно кинул пакет на стол. Говорить сразу стало не о чем.
Наклонив голову, чтобы не стукнуться о бревна потолка, полковник направился к выходу, кинул взгляд на пакет, что лежал возле коптилки, и поднялся наверх.
Гайдар проводил Орлова и его товарищей до ближайшего поворота, сунул в карман полковнику — на память — кожаный портсигар с табаком и мундштук. Обнялись, догадываясь, что, скорее всего, больше не встретятся...
Что же заключал в себе сверток, перевязанный веревочкой?
— В пакете были те два очерка, — сказал мне Орлов, — которые Аркадий Петрович когда-то нам читал.
Но точно Александр Дмитриевич этого знать не мог. Пакета он не распечатывал. У Гайдара ничего не спросил. И мнение его чисто предположительное. Ведь о других произведениях, которые хранились в той же сумке, полковник просто не знал.
Могли быть в пакете два этих очерка? Конечно. В равной степени как и другие:
о штабе Тимура на Крещатике;
о десантниках комбрига Родимцева;
о двухдневном бое в немецком тылу возле деревни Скопцы;
о подвиге комсомольцев, которые увезли из Семеновского леса на дальние хутора несколько десятков раненых;
о героизме искалеченного капитана Рябоконя — он стал проводником группы Орлова;
о боевых действиях партизанского отряда под командой Ф. Д. Горелова (здесь перечислены только те сюжеты, которые известны нам).
Но когда я вновь и вновь обдумывал эпизод с пакетом, из головы не выходила одна подробность: волнение. Почему Аркадий Петрович так волновался перед разговором с полковником? Ведь Орлов уходил к линии фронта не один. Любой участник группы с великой радостью согласился бы выполнить поручение писателя.
Однако, выслушав резоны полковника, который не сказал ничего нового, Гайдар бросил пакет на стол, а не отдал его кому-нибудь другому.
Почему?
Видимо, в пакете, кроме одного или двух очерков, находились еще какие-то бумаги, которые нуждались в том, чтобы кто-то засвидетельствовал: все изложенное в этих документах — правда.
А полковник Орлов, участник гражданской и войны в Испании, орденоносец, начальник штаба авиационной дивизии, был самой авторитетной личностью среди тех, кто 18 октября направлялся к линии фронта.
Что же могло быть в пакете?
Первый (предположительный) документ — письмо в Союз писателей СССР, ЦК ВЛКСМ и редакцию «Комсомольской правды». Дело в том, что Аркадий Петрович отказался улететь последним самолетом из Киева. Он счел нужным разделить судьбу армии, которая попала в окружение. Это было мужественное и самоотверженное решение. Но, говоря официальным языком, Гайдар нарушил в военное время приказ...
Не исключено, что пакет содержал объяснения по этому поводу и в самой сжатой форме — отчет о боевой деятельности в тылу врага. Однако любое сообщение в годы войны нуждалось в проверке или подтверждении.
И писатель полагал: полковник Орлов, с которым они вместе шли от Семеновского леса под Киевом, мог засвидетельствовать, что каждое слово в объяснительной записке соответствует истине.
Второй (предположительный) документ. Основываясь на краткой хронике боевых действий партизанского отряда под командой Ф. Д. Горелова, Аркадий Петрович мог изложить некоторые свои мысли о том, что можно и нужно сделать для быстрого развития партизанскогодвижения на оккупированной территории.
Именно в те дни, лежа в засаде, Гайдар сказал своему товарищу, младшему лейтенанту Михаилу Федоровичу Тонковиду:
— Надо поскорее всем отрядом сниматься с этого места. Сначала хотя бы на Черниговщину, а там — в Брянские леса. Связаться с Центром, с фронтом, собрать побольше людей. Не сто и не двести человек, а целую партизанскую армию — с настоящей разведкой, санчастью, пулеметными ротами и даже со своей артиллерией. И тогда весь мир узнает, на что способны в нынешней войне партизаны.
Гайдар полагал: перейдя фронт, полковник может сообщить командованию: под Каневом действует партизанский отряд. В нем имеются бывалые люди. Если будет налажена связь с Центром, отряд сможет передавать важные сведения о противнике.
Вполне вероятно, что именно об этом Аркадий Петрович собирался поговорить с полковником в землянке.
Но Орлов пакета не взял. Разговор не состоялся. Запечатанный сверток, возвратясь с проводов, Аркадий Петрович, скорее всего, опустил в маленькое отделение своей сумки.
Гайдар впервые предпринял попытку передать кому-то часть бумаг...
...26 октября 1941 года, через восемь дней, Аркадий Петрович погиб. С той поры никто больше не видел его сумку.

Часть II. ГДЕ СУМКА?
СЕКРЕТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
В первых числах июня 1944 года от массивного серого здания на улице «Правды» в Москве, где находится редакция «Комсомолки», взял с места «виллис». Крылья его были залатаны. Верх — самодельный фанерный. В кабине находились двое: сержант-шофер и офицер с погонами капитана. С короткими остановками «виллис» мчался на недавно освобожденную Украину. Когда машину останавливали военные патрули, офицер протягивал вчетверо сложенный мандат на плотной бумаге:
Редакция газеты «Комсомольская правда»
4 июня 1944 года
Удостоверение (секретное)
Редколлегией газеты «Комсомольская правда» на военного корреспондента капитана А. Ф. Башкирова возложены розыски могилы погибшего партизана, писателя Аркадия Петровича Гайдара, похороненного в Полтавской области, близ города Канева; ему поручено также с помощью местных организаций привести в порядок могилу писателя, поставить обелиск и организовать гражданскую панихиду.
Просьба ко всем военным, советским, партийным и комсомольским организациям Украины и организациям Союза писателей Украины оказывать тов. Башкирову содействие в выполнении возложенных на него обязанностей.
Секретный мандат капитана Башкирова был отпечатан на таком же бланке и скреплен той же подписью и печатью, что и удостоверение Гайдара, с которым он уехал на фронт в июле 1941 года.
В Каневе «виллис» пересек по понтонному мосту Днепр, взметая песок всеми четырьмя колесами, добуксовал до Леплявы и остановился на маленькой площади возле сельского Совета.
Но в сельсовете в этот час никого не было. На дверях темнел тяжелый замок. Капитан спросил пожилую женщину в мужском пиджаке, которая проходила мимо:
— Вы не скажете, где похоронен писатель Гайдар?
Женщина пожала плечами.
— Могил тут много. Он через Днепр переплывал или в госпитале умер? Кто в госпитале, тех подальше хоронили.
— Он был партизан. Погиб в сорок первом.
— Так бы и сказали. У нас тут похоронен всего один партизан. Его могила — возле железницы. То есть возле железной дороги. Только туда не ходят. Можно подорваться. Немцы везде насовали мины.
— А знал этого партизана кто-нибудь в селе?
— Если кто и знал, то молчали. Зайдите к Фене Степанец. Тут по дороге. Я вас проведу.
Женщина издали показала хату, палисадник с двумя грушами. Аккуратное крыльцо. Соломенная крыша. Больше дом не был примечателен ничем.
Башкиров постучал. Ему открыла молодая женщина в белом платке.
— Можно у вас переночевать? — спросил капитан.
— Вам будет у нас неудобно — четверо детей.
— А я люблю, когда много детей, — весело ответил капитан.
Обстановка в избе была бедная. На капитана сразу уставилось четверо ребят: два мальчика постарше и две совсем еще маленькие девочки. Башкиров назвал себя.
Хозяйка сдержанно ответила:
— Феня.
Она полила на руки капитану и шоферу, приготовила ужин: теплая картошка из чугуна, глечик молока, два сиротливых кусочка хлеба на тарелке.
Башкиров подал знак. Водитель принес из машины мешок, и капитан выложил на стол две банки свиной тушенки, запарафиненную коробку яичного порошка, буханку серого хлеба и пакетик пиленого сахара.
При виде сахара оживились дети, которые сидели в сторонке. Башкиров поднялся, подошел к каждому с пакетиком, ребята вежливо взяли по куску. Разговаривать стало легче.
За ужином капитан спросил:
— Феня, а бывали у вас в сорок первом году партизаны?..
Хозяйка побледнела, поперхнулась картошкой. В ее расширенных зрачках капитан увидел страх.
— Почему вы испугались? — смущенно спросил он. — Вот мои документы. — Он протянул свой мандат и офицерское удостоверение.
Внимательно прочитав оба документа, Феня успокоилась и объяснила:
— Неделю назад, в Сушках, недалеко отсюда, в хату вошел военный, тоже попросил рассказать, как в сорок первом помогали партизанам. А потом вынул два револьвера и застрелил хозяина... Военный был переодетым полицаем.
Феня успокоилась и коротко рассказала, что муж ее был партизаном. Несколько раз приходил домой из леса вместе с Гайдаром. Мужа потом схватили и расстреляли фашисты.
— Коля и Витя хорошо помнят Гайдара, — закончила она.
Башкиров повернулся к мальчикам.
— Веселый был, — улыбнулся Витя.
А Коля добавил:
— Дядя Аркадий давал нам поручения.
Капитан понял, что ему повезло.
Помощником Башкирова стал бойкий Витя. Рано утром он повел капитана к насыпи, возле которой был похоронен Гайдар.
Башкиров по дороге вспомнил вчерашнее предостережение насчет мин.
— Не бойтесь, — успокоил Витя. — Это в лесу корова подорвалась. А возле могилы еще никто не подорвался.
За насыпью, неподалеку от будки путевого обходчика, Башкиров увидел прибитый ветром и дождями поросший травой беспризорный холмик.
«До моего посещения, — писал через несколько дней
капитан Башкиров, — могила Аркадия Петровича Гайдара... ничем не выделялась и не было на ней ни столбика, ни дощечки с указанием имени погибшего. Но колхозники села Леплява знали, что здесь похоронен погибший в бою с немецкими захватчиками партизан-писатель Гайдар.
Однако запущенность могилы объясняется тем, что окрестности села еще не разминированы...»
Башкиров сорвал несколько одуванчиков и положил их на холмик.
С окраины села Витя отвел капитана в центр, в сельсовет. Его председатель, Тарас Федорович Бутенко, обрадовался появлению Башкирова. Бутенко сам был в партизанском отряде, помнил Гайдара.
— Да, — подтвердил он, — возле будки обходчика похоронен Аркадий Петрович. Но раз вы приехали и у вас такой мандат, давайте перенесем могилу Гайдара прямо под окна сельрады...
— Полномочий на перенос праха у меня нет, — сдержанно ответил Башкиров. — Лучше помогите привести могилу в порядок.
Бутенко распорядился вызвать плотников, заказал им «памятный знак» и стал рассказывать о Гайдаре.
Капитан вынул из планшета блокнот, начал записывать. И тут в воспоминаниях Бутенко мелькнула важная подробность.
«Гайдар, — отмечал позднее в отчете Башкиров, — вел дневник партизанского отряда, создал несколько лирических произведений в форме писем к сыну, жене, читал их партизанам».
«Дневник и свои произведения, — продолжал Башкиров, — автор всегда носил с собой, и они попали в руки к немцам». И в другом месте, рассказывая о гибели Аркадия Петровича, капитан отметил: «Немцы тут же сняли с погибшего партизана его орден, верхнее обмундирование, забрали тетрадки, блокноты» (разрядка моя. —
Б. К ).
Это было первое и последнее упоминание о пропавших бумагах Гайдара в документах военных лет.
«ХРАНИТЬ В ТАЙНЕ ДО КОНЦА ВОЙНЫ!»
Отчет Алексея Филипповича Башкирова был опубликован в 1951 году. А осенью 1963-го Константин Федотович Пискунов, директор издательства «Детская литература», а в прошлом — редактор и друг Аркадия Петровича, подарил мне машинописную копию отчета и два снимка, сделанные Башкировым.
На одном был изображен могильный холмик, каким его впервые увидел Алексей Филиппович. На другом — уже приведенная в порядок могила с надписью на простой сосновой доске:
А. П. Г А Й Д А Р
Писатель и пулеметчик партизанского отряда
Погиб в октябре 1941 г.
Над словом «октябрь» кто-то поставил число: «26».
Дома я подолгу рассматривал снимки, перечитывал листки отчета, пока однажды не пришла простая мысль: да ведь Башкиров, газетчик и специальный корреспондент, должен был напечатать в «Комсомолке» статью!..
Я тут же вынул из ящика стола папку с библиографией — то есть списком статей и воспоминаний о Гайдаре. В длинном перечне авторов фамилия «Башкиров» не значилась...
«Ничего, — успокоил я себя. — Мне ведь тоже не сразу пришло на ум, что на страницах «Комсомолки» военной поры затерялась его статья».
С трудом дождался рассвета. В газетный зал Исторической библиотеки пришел самым первым. Сотрудница в синем халате принесла тяжелую подшивку за 1944 год.
Я подсчитал: Башкиров выехал из Москвы в Лепляву примерно 5 июня. Четыре дня на дорогу в один конец. Столько же на обратный путь. Дней десять заняло расследование. Дня два — составление отчета. Еще три на то, чтобы превратить отчет в очерк. Итого двадцать три дня. Пусть двадцать пять. Значит, не позднее первых чисел июля очерк капитана Башкирова должен был появиться на полосе.
Я начал нетерпеливо листать газетные страницы, ожидая увидеть большую статью с портретом. Скорей всего, на второй полосе. Ведь Гайдар был не просто пулеметчик и партизан, не просто известный писатель и кинодраматург, но еще и военный корреспондент «Комсомольской правды».
Больше того, статья Башкирова должна была вызвать поток читательских писем. Возможно, некоторые из них позднее тоже были напечатаны.
...Очерк Евгения Воробьева «Человек выходит из леса» — о белорусских партизанах.
...«О чем рассказывают стены» — десятки надписей на штукатурке немецкого застенка.
Стихи Михаила Матусовского «Надписи, взывающие к мести».
Указ о награждении полковника Александра Покрышкина третьей медалью «Золотая Звезда». Его портрет и статья — «Лучший летчик СССР».
И вдруг: «Он смертью утвердил бессмертие!»
Вторая полоса, как я и предполагал. Небольшой портрет. Печать плохая. Изображение смазано. Похудевшее лицо. Гимнастерка с пустыми петлицами. Выглядит очень молодым. На фотографиях после ретуши это случается. Снимок неизвестный. Машинально подумалось: «Нужно разыскать негатив».
Подавив волнение, начал читать статью — она была посвящена подвигу связиста...
Внимательно просмотрев подшивку за все второе полугодие 1944 года, я не обнаружил даже заметки в двадцать строк. Да что заметки — не было даже традиционной траурной рамки: «Редакция с глубоким прискорбием извещает, что при исполнении служебных обязанностей погиб военный корреспондент газеты, писатель-орденоносец...»
Проверил по числам — комплект полный. Тогда я начал листать подшивку снова. Я хотел знать: напечатал ли что-нибудь Башкиров после своей поездки в Лепляву?..
18 июля. Корреспонденция «За Собеж». Подпись: «А. Башкиров. Действующая армия. По телеграфу».
22 июля. Репортаж «Город взят на рассвете».
9 августа. Очерк «Один летный день» — о летчиках-штурмовиках. «Второй Прибалтийский фронт. По телеграфу».
С каждой новой корреспонденцией Башкиров удалялся от Москвы. Я понимал: нужны материалы о летчиках, саперах, пехотинцах. Но почему Башкиров не напечатал хотя бы сто строк о подвиге писателя и журналиста? Не доехав до Москвы, получил новое задание? Но если Алексей Филиппович нашел способ переслать в Москву свой отчет, он имел возможность переправить и статью.
Больше того, отчет Башкирова изложен строго, мужественно, лаконично. Документ волнует до сих пор. Чтобы опытной рукой превратить его в репортаж, требовался от силы час. В редакции это мог сделать любой сотрудник.
Я начинал склоняться к мысли, что ни работники редакции, ни Башкиров не были повинны в этом молчании.
Тогда кто?..
В маленьком читальном зале уже не оставалось свободных мест. Я сидел у открытого окна, в которое врывался ветер. И страницы распахнутой подшивки вздрагивали, как живые. Листы были из плохой, толстой бумаги. Они пожелтели, сделались ломкими. Поврежденные страницы кто-то заботливо склеил прозрачной пленкой.
Для меня становилось все очевиднее, что в молчании этих полос по поводу гибели писателя заключена какая-то тайна.
Что за тайна?.. Этого я не знал. И не представлял, с какой стороны к ней подступиться.
«Хорошо, — сказал я сам себе, — предположим, что сейчас — сорок четвертый. Я — сотрудник «Комсомолки». Передо мной отчет Башкирова. А Гайдар был моим товарищем. Но редактор, допустим, заявил, что статью о гибели Гайдара он печатать не станет. В этом деле для него много неясного. Он не намерен спешить. Нашел бы я способ, не помещая некролога, сказать с газетной полосы, что Гайдар погиб?»
И я начал перелистывать подшивку в третий раз. Теперь я искал статьи с будничными, спокойными заголовками. Я понимал, что в нарисованной моим воображением ситуации сведения о трагической судьбе Аркадия Петровича не могли лежать на поверхности. Их следовало терпеливо искать.
И я остановился на литературно-критическом обзоре, который поначалу пропустил.
Обзор был помещен 30 июня (машинально прикинул: «Башкиров уже успел вернуться из Леплявы»). И назывался так: «Ребята ждут нового Тимура». Подпись: «К. Андреев». Кирилл Андреев — критик, беллетрист, исследователь литературы для детей и юношества. Он был хорошо знаком с Аркадием Петровичем.
Я пробежал глазами первый абзац. И озноб прошел по телу:
«С момента выхода в свет повести о Тимуре, — говорилось в статье, — прошло несколько лет. Вчерашние дети с оружием в руках вышли на дороги войны. Но Аркадий Гайдар никогда уж не расскажет о Тимуре, ставшем взрослым. Воин в жизни и в литературе, он умер на посту».
Я уже не сомневался: ради этой единственной фразы был написан весь обзор.
Передо мной лежало первое печатное сообщение о гибели Гайдара. Это был некролог. И хотя я ожидал, что сообщение будет зашифровано, я ощутил душевную боль от того, как оно было составлено и подано.
Когда каждая статья «Комсомолки» прославляла подвиг, героизм, самоотверженность, о Гайдаре, который погиб в поединке с фашистами, было сказано, что он «умер на посту». До войны так писали о людях, которых разрыв сердца настигал в служебном кабинете.
Знала ли редакция, что Аркадий Петрович погиб в бою? Да. Осведомленность проступала в нарочито затуманенной фразе: «Воин в жизни и в литературе». Но при этом газета ни словом не упоминала, что Гайдар пал на войне, в партизанском отряде.
Почему?
Я сдал подшивку и вышел на улицу Богдана Хмельницкого. Проходя мимо Центрального Комитета комсомола, я посмотрел на зеркальные стекла подъездов. Сюда много раз наведывался Аркадий Петрович. Здесь он добился разрешения поехать на фронт корреспондентом «Комсомольской правды». И, вспомнив статью, снова спросил себя: «Почему?» Усомнились, что Аркадий Петрович погиб достойно? Но слова о том, что он умер «на посту», служили признанием его мужества и верности долгу.
«А что, если летом сорок четвертого обстоятельства гибели Гайдара было решено засекретить? — задал я себе вопрос и тут же ответил: — Чушь!»
Я шел по Сретенке. Ехать в автобусе у меня не было желания.
Что могло быть секретного в том, что на окраине села Леплява погиб хороший, отважный человек, по роду основных своих занятий — писатель?
Наоборот, известие о том, что гитлеровцы убили Гайдара, породило бы в его читателях волну ненависти к врагу. Тысячи оккупантов поплатились бы жизнью, огромное количество немецкой военной техники было бы уничтожено — «За Гайдара!». Понимали это в редакции «Комсомолки»? Видимо, понимали. Тогда в чем же дело?
Я отвлекся на минуту от размышлений, чтобы перейти Колхозную площадь, где при зеленом свете, словно бешеные, срываются с места полчища машин. И на углу проспекта Мира, возле магазина подписных изданий, снова спросил себя: «А не было ли в обстоятельствах гибели Гайдара такого, чем бы могла воспользоваться гитлеровская пропаганда? Ведь одно дело — если человек погибает в окопе среди своих...»
И я остановился от внезапной догадки посреди тротуара.
«Было обстоятельство, — с болью признался я. — Было. Сумка. Тетради. Блокноты. Записи на отдельных листках. Но с другой стороны — чем уж гитлеровцы могли там поживиться? Секретных бумаг в сумке не было. Эпизоды обороны Киева? Марш-бросок от Семеновского леса к Лепляве? Перечень боевых операций партизанского отряда? Все это не представляло большого интереса для противника. Кроме того, многие записи Аркадия Петровича были зашифрованы... И потом, какое все это могло иметь значение в 1944 году?..»
Я с облегчением перевел дух. И вдруг: «Удостоверения! Вместе с сумкой убийцы забрали членский билет Союза писателей СССР и удостоверение «Комсомольской правды» с фотографиями и личной подписью!»
Вот когда мне многое стало понятным...
КОЕ-ЧТО О ФАШИСТСКОЙ РАЗВЕДКЕ
У Гайдара была любимая игра: «А что было бы, если б было?» Помните, в «Военной тайне» в нее играют Владик Дашевский и Толька? Это была серьезная игра. Она развивала «ситуативное мышление», то есть умение быстро решать, что делать в зависимости от перемены обстоятельств.
С годами играть в такую игру научился и я, поэтому мысленно сказал себе: «А что было бы, если бы 30 июня 1944 года вместо статьи Андреева «Комсомольская правда» напечатала очерк Башкирова?»
...Газета поступила бы на фронт. «За Гайдара!» — писали бы на своих снарядах артиллеристы, на минах — минометчики, на торпедах — моряки.
Но та же «Комсомолка» появилась бы и в киосках за границей.
Предположим, что в нейтральной Швейцарии агент немецкой разведки вместе с утренней порцией газет купил бы «Комсомольскую правду», вырезал статью А. Башкирова, положил ее в конверт с другими выловленными «разведданными» и отправил в Берлин.
В Берлине, в управлении имперской безопасности, офицер, к которому по роду службы поступила бы статья из «Комсомолки», позвонил бы в архив:
«Посмотрите по картотеке, попали к нам документы, бумаги и вещи советского писателя, идеолога детей, изобретателя новой коммунистической игры «Тимур»?»
В гитлеровской армии существовала секретная инструкция о сборе всех образцов советских документов, а также фотографий, дневников и писем. Если сумка Гайдара и его удостоверения личности попали в руки гитлеровцев, то какой-нибудь немецкий обер-лейтенант или майор обязан был тут же все переслать в Берлин.
Не исключено, что в октябре 1941 года, когда гитлеровцы планировали вот-вот вступить в Москву, сумку Гайдара никто в Берлин не послал. Или объемистый пакет с бумагами писателя, отправленный в столицу Германии, сгорел в поезде, который подорвали партизаны.
Однако в июле 1944 года офицеру из управления имперской безопасности могли ответить и так:
«Да, согласно секретной инструкции о сборе всех образцов русских документов, деловой и личной переписки, Золотоношская комендатура в ноябре 1941 года прислала нам пакет, о котором вы спрашиваете».
Дальнейшее становилось делом техники.
Фотоцех отдела дезинформации получил бы срочное задание: на основе фотографий с удостоверений изготовить групповой снимок: «русский писатель Гайдар (во власовской форме) дружески беседует с немецкими детьми из гитлерюгенда».
А в это время в графологической лаборатории опытный мастер из фальшивомонетчиков, пользуясь образцами почерка и личной подписи, буква за буквой рисовал бы «собственноручное обращение кумира советской молодежи к читателям».
А затем над всей линией фронта самолеты сбросили бы полтора-два миллиона листовок с «групповым портретом» и «личным письмом».
Имелись ли основания опасаться такой провокации? Имелись. В 1937 году при перелете через Северный полюс пропал самолет Героя Советского Союза Сигизмунда Леваневского. Поиски велись несколько месяцев. Но никаких следов самолета и его экипажа обнаружить не удалось.
А когда началась война, гитлеровцы объявили, что Леваневский давно живет в Германии. Будто бы они его подобрали во льдах и теперь он летает бомбить Москву. Фашисты действовали по принципу: если врешь, то ложь должна быть колоссальна.
Вот почему за десять с половиной месяцев до падения Берлина пришлось позаботиться о том, чтобы гитлеровцы, убив Гайдара, не осквернили его память, не запятнали честное имя писателя. Вот почему, догадался я, не была напечатана статья Башкирова.
Но я жалею об этом до сих пор. Рассказ о героизме и гибели Гайдара вызвал бы тысячи откликов. И конечно, отозвались бы прежде всего те, кто встречал Аркадия Петровича в сорок первом, кто участвовал с ним в боях. По самым свежим воспоминаниям и свидетельствам Башкиров мог бы написать свою книгу «Гайдар на войне» с такими подробностями, которые теперь уже не восстановить.
Но главное — на статью мог отозваться один бывший мальчишка. Не подозревая, насколько важен этот мальчишка для его расследования, капитан Башкиров вскользь, мимоходом, не называя имени, упомянул его в своем отчете как «курьера и ординарца у партизана Гайдара».
Этот бывший «курьер и ординарец» был единственным человеком, кто в 1944 году мог располагать точными сведениями о местонахождении сумки.
Но партизан Бутенко уверил корреспондента, что все бумаги писателя попали к немцам. И капитан Башкиров летом сорок четвертого их уже не ищет. «Курьер и ординарец» не имеет понятия, что его сведения нужны. Узнать это он мог бы только из статьи в «Комсомольской правде».
Но отчет о поездке в Лепляву по крайней мере до конца войны кладут в бронированный сейф...
А в послевоенные годы за подписью Башкирова не появляется ни одной строки о Гайдаре.
Снова недоумеваю: почему?..
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КАПИТАНА БАШКИРОВА
Я решил познакомиться со своим предшественником по поиску Алексеем Филипповичем Башкировым. Я надеялся, что беседа с ним поможет мне получить ответ на целый ряд вопросов.
Позвонил в «Комсомольскую правду». Мне ответили:
— Башкиров у нас давно не работает.
— Как давно?
— Из нынешних сотрудников его никто не помнит.
Озадаченный, я отправился на Суворовский бульвар, в Союз журналистов СССР. В каком бы городе Башкиров после войны ни жил, в какой бы редакции ни работал, здесь должны были знать его адрес, даже если он вышел на пенсию.
В отделе учета молодая сотрудница дважды внимательно просмотрела картотечный ящик. А. Ф. Башкиров в списках Союза журналистов не числился.
Я отправился на улицу Воровского. На третьем этаже старинного особняка нашел отдел творческих кадров Союза писателей СССР. Объяснил, кто и зачем мне нужен. Передо мной положили толстый справочник Союза писателей СССР. И здесь Башкиров не числился тоже.
Снова позвонил в «Комсомолку»:
— Не могли бы вы дать мне адрес, — сказал я, — по которому проживал Башкиров?
— Пожалуйста, — приветливо ответил женский голос. — Сущевская улица...
Это оказалось недалеко от моего дома. Через пятнадцать минут я уже подымался по лестнице. Дверь открыл пожилой мужчина.
— Да, Алексей Филиппович здесь жил, — подтвердил он. — Очень деликатный. Никогда не спорил с соседями. Но после войны он куда-то уехал и не вернулся. Комната его долгое время стояла пустая. Потом ее отдали другим жильцам.
— А имущество? — спросил я. — Мебель? Книги?
— Мебель? Затрудняюсь вам ответить. По-моему, все забрал райфинотдел.
— Но, может, завалялся чемодан? Или он оставил связку бумаг? Или блокнот? Хоть что-нибудь?
— Сожалею... Но если даже и оставил, после войны могли сжечь. С дровами, знаете, долго было плохо. А печи подтапливали, случалось, и книгами.
Из квартиры Башкирова я ушел вконец обескураженный. Вроде был человек. И все его помнят. А никаких следов.
Запросил Центральный адресный стол: здесь должны были знать, где живет Башкиров, даже если он поселился на Северном полюсе. Но на листке, который мне вернули, небрежно, карандашом, было набросано: «Никаких сведений».
Обращение в разного рода инстанции также не дало никаких результатов. Алексей Филиппович не числился ни в живых ни в мертвых. И по всему выходило, что он пропал без вести после войны.
Знает ли кто-нибудь, кроме меня, о его исчезновении? Вот и сосед сказал: «Уехал и не вернулся». Что, если одни думают, он получил новое назначение, другие — новую квартиру?
В истории гибели Гайдара было много неясного. Эти загадки могли не давать покоя и Башкирову. Но пока шла война, он не имел возможности возвратиться в Лепляву. Кончилась война — и Алексей Филиппович таинственно исчез.
А не могло быть так, что он не вернулся из второй своей поездки под Канев?
Встречаясь с партизанами, я теперь неизменно спрашивал о Башкирове. В Лепляве и соседних селах после войны его никто не видел. Оставалось надеяться, что дальнейший поиск что-нибудь прояснит.
О ПОЛЬЗЕ ЛОГИКИ
Меня все больше занимала судьба сумки.
Я собрал копии всех писем и документов о Гайдаре, присланных в Москву в 1942—1944 годах. И после войны. Об Аркадии Петровиче сообщали: полковник А. Д. Орлов, лейтенант С. Ф. Абрамов, батальонный комиссар В. Д. Коршенко, капитан третьего ранга Борисов, старший лейтенант И. Гончаренко, вдова партизана А. Ф. Степанец, вдова лесника, помогавшего окруженцам, А. А. Швайко и другие.
Но о пропавших бумагах упоминал только Алексей Филиппович Башкиров. Литератор, он понимал, какую ценность представляли рабочие тетради Гайдара. Не случайно в отчете капитана мелькнул и такой штрих: Аркадий Петрович в отряде вел дневник в форме лирических писем к жене и сыну. Видимо, Гайдар читал дневник вслух. Ведь он любил читать свои произведения. Значит, партизаны, которые слышали это чтение, могли припомнить, о чем Гайдар писал.
Но в своей работе я теперь пользовался одним суровым правилом: перепроверять все сведения и утверждения, которые поддаются проверке. Это был единственный способ отделить несомненные факты от правдоподобных домыслов.
Поскольку отчет капитана Башкирова был единственным документом, в котором упоминались тетради и блокноты Гайдара, то у меня возникло сразу несколько вопросов.
Откуда Алексею Филипповичу стало известно, что сумку забрали гитлеровцы? Скорей всего, ему сообщил Бутенко. Откуда знает Бутенко?.. Он видел?.. Или может назвать свидетелей?..
Снова еду на Украину. Беру на этот раз с собой портативный магнитофон. Все, что мне теперь расскажут, запомнит пленка.
В Киеве нахожу бывшего путевого обходчика Игната Терентьевича Сорокопуда. Это он хоронил Гайдара.
— Когда немцы подозвали меня и велели закопать убитого партизана, — вспоминает Сорокопуд, — я подошел и сразу же узнал Аркадия Петровича. Мы были с ним знакомы. Он заходил ко мне. Я его угощал и давал еды с собой... А тут он лежал на земле, в короткой своей солдатской шинели. Рядом валялась его ушанка с рыжим мехом. Но уже ни ордена, который он носил на гимнастерке, ни оружия, ни противогазной сумки на нем не было.
Значит, обходчик не видел.
Неподалеку от райцентра Гельмязево нахожу дом Тараса Федоровича Бутенко.
— Да, — подтверждает он, — я помогал Башкирову. Он спрашивал про сумку. И что сумку забрали немцы, сообщил ему я.
— Вы сами видели, что немцы уносили сумку?
— Самолично не видел.
Бутенко замолкает. И кассета накручивает длинную паузу.
— Назовите человека, который видел.
— Назвать по имени такое лицо не могу. Но что забрали немцы — точно. Все так говорят.
Нажимаю клавишу «стоп». Когда «все говорят», хотя никто не видел, у меня есть право усомниться.
Еду еще к двум партизанам. Они живут по соседству. Это братья Денис и Иван Ваченко.
Денис Семенович, парень из бедного украинского села, участвовал в штурме Зимнего. Слышал, как ударила «Аврора». С передовым отрядом ворвался в царский дворец. Денис Семенович держится скромно, рассказывает о Гайдаре душевно.
— У Аркадия Петровича была поговорка, — вспоминает он. — Услышит что хорошее или плохое, задумается и скажет: «Что ж, и это запишем!»
Я радуюсь точности припомненной детали: это очень похоже на Гайдара.
А Иван Семенович Ваченко желает выглядеть многозначительным. Хмурит брови, якобы от напряженной работы мысли. В отряде он был завхозом. В письмах ко мне обещал, что сообщит много важного. Но вот мы сидим с ним на крыльце вдвоем. Поют петухи. Вращаются кассеты. Бывший завхоз сыплет ворох не связанных между собою слов. Я прошу его уточнить отдельные подробности. Он путается и ничего дельного сказать не может.
О сумке спрашиваю братьев порознь. Ни один не видел, как немцы ее забирали. Кто видел? Не знают. «Но отчего ж, — спросил я себя, — «все говорят»?»
В юности мне довелось изучать прекрасную и стройную науку логику. Она исследует законы нашего мышления. В особенности я полюбил раздел «Доказательства и опровержения». Я научился во время споров обнаруживать логические ошибки в рассуждениях своих товарищей и двумя-тремя логическими приемами легко опрокидывал их доводы.
Обнаружил я типичную ошибку и в рассуждениях партизан. Они полагали: раз сумку Гайдара никто не видел после его гибели, значит, она пропала в момент гибели (то есть забрали гитлеровцы).
А если Гайдар за день до случившегося успел сумку спрятать? Этого обстоятельства партизаны не учитывали. Бутенко продолжал настаивать, что сумка попала в руки к немцам, хотя убедительных доказательств у него не было.
А я хотел верить, что Гайдар с его предусмотрительностью заранее позаботился о том, чтобы его рукописи — при любых обстоятельствах — остались целы и после изгнания гитлеровцев были доставлены в Москву.
Но доказательств, что он успел это сделать, я тоже не имел. Как же быть? Помочь мне могла только логика. Она учит: одно и то же суждение может быть либо истинным, либо ложным. Если утверждение Бутенко — сумку забрали немцы — истинно, то рукописи давно пропали и всякий поиск бесполезен.
Если же заявление бывшего партизана ошибочно, то возникает будничный, рабочий вопрос: где или у кого перед 26 октября Аркадий Петрович Гайдар оставил на хранение брезентовую противогазную сумку со своими бумагами?
В ПОЛУШАГЕ ОТ СУМКИ
Я поселился в Лепляве у Афанасии Федоровны Степанец. Это к ней в июне 1944 года попросился на постой капитан Башкиров. К ней в августе 1962 года впервые приехал я. С этой беленькой хаты под соломенной крышей начинался мой поиск на путях-дорогах Гайдара, который продолжается по сей день.
Весной 1964 года я обосновался у Афанасии Федоровны надолго. С военной поры в доме мало что изменилось: та же русская печка с лежанкой. Самодельный буфет до потолка. Лавки вдоль стен. Стол, врытый в сухую глину пола. Угол с иконой и портретом Тараса Шевченко.
Когда я подарил Афанасии Федоровне увеличенную фотографию Гайдара, она вставила ее в рамку, повесила высоко на стене и тоже убрала расшитыми полотенцами. Пока не началось строительство Каневской ГЭС, по вечерам горела керосиновая лампа, та самая, при свете которой писал Гайдар. Только пришлось купить новое стекло.
Я рано вставал, завтракал и уходил в старый партизанский лагерь. В его окрестностях я отыскал родник — маленький тугой фонтанчик, который бил из-под земли. Из этого родника пили и брали воду партизаны. Нашел поляну, которая служила отряду кухней. Тут еще валялись чугунные конфорки и раскрошенный кирпич плиты. Разбирал полусгнившую кровлю обвалившейся землянки в надежде что-нибудь отыскать. Но, кроме нескольких винтовочных патронов и гильз от немецких автоматов, не обнаружил ничего.
Я совершил пешие переходы от лагеря к Днепру, к селам Комаровка, Хоцки, Софиевка, где бывали бойцы. В их числе Гайдар.
Я пытался представить себе быт партизан, их трудные и опасные будни. Желая везде побывать, случалось, сбивался с дороги, попадал в незнакомые, пустынные места, где не у кого было спросить, как выйти к жилью.
В такие минуты чувствовал себя заброшенным и одиноким. Москва, мой дом, рабочий стол и полки с книгами представлялись отсюда, из молчаливого запущенного леса, чем-то далеким и нереальным.
Думалось: «Я приехал сюда по доброй своей воле. Если даже придется в лесу ночевать, утром попаду в какую-нибудь деревню. Меня там накормят. Но как же грустно, наверное, было в этих безлюдных зарослях тем, кто попал сюда, выходя из окружения?»
...Усилием памяти я находил тропинку, с которой сбился. Первый робкий огонек, замеченный впереди, придавал мне бодрость. И поздно вечером едва различимой дорогой я возвращался в Лепляву.
— Слава богу, — говорила Афанасия Федоровна, когда я открывал дверь.
На столе мигом появлялась горячая картошка, сало, огурцы, варенье, кружка с чаем, заваренным травами. И я снова думал: «Я провел в лагере только день и вот радуюсь пару над миской и теплым бокам фаянсовой кружки, о которую грею руки. Чем же была эта изба для партизан?»
— Афанасия Федоровна, — спрашиваю после чая, — вы помните у Гайдара сумку?
— Помню, — равнодушно отвечает она.
Афанасия Федоровна привыкла ко всяким вопросам.
С послевоенной поры круглый год приезжают в ее дом пионеры-тимуровцы, которые многие месяцы зарабатывали деньги на такую поездку; отдыхающие соседних санаториев, пассажиры туристских теплоходов, делающие остановку в Каневе; тормозят возле ее хаты роскошные «икарусы» и скромные «уазики».
И чем бы ни была занята Афанасия Федоровна: готовит ли она обед на совхозном стане (она признанная стряпуха), окучивает ли картошку или поливает клубнику в своем огороде, — увидев, что приехали посетители, она прерывает работу, моет руки, переодевается и идет к гостям.
Если народу приехало много, Афанасия Федоровна садится на специально построенную скамеечку возле избы. С мягкой улыбкой спрашивает, откуда пожаловали ее гости: ей это интересно. Сама она ездит редко и только к своим детям.
А потом, волнуясь, словно беседует об этом впервые, начинает бесхитростный рассказ о сорок первом, о партизанском отряде, что находился в лесу, — а лес вот он, прямо за ее огородом. И о том, что у них в доме гостил Аркадий Петрович Гайдар.
И, видя, как безотказно Афанасия Федоровна отрывается от своих дел, которые будет заканчивать вечером или даже ночью, посетители не догадывались, что уже не первое десятилетие она несет тяжелую эту обязанность лишь по доброй своей воле.
Рассказывать о тех, кого нет, Афанасия Федоровна считала своим долгом перед Гайдаром, мужем, братом и другими погибшими партизанами, ничего за многие тысячи своих встреч и бесед не получая. И не требуя.
— Помню сумку, — повторяет она. — Когда Аркадий Петрович приходил к нам с хлопцами, в углу возле шкафа поставит ружье с железной тарелкой...
— Ручной пулемет.
— Нехай будет пулемет... Скинет шинель. На боку, под шинелью, сумка у него всегда и висела. Он нарочно так ее носил, чтобы не снимать. Умывался с сумкой. К столу садился с ней. Иногда только ставил на лавку рядом. Сидел обычно, где вы сейчас, на лавке возле окна. Если еда еще не готова, придвинет лампу, вынет тетрадку. И начинает писать. Когда ставлю тарелки, вижу: буковки мелкие, ровные. Одна от другой отдельно. Перелистывая страницу, зыркнет глазами, увидит, что все готово, но люди стесняются сесть, чтоб не помешать, скажет: «Извините», спрячет тетрадку в сумку, застегнет и примется за еду.
Ел он мало. Пожует, похлебает, положит ложку: «Благодарю вас, Феня, очень вкусно». Снова пристроится на краешке стола с тетрадкой. И пока другие доедают, еще немного попишет.
Теперь я думаю: может, он нарочно пораньше заканчивал есть, чтоб дольше писать?
Сразу после ужина они уходили. Гайдар подымался первым. Находил на вешалке свою шинель. Снова надевал ее поверх сумки. И брал ружье-пулемет. А сумка такая здоровенная. И торчит некрасиво. Я однажды его пожалела.
«Не таскайте, говорю, такую тяжесть. Оставьте. Я спрячу. А понадобится — верну».
Он замер, прижмурил глаза. Думал, может, минуты три. Никто не двинулся. Прямо интересно. Потом снял шинель, открыл сумку. Вынул карандаш, тетрадь. Опять застегнул ее. Снял сумку через голову — шапка у него упала. Снова надел шинель. Свернул тетрадку в трубку. Сунул в карман. А сумку протянул мне:
«Христом-богом, поберегите!»
Я взяла за тряпичную шлеечку. А сумка тяжелющая.
«Камни у вас там, что ли?» — говорю.
Усмехнулся. Не ответил. Нагнул голову: притолока для него низка. И вышел...
— Куда же вы ее дели? — с трудом произнес я. У меня разом, как в жаркой пустыне, пересохли губы. Они сделались толстыми и неповоротливыми.
— Сперва или потом?
Мне было легче произнести «сперва». И я сказал: «Сперва».
— Сперва я положила ее просто на пол, возле порога. — Афанасия Федоровна встала и показала это место под нынешней полкой, с праздничными, на ребро поставленными тарелками. — Заперла дверь, вымыла посуду. И решила, что спрячу пока в подпечье.
— Куда? — не понял я.
Афанасия Федоровна подошла к русской печке, слегка наклонилась, отдернула пеструю ситцевую занавесочку и показала мне у самого пола нишу, в которой у нее стояли чугуны, совок, веник и другой хозяйственный инвентарь. А в глубине этой ниши я увидел жестяную заслонку с неудобной металлической ручкой. Афанасия Федоровна вынула заслонку. За ней обнаружилось темное отверстие.
— Я спрятала вот сюда. Там было немного пыльно. Я вытерла мокрой тряпочкой. Положила сумку в уголок. Закрыла крышкой. Заставила чугуном.
— И сколько она там пролежала?
— Недолго, до утра. Утром я отнесла ее в погреб. Положила в пустую кадушку. Накрыла крышкой. Накидала сверху мешки с картошкой.
Лоб, щеки, шея у меня горели, словно я провел сутки на палящем солнце. По телу, покалывая, пробегали электрические змейки.
Дело оказалось до нелепого простым. Башкиров опрашивал Бутенко и с его слов писал о пропаже сумки. Я глубокомысленно подражал Шерлоку Холмсу. Оставалось только пойти купить в табачной лавке трубку. А нужно было всего-навсего спросить Афанасию Федоровну.
И я спрашиваю:
— Почему ж вы столько времени молчали?
Она обиженно всплескивает руками:
— Вы просили: «Расскажите про партизан». Я говорила. «Про Аркадия Петровича» — тоже говорила. А про сумку от противогаза никогда не спрашивали. Откуда я знала, что она вам нужна?
Я чувствую, как по мне разливается радость. Она возникает горячей точкой где-то в глубине, возле солнечного сплетения. Точка растет и ширится. И мощная горячая волна, которую подталкивают нетерпеливые удары сердца, заполняет меня всего.
— Где она теперь? — спрашиваю я.
— Кто?
— Сумка!
— Откуда ж я знаю?
— Но вы ж сами только что сказали, что положили ее в кадушку?!
— Да. Положила. На следующий вечер я стирала щелоком. Никого не ждала. Слышу, по огороду кто-то бежит в тяжелых сапогах. А мы жили такие напуганные... Потом стук. Стучат в ставень маленькой комнаты.
Стук особенный, наш, секретный, но какой-то тревожный. Сразу подумала: «На нас донесли?.. Идут немцы?.. Случилось что с мужем?..» Я к дверям. Хочу открыть. А руки мокрые, в щелоке, скользят. Обтерла наспех передником. Отодвинула засов. Гайдар! Распаренный. Дышит тяжело. В руках пулемет.
«Что, — спрашиваю, — случилось?!»
«Ничего, — отвечает, — идем на задание. Забежал за сумкой».
— И вы отдали?! — не выдержал я.
— А як же?.. Сумка-то его. Я вынесла. Он ее надел. На этот раз поверх шинели. Задвинул за спину. «Так мне спокойней», — повеселев, сказал он.
Снова извинился. Нырнул в темноту. И я только услышала, как опять затопали его сапоги.
Я сидел опустошенный, как после долгой болезни.
«Брезентовая противогазная сумка целых двадцать четыре часа пролежала в этом доме, — утомленно думал я. — Почему Афанасия Федоровна его опять не уговорила?.. Рукописи могли дождаться приезда Башкирова или родных Аркадия Петровича или спокойно долежать до этой вот минуты...
И второе — почему Гайдар не оставил сумку в этой хате? Не доверял? Но в таком случае он бы вовсе здесь не появлялся...»
Ответа я пока не находил. Но в том, что я услышал, было одно обнадеживающее обстоятельство. Значит, Гайдар допускал, что сумку можно кому-то оставить? Мой умозрительный вывод получал первое подкрепление.
ВИТОК СПИРАЛИ
Я стал ходить по домам в надежде что-нибудь еще услышать о сумке. Беседовали со мной охотно, расспрашивали о Москве, о том, в какой газете я работаю, интересовались, был ли я в стереокино и могу ли объяснить, и чем заключается стереоэффект.
О сумке же мои собеседники либо слышали впервые от меня, либо неизвестно за кем повторяли, что она попала в руки к немцам.
От полной бесплодности хождения мне делалось все тоскливее. Еще в Москве я написал бывшим лейтенантам Абрамову и Скрыпнику: «Когда Аркадий Петрович 26 октября 1941 года шел с вами на последнее задание, брал ли он с собой сумку?»
Скрыпник ответил: «Кажется, сумка на нем была».
Абрамов же удивился: «Если мы оставили в лагере под Прохоровкой даже автоматы, зачем бы Аркадий Петрович потащил с собой тяжеленную сумку?»
Но во мне еще теплилась робкая надежда, что следы сумки отыщутся. Дело в том, что на краю Леплявы, неподалеку от каменного дома, где когда-то жили путевые обходчики, стояла хата дедушки Опанаса Максимовича Касича.
О нем говорили, что у него ясный разум, что он не терпит никакого вранья и хорошо помнит день, когда немцы устроили засаду возле насыпи. И я уповал: вдруг дедушка Касич знает что-нибудь о сумке?
На беду, Опанас Максимович тяжело заболел. Близкие боялись за его жизнь. О том, чтобы прийти к нему для беседы, не могло быть и речи. Я уже отчаялся его увидеть. И вдруг Афанасия Федоровна сообщила, что дедушка выздоровел, хотя еще и слаб, и требует меня для важного разговора.
Я застал Опанаса Максимовича возле хаты. Было ему за семьдесят. Худощавое лицо. Длинные гайдамацкие усы. Выцветшие глаза его смотрели добро, цепко, но с мягкой иронией.
Заметив, что к избе молчаливо подтягиваются соседи, Опанас Максимович громко произнес:
— Здесь, сынок, я с тобой разговаривать не буду. Пойдем туда. — И он показал на высокую насыпь.
Я кивнул. Мы двинулись. Опанас
Максимович сильно хромал.
— Это герман меня еще в первую мировую, — объяснил он. — Я бегу в атаку, кричу «ура!», а он как долбанет из пушки. Осколок вошел вот сюда, потрогай.
Сквозь ткань штанов я чувствую глубокую вмятину от большого осколка и неприятную близость тем же осколком сточенной кости.
— Думал, вовсе без ноги останусь, — добавил Опанас Максимович.
Мы поднялись по ступенькам на железнодорожное полотно, возле будки путевого обходчика спустились на другую сторону насыпи. И сели под деревом прямо на землю. В нескольких шагах, за низенькой оградой, стоял свежепокрашенный фанерный обелиск со знакомым, под стеклом, портретом.
— Я знал его, он приходил ко мне, — сказал Опанас
Максимович, кивая на обелиск. — Близко не знакомились, но что он просил — хлеба или другой еды, я давал, не отказывал.
Я включил магнитофон. И Опанас Максимович поведал мне про утро 26 октября, когда он встал очень рано, вышел на улицу, заметил торопливые приготовления «германов», которые поспешно перетаскивали через насыпь пулеметы и ящики с патронами, и догадался: сейчас что-то будет.
А когда возле насыпи закончилась стрельба и обходчик Сорокопуд похоронил убитого, Касич подошел к тому месту, где случился короткий бой.
— Немцев уже не было, — рассказывал он. — Я постоял у могилки, снял шапку. Подумал: «Еще один хороший человек не дошел до своей хаты». И двинулся обратно. Под соснами, где партизаны, видать, отдыхали, валялись недокуренные цигарки «козья ножка» и ломтики сала. Сало было хорошее, розовое. С мой палец толщиной. И тут же, прямо в грязи, лежала сумочка, потрепаненькая такая. Из-под противогаза. Я поднял ее. Повертел. Потряс. Из нее посыпались только табачные крошки...
Магнитофон продолжал записывать дальнейший рассказ вперемежку с криками скандаливших над нашей головою грачей.
А я снова сидел опустошенный, будто грачи выклевали мне все нутро.
«Значит, Гайдар на последнее задание сумку с собою взял, — подытоживал я. — И Башкиров располагал точными сведениями. А меня эхо этого свидетельства нагнало только что».
А я-то мечтал, что откопаю заступом и отряхну от земли тяжелый, влажный, неопрятный сверток, опущу его в широкий мешок, который мне по моей просьбе склеили в НИЛтаре, то есть в специальной лаборатории по конструированию и изготовлению тары, и увезу в Москву.
В Москве я бы пошел в Союз писателей СССР или в редакцию «Комсомольской правды» и в самом главном кабинете не спеша достал бы нилтаровский мешок и выложил бы его содержимое на стол.
На тусклой, строгой полировке моя находка выглядела бы, скорей всего, некрасивой. Быть может, меня бы даже сердито и недоуменно спросили:
«Вы что, с ума сошли? Вы не могли это вытряхнуть в другом месте?»
А я бы скромно ответил:
«Не мог. Это сумка Гайдара. Я только вчера отыскал ее в тайнике. Бумаги надо срочно отдать специалистам. Иначе они погибнут».
...Вместо всего этого я засунул в брезентовый заплечный мешок свой магнитофон.
С благодарностью пожал шершавую и жесткую, как доска, руку Опанаса Максимовича — ведь он избавил меня от бесполезных поисков.
— А пообедать? — напомнил он. — Моя баба сварила замечательный борщ с квасолью. И горилка есть.
Я еще раз с чувством пожал ему руку — разговаривать мне было трудно, — закинул за плечи рюкзак и зашагал по шпалам к переезду.
В любой профессии существует интуиция. Ее можно сравнить только с удивительной способностью птиц осенью находить дорогу к далеким теплым материкам, а весной безошибочно возвращаться на родное гнездовье.
Моя интуиция подсказывала мне, что рукописи Аркадия Петровича не попали к гитлеровцам. Зная дальновидность Гайдара, его способность смотреть правде в глаза, я был убежден: он позаботился о том, чтоб сохранились его бумаги, как принял меры к тому, чтобы в случае гибели о нем сообщили в Москву.
И вот оказалось, что я ошибся. Наверное, принять меры для спасения своих рукописей Аркадий Петрович просто не успел.
Утром встречаться ни с кем не хотелось. И я отправился в лес.
В лесу повсюду я замечал штабеля дров, свежие пни, кучи нарубленных и еще не сожженных ветвей. Мне больно было это видеть. Я любил старый партизанский лес. Многие дубы и сосны знал «в лицо». Но разрушительная деятельность леспромхоза на этот раз имела оправдание: дорога, по которой я шел, пни, которые торчали со всех сторон, кусты шиповника должны были вскоре стать дном Каневского моря.
А я — опять-таки в своих мечтах — предназначал этот лес совсем для другого.
В Каневе заканчивалось строительство Библиотеки- музея А. П. Гайдара. И я считал, что музею необходимы еще два филиала: «Партизанский лагерь» и «Хата Степанцов в Лепляве».
Скажем, летом к Каневскому речному вокзалу причаливает теплоход с туристами. Сперва гости подымаются на Тарасову гору, где сооружены музей и памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Затем от подножия горы автобус везет их в центр города — к Библиотеке-музею Гайдара. Ознакомясь с экспозицией, туристы спустятся в Парк имени Гайдара, возложат цветы к подножию памятника Аркадию Петровичу.
Затем тот же автобус перевезет их через Днепр и высадит возле указателя: «К партизанскому лагерю». Дальше только пешком. На пути гостям встретятся еще два или три указателя, пока навстречу из «секрета» не выйдут мальчишки-часовые. У них будут настоящие винтовки. Папахи с ленточкой вместо звезды. Сперва часовые возьмут винтовки «на караул», приветствуя гостей. А потом один из них, став на время экскурсоводом, покажет лагерь.
Он поведет свою группу к землянкам, сооруженным на том же самом месте, где они стояли в сорок первом. И каждый сможет ненадолго в землянку спуститься, вдохнуть воздух, пахнущий погребом, осмотреть обстановку: топчаны, застланные серыми одеялами, врытый в землю стол с коптилкой, находчиво изготовленной из снарядной гильзы и куска бельевой веревки.
После осмотра землянок — пулеметное гнездо. Тут Гайдар со своим товарищем Михаилом Тонковидом 22 октября 1941 года сдерживал натиск гитлеровцев, прикрывая отход товарищей...
Наконец часовой-экскурсовод подвел бы гостей к главной реликвии лагеря — к спрятанному под колпак из органического стекла пню. На этом пне каждое утро, когда лагерь еще спал, Аркадий Петрович работал. Здесь же с сумкой на коленях над раскрытой тетрадью Гайдара можно было видеть после возвращения с заданий.
Показав лагерь, часовой вывел бы гостей к кратчайшей дороге на Лепляву, где их ждала бы встреча с Афанасией Федоровной — сотрудницей музея и пожизненной хранительницей филиала «Хата Степанцов».
От хаты — последний проход к насыпи, к будке путевого обходчика, где Гайдар совершил последний свой подвиг.
И уже от сельсовета рейсовый автобус доставил бы туристов обратно в Канев.
Мог бы сложиться небывалый мемориал, соединенный в единое маршрутное кольцо. Я думал, что многие, дети и взрослые, пожелали бы пройти и проехать по этому кольцу. Прикоснуться к подлинному. Пережить незабываемое.

В предыдущий свой приезд я сел однажды за стол, нарисовал карту-схему — «Маршрутное кольцо «По гайдаровским местам» — и поехал с ней в областной центр Черкассы.
Первый секретарь обкома принял меня в половине девятого вечера в огромном кабинете, где горела лишь настольная лампа. В этом домашнем полумраке легко думалось и говорилось.
Секретарь обкома подробно расспросил меня, что мне удалось найти и узнать. Поднеся поближе к свету, долго рассматривал мой неумелый рисунок.
— Вопрос о филиале «Хата Степанцов» мы подработаем, — обещал мой собеседник. — Что касается «Партизанского лагеря», то не под водой же его открывать? — грустно заметил он.
— Понимаю, — ответил я.
Но без партизанского лагеря, где еще много следов минувшего, мемориал, казалось мне, будет неполон.
***
Музей «Хата Степанцов в Лепляве» — филиал Каневской Библиотеки-музея А. П. Гайдара по решению областных и районных организаций был открыт в 1968 году.
Афанасия Федоровна Степанец была назначена пожизненной хранительницей филиала. А в связи с тридцатилетием Победы за активную помощь бойцам Гельмязевского партизанского отряда и проявленные в годы войны стойкость и мужество она была награждена медалью «За боевые заслуги».
***
Я продолжал брести по лесу, печально думая, что планы мои рушатся один за другим.
Мысль невольно обращалась ко вчерашней беседе с Касичем.
С той отчетливостью, которая появляется, если ты долго на чем-то сосредоточен, я увидел рельсы, похожую на скворечник будку путевого обходчика, поляну неподалеку от будки, втоптанные в землю ломтики розового сала, лежащую в грязи противогазную сумку и крошки табака, которые высыпались из сумки, когда Касич ее потряс.
Но отчего же из нее не посыпались блокноты, тетради, карандаши, записочки на отдельных листках, которых в сумке было много? О них еще рассказывал полковник Орлов.
Бутенко настаивает, что все бумаги забрали немцы. Предположим, предположим, сказал себе я. Но отчего же солдаты не прихватили с собой и сумку? Конечно, ценности для них она не представляла. Но ведь тетради, блокноты, записи на отдельных листках — это не часы и не орден. Их в карман не положишь. Ворох бумаг без сумки могло размести во все стороны ветром, как табачные крошки. А немецких солдат учили быть аккуратными даже в мародерстве.
Инструкция свыше наставляла их, как обыскивать мертвых и пересылать найденные документы. Забирая ворох бумаг без сумки, солдаты рисковали все растерять.
Непорядок. Конфуз. Нарушение инструкции. А солдат ведь было много. Если один поступал неправильно, другой тут же доносил. Значит, противогазный чехол кинули не случайно.
В чем же дело?..
И я построил в уме простенькую логическую фигуру, которая называется силлогизмом:
Сумки бросают, если в них нечего носить.
Солдаты сумку Гайдара бросили.
Следовательно, нести им в сумке было нечего.
Сумка была пуста.
Или в ней лежала одна какая-нибудь тетрадка, которую солдаты просто выкинули.
Это объяснение сразу примиряло все разрозненные сведения.
Гайдару ничего не стоило взять сумку на последнее задание, ведь она теперь была легкой.
Абрамов и Скрыпник могли не запомнить, была ли она у Гайдара в последний вечер, ведь сумка «похудела» и утратила привычный облик.
Бутенко мог знать от случайного, не найденного мною свидетеля, что бумаги Аркадия Петровича забрали солдаты, поскольку блокнот или тетрадку Гайдар, конечно, в сумке нес.
«Хорошо, хорошо, — подбадривал я себя. — Кажется, не все еще потеряно. Остается лишь ответить на последний простенький вопрос: когда, где и кому Аркадий Петрович передал на хранение основную часть своих бумаг?»
ГЛАВНАЯ ТАЙНА ОТРЯДА
Когда я вернулся из леса, Афанасия Федоровна ссыпала с противня в большую глиняную миску пирожки.
— Вот и славно, — обрадовалась она, — все горячее. Мойте руки. Испекла с калиной, как вы вчера просили.
Я ополоснул над тазом руки, выбрал пирожок, бока которого раздувались от ягод, и положил на блюдце: не елось.
— Для вас пекла, а вы даже один пирожок съесть не можете? — обиделась Афанасия Федоровна.
Я устыдился, съел. Принялся за второй.
— А как вы думаете, — спросил, — мог Аркадий Петрович где-нибудь оставить свои тетрадки без сумки?
Афанасия Федоровна подошла ко мне, положила на плечо руку:
— Вы сейчас покушайте. Поспите часок. А когда проснетесь, мы поговорим. Или хотите — пойдем в кино. В клубе сегодня кино. Какая-то «Леди...», фамилию не запомнила.
— «Леди Гамильтон»?.. Тогда обязательно пойдем. Но раз вечером у нас не будет времени, то лучше, если мы поговорим сейчас.
И дал Афанасии Федоровне послушать ту часть моей беседы с Касичем, где он рассказал про найденную им пустую сумку.
— В старом лагере Аркадий Петрович бумажки свои не оставлял. Это я вам точно говорю.
Афанасия Федоровна налила в тарелки себе и мне картофельного супу:
— Вы кушайте, а я буду рассказывать. Когда они пришли к нам после боя у лесопилки, сумка у Аркадия Петровича была полнехонька. Он поставил ее на лавку. И она стояла не колыхнувшись, как сундук.
— А в новом?
— А в новом лагере где там оставлять? Вы лес этот видели: две землянки и дерево от дерева за десять метров. Вы бы свой патефон, или как там он называется, захотели бы в таком месте оставить?
Я засмеялся.
— Но предположим, — не унимался я, — что он оставил свои бумаги командиру отряда Горелову. Куда рукописи могли бы потом деться?
— Я ж говорила: не любил он оставлять.
— Понимаю, но предположим. Вот же вам он оставил сумку. А потом пришел и забрал. Допустим, что вечером 25 октября, на одну только ночь, Аркадий Петрович передал свои бумаги на хранение командиру отряда. Куда Горелов после гибели Гайдара мог деть его рукописи?
Между бровей Афанасии Федоровны появилась складка. Глаза сузились, нижняя губа чуть презрительно выдвинулась вперед, а все лицо сделалось отрешенным, что обычно свидетельствовало о напряженной работе мысли.
— Разве только прикопали с остальными вещами, — неуверенно предположила она.
— Прикопали?! Партизаны что-то закапывали?! — едва слышно произнес я.
— А как вы думали? Когда не стало Гайдара, на третий или четвертый день командир сказал: «Нужно уходить в подполье». А хозяйство у них было знаете какое?
Сердце во мне забухало, будто в грудь кто-то застучал кулаком.
— Отчего ж вы сразу не говорите самых главных вещей? — с болью и досадой сказал я.
— Откуда я знаю, что для вас главное? — с обидой ответила она. — Вы все спрашиваете про Гайдара... А его уже не было... А если рассказывать, что было после него, то не хватит никаких сил...
Когда командир отряда велел уходить в подполье, часть партизан вернулась в лес. Был с ними и мой муж, Андриан Алексеевич, председатель соседнего колхоза. Но в лесу он простудился. Пришел ночью домой отогреться и подлечиться. А за хатой, видать, уже давно следили. И сразу явились полицаи.
Я закричала:
«Зачем вы стаскиваете его с печки? Вы что, не видите: он тяжко болен? У него температура под сорок?»
«Ничего, — засмеялись полицаи, — мы ему температуру быстро собьем».
И увели. В одном костюме. Я догнала их и набросила Андриану на плечи пальто.
А через несколько дней полицаи выследили и моего брата, Игната Касича. Он был у партизан в шоферах.
А меня начали таскать на допросы.
«Кто приходил к тебе в дом?.. Кого кормила по ночам?.. Где теперь эти люди?.. Покажи, где они прячутся».
Я отвечала, что, может, кому кусок хлеба и пару вареных картошек подала. Но время теперь такое, что всех голодных не накормишь, а у меня четверо детей.
Полицаю надоело мое вранье, он пнул меня. Я не удержалась на ногах и, падая, стукнулась головой о медную ручку двери. Кровь в тот же момент залила мне глаза. Вышла на улицу — ничего не вижу. И люди боятся ко мне подойти... Как добралась до дому, сейчас уже и не помню.
Брата и мужа расстреляли...
А мои дети, Витя с Лидушкой, пошли однажды с товарищами погулять в лес. Увидели снаряд. С ними был один хлопец, старше их всех. Он начал отвинчивать медный колпачок. Снаряд в руках у него и лопнул. Хлопчика на месте убило. Остальных детишек ранило.
Лидушку увезли в Гельмязевскую лекарню — за восемнадцать километров. А Витю — в Золотоношу, за сорок пять. Я три месяца — день к Вите, день к Лиде. А лекарня уже немецкая. Треба каждую пятидневку гроши платить. А где их взять? Продам на базаре в Каневе платочек или платье. Внесу деньги. Не успею оглянуться — снова плати.
А когда пришли наши, позвали меня в райком. Разговаривали строго. Какое слово ни скажу — тут же печатают на машинке. И требуют, чтоб рассказала про отряд, про командира, про каждого партизана в отдельности. Но самое главное, чтобы я объяснила, по какой такой причине в отряде не уберегли знаменитого писателя и кто в этом больше всех виноват.
А что я могла объяснить, если видела их только за столом? Или когда они час-другой спали на лавках, а я в это время стирала им рубашки и тут же сушила раскаленным утюгом?..
Однажды я не выдержала, разревелась:
«Что вы меня все допытываете?.. В чем я перед вами виноватая?.. Пока тут были партизаны, ни одной ночи не спала. Сперва ждешь — вот придут. Ушли — стоишь на холоде, слушаешь, добрались ли до леса. А вернешься в дом — новая тревога: не видел ли кто, что они приходили? Вы б, говорю, хоть слово доброе сказали за то, что я их годувала, что вещи мужние, какие оставались — до последних исподних, — отдала, что меня с детьми десять раз за это могли убить...»
Хлопцы смутились, поднесли капель. Я позвенела зубами о стакан.
«Вины, — отвечают, — Федоровна, за вами никакой нет. Ответа требует Киев. С Киева спрашивает Москва. А нам с кого спросить? Кто в армии. Кто убит. Кто в неизвестности. Коли можете, пособите. А мы скажем в колхозе, чтобы вам, как вдове партизана, допомогли».
И верно. Пока Лидушка после ранения два года у меня не ходила, помощь от колхоза была.
Афанасия Федоровна вышла в сени, сполоснула под рукомойником заплаканное лицо, вытерлась чистым полотенцем, что висело у двери, и стала убирать со стола.
— Может, вы чаю хотите? — спохватилась она и налила мне полную эмалированную кружку.
Чай был заварен мятой. Пахнуло летом, сеновалом, а во рту возник горячий холодок.
— Вы б летом когда приехали, — сказала Афанасия Федоровна, открывая банку с клубничным вареньем. — Я б к завтраку вам клубнички насобирала целый таз. Хотите — кушайте с молоком, хотите — посыпьте песочком.
В ее голосе появилась обычная приветливость и певучесть. Но лицо оставалось заплаканным и грустным. И я не рискнул ее дальше расспрашивать.
Лишь на другой день вечером, разбирая свои заметки и дописывая письмо, я словно невзначай поинтересовался:
— Что же хлопцы спрятали из отрядного имущества, когда не стало Гайдара?..
Афанасия Федоровна перекусила нитку и, положив на стол кофту, которую дошивала, посмотрела издали, хорошо ли приметала рукав.
— Наганы прятали, пули, гранаты, пулемет Аркадия Петровича, — ответила она, разглядывая кофту. — Ружья носили охапками, как дрова.
Работой своей Афанасия Федоровна осталась довольна. Кофту положила в сундук, а нитки, наперсток, булавочки, иглы стала собирать в высокую коробку из-под болгарской халвы.
— А что было дальше? — спросил я, надписывая конверт.
Афанасия Федоровна поставила на лавку коробку из-под халвы и привычно села лицом ко мне.
— Когда закопали оружие, командир принес из кладовки портфель, отстегнул два железных замочка и вытряс портфель над столом. Посыпались бумаги, комсомольские и партийные билеты, еще какие-то важные документы. Часть бумажек командир отобрал и бросил в печку. Остальное сложил в большую стопку.
«Надо бы во что-нибудь положить», — сказал командир.
Тогда мой Андриан велел:
«Феня, сбегай домой, возьми поповский сундучок».
— Разве дело происходило не тут? — удивился я.
— Наш дом уже считался опасным. Командира прятали в хате моего брата, Игната Касича, неподалеку отсюда... Я принесла сундучок. Отдавать его было жалко. Андриан подарил его мне, когда мы были молодыми. Сундучок Андриан нашел в огороде у попа во время коллективизации. По самую крышку в нем были насыпаны золотые монеты. Золото Андриан сдал в банк. А сундучок у него не приняли. Он и принес его домой, как игрушку. Был сундучок чуть меньше коробки из-под ботинок. Дубовый. Крепкий. С железными полосками. Ручки с обеих сторон. Замочек, когда его отпирали ключом, звонил.
Я поставила сундучок перед командиром. Он повертел его в руках. Подивился хитрой работе. На дно положил бумаги, сверху — разноцветные книжечки. И запер на ключик.
— А тетради Гайдара? — нетерпеливо спросил я. — В клеенчатых переплетах?
Афанасия Федоровна запнулась, виновато прибавила:
— Тетрадок не было.
— Ни одной?
— Ни одной. Я бы видела.
— И разговора не было?
— Был. Но про тетрадки Гайдара ничего не говорили.
— О чем же говорили?
— Про самого Аркадия Петровича.
Я видел, что Афанасия Федоровна не хочет продолжать беседу на эту тему. И, помня вчерашние слезы, я и сам боялся ее снова расстроить. Но мне важно было знать, о чем говорили в тот вечер. И я попросил:
— Вы коротко. В двух словах.
Афанасия Федоровна вздохнула и без всякого выражения в голосе произнесла:
— Когда все закопали, моя невесточка, жена Игната, подала ужин, а сама вышла на минуту из комнаты, я осталась с ними со всеми одна.
— С кем с ними?
— Ну, Игнат, мой Андриан, командир, Сасько из Прохоровки, Александров из НКВД и Никитченко, секретарь райкома из Сквиры.
Командир переглянулся с остальными, сделал знак Сасько. Тот встал и выглянул, не стоит ли кто за дверьми.
«Феня, — очень тихо сказал командир, постукивая ручкой хлебного ножа. — Отряда больше нет. Мы уходим в подполье. Мы соберем новые силы и вернемся. Игнат и Андриан остаются для связи. Но идет война, Феня... — Командир замолчал. Ему стало трудно говорить. Хлопцы опустили головы. — Мы все можем погибнуть, — продолжал он с усилием. И я почувствовала, что от слез начинаю плохо видеть. — В этом тяжелом случае, Феня, ты повинна, ты должна сберечь и сообщить нашим главную тайну отряда».
Я уже ко многому привыкла. И одними губами, без голоса, ответила:
«Хорошо. Я запомню».
А сама, смахнув слезы, переводила глаза с одного на другого. Все были молодые, сильные. Каждому жить бы сто двадцать лет. А говорили они со мной о смерти.
«Мы хотим сообщить тебе, — услышала я голос командира, — где похоронен Аркадий Петрович».
«Да что здесь, Федор Дмитриевич, за секрет? — удивилась и обиделась я. — Кто не знает в Лепляве, где обходчик заховал Гайдара?»
«Не спеши, Феня, — грустно улыбнулся командир. Посмотрел на хлопцев. Они ему в ответ понимающе улыбнулись. — Немцы забрали удостоверение личности Аркадия Петровича. Они могут вернуться за телом. И это первая опасность. А два дня назад кто-то разбросал могилу и заровнял землю. Возможно, постарался предатель, чтобы, значит, не осталось следов. И здесь опасность вторая.
Поэтому сегодня ночью мы провели последнюю секретную операцию нашего отряда. Место, где покоится Аркадий Петрович, мы утрамбовали и покрыли дерном. А возле тропинки на Прохоровку нагребли фальшивую могилу.
Мы поручаем тебе, когда придут наши, сообщить командованию Красной Армии, где покоится тело товарища Гайдара».
Командир вынул из кармана блокнотик и химический карандаш с жестяным колпачком. Нарисовал на листке железницу, будку, лес, тропинку на Прохоровку. Возле тропинки поставил крестик.
«Это фальшивая могила, — показал командир на крестик. — Чтоб найти настоящую, к фальшивой надо стать спиной, будка должна оказаться с правой стороны. И шагать прямо до конца полянки. — Командир нарисовал новый крестик. — В четырех-пяти метрах от самой толстой сосны и покоится Аркадий Петрович. Запомнила?»
Командир вырвал листок. Поднес его к лампе. Бумага вспыхнула. Догорала она уже в пепельнице. Командир проследил, чтобы от рисунка ничего не осталось.

— Пригодился вам секрет, сообщенный командиром? — спросил я.
Афанасия Федоровна пожала плечами.
— Даже не знаю, как вам сказать... Погибли все, кто сидел тогда за столом. Секрет помнила я одна. Фальшивую могилу еще два раза кто-то разбрасывал. Я ходила нагребать. Боялась: вдруг тоже умру, не успев сказать детям, и не останется следа? Но и раньше времени говорить не хотела. А в сорок седьмом, когда приехали перевозить Гайдара, я была в Киеве. Возвращаюсь в Лепляву — бежит Витя:
«Ой, мама, писатели из Москвы приехали. С ними Тимур — он теперь моряк, носит саблю. Раскопали могилу — она пустая. В школу к нам приходили, спрашивали ребят: «Где захован Гайдар?» Никто не знает».
Я от Витиных слов так ослабела, что не могла двинуться.
«Беги, — сказала, — до Тимура. — Скажи: надо встать к раскопанной могиле спиной, а будка чтобы оказалась справа...»
С криком: «Я знаю! Я знаю, где захован Гайдар!» — Витя понесся через всю Лепляву к насыпи.
Но там уже перекопали всю поляну и могилу писателя нашли без него...
Прах Гайдара был перевезен в город Канев и похоронен на краю обрыва в парке, который теперь носит имя писателя.
«АЛЕНА, МЫ ЗАКОПАЛИ ПОД ШУЛОЮ...»
Руки Афанасии Федоровны были устало опущены на колени. Лицо покрылось пятнами. Глаза наполнились слезами. В керосиновой лампе плавно покачивался язычок огня. И на выбеленной стене шевелилась тень в платке.
Радость от того, что я «вышел на материал», боролась во мне с угрызениями совести: каждый вечер я невольно вынуждал Афанасию Федоровну плакать. Торопясь закончить разговор, я деловито спросил:
— Вы мне утром покажете, где закопано оружие и поповский сундучок?
— Что вы сказали? — не расслышала она.
Я повторил.
— Я не знаю, где они закапывали.
— Но ведь при вас уносили винтовки!
Афанасия Федоровна кивнула:
— Чистая правда. Только на что мне сдались оружие и тот сундучок с бумагами? Командир сказал: «Запомни главную тайну». Я запомнила. Если б он сказал: «Пойдем, мы тебе покажем», я бы пошла. А самой мне в ту минуту ничего делать не хотелось. Все казалось страшным сном.
Я вышел в сени. Черпнул кружкой холодной воды. Сделал несколько глотков. Плеснул над тазом из той же кружки себе в лицо.
Когда я был совсем маленьким, я пытался поймать солнечный зайчик. Похоже, сейчас я занимался тем же самым.
— А кто бы мог мне показать? — спросил я, возвратясь.
— Я ж сказала: кто закапывал, все убиты.
— А невестка?
— Мы вместе сидели и плакали, пока хлопцы закапывали.
— Может, невестка что-нибудь знает?
— Спросите завтра сами. Я наказала ей принести парного молока. А то вам дома скажут: «Ничего себе, погостил на Украине — лица на нем нет».
...Елена Дмитриевна, вдова партизана Игната Федоровича Касича, пришла, когда мы заканчивали завтрак. Поставила на клеенку эмалированный бидончик с крышкой и, обращаясь ко мне, произнесла:
— Кушайте на здоровье. Вы очень худой. — Голос у нее был низкий, с какими-то волнующими интонациями.
Елена Дмитриевна сняла толстое, на вате, пальто, сбросила на плечи шерстяной платок. Она была изящна, тонка, миловидное в юности лицо еще не утратило своей привлекательности. Афанасия Федоровна налила ей чаю, пододвинула масло, хлеб, коробку с конфетами и сказала:
— Борис Николаевич интересуется оружием отряда и поповским сундучком. Не помнишь, где Игнат с Андрианом заховали?
Елена Дмитриевна поставила чашку на блюдце:
— Игнат позвал меня: «Идем, поглядишь». А я ревела вместе с тобой, заупрямилась. Командир заторопил: «Игнат, николи», то есть некогда. Так и не поглядела. Потом Игнат сказал: «Алена, мы закопали по-пид шулою, с правой стороны».
Я не пропустил ни звука. И тут же спросил:
— Где, где?
Елена Дмитриевна с готовностью повторила:
— По-пид шулою.
Но я все равно не понял. Она смущенно улыбнулась, не зная, как мне растолковать.
— Шулы, — пришла на помощь Афанасия Федоровна, — это столбы.
— Телеграфные?
— Нет, — спокойно пояснила Афанасия Федоровна. — У нас если строят сарай, то сперва вкапывают шулы, которые должны сарай держать.
— Значит, закопали в сарае?
— Конечно, — заулыбались женщины, довольные, что я, наконец, понял.
— А сарай цел?
— Откуда ему быть целым? — ответила Елена Дмитриевна. — Крыша прохудилась, стены как сито.
— Но стоит он там же?
— А куда ему деваться?
— Ты вроде перестраивала его после войны? — засомневалась Афанасия Федоровна.
— Не новый же ставила.
— А вот Игнат Федорович сказал: «По-пид шулою с правой стороны» — это если откуда глядеть? — обратился я к Елене Дмитриевне.
Она растерянно улыбнулась:
— Что лево, что право, — мне тогда было все равно.
Я подал Елене Дмитриевне пальто и отправился вместе с ней. Мы пересекли дорогу и тропинкой меж плетней вышли к противоположному краю деревни.
Леплява велика. В этой ее части я никогда не был. Здесь стоял почти новый дом. Стены его желтели неоштукатуренным деревом. А метрах в пятидесяти от избы серел пустой, давно заброшенный сарай. Соломенная крыша его сгнила. Доски стенок истончились, разошлись, образовав щели. Издали он выглядел прозрачным. Неколебимо стояли только шулы — шесть глубоко врытых опорных столбов: четыре по углам и два посередине.
Елена Дмитриевна поднялась в дом, а я проник в сарай. Если не считать чурбака для колки дров, он был совершенно пуст. Я обошел все углы и с нежностью погладил каждый столб. Я еще не знал, под которым из них склад и какая сторона для Игната Федоровича была правой. Но оружие и сундучок лежали у меня под ногами. И если бы у сарая было двести шул, я бы копал под каждой.
Когда я воочию и даже на ощупь убедился, что сарай на месте, оставалось только дойти до Елены Дмитриевны и попросить лопату. Но я уселся на чурбак и, вздрагивая от нетерпения, спросил себя:
«Что ты собираешься делать?»
«Откапывать склад партизанского отряда».
«Ты представляешь, из чего состоит этот склад?»
«Да, из большой партии оружия и сундучка с бумагами».
«Ты надеешься найти в сундучке удостоверения личности Гайдара?»
«Вряд ли. Скорее всего, они попали в руки гитлеровцев».
«Значит, ты думаешь, что под столбом закопаны рукописи Аркадия Петровича?»
«Похоже, что и рукописей в сундучке тоже нет. Зато в нем лежат комсомольские и партийные билеты. Они были сданы командиру на хранение. По ним я уточню список бойцов партизанского отряда. А кроме того, Горелов клал на дно сундучка сложенные листы бумаги».
«Значит, ты все-таки надеешься, что там рукописи Аркадия Петровича?»
«К сожалению, нет. Но эти бумаги тоже представляют большую ценность. Они могут заключать в себе перечень боевых операций отряда, а также сведения о понесенных потерях. Значит, в бумагах могут оказаться неизвестные нам подробности того, при каких обстоятельствах погиб Гайдар и куда делась его сумка.
Горелов знал, что Аркадий Петрович собирал сведения по истории отряда, чтобы написать большую книгу. Судьба сумки для командира была важна».
«А если от бумаг ничего не осталось?»
«Откопаю оружие. Под шулою должен быть ручной пулемет системы Дегтярева с диском-тарелкой на сорок девять винтовочных патронов. «Дегтярь» в отряде был один. И Гайдар на последнее задание пулемет не брал.
Диск и ствол должны сохраниться, пусть они даже и проржавели. А если очень повезет, то я найду и часть приклада. Ведь Аркадий Петрович был «рукодельщик». Я думаю, что на полированном дереве он делал зарубки, рисунки и уж наверняка вырезал свой знаменитый автограф: «Арк. Гайдар».
Я встал с чурбака. Голова моя кружилась. Под моими ногами лежал клад, закопанный тревожной ночью двадцать два года назад. В нем не было ни золотых, ни серебряных монет, но клад был бесценен.
Голова моя кружилась. Мне было тогда тридцать два года. Мой Сережик ходил во второй класс, а я себя чувствовал мальчишкой, потому что к этому прозрачному сараю и отполированным невзгодами столбам я пришел из военного, тимуровского детства.
Для себя я уже точно решил: клад запрятан у среднего столба с правой стороны, если стоять к дому спиною. Теперь-то уж можно было бежать за лопатой, но я снова сказал себе: «Стоп! Сейчас ранняя весна, земля пока оттаяла только сверху. Один я здесь накопаю немного».
Я отправился в сельсовет, позвонил секретарю обкома партии по пропаганде.
— Товарищ секретарь, — попросил я, — пришлите, пожалуйста, саперов.
— Мины?! — встревожился он.
— Нет. Склад оружия и архив партизанского отряда.
ПОЛОВИНКА ЖЕЛЕЗНОЙ ТАРЕЛКИ
«Техпомощь» появилась в Лепляве через день. Саперные части Советской Армии представлял плотный сержант лет двадцати в новой шинели и зимней шапке. На плече его висел миноискатель в необмятом брезентовом чехле.
— Жора Астахов, — отрекомендовался он.
— Давайте, Жора, для успеха операции сначала позавтракаем, — ответил я ему.
После еды я попросил у Афанасии Федоровны топор, две лопаты и лом. А Жора собрал для пробы миноискатель. Прибор состоял из короткой толстой трубы — щупа. К щупу под прямым углом привинчивались трубки потоньше — держатель. И уже от держателя шли провода к мягким, широким наушникам.
Жора зарядил миноискатель батарейками «Сатурн», не надевая наушников, поднес щуп к топору и щелкнул выключателем. Мембраны в наушниках завыли и застонали от изнеможения. Жора поспешно дернул пальцем рычажок.
Мы присели перед недальней дорогой. И двинулись в путь.
У заветного сарая бросили на землю инструмент. Я повесил на дерево пальто. Жора свинтил миноискатель, деловито спросил:
— Откуда начнем? — и щелкнул рычажком.
В тот же миг глаза его под мощными надбровными дугами округлились:
— П-послушайте!
Но я уже издали слышал победный, ликующий вой. Жора сунул мне в руки миноискатель, сбросил на пол шинель и схватил лопату.
Он с такой силой вонзил ее в землю, что я испугался: сломает! Вскоре лопата заскребла неподатливый лед. Жора принялся долбить его ломом. И вдруг металл звякнул о металл.
Жоре стало жарко. Он отшвырнул пояс, расстегнул пуговицы парадного френча и снова взялся за лом. Вот Жора что-то поддел, лом чуть выгнулся, спружинил, но массивная находка не желала выходить на поверхность. Быстро, как отбойным молотком, Жора стал долбить мешавшую корку льда, снова подсунул под неведомый предмет лом, всем телом надавил на него и выбросил к моим
ногам длинный, изрядно проржавевший, но еще вполне пригодный полоз от саней.
Был легкий мороз, но Жора стоял весь распаренный и, прищурив глаза, глядел куда-то в сторону, видимо стыдясь своей горячности. А я тяжело дышал рядом с ним, будто пробежал стометровку, хотя не сделал ни полшага.
— Искать надо в сарае, под шулою, — сказал я, успокаивая нас обоих. И показал, под какой: средней справа, которую я выбрал позавчера.
Жора кивнул, виртуозным перебором пальцев застегнул все пуговицы френча, поднял с земли и защелкнул на себе пояс, отряхнул и повесил на крюк для хомутов шинель. Видимо решив больше не поддаваться опасным для сапера эмоциям, он не спеша надел поверх теплой шапки наушники, поднес щуп к столбу, легким, небрежным движением коснулся выключателя — и в тот же миг сорвал с головы наушники.
Гулкую пустоту сарая прорезал ровный, тугой, пронзительный вой. Было даже непонятно, как маленькие мембраны способны издавать такой звук. Жора бегом отнес прибор в сторону, а я успел подумать: «Как хорошо, что я угадал, где искать».
Теперь мы работали в четыре руки. Мерзлые комья летели в разные стороны. Я первым высек искру, задев какой-то потаенный металл. Мы яростно заскребли. Вмерзшее в землю железо было тяжелое, широкое. И пока я пытался определить его границы, Жора побежал за ломом и, возвратясь, сунул острый конец в щель между неопознанным железом и заледеневшим грунтом.
«Это не может быть сундучок, — думал я. — Это нечто пофундаментальнее».
И не ошибся. У наших ног лежала тяжелая чугунная плита.
К вечеру земляной пол сарая был весь перепахан. Миноискатель охрип. Мы откопали груду крюков, скоб, сношенных подков, колесных ободьев, тележную ось и вполне пригодную наковальню. На месте сарая, видимо, когда-то стояла кузница.
Мы не пошли обедать. Отказались от куриного супа с лапшой, который нам предложила Елена Дмитриевна. Конечно, хотелось есть, но было стыдно, что мы за целый день ничего не нашли.
Когда стемнело, мы побрели к Афанасии Федоровне.
Накормив нас ужином, она ни о чем не спросила: служба информации на селе поставлена безукоризненно.
Назавтра, едва развиднелось, мы уже были в сарае. Весь его пол носил следы нашей торопливой и беспорядочной деятельности.
— При такой кустарщине, — сказал я Жоре, — мы можем с тобой не заметить даже закопанный паровоз. Сделаем вот что: ты сантиметр за сантиметром прослушаешь каждую стенку. Где наушники запоют особенно громко — вбивай колышки.
Работа по новой системе помогла извлечь коленчатый вал, лемех от плуга, дырчатое сиденье от косилки, борону без половины зубьев, три тяжа от оглобли и переднее колесо трактора «фордзон».
Но среди сотен килограммов стали и чугуна мы не нашли ни обломанного штыка, ни жестянки от винтовочной обоймы, ни «рубашки» от гранаты — ничего, что могло быть закопано или хотя бы обронено в сорок первом. А мы ведь искали в точно указанном месте.
Пусть сарай после войны перестраивался и что-то в его границах сдвинулось. Мы копали вокруг столбов широко, примерно через каждый метр делали шурфы и опускали в них трубу щупа. При малейшем завывании наушников контрольный шурфик под нашими лопатами уподоблялся воронке от бомбы.
К концу четвертого дня пространство вокруг сарая напоминало передний край — с окопами, траншеями и ходами сообщения. Когда темнело, мы разжигали костры. Это нам дарило еще два-три рабочих часа, но результат был прежний.
К нашим заботам добавилась еще одна: кончался срок командировки у Жорика. Он не хотел уезжать, не добившись результата. А я понимал, что мне без него будет и вовсе худо. Вечером, собрав инструмент и разбросав костер, мы поднялись в дом к Елене Дмитриевне.
— Притомились? — заботливо спросила она своим низким, ласковым голосом.
— Пустяки, — ответил Жорик, вытирая ушанкой лицо, по которому струился пот, словно мы только что с ним хлестались вениками в парилке.
— Отдохните, я вас чайком напою, — предложила хозяйка.
— Не стоит, — ответил я, думая, что если мы сядем сейчас на лавку, то не подымемся с нее до утра. — Скажите, а не было ли у вас еще одного сарая?
— Откуда? Мы же с Игнатом бедно жили. Перед самой войной только начали отстраиваться.
— Значит, все могло быть закопано только в этом сарае?
— Я ж говорю: другого не было, — обиделась женщина. — Если не верите, спросите у Фени.
Мне стало неудобно за свою бестактность. Я извинился. И мы, позвякивая лопатами, побрели восвояси.
— А если товарищ Касич закопал оружие в чужом сарае? — спросил меня Жора.
— В чужом сарае за поленницу дров можно сунуть пистолет. А тут целый арсенал. Предположим, спрятали. Заходит утром хозяин. Крестьянский глаз цепок. Хозяин подмечает странные следы. Раскапывает оружие, находит сундучок и устанавливает по документам, кто спрятал... Нет, уж если Игнат Федорович сказал: «Мы закопали под шулою», то он имел в виду свой сарай.
Утро началось со звонка военкому.
— Но вы хоть что-нибудь нашли? — допытывался он.
— Пока нет, но место верное.
— Может, Астахов не умеет искать? — спросил меня военком. — Мы вам пришлем другого сапера.
— Что вы, он прекрасный работник. Передайте, пожалуйста, командиру части, что Астаховым я очень доволен.
— Хорошо, пусть побудет, сколько вам нужно.
— Остаешься, Жорик, до победного, — сказал я, кладя трубку. — А сейчас идем в школу.
Директор Леплявской средней школы уже был наслышан о наших раскопках, но терялся в догадках, что мы с Жориком ищем. Я рассказал и попросил дать в помощь ребят.
— Надолго?
— Пока на один день.
— Много вам нужно?
— Человек десять.
— Я пришлю вам целый класс.
— Но мы и лопат столько не найдем.
— Не беспокойтесь. Они придут с лопатами.
Часа через два, после контрольной по физике, явилось пополнение — рослые девятиклассники. Каждый нес лопату или лом. Усадив ребят на чем попало, я минут за десять рассказал им о пропаже сумки, закопанном оружейном складе и поповском сундучке.
— Место верное, — повторил я. — Никто этот склад до сих пор не искал. Любой из вас сегодня может первым крикнуть: «Эврика!» Разделитесь на две группы. Одна будет делать контрольные шурфы, а другая сопровождать Жорика. Потом поменяетесь.
Работа закипела с быстротой, какая нам и не снилась. Едва Жорик произносил: «Гудит» — в земле, словно бы от взрыва, возникала глубокая яма. Со дна ее ребята молниеносно извлекали покалеченные грабли, изъеденный ржавчиной колун или в лепешку смятый таз. Раскопки вокруг столбов были расширены. Шулы обнажились. Со стороны сарай походил теперь на жилище бабы-яги.
Жорик заново все прослушал. Ребята перелопатили горы песку, но и на этот раз мы не обнаружили даже винтовочной гильзы. И если миноискатель заливался радостным воем, учуяв присутствие дверного засова или дужки от ведра, а изощренный слух Жорика многократно усиливал чувствительность прибора, то могли мы не заметить несколько охапок железа, которые двадцать лет назад были винтовками и пулеметом?..
Девятиклассники продолжали переворачивать тонны земли, но энтузиазм кладоискателей из них понемногу выветривался: находить арсеналы все любят сразу. А я не мог для поднятия духа дать им подбросить на ладони хотя бы пистолетный патрон. У меня его не было.
Мы с Жориком пожали ребятам руки, обещав, если понадобится, пригласить их опять, и отпустили по домам.
— А это железо мы можем забрать? — спросил один из парнишек.
— Заберите.
Ребята радостно засмеялись:
— Теперь Каневской школе по сдаче лома нас не догнать.
И побежали, споря, где им быстрее дадут грузовик, чтобы вывезти «трофеи».
Мы снова остались одни. Хотелось есть. Пока рядом были ребята, мы работали в одном с ними темпе. И теперь чувство голода было особенно острым. По нелепому упрямству, отправляясь на раскопки, мы не брали с собой еды. Каждое утро казалось: клад отыщется еще до обеда.
Елена Дмитриевна больше не предлагала нам куриного супа с лапшой. А идти днем в Лепляву с пустыми руками мы стеснялись.
Вдобавок поскучнел Жорик. Вскользь он признался: в политотделе долго обсуждали, кого послать. Остановились на нем: лучший «слухач» и специалист по неразряженным боеприпасам. В части его ждали с особенным нетерпением: ведь он надолго задержался. Предстояло докладывать командованию. О чем?.. О том, что в точно указанном месте не сумел обнаружить оружейный склад?
— Давай, Жорик, не раскисать, — сказал я ему. Он посмотрел на меня с надеждой. — Давай глянем на сарай и пространство вокруг с птичьего полета.
— Вы глядите, — обрадовался он, — а я копну вон тот холмик. — И отбежал метров за двадцать в сторону.
Каневщина славится своими древними курганами. Археологи сделали тут немало открытий. Я бы не удивился, если б Жорик, «по закону вредности», обнаружил вместо искореженного железа не тронутое временем скифское золото.
Я оттащил на ровное место широкий чурбак для рубки дров и уселся на него.
Мне хотелось оглядеть поле нашей деятельности глазами постороннего. Справа от меня желтел дом Елены Дмитриевны. Прямо передо мной на тонких «куриных
лапках» шул покачивался от ветра сарай. Порыв посильнее мог его опрокинуть.
От стенок сарая не очень-то ровными рядами шли воронки. Рядов было много. Они образовывали примерно одинаковой площади квадраты. Напряжение, в котором мы с Жориком прожили неделю, настолько обострило память, что я мог бы сказать, в какой яме какой отыскался гвоздь. С каждой воронкой был связан взлет и крушение наших надежд.
Я сидел на обрубке дерева, как Наполеон. Передо мной темнело поле проигранного мною сражения. А глаза машинально ряд за рядом комбинировали квадраты из каждых четырех соседних ямок.
Но что это? Квадрата возле среднего столба не получалось — только треугольник. У самого подножия стены недоставало контрольного шурфа. Там была набросана земля из соседних ям. Издали казалось, что в том месте копали. А на самом деле это был единственный необследованный участок земли.
Я вскочил поглядеть, где приданные мне саперные войска. Жорик стоял у приземистого кургана, углубляя лопатой немалых размеров дыру.
— Жорик, — крикнул я ему, — да оставь ты в покое золото скифов! Кому оно нужно!
— А что?!
— Склад нашелся, вот что!
Когда примчался совершенно счастливый Жорик, я уже давил ногой в резиновом сапоге на затупившуюся лопату.
— Дайте мне, — потребовал Жора.
— Возьми вторую, — ответил я и тут же спросил: — Гранаты через двадцать лет могут взорваться?
— Могут, если с запалами.
— Хорошо, что ушли ребята: толкучка нам сейчас ни к чему.
Дальше мы копали молча. Оставалось пройти «последний дюйм», который должен был вознаградить нас за усилия и мечты.
Яма сделалась изрядной. К Жорику возвратилась обстоятельность лучшего сапера части. Он неторопливо надел наушники, опустил в яму щуп.
— Слышу на глубине железо.
Но важность и серьезность в тот же миг его покинули. Он радостно улыбнулся. В два прыжка отнес в сторону миноискатель. И цепко схватился за свою лопату. Мы рыли широко, споро, по очереди прыгая в глубокую и просторную яму. Ее края были нам по грудь.
Еще раза два с таинственным видом профессора, приглашенного на консилиум, Жорик важно нацеплял мягкие наушники и слушал. Я в эти секунды просто замирал.
— Порядок! — наконец сообщал он.
Но чем ближе был клад, тем труднее давался каждый сантиметр. Песок сыпался с боков ямы, пока Жорик не догадался укрепить их досками. Теперь мы делали меньше бесполезной работы, но в «шахте» стало тесней. И темп замедлился. На спине Жорика потемнел френч. На мне сделался влажным свитер.
Вечерело. От волнения и голода подташнивало. Опьянение первых минут радости прошло. Появилась апатия, и даже мелькнула мысль: «А не отложить ли до утра?»
И тут — была моя очередь — лопата скребнула по железу. Я нагнулся, стал торопливо отгребать песок руками. И мои пальцы коснулись овального края ржавой железной тарелки.
— Пулемет Гайдара! — закричал я.
— А ну-ка, товарищ писатель, из ямы! — неожиданно строго приказали мне саперные войска.
— Жорик, да ты что?! Это ж не фугаска, а нормальный «дегтярик».
— Гражданин писатель, из ямы! Или я вытащу вас силой. — И Жора протянул мне руку.
Я дал ему свою. Жора с легкостью извлек из «шахты» шестьдесят килограммов моего живого веса. Я понимал: сержант Астахов действует по инструкции, которая сейчас могущественней нашей с ним кладоискательской дружбы. Но все же мне было обидно. Я первый узнал про сарай. Вызвал Жорика. Вычислил квадрат. Обнаружил пулемет, а он меня выставлял вон из ямы, будто я залез в чужую банку с вареньем.
Но ссориться с Жориком напоследок я не хотел. Он оказался настоящим товарищем. О лучшем помощнике я не помышлял. А первым по диску все равно посчастливилось скребнуть мне.
Я остановился у края раскопа. А Жорик, широко раздвинув ноги, чтоб не наступить на железную тарелку, которая — теоретически — могла оказаться и миной, зашуршав по доскам сапогами, мягко опустился на руках.
— Отойдите подальше, — чужим голосом произнес он, очутившись на дне.
— Жорик, побойся бога! До сих пор мы все делали вместе.
— По инструкции, если обнаружен склад оружия и боеприпасов, я обязан вызвать команду и выселить жителей из окрестных домов. Хотите так?..
Я не хотел. Команда появилась бы в лучшем случае завтра к обеду. А сейчас только сантиметры и минуты отделяли нас от клада. Самое большее через полчаса мне предстояло взять в руки пулемет Гайдара, к диску которого я уже прикоснулся, и маленький поповский сундучок с полуистлевшими бумагами.
И я покорно отошел и вскочил на колоду, на которой недавно сидел. Теперь я видел только спину Жорика. Он наклонялся и распрямлялся, горстями выбрасывая песок.
Но вот движения его стали медленнее. Жорик замер.
Мне показалось: он растерян. Но тут его руки заработали снова — энергично и уверенно. Жорик поднял голову, распрямился, отыскал меня глазами и сказал:
— Возьмите!
Я подбежал. Жорик протянул мне ржавую тарелку с прорезью. Это был даже не диск, а только нижняя крышка от него.
— А пулемет? — спросил я недоумевая.
Он развел руками.
Понимая, что происходит катастрофа, я метнулся в сторону, схватил миноискатель. Жорик нацепил наушники, долго сопел, поводя щупом вокруг своих ног.
— Я больше ничего не слышу, — сдавленным голосом произнес он.
— У тебя сели батарейки.
— Я поменял их сегодня утром. Не верите — послушайте сами.
Я выхватил миноискатель. Мембраны молчали, воспроизводя похожий на человеческое дыхание шорох, который можно услышать в телефонной трубке, когда на другом конце провода с тобой не хотят говорить.
Я помог Жорику выбраться из «шахты». И мы уселись на колоду. Нас била дрожь, но мы не трогались с места, а только крепче прижимались друг к другу боками и смотрели на истонченную годами стену сарая, словно ждали, что в ней сейчас прорежется рот, который скрипучим дровяным голосом нам все объяснит.
Но рот не прорезался. Нам с Жориком обсуждать было нечего. И я думал.
Могла наша находка быть случайной? Да, могла, если бы мы ее обнаружили на поверхности. Но тарелка отыскалась между шул (место условленное) на глубине полутора метров. Как же она там очутилась? Очень просто. Под шулой хранилось оружие. Потом его забрали. А половинку диска обронили. Скорей всего, диск был от пулемета, который мы надеялись найти.
Значит, сундучок, охапки винтовок и «дегтярик» кто-то забрал до нас. Кто? Командир?.. Но его на хуторе Малинивщина схватили через три дня. Сам он раскопать не мог и под пытками о складе ничего не сказал, иначе бы погибла семья Касича — Елена Дмитриевна с детьми.
Сам Касич или Андриан Степанец?.. Но зачем?.. Каждый имел возможность оставить себе любое оружие. Закапывали лишнее.
Немцы?.. Но если б о складе узнали немцы, они бы сожгли дом и расстреляли семью Касича.
Кто же и когда все раскопал и вывез? Я понять этого не мог. Сарай молчал, так и не обретя дар слова. А это была наша последняя надежда.
Поднялись. Собрали инструмент. Жорик развинтил и сунул в чехол миноискатель. И мы двинулись восвояси.
У поворота нам встретилась пожилая женщина. Она тяжело ковыляла на болезненно толстых ногах. Мы с Жориком прижались к ограде, чтобы уступить ей дорогу. Но женщина остановилась, неторопливо оглядывая нас и наше снаряжение.
— Хлопчики, а чего вы здесь шукаете? — наконец спросила она.
Я объяснил.
— Золотенькие вы мои, вы бы хоть до меня добигли. Вот же моя хата. Нашли ваши ружья, давно нашли!
— Кто?!
— Алена ж писля войны перестраивала сарайчик. Рабочие и наткнулись. Ружья увезли. А ящичек цей валялся. Паспорта в нем были с фотографиями, якись бумажки. Детишки думали: раз валяется, то это уже никому не нужно. И с этим сундучком играли в футбол.
— А хозяйка знала?
— А как же!
Мы швырнули на землю весь инструмент, кроме миноискателя, напугав добрую женщину, и вбежали в дом Касича.
Елена Дмитриевна с обнаженными по локоть руками размешивала тесто. На маленькой гудящей печке шипела сковорода. От работы и жара Елена Дмитриевна раскраснелась. К ней, как по волшебству, на короткий срок возвратилась ее былая красота, размытая бедами и войной. Сознавая, что сейчас она очень хороша, Елена Дмитриевна уверенно и ласково спросила:
— Намаялись, бедненькие? Снимайте шинели, накормлю горячими пирожками.
Последний раз мы с Жориком ели в шесть утра. От запаха пирожков с мясом и жареного лука я почувствовал слабость во всем теле. Но мы не прельстились пирожками.
— Елена Дмитриевна, — спросил я, — вы знали, что рабочие откопали оружие и архив отряда?
Ее лицо и перепачканные в муке руки сделались одного цвета:
— Знала.
— Но мы ж с утра до вечера... на ваших глазах...
— Когда Феня спросила про клад... я пожалела, что не сберегла... А когда вы стали копать... я глядела через стекло... плакала... и не было силы... не было силы...
Она закрыла лицо руками.
В каждом доме, под каждой крышей жила еще своя боль войны.

Часть III. НЕОЖИДАННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Я переехал в другое село. Здесь проживали вдовы нескольких партизан. Это были уже немолодые женщины. Дети их подросли. Почти в каждой хате я видел достаток — больший, чем до войны.
Но здесь тише говорили, реже смеялись. В самом воздухе этих домов я ощущал незримые следы пережитой трагедии. С довоенных фотографий на стенах смотрели веселые красивые лица молодых мужчин. К их пиджакам и праздничным шелковым рубашкам были привинчены значки ГСО, МОПР, КИМ, «Ворошиловский стрелок».
[2]
Видел я на тех снимках и теперешних моих собеседниц, цветущих и счастливых. Их счастье и цветение оборвалось в сорок первом.
Драма усугублялась тем, что большинство партизан погибло в бою или было расстреляно неподалеку от дома.
И некоторые женщины видели в последний раз своих мужей за несколько минут до казни.
Рассказы о том, как пойманных партизан вели по селу на смерть мимо родимых окон, сопровождались такими горькими, не выплаканными за четверть века слезами, что больше двух бесед в день я не выдерживал.
И стоило мне поздно вечером положить голову на подушку, как в ушах до рассвета начинали звенеть и разрывать сердце эти неутешные голоса.
Удаление от Леплявы я ощутил прежде всего в том, что Гайдара в этих избах не видели. Мои расспросы о сумке и о нем самом оставляли моих собеседниц спокойными. Но был один пункт в наших беседах, который мгновенно пробуждал их от апатии, прерывал плач и высушивал слезы:
— Кто же предал отряд?
С предательства начались все беды: внезапное появление карателей возле партизанского лагеря, многочасовой бой, где полегло немало народу, отступление и ошибочное решение командира отряда: разделиться на группы и уйти в подполье.
— Кто же был тот негодяй? — спрашивал я. — Кто привел немцев?
Мои собеседницы только разводили руками.
...В сельской гостинице мне отвели небольшую комнату. Частые переезды приучили меня быстро обживаться. Я полюбил свое новое жилище. Вечерами я подолгу сидел в тишине, заполняя дневник, прослушивая пленку, сопоставляя факты. И никто ни разу не нарушил моего уединения.
Однажды я умаялся больше обычного и заснул, впервые не слыша во сне плачущих голосов и не видя перед глазами смеющихся радостных лиц давно погибших партизан.
Среди ночи я вздрогнул и открыл глаза. Мне показалось, что в коридоре возле моей двери кто-то затаился.
— Кто там?! — не выдержал я.
— Пробачьте, — ответил испуганный голос дежурной. — Вас тут спрашивают.
Взглянул на часы — половина третьего. Кому я понадобился здесь ночью? Щелкнув выключателем, я быстро оделся и открыл дверь. В комнату вошел широкоплечий мужчина лет тридцати в бушлате и флотской фуражке.
Сняв мичманку, он быстро, нервно пригладил густые темные волосы, которые зачесывал назад.
Ночного гостя я видел впервые, но его обветренное лицо с мягким, почти женским овалом, эти глубоко посаженные глаза и широкогубый рот были мне хорошо знакомы. Откуда?
— Садитесь, — пригласил я.
— Нет у нас времени рассиживаться, — мягко ответил гость. — Собирайтесь, пожалуйста... Я, конечно, извиняюсь. Я почему в такое время? Я только из командировки. Узнал, что вы здесь. Маманька сказала, вы утром уезжаете. А у меня к вам важное дело. — Он вдруг смутился. — Простите. Мы ж не познакомились. Я Николай Ильяшенко.
Это был сын комиссара партизанского отряда Моисея Ивановича Ильяшенко и родной брат юной разведчицы — Желтой ленточки.
— Мне давно было нужно с вами встретиться, — сказал Николай. — Я даже адресок ваш московский достал. Я ведь тоже... ищу. — Он расстегнул бушлат, сел и спросил, пытливо глядя мне в лицо: — С чего начался бой у лесопилки, помните?
— В партизанском лагере услышали гул автомобильных моторов. И ваш отец с Дороганом ушли на разведку.
— Верно. А что было дальше?
— Первой же автоматной очередью ваш отец был убит.
— Все точно. А Дороган, заметьте, остался живой.
— Вы его в чем-то подозреваете? — удивился я.
— Упаси бог. Он ведь тоже через несколько дней погиб. Я думаю совсем о другом. Идут двое. Так? Раздается очередь. Так? Один падает, а другой невредим. Почему?
— Пуля дура.
— Конечно, дура. Но летит, куда ее посылают. И я так считаю: немцев в лагерь привел кто-то свой. Согласны?
— Да, мне тоже так кажется. Уж очень точно немцы вышли прямо на партизанский лагерь.
— И когда отец пошел в разведку, он этого изменника увидел и узнал. Изменник тоже отца узнал. И выстрелил сперва в него. И я теперь хочу найти этого гада. Если он жив.
Доводы Николая не показались мне убедительными.
— Нашли? — спросил я его.
— Пока нет. Но я не теряю надежды. Вон в газетах пишут: то в Краснодаре поймали бывших немецких пособников, то в Воркуте... А теперь берите магнитофон. Отвезу вас к одной скотине. Он недавно вернулся из тюрьмы. Мне кажется, он знает, кто предал отряд. И должен что-то знать про убийство Гайдара.
— Кто такой?
Николай назвал фамилию. Это был известный в районе полицай. Его часто вспоминали в своих причитаниях вдовы.
Я понимал, что нужно бы с Известным полицаем встретиться, но думал: «Будет только врать».
А Николай Ильяшенко все решил за меня.
— Но ведь поздно? — сказал я.
— Вы ж утром уезжаете? И потом, он вас ждет. Я только что у него был.
* * *
После окончания Великой Отечественной войны был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни».
В нем говорилось, что историческая победа советского народа над немецкими фашистами показала не только возросшую мощь Советского государства. Она показала исключительную преданность Родине и Советскому правительству всего населения Советского Союза.
Идя навстречу пожеланиям широких общественных кругов, Президиум Верховного Совета СССР отменил смертную казнь в мирное время. Даже предатели по новому закону приговаривались к двадцати пяти годам принудительных работ.
Некоторые немецкие прислужники, отбыв срок, возвращались домой. Одним из них был Известный полицай.
В БАНДИТСКОМ ГНЕЗДЕ
Я поменял батарейки в магнитофоне, и мы вышли. Не видно было ни зги. Николай взял меня за руку и повел за собой. Пройдя шагов двадцать, он чем-то щелкнул. Бледно засветилась фара старого мотоцикла БМВ. Я уселся на высокое заднее сиденье. От первого прикосновения к заводной педали мягко и мощно заурчал отрегулированный двигатель.
— Держитесь за меня, — посоветовал Николай. — Покрепче.
И мы рванулись во мрак.
Весной по местным дорогам лучше всего путешествовать на тракторе. И я сразу пожалел, что согласился на эту поездку. Фары высвечивали не более пяти метров пространства, которые мы пролетали, наверное, за четверть секунды.
Мешок с тяжелым магнитофоном оттягивал плечи, норовя стащить меня с седла. И кроме того, я опасался, что ближайшая рытвина отфутболит нас в канаву или на столб.
Но Николай, ощущая, как летучая мышь, невидимые в темноте препятствия, беспрерывно закладывал виражи. На одном повороте, поправляя рюкзак, я опоздал накрениться — и центробежные силы чуть было не сорвали меня с высокого насеста, но я стиснул коленями стальные бока БМВ и еще крепче вцепился руками в Колю. При этом я не издал ни звука, боясь хоть на миг отвлечь от руля и дороги моего бесстрашного возничего.
Внезапно мотоцикл шаловливо, как ослик, вскинул задом. Мешок с магнитофоном потянул меня в заоблачную высь. Ступни в толстых ботинках перестали осязать надежную жесткость подножек. И я скорей догадался, чем ощутил, что из-под меня уплывает седло.
Впервые в жизни я познал загадочную прелесть невесомости, за которой, оказывается, не обязательно лететь в космос. Неожиданное приобщение к воздухоплаванию и астронавтике было столь молниеносным, что уже не хватило времени на испуг, восторг или заявление перед стартом.
Полет к звездам для меня, скорей всего, был бы не только первым, но и последним. На мое счастье, Коля вдруг резко затормозил. Уже приземляясь, я налетел животом на его плечи, отчего у меня зашлось дыхание. Скользнув по сукну Колиного бушлата, я шлепнулся на железо седла, только для вида обтянутого кожей. Мешок с магнитофоном ощутимо влепил мне по пояснице.
И мы остановились.
Ильяшенко торопливо спрыгнул на землю, а я продолжал неподвижно сидеть, жадно ловя ртом воздух, словно в драке мне умело заехали кулаком в солнечное сплетение.
Больше всего после волнующего путешествия мне хотелось неторопливо, пешочком возвратиться в гостиницу...
— Це его резиденция, — прервал мои мечты Коля и показал на дом.
Луч мотоциклетной фары высвечивал обыкновенную сонную хату. Вопреки недавним уверениям моего нового товарища, мне показалось, что в доме крепко спят. Коля выдернул ключ зажигания. Фара погасла.
Пока мои глаза привыкали ко мраку, Ильяшенко подошел к избе и, не смущаясь ночным временем, дважды лягнул дверь. Ахнуло, как из пушки. Гул прокатился по селу. Я подумал, что дверь проломится, но она выдержала и тут же отворилась, точно за ней стояли и ждали.
Я успел различить высокую мужскую фигуру в пиджаке. Она тут же скрылась в проеме. Подав знак, чтобы я следовал за ним, Коля первым проник в непроглядную тьму сеней. Перешагнув за порог, я, как слепой, вытянул перед собою руки и двинулся по узкому коридору. За нами мрачно лязгнул массивный засов, и кто-то, испуганно коснувшись моей ладони, обогнал нас с Николаем, предупредительно открывая дверь. Полоса яркого электрического света прорезала коридор.
Я удивился. С улицы казалось, что дом беспробудно спит. Мы вошли с Николаем в большую душную комнату, где пахло копотью, несвежим бельем и только что испеченным хлебом, который лежал на лавках. Неизвестно почему запах свежего хлеба напомнил мне блокадный сорок первый в Ленинграде, а также другие годы, когда простая горбушка значила в моей жизни немало.
И вдруг еще одна подробность остро напомнила войну: окно! От потолка до пола оно было занавешено непроницаемой дерюгой; справа дерюга задралась, и я увидел вместо стекла прибитые к раме плотно сколоченные доски. В Ленинграде в сорок первом так забивали окна первых этажей — от снарядных осколков и на случай уличных боев.
Но ведь война давно кончилась!
Я продолжал стоять на пороге. Слева от меня послышался шорох. Нервы были напряжены. Я вздрогнул и резко повернулся. В стене зияла похожая на чулан ниша. В углу ее перед золоченой иконой подмигивала крошечная лампадка.
«В этом доме молятся?! — удивился я. — О чем же тут просят бога?»
А на широкой постели, вытянув ноги в тонких чулках, сидела старуха. Она была вся в празднично-черном, словно только возвратилась с похорон. Наверное, в молодости эта женщина была очень хороша. Темные, с удивленным разрезом глаза. С изящною горбинкой нос. Капризного рисунка красивый рот, казалось, умел насмешничать и повелевать.
Но глаза, когда-то полные огня и блеска, потухли. Смуглые щеки обескровились и ввалились. Губы стянуло и изрезало морщинами. И породистый нос на маленьком теперь лице выглядел несуразно большим. Женщина была так худа, что под тканью одежды остро проступали кости, словно платье было натянуто прямо на скелет.
Это была его мать. Она его родила и вырастила. Только чему же она его с колыбели учила, если в самую тяжкую для народа годину из всех должностей на земле он выбрал самую подлую — сделался полицаем?
— Это человек из Москвы, — громко произнес Николай. — Ты повинен ему все рассказать.
— Счастлив познакомиться, — ответил Известный полицай.
Я сделал вид, что не заметил протянутой мне руки, и впервые взглянул на него. Бывшему полицаю на вид было сорок с небольшим. Нарядный клетчатый пиджак спортивного покроя облегал могучий торс. Ворот рубашки не застегивался на крепкой жилистой шее. Густые, бесцветные волосы он франтовато зачесывал набок. И только нос его, изрядно примятый (в детстве били сверстники, часто бегал ябедничать?), придавал лицу отставного полицая обиженное и плаксивое выражение.
Заметив, что я разглядываю его, хозяин дома приветливо улыбнулся. В оскале крепких, без единой пломбы, зубов проступило что-то беспощадно жестокое.
«Улыбчивый», — мысленно окрестил я его.
Известный полицай протянул мне новенький паспорт и сложенный вдвое листок. Это была справка из мест заключения, что такой-то, приговоренный к двадцати пяти годам исправительно-трудовых работ, освобождается досрочно.
Не без важности спрятав документы в карман, Улыбчивый вдруг решительно заявил:
— При нем рассказывать не буду. — И показал на моего нового товарища.
Я повернулся к Николаю. Он стоял, наклонясь вперед. Кулаки и все мышцы его были напряжены. Он смотрел на Улыбчивого с неутолимой ненавистью.
— Коля, езжайте домой, — попросил я.
— Я вас обожду на улице, — ответил он.
— У нас беседа надолго.
— Я не тороплюсь. И потом, вы не найдете дороги.
— Я их провожу, — пообещал Известный полицай. — Я знаю, где они квартируют.
— Ну, смотри, сволочь, — на всякий случай предупредил Николай, — если с этим человеком что случится, то дело иметь ты будешь прежде всего со мной. — И он показал кулаки. Они напоминали чугунные шары от полупудовых гантелей.
Я проводил Колю до мотоцикла. За час мы сроднились. Неожиданно обняли друг друга. Коля неуловимым движением носка завел мотор и прыгнул в седло.
ИНТЕРВЬЮ В БУНКЕРЕ
Улыбчивый ждал меня на крыльце. Я прошел в комнату с забаррикадированным окном. Старуха, не переменив позы, все так же сидела на кровати.
У входа зловеще лязгнул тяжелый засов. Я оказался заперт в странной крепости.
Бывший полицай, возвратясь, неловко плюхнулся на стул. Его кошачья грация улетучилась, а лицо приняло то окаменелое выражение, которое можно увидеть на снимках, выполненных деревенским фотографом.
«Что с ним происходит? — забеспокоился я. И перехватил его взгляд. — Микрофон!..»
Известный полицай не мог отвести глаз от ситечка микрофона. Я решил воспользоваться его замешательством:
— Готовы?..
Он покрутил головой, будто его душил тесный ошейник, откашлялся и кивнул. Я включил магнитофон и собрался задать первый вопрос. Но Улыбчивый заговорил сам:
— События тем временем развивались своим чередом. Как работник районного масштаба, я помогал эвакуировать колхозное имущество перед приходом немецких оккупантов. Таково было правительственное задание, особенно после речи товарища Сталина от 3 июля 1941 года. Однако в одном колхозе я обнаружил, что скот вредительски заражен ящуром. Я лично доложил об этом районному начальству...
Бывший полицай рассказывал торопливо, но весьма связно, без малейшей остановки. И тут меня осенило: да ведь он же готовился. В ожидании моего прихода Улыбчивый не только брился и вытаскивал из сундука пиджак в клетку — он еще и сочинял речь.
— 18 сентября район был захвачен немцами, — продолжал бывший полицай. — Двадцать первого на площади райцентра состоялось собрание, куда согнали людей из многих деревень. Нам было объявлено, что создаются новые органы самоуправления. Назавтра я отправился в райуправу. В одной из комнат сидел знакомый. Он спросил:
«Чего собираешься делать?»
«А чего прикажешь?»
Он сказал:
«Иди служить в полицию».
Я пошел и стал писарем.
Известный полицай рассказывал, по возможности избегая деталей и приглаживая факты. Я не смог, к примеру, услышать от него, почему он остался в селе и с такой легкостью согласился на должность писаря, хотя до прихода оккупантов имел гораздо лучшую должность.
Но даже те подробности, которые Улыбчивый счел нужным и для себя безопасным мне сообщить, во многом обличали его.
История падения и преступлений этого человека — целый уголовный роман, который сейчас нет возможности даже коротко пересказать. И я отобрал из «звуковых мемуаров» бывшего полицая лишь те факты, которые имеют отношение к моему поиску.
— Примерно 20 октября, — продолжал он, — районного старосту Костенко срочно вызвали в деревню Хоцки. На обратном пути районный староста приметил возле дороги подозрительного человека и велел своей охране его схватить.
Задержанным оказался Александр Погорелов, который до войны тоже работал в нашем райцентре. Погорелов заявил районному старосте, что он бежал из леса и готов показать местонахождение партизанского отряда. Погорелова срочно доставили в Гельмязево. И вскоре из Золотоноши за ним пришла машина с сотрудниками немецкой тайной полиции.
А дня через два я услышал гул. Возле села Леплява шел ужасный бой. Партизаны трое суток сражались с превосходящими силами оккупантов. В этом бою геройски погиб настоящий коммунист, комиссар отряда Моисей Иванович Ильяшенко. Его сыну я обязан приятным знакомством с вами.
Слова «настоящий коммунист», «героическая борьба», «правительственное задание», «товарищ Сталин» легко слетали с языка Улыбчивого. Они призваны были убедить меня, что он всегда горячо сочувствовал этой борьбе. Но время от времени Известный полицай проговаривался:
— Когда я выдавал оружие группе полицаев, то один из них, беручи у меня две гранаты, сказал: «Это гранаты против партизан. Мы идем ловить их командира». Я тогда его словам не придал значения (?!). А дня через три тот же полицай воротился с хутора Малинивщина и сказал, что им удалось арестовать командира партизанского отряда Горелова.
«Только молчи. Никому не говори!» — предупредил меня он.
При первом же случае я спросил районного старосту:
«Чего будешь делать с Гореловым?»
«Как чего? Отдадим его немцам».
Я не услышал в голосе Улыбчивого и нотки сожаления о человеке, которого собирались «отдать немцам». Зато я уловил попытку выгородить полицаев и свалить вину за истязания командира на оккупантов. И подставил Улыбчивому ножку.
— А Семен Маргара хвалился, что ему поручили вести дело Горелова. Но поскольку командир отряда на допросах молчал, то Маргара ломал ему пальцы дверями.
Известный полицай вздрогнул и оторопело произнес:
— Не было такого. Это вам наговорили.
— Было.
— Вы-то откуда знаете?
— От Семена Маргары.
— Он живой?!
— Вы не ответили: ломали Горелову пальцы?
— Малость перестарались.
— Вы участвовали в допросе?
— Нет, нет. Я лично только чул (то есть слышал).
«Врет, — понял я. — Иначе бы зачем он стал все валить на немцев, зная, как было на самом деле?»
— Вы обещали про Маргару, — напомнил Улыбчивый. — Разве Семка живой?
— Его расстреляли в сорок четвертом.
— Взяли меня на пушку, — обиженно и чем-то обрадованно произнес он.
— Никаких «пушек». О том, что ему поручили допрашивать Горелова, Маргара в ноябре сорок первого похвастался Марии Сергеевне Станиславской, секретарю-машинистке райкома. И в подтверждение показал часы Горелова — швейцарские, на металлическом браслете, с трещиной на стекле.
Станиславская часы эти узнала. Однажды по просьбе Горелова она относила их чинить. А в сорок четвертом, когда пришли наши, Станиславская помогла схватить Маргару. И выступила свидетелем на суде... Вы, насколько мне известно, находились в это время в Дрездене?.. И Маргару расстреляли.
Улыбчивый побледнел.
Я понимал, мой собеседник умен. В нем идет напряженная «отборочная» работа, но я уже заметил, что он боится прямо поставленных вопросов, которые вынуждают его отклоняться от заранее продуманной речи. И я продолжал наступать.
— Итак, сперва вы служили писарем. Затем вас перевели на «оперативную работу». Чем вы занимались в новой должности?
Выражение лица и глаз Известного полицая сделалось скорбным.
— Они ж мне не доверяли. Они ж помнили, что я числился в истребительном батальоне. Задания мне давали пустяковые: кто-то не вышел на работу — я штрафовал на пять рублей.
Он снова темнил. Я дал ему выговориться на эту тему и спросил:
— Кто убил Гайдара?
— Клянусь, не знаю.
— Кто донес о партизанах, которые вечером 25 октября 1941 года шли из Прохоровского леса на старую базу отряда?
— Не имею понятия.
— Но в октябре месяце вы уже работали в полиции. И сообщение о пятерых партизанах поступило сначала в Гельмязево.
— Ну и что? Я же тогда еще писарем работал. Я же говорил вам: не доверяли они мне.
— Да, вы это говорили. Но от вас же я слышал, что вы своими руками выдавали полицаям оружие. Могли бы вам в райуправе поручить склад оружия, если б вы у пана Костенко не пользовались доверием?.. Поэтому я снова спрашиваю: как и кем была организована в Лепляве засада возле насыпи?
— Что Гайдара убили под Леплявой, я узнал уже в исправительном лагере в Сибири. Мне попалась книжка Гайдара. И в предисловии было написано, что его убили в Лепляве.
Я не сомневался: он знал гораздо больше, чем говорил. И между нами состоялся короткий заключительный диалог, который я приведу слово в слово, как он записан на пленке. Тут имеет значение каждая подробность.
Я. Посмотрите, как любопытно получается. Вы прекрасно осведомлены о предательстве Погорелова, который сообщил гитлеровцам, где расположен партизанский отряд. Погорелов, по вашим словам, был задержан 20 октября.
Он. Скорей даже, двадцать первого.
Я. Допустим. Потом вы мне рассказывали, что выдавали оружие полицаям, которые готовились к бою с партизанами у лесопильного завода. Бой произошел 22 октября.
Он. Совершенно точно. Я помню, что бой шел три дня. Немцы применили даже танки. (Насчет трех дней и танков он нарочно приврал: танков не было и шел бой несколько часов.)
Я. Вы рассказали о том, как был схвачен командир отряда и когда это произошло.
Он. Третьего листопада. То есть третьего ноября по- вашему.
Я. Значит, вы в курсе событий, которые произошли с 20 октября по 3 ноября. А Гайдар погиб 26 октября. И вы ничего не знаете, как это произошло?
Он. Ничего.
Я. Но когда убили Гайдара, тоже был бой.
Он. Может, я находился в отъезде?
Я. Дальше своего района вы уехать не могли.
Он. Повторяю: что Гайдара убили под Леплявой, я узнал, уже находясь в заключении.
Больше он ничего не сказал. Добиваться от него признаний я не имел права.
Я исследователь и могу получать только те сведения, которыми люди со мною делятся добровольно. Даже если это бывшие полицаи.
Я поднялся. Упаковал «Весну». Я понимал: много раз прослушав сделанные записи, я еще выловлю немало подробностей.
— Борис Николаевич, — вдруг душевно и просто произнес Улыбчивый. — Вы будете в райцентре?
— Буду. А что?
— Велите начальнику милиции возвернуть мне рушницу. А то явился участковый, хвать со стены.
— Зачем, — удивился я, — милиции ваше полотенце?
Улыбчивый расхохотался:
— Не рушник, а рушницу. Охотничье ружье.
Тут уже засмеялся я:
— Тем более. В ваших лесах и охотиться-то не на кого.
— Да, не на кого, — обиделся вдруг Известный полицай. — Детишки балуют. Кидают кирпичи в окна. Я что, молчать должен?
ПЕРВЫЙ ИТОГ
Что же знакомство с Известным полицаем дало мне для поиска? И мало, и много. Улыбчивый ни слова не обронил о Гайдаре и его бумагах. Но зато помог прояснить два очень важных момента.
Во-первых, было названо имя того, кто предал отряд: Александр Павлович Погорелов.
Но имел ли я право поверить отставному немецкому прислужнику хотя бы в одном пункте его рассказа?
В данном случае имел: его сведения подтверждались сообщениями из других источников.
Погорелов был известен в отряде как изнеженный и слабодушный человек. Однажды ночью в припадке страха он открыл стрельбу из винтовки, переполошив весь лагерь, а через день проявил трусость при выполнении боевого задания.
Командир диверсионной группы А. П. Гайдар в присутствии многих бойцов заявил: «Погорелова брать на задания нельзя».
И его больше не брали. (Свидетельство М. М. Ильяшенко — Желтой ленточки.)
18 октября 1941 года Погорелов из отряда исчез. На его поиски была послана специальная разведгруппа. Подозревали, что Погорелова выкрала немецкая разведка. (Свидетельство И. С. Тютюнника, бывшего начальника штаба отряда.)
После боя у лесопильного завода стала очевидной связь между исчезновением Погорелова и налетом карателей. Гайдар в хате Степанцов в присутствии товарищей заявил: «Ну попадись мне этот Погорелов!» (Свидетельство А. Ф. Степанец.)
В конце декабря 1941 года Погорелов появился в райцентре. Местные полицаи узнали его и схватили. Погорелов предъявил им справку от немецкого командования, что ему дозволено беспрепятственное передвижение до Харькова. (Свидетельство М. С. Станиславской, секретаря-машинистки райкома.)
Сообщение Известного полицая о том, что Погорелов, сбежав из партизанского лагеря, был задержан райстаростой Костенко и заявил о своей готовности сказать, где расположен отряд, явилось последним звеном, которого раньше недоставало. И второй важный момент. С Известным полицаем у меня состоялось несколько встреч. Последняя произошла в октябре 1977 года. Каждый раз, садясь передо мной за стол, Улыбчивый клялся, что не имеет понятия, как и почему была организована засада на краю Леплявы 26 октября 1941 года. Но еще Марк Твен предупреждал: кто врет, тому нужно много запоминать.
Позабыв, что он ничего не знает, Известный полицай однажды заявил (а магнитофон тут же записал):
— У немцев был тщательно подготовленный план ликвидации партизанского отряда. Первый этап — завязать бой у лесопильного завода; второй этап — уничтожение мелких групп.
Это было очень важное свидетельство. Ведь с послевоенных лет существовала версия, будто бы Гайдар и его товарищи на рассвете 26 октября нечаянно столкнулись с немецким обозом, который неторопливо катил в Лепляву. Версия рождала недоуменные вопросы:
как могло получиться, что Аркадий Петрович и его товарищи не услышали стука колес и копыт по промерзшей земле?
если Гайдар и еще четверо партизан натолкнулись на обоз, то почему Аркадий Петрович погиб на высокой железнодорожной насыпи? Ведь гужевой транспорт по рельсам не ходит?
наконец, последнее, самое главное: Гайдар был находчивым и рисковым человеком. И на гражданской войне, и в сорок первом он много раз выходил живым из самых гибельных ситуаций. Как же он позволил убить себя нестроевым обозникам?
А заявление бывшего полицая ставило все на свои места. Аркадий Петрович погиб не в стычке с полусонными извозчиками. Он погиб в единоборстве с могучей, отлаженной карательной машиной гитлеровской Германии.
Но как же эта машина сработала?
Я опросил около трехсот старожилов в Каневе, Золотоноше, Гельмязеве, Лепляве, Прохоровке, Хоцках и других местах.
Тридцать с лишним человек сообщили мне вполне конкретные сведения о партизане Гайдаре, с которым они сами встречались, беседовали, выполняли его поручения и просьбы.
Несколько человек из тех, кого я опросил, стали нечаянными свидетелями загадочных приготовлений гитлеровцев вечером 25 октября 1941 года. И на рассвете двадцать шестого. Но с чем были связаны эти приготовления, каков был их зловещий смысл, прояснилось позже...
И коль скоро Известный полицай делает вид, будто бы он, служа в райуправе, ничего об этих приготовлениях не знал, я попытаюсь на основе прямых и косвенных свидетельств воссоздать события одной трагической ночи.
Я расскажу, как было задумано и осуществлено убийство Аркадия Петровича Гайдара.

Часть IV. КАПКАН
БОЙ У ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА
А началось все с малозначительного факта. Вечером 18 октября к линии фронта уходила группа полковника Орлова. Весь партизанский лагерь был взбудоражен этим событием. И никто не заметил, что в суматохе исчез Александр Погорелов.
Хватились его только утром, когда остался нетронутым его завтрак. На Погорелова это уж вовсе не было похоже: есть он всегда являлся первым.
Тогда партизаны вспомнили, что последнее время Погорелов был какой-то странный. От любой тревожной вести начинал взволнованно семенить возле своей землянки, бормоча:
— До каких же пор нам нужно будет, как зайцам, жить и каждого выстрела бояться?
Товарищи его успокаивали:
— Саша, ты же мужчина, ты же партизан, будет праздник и на нашей улице!
— Ай! — отвечал он и куда-нибудь уходил.
Несколько раз видели, что он плачет.
И вот Погорелов исчез. В отряде сначала подумали, что он сбежал домой. Такое с ним уже один раз было. И командир сурово его предупредил. И коль скоро все повторилось, в Гельмязево срочно отправили разведывательную группу. Она установила, что домой Погорелов не являлся и в райцентре его тоже никто не видел.
Возникло предположение, что Погорелова выкрала немецкая разведка.
А вечером 21 октября в отряд пришла тревожная весть. Неподалеку от партизанского лагеря находился Ганенков хутор. И верный человек сообщил:
— Днем на хуторе гуляли полицаи. Им было выставлено угощение. И, сидя за трехлитровой бутылью самогона, они проболтались, что в Комаровку понаехали немцы. Вроде бы собираются «шукать партизан».
Сведения оказались точными. На рассвете 22 октября свыше трехсот карателей двинулись в сторону лагеря. Завязался бой.
По одним сведениям, он длился часа три. По другим — гораздо больше. Но точно совершенно известно, что гитлеровцы натолкнулись на яростное сопротивление, которого не ожидали. Тем более что лагерь обороняло всего семьдесят человек.
Каратели несколько раз подымались в атаку, но партизаны отбрасывали их гранатами и ружейно-пулеметным огнем. Гитлеровцы вызвали подкрепление. На грузовиках подвезли минометы. Положение партизан стало сложным. Появились убитые и раненые. Дальнейший бой ничего, кроме новых потерь, не сулил.
И тогда командир отряда Горелов приказал:
— По пять человек с правого фланга — к переправе.
С одной стороны лагерь надежно защищало болото.
Через него была перекинута толстая спиленная сосна, которая и должна была служить переправой.
Первыми прошли женщины-разведчицы. Среди них была и Маша Ильяшенко — Желтая ленточка; она уже знала о гибели отца. Потом перевели раненых. А затем по сосне стали перебегать остальные. И тут обнаружилось, что нет Гайдара.
Командир отряда, заметив двадцатилетнего лейтенанта Скрыпника, спросил его:
— Вася, где Аркадий Петрович?
— Там, на левом фланге, с пулеметом. С ним Миша Тонковид.
— Давай, Вася, беги скоренько туда и скажи, чтобы брали пулемет и отходили. Скажи, мы все отходим.
Скрыпник побежал, но тут же бросился на землю, потому что вокруг него по деревьям защелкали пули. И дальше можно было только ползти.
...Гайдар оборудовал свое пулеметное гнездо на невысоком холме, откуда был хороший обзор. Здесь у него заранее был вырыт глубокий и удобный окоп на случай возможного боя. И кроме того, заранее было решено: в случае тревоги Аркадий Петрович отдает свой «дегтярик», к которому было всего два запасных диска, Михаилу Кравченко, а сам берет немецкий пулемет МГ-34, для которого удалось захватить большой запас металлических лент. Они легко и быстро укладывались в круглые магазины.
...Отбивая со своего холма длинными очередями новую попытку гитлеровцев прорваться в лагерь, Аркадий Петрович неожиданно для себя с тревогой заметил, что немецкие пули взбили фонтанчики песка и земли с левой стороны его окопа.
Это было признаком тревожным. Получалось, что, пока одна часть солдат пыталась (или делала вид, что пытается) взять лагерь в лоб, другая обходила тот же лагерь слева, норовя зайти в тыл партизанам. И еще Аркадия Петровича огорчило, что он не заметил: когда же противник начал этот маневр?
Гайдар приподнял пулемет, легко переставил его на левый край окопа и пока что наугад, выведывая, куда же все-таки каратели пробрались, выпустил одну за другой несколько коротких очередей.
К его удивлению, ему ответило довольно много немецких автоматчиков. Кусты зашевелились и возле раздвоенной сосны, и у высокой муравьиной кучи, и там, дальше, у тропы, которая вела в сторону Днепра.
Место для пулемета было выбрано удачно. Гайдар мог бы один на этом бугре держать круговую оборону. Припасов ему пока хватало. И его второй номер, Михаил Тонковид, «младший лейтенант в кожаной куртке», как прозвали его в отряде, бесперебойно подавал полные магазины взамен быстро пустевших.
Но рядом, справа, еще оставались товарищи. И главным сейчас было задержать немцев, пока все бойцы покинут лагерь. (О приказе Горелова Аркадий Петрович знал — ему передали по цепочке.)
И Гайдар, еще круче развернув пулемет, ударил, очередь за очередью, по тем автоматчикам, которым удалось подобраться к холму ближе всего.
Началась дуэль. По Гайдару били из-за дубов, из-за сосен и старых трухлявых пней. Пули жужжали и пели над самой головой. Раза два рвались гранаты, но гитлеровцы бросали их лежа, и гранаты не долетали до холма. А стрелять из миномета каратели уже не решались, чтобы не задеть своих.
Аркадий Петрович, водя и перенося, почти перебрасывая пулемет, молниеносно отвечал на новую вспышку огня, и непременно короткими очередями. И не иначе как прицелившись.
Все чаще после его очередей, в мимолетных паузах, доносился из-за кустов испуганный крик, или тяжелый стон, или проклятия на чужом языке.
А Гайдар бил, менял магазин и стрелял снова, держа в поле зрения все пространство перед бугром. Для себя он отметил, что солдаты, которых он обнаружил и остановил, пока что никуда с места не двинулись. Но если они все же отползут и захотят обойти лагерь с тыла, им придется сделать немалый крюк, требующий времени — того самого, которое Гайдар сейчас пытался выиграть, чтобы дать товарищам возможность отойти без
потерь.
— Аркадий Петрович, Аркадий Петрович, — раздался сзади торопливый шепот.
Пулеметчики испуганно обернулись. Возле окопа, с лицом, испачканным землей, лежал невесть откуда взявшийся Скрыпник.
— Что тебе? — недовольно и резко спросил Гайдар.
Вася перевел дыхание:
— Горелов велел брать пулемет и отходить...
— Уходи отсюда и не мешай, — полупрося, полуприказывая, произнес Гайдар. — Видишь, что здесь творится?
— Вижу.
— Ну и беги.
Аркадий Петрович отвернулся и, приподняв пулемет, переставил его на другое место, а Миша торопливо добавил:
— Когда можно будет, мы и сами уйдем. Так и передай Горелову.
И тоже отвернулся.
Уйти в ту минуту они не могли. Гайдар огнем своего пулемета держал сотни полторы солдат, не меньше. И если бы Аркадий Петрович с Тонковидом выпрыгнули из окопа, гитлеровцы, как саранча, ринулись бы на пригорок, а там и в самый лагерь, где еще оставались наши люди.
В правильности своего решения пулеметчики убедились очень скоро.
Внезапно в хорошо отлаженной машине что-то заело. Сгоряча Аркадий Петрович схватил запасной магазин и несколько раз ударил по затвору. Но это не помогло. Затвор не открылся.
Гитлеровцы заметили, что с холма больше не стреляют, и тоже прекратили огонь, желая удостовериться, что у русского пулеметчика кончились патроны. Или он мертв.
Пулемет в самом деле молчал. И тогда солдаты поднялись. Из кустов и сосен их вышло столько, что зарябило в глазах. А каратели, строча на ходу, двинулись к бугру.
Тонковид повернулся к Гайдару. Аркадий Петрович широко открытыми глазами смотрел на солдат, которые стремительно приближались.
Внезапно Гайдар придвинул к Тонковиду пулемет: «Займись!» Быстро поставил ногу на край окопа. Поднялся на бугре во весь рост. Закричал «Ура!» и стал бросать гранаты-лимонки, которыми всегда были полны его карманы.
— Давай твои! — наклонился он через минуту к Тонковиду.
У Миши тоже было несколько «лимонок». И Тонковид для скорости отстегнул пряжку и протянул гранаты вместе с поясом. И Гайдар снова закричал «ура» и снова стал их бросать то влево, то вправо, то прямо перед собой.
Тонковид на мгновение оторвался от пулемета и взглянул на Аркадия Петровича. В короткой шинели с распахнутой грудью, в сбившемся на затылок треухе, с широко открытым ртом, из которого неслось с ужасающей силой «ура», с гранатами в каждой руке, он был просто страшен — страшен верой в свою неуязвимость и личную свою над ними, вот этими бегущими автоматчиками, победу.
Гитлеровцев было много, а Гайдар стоял на бугре один (Тонковид разбирал пулемет). Но никто из солдат не осмелился остановиться, прицелиться и выпустить в него очередь.
Никто.
Оглушенные серией точных и мощных гранатных взрывов (за что Аркадий Петрович и любил «лимонки»), гитлеровцы залегли. А когда Гайдар на несколько мгновений замешкался, они вскочили и побежали, но уже обратно.
В эту минуту Мише Тонковиду удалось извлечь патрон, который перекосило. Миша поставил на место затвор, ловко загнал в пазы новый магазин. И протянул пулемет Гайдару.
Аркадий Петрович подхватил пулемет и, вскинув к плечу, будто это малокалиберная винтовка, начал бить в серые спины, не давая опомниться.
Когда в магазине кончились патроны, Аркадий Петрович с сожалением опустил пулемет. Спрыгнул в окоп и осипшим от крика голосом сказал:
— Теперь, Миша, беги. Я за тобой.
* * *
В 1963 году бывший начальник штаба партизанского отряда Иван Сергеевич Тютюнник написал о бое у лесопильного завода:
«Натиска фашистов, с их превосходящими силами, отряд не выдержал и получил команду отойти. Гайдар, как пулеметчик, продолжал отбиваться... Товарищ Гайдар сам вызвался прикрыть отступающих пулеметным огнем. Это была большая помощь для спасения людей отряда».
ЗАДАНИЕ
В полдень 25 октября 1941 года во временный лагерь под Прохоровкой возвратился командир отряда Горелов. Его ждали двое суток, уже начали беспокоиться. А он вернулся довольный, возбужденный удачей. Тут же собрал партизан и, потомив минутку-другую, улыбаясь, объявил:
— Перебираемся, хлопцы, на новое место. Есть подготовленная база с большим запасом продуктов. Немцы дороги туда не найдут.
База находилась километрах в восьмидесяти. С учетом разных непредвиденных обстоятельств это четыре дня пути. На дорогу требовался провиант.
В аварийном лагере под Прохоровкой, где партизаны были вынуждены обосноваться после боя, в двух еще летом выкопанных землянках не было припасено ни банки консервов, ни горсти сухарей...
Старый лагерь на Омельяновщине гитлеровцы после боя до основания разграбили. Но там на деревьях были хитроумно припрятаны мешки с копченым мясом и салом.
— Кто пойдет? — спросил Горелов.
Вызвались пятеро. В их числе Гайдар.
— Аркадий Петрович, вы не пойдете, — решительно заявил командир.
Горелов повторял это всякий раз, когда Гайдар собирался на задание. Бесплодные уговоры только раздражали Аркадия Петровича. И 25 октября после недолгих пререканий Гайдар привычно настоял на своем.
ОШИБКА
Тропинка из Прохоровского леса вывела к железной дороге. Пятеро остановились и прислушались. В соснах шелестел ветер. Где-то далеко залаяла собака. Ей ответила другая. Наконец обе замолчали. И больше не раздавалось ни звука.
Пятеро продолжали стоять на небольшой поляне. Путь им преграждала высокая песчаная насыпь с темной будкой путевого обходчика возле шпал. В будке хранились инструменты и ручная дрезина. За насыпью начиналась Леплява.
Деревню можно было обойти лесом справа и тропинкой вдоль болота слева. Но обход удлинял путь. И пятеро двинулись напрямик: через насыпь, мимо дощатой будки, мимо кирпичного дома путевого обходчика, именуемого в селе казармой. И мимо хаты, где жил еще один леплявский полицай.
 НЕДОУМЕНИЕ
НЕДОУМЕНИЕ
В казарму Аркадий Петрович наведывался часто. Об этом мне рассказывал бывший путевой обходчик Игнат Сорокопуд. Кроме того, Гайдар бывал у Опанаса Касича, дом которого стоял неподалеку от насыпи. Знал ли Гайдар о полицае, который жил по соседству, на перекрестке дорог?
Полагаю, что знал. Но леплявские полицаи, опасаясь молниеносного возмездия, в селе до поры до времени вели себя скромно и тихо, вдобавок делая вид, будто не имеют понятия о близком присутствии партизан. И в отряде было решено полицаев пока не трогать.
Но за двое-трое суток после боя у лесопилки равновесие нарушилось. Партизаны отступили. Предатели осмелели.
Гайдар не уловил этой перемены. На него это было совсем не похоже. Еще с гражданской в нем было развито обостренное чувство опасности. Оно не имело ничего общего с трусостью. Это была способность мгновенно распознавать гибельные ситуации. Так альпинист, подымаясь по отвесной скале, интуитивно понимает, на какой выступ нельзя ставить ногу.
И вот единственный раз — вечером двадцать пятого — этот редкий дар предощущения опасности Аркадию Петровичу внезапно изменил.
Почему?
ИЗ ЖУРНАЛИСТСКОГО БЛОКНОТА
Эту хату под сопревшей соломенной крышей и сейчас еще можно видеть на краю Леплявы. В избе уже давно никто не живет. Но я еще застал жену полицая.
Она сама подошла ко мне, когда я стоял на рельсах возле будки путевого обходчика. Ее нельзя было назвать старой, но это была уже седая, высохшая женщина с болезненно-серым лицом, словно ее давно точил какой-то недуг. На ней была кофта с разлохматившимися рукавами и заношенная, в двух-трех местах небрежно починенная юбка.
Сперва женщина в сторонке молча наблюдала за тем, как я отмеряю шаги от подножия будки до тропы на Прохоровку; от сосен, где партизаны сделали привал, до той же тропы.
Потом она неуверенно спросила, что я делаю и для чего мне это надо. И, узнав, вдруг стала торопливо и простодушно рассказывать о муже, о себе, о вечере двадцать пятого и утре двадцать шестого.
Она уже не опасалась последствий своих откровений. Ей было безразлично, что я напишу. Все самое страшное, что только могло произойти с ней и ее семьей, произошло. И бояться ей больше было нечего. И сейчас ее волновало только одно: вдруг я не захочу дослушать.
Но, заметив мой неподдельный интерес к рассказу, она оживилась, лицо ее от волнения порозовело. Она вдруг заправила под платок давно не чесанные волосы. И в глазах ее появилась радость от того, что она может выговориться.
Мы долго сидели с ней на бревнах возле казармы, а когда после беседы я принялся фотографировать насыпь, на которую поднялся Гайдар, дом обходчика, куда он думал зайти, бетонный колодец, возле которого были оставлены немецкие подводы, несчастная женщина повсюду ходила за мной, дополняя и уточняя свой простодушный рассказ об убийстве, зачинщиком которого оказался ее муж.
— Я ж чувствовала, я ж говорила ему: «Не ходи», — заплакала она под конец. — А он говорит: «Ты хочешь, чтоб Костенко послал меня на завод?!»
И когда мы с ней очутились возле солдатского обелиска, где под толстым плексигласом смеялся веселый и молодой Гайдар, женщина неожиданно спросила, показывая пальцем на портрет:
— А дети у него остались?
Я вдруг понял, что не могу больше с ней разговаривать. Но она ждала, и я кивнул. Внезапно женщина тихо заплакала и побрела от обелиска через насыпь, мимо дощатой будки обходчика к своей избе.
Недавно я узнал, что женщина умерла. А дом, построенный ее мужем, продолжает стоять. Он подслеповат. Сразу и не разберешь, изба перед тобой или сарай. И если верно, что дома похожи на хозяев, то, наверное, трудно найти другую избу, которая бы так точно соответствовала характеру своего проклятого людьми и богом владельца.
Хата была сооружена на небольшом возвышении, в стороне от всех, — как бы для бдительного присмотра. Тыльной стороной дом глядел на железнодорожное полотно. Из единственного маленького вороватого окна, полуприкрытого засыхающим абрикосовым деревом, открывался вид на Прохоровский лес, кирпичную казарму и дощатую будку путевого обходчика.
Окно в боковой стене смотрело на единственную дорогу, которая вела от насыпи к центру Леплявы. А окна лицевой стороны открывались на шоссе из райцентра Гельмязево в ту же Лепляву и на пустырь, где теперь высятся новые легкие здания Леплявской школы имени писателя-партизана А. П. Гайдара.
Сейчас на дверях избы висит ржавый замок. Время уже выбило в рамах стекла. И видно, как ветер колышет в комнатах белые тюлевые занавески — последнее свидетельство того, что в этом мертвом доме когда-то жили.
ТЕРЗАНИЯ
Плотный, среднего роста, рано потолстевший полицай (назовем его Глазастый) сидел у себя дома за столом и ужинал с жинкой.
Пятнадцатого и двадцать пятого в райуправе выдавали немецкий паек: бутылку водки, банку рыбных консервов, сырок в серебряной бумажке с таким запахом, что хоть сразу выбрасывай, баночку тертой печенки (а печенки в этой баночке меньше столовой ложки), полкруга ливерной колбасы и увесистую плитку шоколада, который нужно было рубить топором.
Глазастый с пеленок был обжора. За обедом он съедал каравай хлеба, две миски борща, чугунок картошки, а чай пил, закусывая дольками свиного сала. На служебном пайке он бы давно помер с голоду. Но, принося в дом сверток в плотной бумаге, Глазастый всякий раз поучительно заявлял жене:
— Немец — он старательного человека ценит.
И поедание неаппетитного, непривычного пайка обставлял всякий раз с неуклюжей торжественностью.
Но ужин вечером 25 октября выходил безрадостным. В райуправе до выдачи пакетов состоялось совещание. В присутствии офицера из полевой жандармерии райстароста доложил о большой победе — разгроме Гельмязевского партизанского отряда. Назвал число убитых партизан и перечислил немалые трофеи. А когда немец уехал, Костенко призвал к себе в кабинет леплявских полицаев — Глазастого и Ласкового — и в упор спросил:
— Вы где прячете партизан?
— Нигде! — оторопело ответили оба.
— Брешете! Это я только при германе нарочно сказал, что весь отряд разбит. Горелов со своими хлопцами прячется под Леплявой... А они меня хотели повесить!..
Это была правда. Когда Костенко стал «хозяином района», он велел передать «тем дурням в лесу», чтобы они не прятались, не устраивали засад на дорогах — «все равно бесполезно», а пришли бы в Гельмязево, сдали оружие и принимались бы за дело, кто где раньше работал.
Совет предателя был сообщен в отряд. Горелов приказал схватить и доставить Корнея Костенко в лес. Десять бойцов под командой Гайдара выехали из лагеря на грузовике. На окраине Гельмязева машину спрятали в кустарнике и дальше двинулись пешком.
К дому изменника подобрались незаметно. В окнах не горело ни огонька. Аркадий Петрович расставил людей возле окон — если бы райстароста вздумал бежать через окно, — а сам вместе с младшим лейтенантом Тонковидом и еще двумя партизанами, взяв наизготовку ручной пулемет, поднялся на крыльцо.
— Стучите, — велел Гайдар.
Тонковид вежливо постучал. В доме молчали.
— Вроде никого нет...
— А ну покрепче! — посоветовал Аркадий Петрович.
Тонковид ударил прикладом.
— Кто такие? Что надо? — раздался встревоженный женский голос.
— Открывайте! Полиция! — громко сказал Гайдар.
Загремели засовы, и дверь отворилась. Аркадий Петрович осветил карманным фонарем сени с молочными бидонами. Осмотрел все углы хаты, заглянул на полати. Тонковид его сопровождал.
— Это квартира Костенко? — спросил Гайдар. — Корнея Яковлевича?
— Да.
— А где он сам?
— Уехал в Золотоношу. Мы закололи кабанчика, так он повез свеженького мяса тамошнему начальству.
— Понятно, — кивнул Гайдар, с интересом разглядывая стены, увешанные такими же фотографиями, как в любой другой хате. — Кто мы такие, знаете?
— Знаю, — ответила женщина.
— Так вот напомните вашему мужу, чтобы он не забывал, где живет и по чьей земле пока еще ходит. Скажите, что мы были и наведаемся еще...
...Жена все передала. Костенко теперь знал, чем кончится для него следующая встреча с «хлопцами Горелова». И потому, беседуя с леплявскими полицаями, он им пригрозил:
— Не разыщете партизан — отправлю в Германию строить подземный завод!..
Сидя за ужином босиком, в одних подштанниках (парадную одежду он сложил на сундук), Глазастый думал о том, что его погубила жадность.
В колхозе он числился ударником. Зарабатывал хорошо. Но ему все казалось мало. И он тихонько подворовывал.
Когда гитлеровцы подошли к району, Глазастому предложили эвакуироваться вместе с семьей. А он схитрил. Поверив немецким прельстительным листовкам, подумал: «Небольшое хозяйство у меня есть. Немец добавит землицы...»
И когда солдаты в серых френчах с закатанными рукавами, с ног до головы обвешанные разной амуницией, заняли район, Глазастый поспешил записаться на службу.
Но раздавать плодородную украинскую землю захватчики не собирались. Глазастый понял: его надули. Старался быть тише воды и не раздражать односельчан.
И вот угроза Костенко.
С улицы донеслись чьи-то громкие шаги. Шли не таясь несколько человек в тяжелых солдатских сапогах.
«Немцы? За мной?» — подумал Глазастый и выронил хлебный острый нож, которым собирался отрезать кусок ливерной колбасы.
Чувствуя, что от ужаса он слабеет, Глазастый последним отчаянным усилием задул керосиновую лампу и отогнул край ватного одеяла, прибитого к раме для светомаскировки и как амортизатор — на случай, если кто швырнет в окошко гранату.
На улице еще было не очень темно. Сквозь редкие облака просвечивали звезды. И Глазастый разглядел пятерых. Не в стальных германских шлемах, а в теплых ушанках и русских шинелях.
«Наши! — с облегчением подумал Глазастый. — Наши... — И тут же осекся: — Якие ж це наши? Це ж партизаны!»
Вогнав босые ноги в галоши, он, в чем был, выскочил на улицу. Пятеро уже миновали его дом. Держась ближе к заборам, Глазастый последовал за ними. Галоши скрадывали шаги, но белье на фоне темных заборов делало его приметным. Обернись кто из пятерых — они бы сразу поняли: за ними шпионят.
Но никто не обернулся. И Глазастый жадно, беспрепятственно подмечал: автоматов и винтовок нет. Одни пистолеты. У каждого на плече по пустому солдатскому мешку... И у одного позвякивает пустое ведро. Идут, видать, из Прохоровского леса, потому как дорога из Прохоровки, если не обходить болото, здесь одна...
Полицай вернулся в избу. Жена обомлев от страха, сидела на том же месте за столом. Ничего ей не сказав, Глазастый, скинув галоши и поджав немытые ноги, уселся на кровать.
В селе ходили слухи, что партизаны после боя двинулись на Черниговщину. И Глазастый на это рассчитывал. И вот эти пятеро.
Мысли в голове расстроенного полицая проворачивались туго.
— Мешки и пустое ведро... — повторял он. — Но ежели им нужна вода — колодец возле насыпи... Но с другой стороны, воду в мешках не понесешь. Мешки небось тоже для пайка. Для еды то есть. Наберут еды и вернутся. Где наберут? Не знаю. А куда вернутся? В Прохоровский лес. Поблизости больше им деваться некуда. Там теперь, видать, у них табор.
От необходимости действовать Глазастого затрясло. Он соскочил на глиняный пол, хлебнул шнапса, закусил по новой среди полицаев моде горьковатым шоколадом. В животе потеплело, но тряска не проходила.
«Донести? — продолжал он торговаться сам с собой. — Положим, этих пятерых мы поймаем. А потом те, что в Прохоровском лесу, придут и меня повесят?»
— А почему, собственно, они должны меня повесить? — хмелея от шнапса и дерзости, произнес он. — Если немцы все аккуратно сделают, то и вешать меня будет некому. Некому!
Его опять от страха слегка передернуло, но опасность уже не казалась такой грозной: водку не зря включали в паек.
Готовясь донести на партизан, Глазастый не знал, что водка, жадность и страх — самые дрянные советчики, как не подозревал и того, что этот, по его представлениям, отважный шаг обернется четвертьвековой каторгой для него самого (где он и закончит свои дни), позором и нуждой для дома, откуда сбегут даже его родные дети, вечным унижением и одиночеством для его жены, которой уже некуда будет бежать. А люди станут обходить его избу, как жилище чумного.
«ДУМЫ МОИ, ДУМЫ...»
Гайдар покинул временный лагерь в большом внутреннем возбуждении. Под Прохоровкой оставалось прожить ровно сутки — до вечера двадцать шестого. Эта мысль дарила чувство душевного облегчения, которого Гайдар не испытывал давно, и слегка кружила голову.
Но избавление от одних забот рождало новые. Их следовало обдумать. Лучше всего думалось на ходу. Вот почему Аркадий Петрович настоял на том, что он тоже отправится в старый лагерь. Принять решение требовалось быстро. И мысли целиком поглотили его.
А суть их заключалась вот в чем. На новом месте нужно было создавать зимний лагерь, набирать людей, налаживать разведку, делать запасы оружия, снаряжения и переводить жизнь отряда на армейский лад: с жесткой дисциплиной, четким разделением обязанностей. А для этого требовалось новое руководство.
Прежнее состояло из трех человек: Горелов — командир, Ильяшенко — комиссар, Тютюнник — начальник штаба. Но Ильяшенко в бою у лесопилки погиб. Тютюнник с частью отряда в том же бою отступил к плавням, и связь с ним была потеряна. Оставался один Горелов.
Кто такой Горелов? В мирное время его знали как умного и неутомимого работника. Образование он имел небольшое, но в хозяйственных вопросах разбирался хорошо. Его хвалили, отмечали, ценили за деловую хватку и перед самым приходом оккупантов назначили командиром будущего партизанского отряда.
Но когда отобранные в отряд бойцы перешли на нелегальное положение, поселились в лагере и провели под руководством командира первые не особенно удачные боевые операции, то стало очевидно, что в военном деле Горелов разбирается слабо.
Лес был им выбран реденький. Землянки стояли возле самого болота. Но это как раз все было поправимо. Вызывало сожаление другое. В лагерь из окружения почти каждый день приходили бойцы и командиры. Многие из них воевали еще в гражданскую, или в Испании, или на Халхин-Голе и Карельском перешейке.
Это были очень нужные отряду люди. Федор Дмитриевич получал возможность создать отличное боевое соединение, где ведущие должности занимали бы военные специалисты и все рабочие вопросы решал бы хорошо подобранный штаб. А Горелов и заслуженных командиров брал только рядовыми. Даже разведку и контрразведку он поручил своим несведущим сослуживцам, хотя в одной с ним землянке жил профессиональный чекист полковник Александров.
Лишь для Гайдара командир сделал небольшое исключение. Уступив его настоятельным просьбам, Горелов позволил Аркадию Петровичу разрабатывать и проводить диверсионные операции.
РЕШИМОСТЬ ТРУСА
Глазастый намотал портянки, натянул сапоги и снял с гвоздя заношенный ватник.
— Не ходи! — вдруг кинулась к нему жена. — Хочешь, соберем вещи, возьмем детей — и уедем к тетке в Нежин?!
Он на мгновение задумался. Потом решительно оттолкнул жену, запахнул ватник и вышел на улицу. У казармы поднялся на высокую насыпь и торопливо зашагал по шпалам. Вскоре справа затемнел силуэт большого строения. Это был леплявский вокзал, сооруженный перед самой войной. Поезда теперь ходили от случая к случаю. И здание выглядело заброшенным.
Глазастый посмотрел вокруг. Убедился, что никого поблизости нет, проник в совершенно темный зал ожидания, ощупью нашел дверь начальника станции. Пальцами отыскал в дверях замочную скважину, сунул в нее ключ. Замок щелкнул, как пистолетный выстрел. Глазастый в испуге замер. Не слышал ли кто? Но кругом было по- прежнему тихо. Полицай протиснулся в дверь бочком, заперся изнутри и рухнул на стул.
Леплява была конечным пунктом Золотоношской ветки.
Здесь еще действовал железнодорожный телефон.
«ДУМЫ МОИ, ДУМЫ...» (Продолжение)
Гайдар вспомнил свою недавнюю схватку с Гореловым.
...При отступлении партизаны разделились. Одна часть отряда — во главе с начштаба Тютюнником — направилась к днепровским плавням. А другая — с Гореловым, — дождавшись темноты, пришла в Лепляву.
Постучались к Степанцам. Печальная Феня молча накормила всех ужином. От еды и тепла партизаны слегка разомлели. И теперь каждый особенно остро переживал подробности боя, гибель товарищей и сложность ситуации, когда поредевший отряд оказался без своей базы. А уже похолодало. И легкий морозец сковал землю. И ночевать в лесу под открытым небом было неуютно.
И тут командир неожиданно заявил:
— Нужно, хлопцы, разделиться на группы и уйти в подполье!
— В какое еще подполье? — удивился лейтенант Абрамов.
— Это в погребах, что ли, прятаться? — поинтересовался Трофим Северин, партизан из Леплявы.
В избе стало слышно дыхание ребятишек, которые спали на печке.
— Что значит уйти в подполье? — негромко, боясь разбудить детей, переспросил Гайдар. — А теперь, Федор Дмитриевич, мы что — легальный партизанский отряд и существуем с любезного разрешения Гельмязевской полицейской управы?
— Аркадий Петрович, сейчас не до юмора, — ответил Горелов. — Сам видишь, какая обстановка.
— А когда ты уводил людей в лес, ты полагал, что немцы полюбят партизан и отряд станет вроде санатория?
— Я полагал, что отряд будет расти. А серьезная борьба — когда у тебя горсточка бойцов — невозможна.
Гайдар хотел ответить: «Зачем же ты так легко отпускал окруженцев?» Но это был бы уже бесплодный разговор. И Аркадий Петрович сказал:
— Ошибаешься, можно. Люди, которые сидят в этой хате, прошли проверку огнем. И пока мы вместе, мы боевая единица. А если разделимся — мы беженцы.
— Аркадий Петрович, не надо передергивать. Я за борьбу, но другими методами.
— А я сейчас не вижу других методов, кроме одного: бить врага, где только встречу. Тем более что боеприпасы и продовольствие у нас есть. Мы имеем большие склады. Создал их ты.
На печи тревожно вскрикнула и заплакала маленькая Лида. Аркадий Петрович остановился и виновато поглядел на Феню. Но Феня подала ему знак, чтобы он продолжал. И принялась убаюкивать девочку.
— Ты говорил, что ждешь представителя областного партизанского штаба, — вполголоса произнес Гайдар. — Когда он придет?
— Давно бы должен, но, видать, что-то случилось, — опечалясь, ответил Горелов. — А у меня прямой связи нет.
— Но ждать сейчас связного мы тоже не можем. Позволь, я скажу еще два слова.
Горелов кивнул. Гайдар оглядел партизан, которые сидели на лавках, стульях, а иные, кому не хватило места, прямо на полу.
— Дорогие люди! — начал Аркадий Петрович. — Вы сегодня отважно дрались. Но противник оказался сильнее. И мы отступили. В этих местах я воюю второй раз. И на правах старого солдата, вместе с командиром, хочу сказать вам... за ваше мужество и верность долгу... спасибо.
Бойцы слушали не шелохнувшись. На печи, тихо мурлыча колыбельную, не пропускала ни единого слова встревоженная Феня.
— Спор наш с товарищем Гореловым вы слышали. Мы расходимся во мнениях о методах борьбы. Спор этот не теоретический. Он касается каждого из нас. А посоветоваться не с кем. Как же быть?
Гайдар замолчал, глядя в напряженные, обострившиеся лица. Под глазами командира темнели глубокие тени. И Аркадий Петрович впервые заметил, что за сегодняшний день у Горелова побелели виски.
— В гражданскую в таких случаях мы решали голосованием. Одна голова хорошо, а два десятка лучше. Предлагаю голосовать и теперь. Как думаете?
— Годится. Правильно. Дело знакомое, — ответили бойцы.
— Федор Дмитриевич, твое мнение?
— По-моему, тут пахнет партизанщиной, — засомневался Горелов.
— Так ведь мы и есть партизаны, — улыбнулся Гайдар.
— Что ж, если большинство считает...
— Товарищи, кто за то, чтобы разделиться на группы? — спросил Аркадий Петрович. — Один человек... А за то, чтобы сохранить отряд и перебраться в новые места? — И первым поднял руку.
Его примеру последовали все, кроме Горелова. Помедлив, смущенно улыбнувшись, Федор Дмитриевич поднял тоже. Партизаны повскакали с мест, начали обниматься, подбросили к потолку Гайдара, потом Федора Дмитриевича. И снова Гайдара, пока Аркадий Петрович не запросил пощады.
Командиром остался Горелов. В тот вечер такое решение было единственно правильным. До создания новой базы в Черниговских лесах предстояло решить много хозяйственных проблем: одежда, инструменты, боеприпасы, продукты. И тут Федор Дмитриевич был незаменим.
Но каждый понимал, что в отряде, который будет создан по армейскому образцу, Горелов быть командиром уже не сможет. Он, видимо, станет ведать снабжением.
Но бойцам в тот вечер стало очевидным и другое — что Гайдар, в прошлом командир полка, имеющий опыт четырех лет, как он однажды выразился «полупартизанской войны» (до августа 1922 года Аркадий Петрович гонялся по Хакасии за бандами Соловьева), Гайдар, который на протяжении одного только дня дважды помог спасти отряд — утром в бою и вечером в споре с Гореловым, — в скромной должности летописца отряда и командира диверсионной группы уже не останется...
ТОРГ ВО ТЬМЕ
Не зажигая свечного огарка, положив руку на тяжелый телефонный аппарат, Глазастый неподвижно сидел в тесном кабинете начальника станции.
В детстве Глазастый мало и лениво учился. Почти не читал книг. В кино смеялся, хмыкал, свистел и топал ногами в тех местах фильма, где другие волновались или плакали. А сейчас, потея от непривычных интеллектуальных усилий, Глазастый бился над философскими проблемами. Он чувствовал, что в эти уходящие мгновения решается его судьба.
До сих пор Глазастый мог заявить партизанам и соседям:
— Люди добрые, я никому из вас не сделал ничего плохого, я записался в полицию только ради пайка.
Но поднять трубку — значило начать, то есть навсегда порвать со своим прошлым и еще тлевшей в нем надеждой, когда возвратятся наши, снова стать колхозником и механизатором.
В жизни каждого случается минута, когда нужно обдумать и решить что-то самое важное. Но Глазастый не умел думать и решать. Он привык только жулить и хитрить. И когда пришла его м и н у т а, он мог только близоруко прикинуть, что ему в эту минуту выгодней.
И Глазастый снял трубку, крутанул ручку — он сделал свой выбор.
Динамка телефонного аппарата взвыла, как сирена. Лицо доносчика покрылось потом.
— Станция слушает!
— Райуправу мне, — произнес Глазастый шепотом.
— Даю райуправу, — ответил женский голос. Глазастый еще не знал, что это голос судьбы.
Стрелки часов на его руке показывали без четверти десять.
РЕАЛЬНОСТЬ ФАНТАСТИКИ
Ровно семнадцать лет назад, в ноябре 1924 года, Аркадий Петрович уволился из Красной Армии. Врачи не оставили ему ни малейшей надежды вернуться к военной службе. А Гайдар им не поверил.
Он ел простую, здоровую пищу. Летом и в морозы обливался холодной водой. Делал гимнастику по особой системе для командиров Красной Армии, любил походы, где носил самые тяжелые рюкзаки. Силушки его однажды хватило на то, чтобы закрыть ладонью толстую трубу, у которой выбило кран.
И в мирное время Аркадий Петрович продолжал носить гимнастерку, шинель, сапоги; любил солдатские песни, изучал новейшие книги по военному искусству, разведывательному делу, знакомился, насколько позволяли обстоятельства, с новинками военной техники и твердо знал, что час его придет...
5 июля 1941 года, в Москве, Аркадий Петрович зашел проститься к своему другу, писателю Рувиму Исаевичу Фраерману, который уезжал на фронт.
— Ты в ополчении будешь кем? — спросил Гайдар.
— Рядовым, больше никем, — пожал плечами Рувим Исаевич.
— А мне мало рядовым, — признался Гайдар. — Я могу быть командиром.
На передовой Аркадий Петрович старательно учился. Он освоил новое для него оружие — пулемет и автомат системы Дегтярева, немецкий шмайссер, пистолет ТТ; ходил с разведчиками за «языком», подымался в атаку.
Его не страшил голод. Он мог не спать по нескольку суток. Голова его в любой ситуации оставалась ясной. Никто ни разу не видел его растерянным. В самые опасные мгновения он знал, что делать, находил душевные силы подбодрить товарищей и не боялся взять ответственность за судьбы других.
На передовой под Киевом Гайдар вскоре убедился, что никто не доверит ему, корреспонденту, ни роту, ни взвод. И все же он надеялся и верил, что на войне у каждого может быть свой Тулон.
[3]
И не ошибся. Близился его новый командирский час. Много раз спрашивая себя: «Готов ли я возвратиться к давней своей профессии?» — он, опять все взвесив, отвечал себе: «Да».
Шагая в полутьме по промерзшей дороге впереди своих товарищей, придерживая в карманах «лимонки», чтобы они громко не стукались, Гайдар пытался представить, как сложится теперь его военная судьба. Ответить было трудно.
После предательства Погорелова и боя у лесопилки, когда пришлось осесть в реденьком и ненадежном Прохоровском лесу, Гайдар готовил себя к мысли, что из этой мышеловки ему в живых, похоже, не выбраться. И потому думать нужно не о себе. Это не было малодушием. Наоборот. Еще на гражданской Аркадий Петрович понял: на войне лучше однажды пережить и переступить через страх своей смерти, чем умирать от страха каждый день.
Гайдар приучил себя переступать через этот страх в разных опасных обстоятельствах. Каждый раз это требовало немалых душевных усилий, зато он получал большую внутреннюю свободу. Не нужно было бояться за себя. Можно было дерзновенней действовать и хладнокровней обдумывать любую ситуацию. И чаще всего отсутствие страха за свою жизнь приносило ему победу.
И теперь, по дороге в старый, разоренный лагерь, когда для него и товарищей наметился просвет, Аркадий Петрович вдруг остро почувствовал, как сильно хочется ему дожить до Пира Победы.
И он улыбнулся. Похоже, создать большое воинское соединение все же удастся. В лесах и селах имеются люди, мечтающие бить врага. В рощах и оврагах много брошенного оружия. Как только новое соединение возникнет, можно будет послать через линию фронта людей, чтобы установить связь с Центром.
Москва пришлет радиста, передатчик, боеприпасы, медикаменты, газеты, может быть, письма из дома. А в Москву, если связь станет регулярной, можно будет отсылать захваченные документы, особо осведомленных пленных, образцы нового трофейного оружия, больных, письма и... рукописи. Его, Гайдара, рукописи, которых и сейчас уже накопилось немало.
Очерки и рассказы за подписью «Арк. Гайдар» опять станут появляться на страницах «Комсомолки». Только вместо пометки «Действующая армия» будет — «Н-ский партизанский отряд». И если даже письма домой не дойдут, родные узнают из газеты, что он жив и здоров.
«Сегодня двадцать пятое, — подсчитывал Гайдар. — Из Прохоровского лагеря уходим вечером двадцать шестого. К первому ноября мы уже на новом месте...»
Вот примерно какие мысли занимали Аркадия Петровича.
Возможно, когда Гайдар с товарищами поднялся на рельсы, сбежал по склону насыпи и двинулся в сторону хаты Глазастого, сторожевой центр в его подсознании отчаянно засигналил: «Опасно!.. Опасно!..»
Но Аркадий Петрович в тот вечер этих сигналов не услышал...
ТУРНИР
В бывшем здании райисполкома горел свет. Двое дежурных полицаев играли дорогими старинными шахматами в поддавки. Один был худ, светловолос, лет двадцати трех. Он считался старательным и смышленым. Второй был усат, солиден. Ему перевалило за сорок. Он мечтал о спокойной жизни без нужды, любил ночные обыски и «ликвидации»: подрастали две дочери. Нужно было готовить им приданое, чтобы в это смутное время девочки сумели выбрать стоящих женихов.
Усатый понимал, что проигрывает, и норовил сжулить.
Младший следил за ним во все глаза, но тут зазвонил телефон.
— Нет пана Костенко, — ответил младший. — Он спит. Побачьте за окошко: все добрые люди уже спят. — И, зажав рукой микрофон, шепнул усатому: — Подай ему Костенко, и все.
— А ну, дай мне, — перехватил трубку усатый. — Кто говорит? И чего тебе не спится? Нехай тебе баба нацедит чарочку, и добре поспи... Партизаны в Лепляве?! Чего ж ты, подлюга, молчишь? — И повернулся к младшему: — Бежи, сынку, до Корнея Яковлевича.
Молодой полицай, прихватив винтовку, нехотя отправился в путь. Костенко жил не близко. Надо было дойти до края села, повернуть налево. И в самом конце темного переулка, на небольшом холме, стоял выкрашенный в небесно-голубой цвет дом.
Полицай отпер калитку и постучал в толстый ставень.
В ответ не донеслось ни звука. Младший постучал настойчивей. За ставнем приоткрылась форточка.
— Кто там? — встревоженно спросил женский голос.
— Звиняйте. Я до Корнея Яковлевича.
— Его немае дома. — И форточка захлопнулась.
— Титочка Домаха, погодьте. Иван я. Из райуправы. Корнея Яковлевича срочно до телефону.
За тяжелой дверью брякнули засовы, зазвенели кандальные цепи. И полицай увидел через узкую раскрывшуюся щелку часть цветастого, с красными маками, платка, тугую полную женскую щеку и широко вытаращенные в испуге глаза. То была жинка районного старосты.
— Партизаны! — шепнул ей Иван.
— Ай!
— Не здесь... в Лепляве.
Но ей все равно стало дурно. Домаха помнила ту ночь, когда партизаны явились за ее мужем, чтобы везти его в лес — на суд. Корнея Яковлевича, по счастью, не оказалось дома.
— Ступай в управу, — слабым голосом ответила она полицаю, — Корней Яковлевич скоро придет.
— Я обожду! — обрадовался полицай.
— Кому велено — ступай.
А секрет заключался в том, что, случайно избежав веревки, районный староста дома уже больше не ночевал. Не доверяя полицаям, которых сам набрал из жулья и прощелыг, Костенко отказался от ночной охраны и завел себе три тайных убежища. Где они и в котором Корней Яковлевич нынче спит, ведала только его супруга.
...Незадолго до войны неожиданно просочились сведения о том, что Костенко служил в гражданскую у белых и сильно лютовал с пленными. Одно за другим пошли в НКВД письма, но доказательств они не содержали. После каждого такого письма и Костенко, и его жену вызывали на допросы.
Но жена ничего не подтверждала и, где Корней Яковлевич закопал кринку с сохраненными на всякий случай документами о своей лихой службе и хорошо промазанным наганом, не проговорилась тоже. А когда пришли оккупанты, Костенко ту пузатую криночку извлек — и гитлеровцы сразу поставили его районным старостой.
Ни жива ни мертва Домаха прибежала к чужому, покинутому сараю, условленно застучала. Муж мгновенно проснулся, прильнул к стеклу и тут же отпер дверь.
Пан Костенко был в шапке, сапогах, наброшенном на плечи полушубке. В руках он держал автомат ППШ на 71 патрон. А на поясе его висели: парабеллум, финка в ножнах, запасные диски к автомату и холщовые мешочки с гранатами.
В таком свободном, не стесняющем наряде в закутке для телят, где пахло гниющим навозом, отдыхал после трудового дня полноправный хозяин района пан Костенко.
ПЕРЕПОЛОХ
Настенные часы в деревянном футляре пробили три четверти одиннадцатого, когда в помещении райуправы с автоматом в руках появился Костенко.
— Что за партизаны? Откуда они взялись?! — крикнул он сердито с порога.
Но его пышущее гневом лицо с мягкой ямочкой на подбородке выдавало беспокойство.
Районного старосту соединили с Глазастым. Выслушав леплявского полицая, Костенко язвительно спросил:
— И это все? Прикажешь позвонить в Киев? Болвану мало ли народу ходит теперь по дорогам с пустыми мешками? Всех ловить? — И бросил трубку.
Костенко был обозлен за пережитый испуг и в то же время обрадован, что сообщение оказалось ложным и он может, не вызывая ухмылок, поспать вместо телячьего закутка в своем жарко натопленном кабинете.
Согреваясь и засыпая на диване, Костенко вяло думал: «С чего же этот недоумок взял, что пятеро с мешками — партизаны?»
Уснуть помешал новый звонок.
Когда Корней Яковлевич кинул трубку, Глазастый отчетливо увидел себя созидающим подземный завод. Терять ему было нечего. И леплявский полицай в отчаянии снова вызвал райуправу. И когда взбешенный Костенко во второй раз подошел к аппарату, Глазастый без лишних слов выкрикнул:
— Высокого я узнал. Он приходил в казарму путевых обходчиков с ручником. Высокий — корреспондент.
Костенко молчал. Сообщение зацепило. В одной-единственной подробности сошлось слишком многое.
Высокого вежливого партизана с ручником запомнила Домаха. А про корреспондента рассказывал Сашка Погорелов. Сашка сам видел: корреспондент надел однажды черную форму эсэсмана, натянул перчатки, вышел с жезлом регулировщика на шоссе (партизаны страховали его в кустах), остановил повелительным жестом «опель» и расстрелял в упор из автомата коменданта города Переяслав-Хмельницкий. В машине были найдены важные документы. И в отряде тут же создали группу, которой поручили доставить их через линию фронта.
Костенко знал: убийство полковника наделало шуму в немецких кругах. О несчастье было доложено в Берлин.
— Будь возле телефона, — все еще сердито велел Костенко Глазастому. И положил трубку.
В своем кабинете райстароста забегал из угла в угол. Отыскался след личного врага, который хотел его, Корнея Костенко, увезти в лес и повесить. А может, и не в лес, а прямо возле дома. И след того, кто убил полковника.
О личных счетах, подумал Костенко, надо промолчать. А сведения о том, что поблизости бродит диверсант, который бесстрашно расправился с полковником (вездеход с охраной отстал на каких-то двести метров) следовало продать подороже.
И тут Костенко застонал. Он не знал немецкого. Переводчика в райуправе не было. Нужно было звонить в Золотоношинское полицейское управление, которому ничего не стоило приписать всю заслугу себе.
С душевной болью снимая трубку, Костенко для порядка взглянул на часы — швейцарские с центральной секундной стрелкой. Десять минут двенадцатого.
...Дежурный в Золотоноше, выслушав Костенко, сказал:
— Не ложьте трубочку. — И вышел в соседнее помещение.
Там находилось гестапо. Дежурный искал переводчика.
Переводчик, по-заграничному одетый парень из Львова, накрыв шляпой лицо, спал на стуле в приемной. Обычно в вечернюю смену выпадало особенно много работы, но сегодня у немцев был праздник.
Дежурный разбудил переводчика, и к офицеру гестапо они вошли вместе.
Гестаповский офицер с изящным шрамом у виска был педант. На дежурстве, с половины одиннадцатого, он, как правило, отдыхал, то есть пил крепкий кофе с домашним печеньем, которое ему присылала каждую неделю мама, и слушал по приемнику музыку.
Переводчик в двух словах объяснил офицеру, почему пришлось его побеспокоить. Сообщение было важное, но гестаповца оно не взволновало. Офицер любил поединки умов в хорошо обставленном кабинете. Ловить, да еще партизан, он предоставлял другим. Решив для себя, что поимка пятерых — ночью, в лесу! — дело армии, он оказался настолько любезен, что сам позвонил в штаб гарнизона.
В штабе гарнизона в этот вечер оставался совсем юный, недавно присланный лейтенант. Похохатывая, он рассматривал во многих местах порванный французский журнал, где почти не было текста — одни картинки. Звонок из гестапо застал лейтенанта врасплох.
— Благодарю, — ответил он гестаповцу. — Я немедленно доложу майору.
Майор в этот вечер был занят. В маленьком ресторане на улице Шевченко был банкет: отмечались полученные днем награды, первые за русскую кампанию.
Лейтенант позвонил в ресторан. Телефон в кабинете директора не отвечал. Директор лично руководил подачей блюд и вин. И оставить кого-либо возле аппарата не догадался. С трубкой, прижатой к уху, стоял навытяжку юный лейтенант.
В приемной гестапо, не смея уйти, маялся золотоношский полицай. Тут же на стуле снова спал переводчик.
В Золотоношском полицейском управлении возле снятой трубки сидел второй дежурный. Каждые несколько минут он неумело прикладывал наушник и спрашивал у Костенко:
— Вы туточки?
Костенко был «туточки». Он сидел в кресле с белым, словно бы напудренным лицом. То, что его заставляли столько времени ждать, он объяснял пренебрежением к себе, которое связывал с тем, что немцы стали ему меньше доверять.
ДОМАШНИЙ УЖИН
А пятеро партизан, из-за которых начался и вот-вот должен был потухнуть небольшой телефонный переполох, постучались в хату Степанцов. Феня их тут же усадила за стол. Кормя борщом из теплой печки и тушеной картошкой, торопливо сообщила нехитрые новости: назавтра
после боя приезжали в село германцы. Обошли все дома. Похватали несколько кур. И уехали. Сейчас ни одного солдата в Лепляве нет.
Феня предложила остаться переночевать. Соблазн, конечно, был велик, но партизаны поблагодарили за ужин и направились дальше.
ПРЕРВАННОЕ ТОРЖЕСТВО
Старательный лейтенант, видя, что не дозвониться, отправил с письменным донесением связного. Путь до ресторана был некороток, но транспорта в своем распоряжении лейтенант не имел.
Майор еще днем позаботился о том, чтобы все легковые машины и мотоциклы с колясками были поданы к ресторану — развозить по домам «свежих кавалеров», поскольку «герои имеют право на маленькие слабости».
Когда посыльный добежал до ресторана, швейцар в фуражке с золотым галуном его не впустил.
Связному оставалось только вернуться, но расторопный шофер из штаба, который изнывал от безделья, погрозил швейцару кулаком и втолкнул посыльного в кухню. Среди крахмальных колпаков, раскаленных плит, чанов и столов с грязной посудой солдат и вовсе растерялся, но его приметил официант, тайный приятель гестаповца со шрамом.
— Вы желаете поужинать? — спросил официант по-немецки.
— О нет, мне нужен герр майор.
Официант показал солдату, где повесить шинель, провел его в пиршественный зал и шепнул майору, что к нему посыльный.
Майор, продолжая улыбаться своей только что произнесенной шутке, извинился и с бокалом в руке подошел к солдату.
— Выпей за нас, — сказал он, протягивая свой бокал. — Я надеюсь, в следующий раз ты тоже будешь в этом зале. — На кармане майора поблескивал новый бронзовый крестик с мечами, полученный нынче днем.
Выхватив в записке глазами фразу: «...в Лепляве обнаружены партизаны», майор почувствовал, как у него сохнет во рту и улетучивается праздничное настроение.
Майор кивнул солдату. Вернулся к столу. Мельком взглянул на своего заместителя, который всего четыре дня назад рапортовал, что партизаны полностью уничтожены: «...кого пощадил минометный огонь, те предпочли утопиться в болоте, демонстрируя свой славянский фанатизм».
В этих выражениях было доложено командующему, который велел послать шифровку о разгроме отряда «наверх», как доказательство решительности мер, принятых после гибели несчастного коменданта Переяслава.
Отложив беседу с заместителем до утра, майор незаметно, по-английски, покинул зал: он не хотел прерывать торжества.
ТРИУМФ ДОНОСЧИКА
Районный староста не дождался ответа — его разъединили. Изнывая от подозрений и страха, он метался по своему кабинету, не зная, что предпринять. И когда ему позвонил майор, Костенко был уже так измучен, что отвечал торопливо и невпопад.
У майора сложилось впечатление, что староста боится мести партизан и хотел бы для острастки прочесать лес. И начальник гарнизона разозлился на эту «славянскую свинью», которая испортила ему праздник.
Однако майор помнил жесткое правило, которое им долбили в офицерском училище: внимательно относиться даже к сомнительным разведданным. И он велел спросить на всякий случай у старосты, можно ли переговорить с его секретным сотрудником.
А «секретный сотрудник» в это время замерзал. Тепло и решительность, которые он на время почерпнул из бутылки со шнапсом, внезапно иссякли. И Глазастый отчетливо понял, что погиб, что во хмелю занес ногу над пропастью.
Оглушительный звонок наполнил комнату. Сильный неожиданный звук на короткое время парализовал полицая. И телефон прозвенел еще несколько раз, пока Глазастый снял трубку.
— Алло, алло! Как вас там, — услышал он властно-небрежный голос. — Господин майор поручил мне задать несколько вопросов.
Но Глазастому от холода и страха уже было все равно. И он отрешенным голосом поведал о том, как ужинал с жинкой, услышал шаги, увидел пятерых с мешками и догадался, что табор у них в Прохоровском лесу.
И когда майор поинтересовался, почему же все-таки он решил, что это партизаны, Глазастый опять вспомнил высокого:
— Я вроде чул, что вин письменник.
— Минуточку! — прервал Глазастого переводчик.
Переводчик был важным и осведомленным лицом. Он участвовал во всех серьезных допросах, переводил гестаповцу и майору показания дезертира Погорелова, который тоже упоминал «корреспондента и письменника».
Переводчик сразу оценил серьезность сообщения. Если будет схвачен опасный террорист, многие заработают себе на этом повышения и награды.
Оценил сообщение и майор. В душе немного обиженный скромностью врученного ему днем ордена, майор понимал, что тайный осведомитель посылает ему давно желанный Железный крест. И начальник гарнизона велел спросить у смышленого мужичка его фамилию.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ?
Майор отпустил переводчика, сел в глубокое кресло и задумался. Допустим, эти пятеро только интенданты. Как же узнать, сколько всего партизан в лесу и где они прячутся?..
Поручить смышленому мужичку?.. Но переводчик говорит, что он туповат. Районному старосте?.. Но после того, как партизаны его чуть не повесили, он бледнеет при одном только слове «лес». Значит, нужно посадить на грузовики солдат и устроить засаду самому.
Но прежде чем объявить тревогу, майор отдернул штору. За шторой оказалась подробнейшая карта. Он легко нашел на ней Лепляву, насыпь и будку. До Леплявы сорок пять километров. Дороги после дождей подмерзли, но даже днем грузовики ползут по выбоинам не быстрее двадцати километров в час. А ночью — в лучшем случае пятнадцать. Три часа чистого пути, тридцать минут на сборы, тридцать на непредвиденное — уже четыре часа. Но до самой Леплявы ехать нельзя: спугнет шум моторов. Выгрузиться надо километров за пять до деревни — еще минут сорок. Сейчас три четверти двенадцатого. У будки возле насыпи солдаты смогут быть не раньше половины пятого.
Майор взял листок: осведомитель донес, что партизаны появились возле насыпи примерно в двадцать один час. Если эти пятеро взяли еду у крестьян в том же селе, то они давно успели вернуться.
Но если прав осведомитель, который утверждает, что пятеро шли в старый лагерь, где у них секретные склады (Этот полицай знает больше, чем рассказывает!), то по Лепляве им идти полтора километра, от Леплявы до разгромленного лагеря — восемь. В оба конца — девятнадцать. При средней скорости пять километров — это четыре часа. Час на непредвиденное. Час на отдых. Итого — шесть часов.
Если они появились в Лепляве в девять вечера, то обратно возле той же тропы будут в три утра. Предположим, что с грузом дорога займет у них лишний час. Значит, в четыре. Майор посмотрел на свои часы. Все срывалось. Он не успевал. Стрелки показывали полночь.
Начальник гарнизона выглянул в приемную, попросил лейтенанта приготовить ему кофе. Никогда еще быстрота и четкость ума не были ему так нужны, как теперь.
Лейтенант молча поставил чашечку и вышел. Майор стал физически ощущать утекающее время. Можно посадить солдат в легковые машины. Это подарит час, но не спасет положения. Четыре машины. Двадцать солдат. Этого достаточно для засады в квартире, но не в лесу.
После беседы с мужичком майору подумалось: удача сама идет в руки. А расчет показывал: он проигрывал поединок с партизанами второй раз.
Майор снова мельком взглянул на карту. Настольная лампа чуть приметно высветила кружок вокруг деревушки с церковью. Поселок назывался Хоцки.
— Рота! В Хоцках жандармская рота!
Как это вылетело из головы?! У партизан, пока их не заставили уйти из Леплявского леса, было излюбленное место засад: шоссе Золотоноша — Переяслав. Чаще всего они нападали на автомашины под Хоцками: лес там близко подходит к дороге. Вот почему в эту деревню для охраны трассы и была направлена рота полевой жандармерии.
Майор снова взял циркуль. От Хоцек до Леплявы — мимо разгромленного партизанского лагеря — шестнадцать километров. На всякие лесные зигзаги — еще два. Полевая жандармерия — это не трусоватые полицаи. Жандармы — это асы облав и засад. Если они не поленятся, то через три часа смогут отдыхать возле тропы на Прохоровку.
Майор бросил циркуль. Черт побери! Последним приказом рота была передана гарнизону Переяслава. Майор еще не был знаком с новым комендантом. Начинать знакомство ночным звонком было неудобно. Но ничего другого не оставалось.
Дожидаясь, пока его соединят, майор еще успел подумать: «Хорошо, что рота подчинена Переяславу. Если операция увенчается успехом, организовал ее он, майор. Если же она сорвется, то он, майор, все хорошо организовал, но, к сожалению...»
Это была маленькая служебная хитрость, но что поделать, когда живешь в такое сложное время?
Майору ответил низкий, вежливо-раздраженный голос. Однако майор был толковый человек. До армии он преподавал физику в школе. И сумел ясно и коротко обрисовать обстановку.
— Хорошо, — деловито сказал полковник.
Майор слышал: полковник просил по второму аппарату соединить его с Хоцками.
— Но два часа назад я разговаривал с Хоцками, — сердился на кого-то полковник. — А рация?.. Что за беспечность! Извините, майор, связи с ротой у меня нет.
— Что же вы посоветуете?
— Попробуйте дозвониться по местной связи. Впрочем, не знаю, был ли в Хоцках когда-нибудь телефон. Если дозвонитесь, передайте обер-лейтенанту, что на сутки со своими башибузуками он поступает в ваше распоряжение... Желаю успеха.
«ТЕЛЕФОННЫЙ МОСТ»
Часы показывали десять минут первого. Если бы в Хоцках действовал полевой телефон или рация, то жандармская рота сейчас бы уже строилась.
Майор вызвал переводчика. Парня опять пришлось будить.
— Дозвонитесь до Хоцек, — поручил ему начальник гарнизона.
Местная связь существовала одновременно с полевой. Служила она в основном для передачи распоряжений немецких властей старостам и полицаям. Но поскольку все телефонные разговоры свободно прослушивались, то пользовались этой линией редко.
Местная телефонная линия не была автоматической и шла через подстанции. Чтобы вызвать Хоцки, нужно было сперва дозвониться до Песчаного, оттуда в Гельмязево. Из Гельмязева на Подставки. Из Подставок — в Каленики. И только из Каленик — по теории вероятности — можно было соединиться с Хоцками. Переводчик напомнил об этом майору.
— Звоните! — Начальнику гарнизона терять уже было нечего.
Мост связи Золотоноша — Хоцки выстраивался с трудом. Долго не отвечало Песчаное. Наконец телефонист из Песчаного испуганно заорал:
— Слухаю! — И, узнав, что от него требуется, услужливо сообщил переводчику: — Днем до Гельмязева неможно было дозвониться.
Но Гельмязево откликнулось игривым девичьим голосом, который стал будить свою подругу в Подставках:
— Мария, а Мария! Ну, сделай милость, проснись, людине же треба по немецкой надобности. — И телефонистка певуче-кокетливо пояснила переводчику: — Об эту пору уж никто не звонит.
Дольше всех не отвечали Хоцки. Это было большое, несуразно разросшееся село. Когда гитлеровцы оккупировали район, староста и полицаи обосновались в бывшем колхозном правлении, где имелся телефон. Но партизаны из местных активистов, выбрав подходящий момент, совершили налет. Они взломали амбары, погрузили на подводы хлеб, приготовленный для отправки в Германию. И разбили вдребезги телефонный аппарат. Но партизаны забыли о втором телефоне, который имелся в деревне.
Перед самой войной в Хоцках построили МТС. Участок отвели на самой окраине. Однако с телефонами было плохо. И только уже в начале войны в контору МТС протянули «воздушку» — то есть кабель не на столбах, а на чем придется. И установили аппарат.
Но с приходом немцев звонить из МТС стало некому и некуда. К тому же в селе мало кто об этом телефоне знал.
Зато знали телефонистки. У них на распределительном щите было два гнезда с надписью «Хоцки». Один телефон — они уже много раз проверяли — давно не отвечал. А по второму с приходом немцев вообще никто ни разу не звонил.
Здесь, на последнем пролете, суждено было оборваться ненадежному, едва сцепленному «телефонному мосту». Телефонистка давала то короткие и частые, а то непрерывные и длинные звонки. Но никакие музыкальные ухищрения не достигали цели. Трубку никто не брал.
...Майор сидел в кресле, закрыв лицо ладонью. Переводчик, глядя на него, повторял в трубку:
— Звоните еще!
Это требование прокатывалось от подстанции к подстанции.
— Ну чего звонить, ежели там никого немае? — досадовали телефонистки.
— Звоните, — внезапно произнес переводчик тем тоном, которому он обучился на допросах.
И напуганные внезапной переменой девушки сразу перестали кокетничать.
НИКЧЕМУШНИК
Несуразный аппарат в деревянном футляре продолжал трезвонить. На печи зашуршало, с лежанки свесились старческие ноги в подштанниках. И к телефону, в полной темноте, направился худенький старик. На печи под кожушком он угрелся. От легкого угара его покачивало, как от шипучего вина, которое он однажды пил. И приоткрыть ему пока удалось только левый глаз.
Отыскав на ощупь аппарат, старик долгое время никак не мог снять с рычага трубку, дергал ее и дал несколько раз отбой.
Но переводчик, не ведая всех этих подробностей, требовал своим безжалостным голосом:
— Звоните!.. Звоните!..
И когда всем, включая майора, стало совершенно очевидным, что затея бесплодна, по цепи от Хоцек до Золотоноши прокатился сонный старческий фальцет:
— Кого надо?!
После этого произошла заминка. Из Хоцек неслось «Аллё, аллё!», переводчик отвечал, но старик его не слышал, пока не оторвал наушника от щеки.
Звонок разбудил бывшего колхозного сторожа.
— Дедулечка, позови к телефону немецкого офицера, — настойчиво и ласково повторял мужской голос.
— А в какой вин ночуе хате? — оживился старик.
— Дедулечка, ты ж умница, — еще ласковей произнес переводчик. — Узнай это сам.
Дед осторожно положил трубку на стол. И начал искать в темноте на печи свои штаны.
Цепь замкнулась.
Надев порты, старый офицерский френч с костяными пуговицами, доставшийся ему еще при раскулачивании, дед сунул ноги в валенки с галошами из автомобильной камеры, косо напялил треух, запахнул на себе шубу «служебного пользования» и вышел на холод.
Сторож был замечательной личностью. Его никто не помнил молодым. И он никогда не желал другой работы, как только быть посыльным. Он мог пребывать часами и днями в полной апатии. Но лишь только он слышал чье-то указание, в нем просыпалась активность: он шел, говорил, передавал, разносил повестки, пакеты. А потом мог опять недвижно лежать и сидеть часами.
Пока он был моложе, его пытались выдвинуть: сделать счетоводом, завхозом, заведующим свинофермой. Он растроганно плакал, по-дореволюционному кланялся и просил оставить его на прежнем месте. Он предпочитал жить чужой волей, чужой ответственностью, чужим умом. И другой судьбы для себя не желал.
Когда в Хоцках появились староста и полицаи, то дежурить в конторе МТС никто из них не захотел. Сидеть в пустом доме на отшибе и ждать, пока на огонек забегут партизаны, — это была работа не по их нервам. Но оставлять телефон без присмотра тоже нельзя. И староста догадался обратиться к сторожу.
Выдав старику два пуда муки, которая уже чуть заплесневела, и большую бутыль постного масла, староста попросил деда ночевать в эмтээсовской конторе — вдруг вечерком кто позвонит!
О стороже новая администрация вскоре забыла. А сам он о себе не напоминал. Зачем? Ему и так было хорошо.
Семья его давно распалась. Жена умерла. Дочь жила на Урале. Сын служил в армии. Успел прислать только одно письмо, что воюет недалеко от дома. Хозяйство деда пришло в упадок. Хата развалилась. Собирался чинить. Но передумал: зачем, если можно спать в казенной?
Услышав ночью, как неистово заливается телефон, дед во сне долго не мог понять, что происходит. Затем догадался: ради этого звонка староста и послал его сюда. И когда голос в трубке попросил найти офицера, дед не заподозрил ничего худого. Хлопцы молодые. Наверное, дружки.
Выйдя на свежий воздух, старик ощутил прилив деловой активности. Но сначала он долго шел через пустынный двор машинно-тракторной станции, потом по заброшенной части села. А когда вдоль дороги потянулись жилые дома, стал подряд стучать во все окна, выкрикивая:
— Ахвицер, к телехвону!
В большинстве домов ему попросту не отвечали. В двух или трех на крыльцо выбежали переполошенные хозяева.
— Нету у нас офицера, — говорили они ему. — Только солдаты.
А старик, не удосуживаясь в своем убогом упорстве спросить, а где же он поселился, шел стучать дальше.
В просторной хате с большими пристройками во всех окнах горел свет. Оттуда доносились непривычные звуки губной гармошки. А на крыльце стояли два сильно подвыпивших солдата.
— Ахвицер, аллё, — сказал им дед и поднес ладонь к своему уху.
— Аллё, аллё, — засмеялся солдат в распахнутом кителе, который решил, что старик их почтительно приветствует.
Он поманил деда. И когда тот доверчиво приблизился, солдат неторопливо повернул его к себе спиной и с такой силой ударил тяжелым окованным сапогом пониже спины, что бедный сторож пролетел несколько метров, запутался в полах шубы и грохнулся оземь.
— Батьку бы твоего так! — пробормотал дед, с кряхтеньем поднимаясь и потирая ушибленные места.
Солдаты хохотали.
А сторож отряхнулся, осмотрел рукав — шуба-то казенная. Рукав был цел. Это успокоило старика. И он отправился дальше.
ТОМЛЕНИЕ
Майор не менял позы. Его ладонь по-прежнему закрывала глаза. И только седеющая голова старого служаки опустилась еще ниже.
Переводчику давно сделалось жарко. С разрешения офицера он снял пальто, распустил галстук и поминутно обтирал отглаженным платком лоб.
— Вы говорите? — каждые две минуты переспрашивала его телефонистка.
— Алло, дедулечка, алло! Или тебя крысы съели?
Дед не отвечал.
МЕШКИ НА ДЕРЕВЬЯХ
Отсутствие прямой связи между Хоцками и Переяславом, длительное сооружение «телефонного моста», бестолковость конторского сторожа и даже полученный им пинок пока что давали выигрыш во времени партизанам.
Пятеро этого еще не знали, как не знали и того, что они обнаружены, что маршрут их разгадан и предполагаемое время их появления возле будки путевого обходчика подсчитано с точностью до одного часа.
В старом лагере партизаны сначала присели отдохнуть. Они одолели пять километров от нового лагеря до Леплявы. Полтора по селу. Восемь от Леплявы до разгромленной базы. Итого, четырнадцать с половиной. Столько же предстояло обратно. Только теперь уже с выкладкой.
Находиться в старом лагере было неприятно. Вздыбленные бревна землянок, раскиданные, разорванные вещи, шелест разбросанных повсюду бумаг — все напоминало о первой большой неудаче отряда.
Передохнув, Гайдар с Абрамовым приблизились к погребу, что был выкопан неподалеку от кухни. Дверь в подземное хранилище была сорвана. Похоже, под нее подложили гранату. Запалив бересту, Гайдар спустился по ступенькам вниз. Разорение было полное. На полу смешались рассыпанные сахар, соль, мука.
К счастью, на этот склад особо не рассчитывали.
Как раз за неделю до боя в отряд сообщили, что в селе Каленики стоит целехонькая неразоренная свиноферма, там разводили поросят какой-то особой породы. И немцы готовились перевезти их в Германию.
Стали думать и гадать, как и на чем доставить свинок в отряд. Кто предлагал выделить для такого дела человек двадцать, кто советовал снарядить несколько подвод, а Гайдар предложил привезти мясо... на машине.
— Но ведь на грузовике тропками не проедешь! — засомневались товарищи. — По дороге нас обнаружат.
— Пусть. Только кому же в голову придет, — усмехнулся Аркадий Петрович, — что партизаны разъезжают по селам на машине?
Подготовили полуторку. За руль сел Игнат Касич. Несколько человек разместились в кузове. Автоматы и винтовки закопали в сене, у ног.
Грузовик неторопливо проехал через райцентр. Партизан приняли за полицаев, и машина благополучно достигла Каленик.
Ферма стояла на отшибе. Обезвредили охранника. И тут операция чуть не провалилась. Живьем свиней ведь не повезешь, а резать тоже нельзя — подымут визг.
— Надо было, друзья, — с укором произнес Аркадий Петрович, — читать повесть Пушкина «Дубровский».
Он приставил пистолет к уху ближайшей свиньи. Раздался негромкий выстрел. И вскоре тяжело груженная полуторка отправилась в обратный путь.
Целую ночь после поездки в Каленики в лагере коптили мясо, солили сало и подвешивали в мешках на деревьях.
За этими-то продуктами теперь и пришли пятеро.
Некоторые мешки Аркадий Петрович подвешивал сам, и он отправился искать «свои» деревья, попросив товарищей разжечь костры. Полицаев и немцев партизаны не опасались. Они полагали, что противник далеко.
С ярким огнем костров дело пошло веселей. Но им не сразу удалось разглядеть три увесистых мешка. Абрамов и Скрыпник, как самые молодые, полезли по стволам наверх, перерезали веревки. Мешки, ломая ветви, грузно ударились о землю. Их содержимое переложили в заплечные сидоры. Тем временем в ведре вскипел чай.
Торопливо жуя ломти ветчины (без хлеба, без картошки) и наспех, по кругу, запивая кипятком из ведра (не было кружек), партизаны быстро покончили с поздним ужином, выплеснули остаток чая на землю, заполнили освободившееся ведро. Помогли друг другу надеть мешки и, разбросав головешки, окинув лагерь прощальным взглядом, двинулись в обратный путь: «Через три часа, думали они, — мы дома...»
ПИТОМЕЦ ГИТЛЕРЮГЕНДА
Двадцатилетний обер-лейтенант неосторожно хватил за ужином стаканчик русской водки, название которой он любознательно занес в записную книжечку: «Perwatsch».
После тонких, легких вин, к которым офицер привык во Франции, напиток местного производства оказался для него слишком крепок. И теперь, когда многие еще веселились, обер-лейтенант давно по-детски безмятежно спал в отведенной ему избе. Густые вьющиеся волосы его растрепались. И он лежал, подсунув ладошку под ухо. А его денщик, крупный солдат лет сорока, стоял возле постели, сомневаясь, будить офицера или нет.
Дело в том, что обер-лейтенант последнее время совсем мало спал, но в то же время он много раз объяснял денщику, что интересы рейха превыше всего. И денщик легонько толкнул юношу в плечо. Обер-лейтенант поежился, натянул повыше одеяло. Тогда денщик начал его трясти.
Обер-лейтенант открыл глаза. Рывком повернулся, машинально отбросил с лица прядь.
— Что? — спросил он.
— Послушайте.
С улицы через двойные рамы доносился странный, занудливый голос. Он напевал одну и ту же бессмысленную фразу:
— Ахвицер, аллё... Ахвицер, аллё...
Обер-лейтенант был начитан. Знал немного русскую историю. Помнил о юродивых, которым поклонялись в старину. И спросонья подумал, что это поет на церковной паперти деревенский дурачок.
Веки юноши еще были тяжелы. Теплая вмятина подушки манила. Снова закрыв глаза, обер-лейтенант стал клониться щекой к подушке. И тут юродивый за окном сбился с мотива:
— Ахвицер... Аллё... К телехвону.
Обер-лейтенант кинулся к переносному аппарату в футляре, торопливо покрутив динамку, поднес трубку — мембрана не издала ни звука.
— Приведи, — велел он денщику.
Солдат втолкнул старика.
— Господин ахвицер... Телехвон... У конторе.
Слово «контора» обер-лейтенант понял тоже. Вызов в контору он мгновенно связал с молчанием полевого аппарата. И, на ходу застегивая пояс с кобурой, кинулся на улицу.
Здесь он побежал было к центру села, к резиденции старосты, но дед, который почтительно семенил чуть в сторонке, замахал руками:
— Не сюда. Не сюда. Контора МТС. Трактор... трактор...
Офицер испугался. Он знал, что машинно-тракторная станция расположена в самой глухой части села. И, подозрительно оглядывая старика в громадной овчинной шубе с шалевым воротником, подумал: «А не ловушка ли это?»
Но с другой стороны — что, если полковник, новый его командир, сидит сейчас и ждет с трубкой в руке по какому- то неотложному делу?
Обер-лейтенант пожалел, что отказался от громоздкой рации, которую так не любили таскать на себе солдаты.
И обер-лейтенант вернулся.
— Ганс, автомат, — велел он денщику. — Свой возьми тоже. И позови еще троих.
...Чем дальше старик уводил пятерых немцев от центра села, где квартировала рота, тем сильнее становились подозрения обер-лейтенанта, что это ловушка. Но страх перед начальством и боязнь, что подчиненные усомнятся в его храбрости, мешали ему второй раз повернуть назад.
При этом обер-лейтенант спешил. А дед бежать не мог. Без него немцы не знали дороги. Кроме того, старик был нужен как заложник. Обер-лейтенант знал, что русские партизаны не стреляют по своим...
Дед задыхался. Он пробовал объяснить, что не может бежать. Ему — в целях конспирации — закрывали ладонью рот. Больно толкали стволами автоматов в бока и спину. А высокий солдат, очень злой, что его разбудили посреди ночи, умело врезал деду и прикладом.
Вот когда дед пожалел, что согласился дежурить, что позарился на муку, постное масло и бесплатную казенную квартиру.
Больше того, дед вдруг припомнил рассказы о жестокостях германов. Он, признаться, надеялся, что его это не коснется. Что он отсидится или, точнее, отоспится в стороне от всего. А сейчас у него было предчувствие, что добром эта ночь для него не кончится. И ему захотелось прямо сейчас увидеть дочь с внуком. И сына-солдата. И чтобы сын пришел к нему на помощь.
Но тут обер-лейтенант сзади крепко обнял деда левой рукой за шею, а правой снял с плеча автомат. И, прикрываясь стариком, словно это самый надежный, непробиваемый щит, офицер поднялся вместе с ним на крыльцо, распахнул ногой дверь. И, выпустив во тьму перед собой длинную очередь, втолкнул деда в комнату.
В ответ не раздалось ни выстрела. Дед от волнения и слабости упал. Комнату осветили сразу три карманных фонаря. Обер-лейтенант увидел, что помещение совершенно пусто. И на письменном столе лежит трубка несуразно большого телефонного аппарата.
Перепрыгнув через деда, который в обмороке растянулся на полу, офицер схватил трубку и произнес в микрофон:
— Командир роты полевой жандармерии... слушает.
— Наконец вы проснулись, обер-лейтенант, — тусклым, измученным голосом ответил майор. — Что у вас там за пальба?
Цепь замкнулась второй раз.
УБИЙСТВЕННЫЙ МАРАФОН
Покидая лагерь, Аркадий Петрович отогнул рукав шинели — ровно два. Леплявы они достигнут примерно в четыре. Час, конечно, не поздний, но и не слишком ранний. И как бы в Лепляве им в это время уже кого не встретить.
И еще он подумал, что любой ценой вечером двадцать шестого нужно уйти из-под Прохоровки.
Всегда, если предстояло трудное, Гайдар делил работу или путь на «порции». Он научился этому, когда служил в Сибири. Сибирские просторы необъятны. Отправляясь с отрядом на задание, Гайдар отмечал сам для себя: «Когда мы поравняемся вон с той голой сопкой, это будет половина пути».
Вот и теперь, расправив лямки тяжелого мешка, он решил: «Первый большой привал у насыпи в Лепляве».
***
В хату, где он квартировал, обер-лейтенант возвращался бегом. Офицеру вермахта, разумеется, не пристало носиться, как мальчишке, но не было выхода.
Задержать пятерых партизан, понимал обер-лейтенант, приказали майору. Но затея была безнадежна (Кто поручится, что партизаны вернутся на ту же самую тропу?!), и майор, большой хитрец, теперь спихивал поимку жандармской роте.
Быть через два с половиной часа у насыпи возле будки путевого обходчика пешая рота физически не могла. А именно этого иезуитски требовал майор: «Иначе вы их упустите, герр обер-лейтенант!»
И командир жандармской роты остановился возле дома, где еще спал его помощник, старший ефрейтор, чтобы собраться с мыслями.
Это был умный обер-лейтенант. Он рос в приличной семье. Любил Гейне и Рильке, сам писал стихи и обучался игре на виолончели. Когда в один приветливый весенний день его родители исчезли в недрах многоэтажного здания, известного в Берлине под коротким названием «Алекс», — в нем помещалось гестапо, — заботу о будущем обер-лейтенанта взяли на себя фюрер и национал-социалистское государство.
Они довершили его образование и вывели в люди. Он стал жандармским офицером. Не писал и даже не читал теперь стихов. Из всей мировой музыки предпочитал только марши, под звуки которых особенно празднично блестели носки высоко вздымаемых на парадах сапог. И совершенно точно знал, что никто не был и никогда не будет умнее автора книги «Mein Kampf».
Но от вредоносного воспитания, полученного в семье, в нем осталась высоко ценимая начальством живость и точность ума. И одна маленькая слабость, которую он тщательно скрывал от начальства: в трудные минуты он почему-то вспоминал не обожаемого фюрера, а своих родителей.
Вот и теперь, догадываясь, что если не будут пойманы пятеро, то голову снимут с него, обер-лейтенант сделал три глубоких вдоха, как учил его отец, закрыл глаза, сосредоточился. Немного подумал. И уверенно постучал в дверь избы.
Когда на крыльцо в одной рубахе выскочил старший ефрейтор, командир роты отдал ему сразу два приказания:
— Тревога!.. И чтобы через десять минут на площади стояло десять подвод.
Спустя четверть часа на площади в походном облачении выстроились только солдаты. Иные в изрядном подпитии. Среди них были и те двое, что дали пинка сторожу. И те трое, что сопровождали обер-лейтенанта в контору. А подвод не было.
В Хоцках стояла не вся рота, а только взвод, сорок человек. Второй взвод находился в Комаровке, откуда его сейчас невозможно было вызвать.
Подводы старший ефрейтор пригнал еще минут пятнадцать спустя. И обер-лейтенант насчитал их только пять.
На облучках сидели возчики из местных. Обер-лейтенант посмотрел на часы: без десяти два. Добывать остальные подводы не оставалось времени.
В телеги погрузили пулеметы, коробки с лентами, ящики с гранатами. И офицер сказал солдатам:
— Дорога здесь одна. Половина из вас поедет — половина побежит следом. Потом вы поменяетесь.
На каждой подводе уселось четверо. Обер-лейтенант поместился на первой. Сказал пожилому возчику с покалеченной рукой:
— Лепляво! Лепляво! — И нетерпеливо дернул за вожжи.
Так начался этот марафон.
* * *
Партизаны шли гуськом по тропе. Жандармы катили параллельным проселком. Партизанам предстояло одолеть около десяти верст. Жандармам — семнадцать с половиной, но гитлеровцам ускоряли и облегчали путь подводы.
Взвод солдат и пятерка партизан спешили к одному и тому же месту — к узенькой стежке среди болот, которая вела с окраины Леплявы в Прохоровский лес...
ПРИКАЗЫ, ПРИКАЗЫ...
Глазастому было велено встретить солдат и отвести их на тропу.
Районному старосте пану Костенко майор приказал не отходить от телефона для возможных консультаций.
В 1.30 майор вызвал из ресторана офицеров и объявил, что в 3.15 гарнизон садится на машины. Пункт назначения — Леплява.
Цель поездки — ликвидация партизан. И посмотрел на своего заместителя. Заместителю сделалось дурно. Не спросив разрешения, он выбежал в туалет.
ОБГОН
Из лагеря партизаны вышли бодро, но скоро почувствовали, что быстро идти не могут. Сказывалось общее утомление, тяжесть мешков и даже то, что они впервые за много дней хорошо поели. На ходу дремалось, клонило в сон. Сделали два коротких привала. Уже неподалеку от Леплявы пятеро слышали, как по лесной дороге из Хоцек, стукаясь железными ободьями о корни, торопливо промчался обоз, который вроде бы кто-то бегом догонял.
Партизанам не приходило в голову, что они участвуют в марафоне, и удаляющийся топот сапог и стук колесных ободьев означает одно: в состязании определился лидер.
Сидя рядом с возчиком и чувствуя, как тряска оборвала ему все внутренности, обер-лейтенант проклинал майора. Командир жандармской роты был уверен, что партизаны давно проскочили на свою тропу. Искать же их в лесу обер-лейтенант не собирался: он не самоубийца.
Деревья стали редеть. Воз, на котором ехал офицер, остановился.
— Це Леплява, — сказал возчик и ткнул кнутом прямо перед собой. — Куда ехать? В контору, на станцию?
Обер-лейтенант вынул недавно отпечатанную карту и ногтем показал линию железной дороги с темными квадратиками зданий возле полотна.
— К казарме, значит, — догадался возчик и повернул влево, в объезд деревни, вдоль молодых посадок.
ВЫБОР
Партизаны появились на той же окраине села минут через двадцать после того, как проехал обоз. Тропа, которой шли пятеро, и лесная дорога из Хоцек в этом месте сходились особенно близко. И если бы участники марафона достигли окраины деревни одновременно, они бы заметили друг друга. Но подводы промчались раньше. Гайдар и его товарищи по-прежнему ничего не подозревали. И перед тем как выйти из леса на открытое пространство, они остановились обсудить: как идти?
Можно было обойти село вдоль посадок слева или вдоль болота справа. Оба маршрута заканчивались возле казармы. Но обход слева и справа удлинял маршрут. И пятеро выбрали самый короткий путь — главной улицей.
СЕКРЕТ, ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ
В Переяславе, после звонка майора, полковник долго не мог уснуть. Он говорил себе: «Пока не будут выловлены террористы, садясь в машину, я рискую погибнуть, как мой предшественник».
В Золотоноше майор не спускал глаз со старинных, восемнадцатого века, напольных часов. Они показывали три. И майор думал: «Скорей всего, партизаны уже успели возвратиться в свой Прохоровский лес. А там их где найдешь?..»
В Гельмязевской райуправе, в кабинете Костенко, собрались все полицаи. Ожидались важные вести. Уже не было секретом, что ночная суматоха началась звонком Глазастого. Пуская клубы самосадного дыма (пан Костенко неумело курил сигареты), полицаи рассуждали: «Если эти пятеро с мешками попадутся живьем, Глазастому — бронзовая медаль и повышение».
И от души желали, чтобы Глазастого нашла партизанская пуля.
В Хоцках не спал ни один человек. После того как среди ночи раздалась автоматная очередь, а затем немцы схватили подводы с подводчиками и умчались неизвестно куда, люди вышли на улицы, гадая: «Что случилось?» И кинулись за разъяснениями к бывшему сторожу.
Дед испуганно и виновато дрожал на жаркой печи. Когда набилась полная изба народу, он струсил и начал путанно и длинно жаловаться, что сначала солдат его пнул сапогом, а потом «ахвицер» хотел расстрелять из «кулемета».
— Но куда хоть поехали немцы? — едва не плача, допытывались женщины: у каждой был свой тайный повод для тревоги.
Но деда чужие тревоги никогда не волновали. Намерений немцев он не знал. Однако внимание целой деревни ему вдруг очень польстило. И, явно кому-то подражая, он произнес:
— Я полагаю, в Софиевку.
— Зачем? — хором спросили его.
— Как зачем? Ловить партизан.
Половина мужского населения Хоцек ушла в местный партизанский отряд, который базировался недалеко от села. Женщины разбудили и посадили на коня тринадцатилетнего Гришку.
— Скачи, — велели, — в Софиевку, перехвати партизан. А если остановят немцы, скажи: «Еду за фельдшером. Помирает бабка Пелагея».
А Софиевка была совсем в другой стороне.
О том, что в Лепляве готовится засада, знали телефонисты всех подстанций, через которые пролегал «мост». И в порядке обмена «последними новостями» — еще в нескольких деревнях, где имелась связь.
...В Сушках, возле коммутатора, плакала голубоглазая Лена. Она нечаянно подслушала разговор майора с обер-лейтенантом и поняла только два слова: «Леплява» и «партизанен». В партизанах был ее жених Валерка. Он забегал к ней после боя у лесопилки. Говорил, что живет в новом лагере недалеко от Леплявы. И сейчас Лена не знала, что делать: ведь она на дежурстве. И сменят ее не скоро.
И вдруг, решительно утерев слезы, схватила с вешалки пальто, теплый шерстяной платок. И побежала сквозь тьму за полтора десятка километров — в Лепляву.
Но у Лены не было тех выкладок, которые сделал педантичный майор. И девушка не знала, что опаздывает.
«ПОЛИГЛОТ»
А первопричина всего затеянного переполоха — Глазастый стоял на краю села в посадках и с шумом вдыхал воздух. Так обреченно дышат коровы, если они уже догадались, что им сейчас влепят обухом между рогов.
Глазастый выбрал удобное для наблюдения место неподалеку от своего дома. Отсюда он видел насыпь и казарму, со стороны которых вечером появились партизаны, и перед ним простиралась дорога. Если смотреть влево, то она вела в Лепляву. Отсюда он ждал теперь пятерых. А справа — из Гельмязева — должны были появиться, по его расчетам, немцы.
Сам же при этом он стоял, тесно прижавшись к толстой сосне, чтоб его было трудно разглядеть.
Получив приказ встретить солдат и показать тропу, Глазастый забежал домой переодеться. В четвертом часу утра он был в ратиновом, до пят, пальто с чужого плеча, ботинках с новыми галошами и широкополой шляпе — из разграбленного сельпо. Глазастому хотелось прилично выглядеть: все-таки он встречал иностранцев.
Но и в ратиновом пальто поверх лоснящегося ватника Глазастого била дрожь. Майор приказал:
— Если пятеро появятся раньше солдат, пусть секретный агент идет за ними следом.
А Глазастый с детства был косолап. Стоя за деревьями, полицай представлял: вот он крадется за теми пятерыми, старается ступать в резиновых галошах неслышно, мягко, а нога задевает за корень или раздавливает сухой сучок. И словно все уже случилось наяву, Глазастый ощутил, как револьверная пуля с тупым, спиленным концом, испортив новое пальто и суконные брюки, остро и больно разрывает кожу и входит в его мягкий, нежный округлый живот. То, что у револьверной пули спилен конец, он находил особенно жестоким.
Глазастый замер. Он услышал мягкий перестук тележных колес. Подводы остановились в отдалении. Чьи они?.. Откуда?.. Перестав дышать, полицай вслушивался. И различил крадущиеся шаги.
Ступали трое или четверо. Они приближались справа, откуда Глазастый ждал немцев. Но немцев так мало быть не могло. Значит, крались партизаны. Видимо, они перехватили германцев. И подлецы солдаты от страха рассказали про ловушку. И теперь партизаны шли за ним, за Глазастым.
Новые галоши на малиновой подкладке приклеились к земле. Глазастый наперед ощутил, как в рот ему входит матерчатый кляп — чтоб не орал, на голову набрасывают пыльный мешок из-под муки, а шею стягивает умело намыленная веревка.
Шаги приближались. Туман мешал что-либо разглядеть. Глазастый заметил только три или четыре темных движущихся пятна. Ужас его сделался безмерен. Машинально скинув галоши, он присел, готовый прыгнуть в сторону и запетлять между деревьями.
И тут он различил тяжелые шлемы. Отлитые на заводах Круппа, они отчасти сохраняли форму шлемов тевтонских рыцарей, битых на Чудском озере Александром Невским.
Но Глазастый не знал родной истории — ведь историю нельзя было налить в граненый стакан; ею нельзя было закусить. Историю нельзя было натянуть на себя вместо пиджака или фуфайки.
Чувствуя, как от небывалой радости мелко-мелко задрожали ноги, Глазастый, ошалело улыбаясь, поплыл навстречу тевтонским шлемам. И пять автоматов системы «шмайссер» нацелились ему прямо в живот.
Если бы не приказ: «Только живьем!» — пять автоматов разорвали бы Глазастому все внутренности: солдаты — тоже со страху — приняли полицая за партизана.
Поняв, как он близок к смерти, Глазастый выкрикнул — шепотом — единственное немецкое слово, которое знал:
— Я нихт партизан!
Цепь замкнулась в последний раз.
ЗАСАДА
Солдатам роты полевой жандармерии нельзя было отказать в проворстве и выучке. Схватив с телег пулеметы, коробки с лентами и гранатами, они без единого звука взбежали на высокую песчаную насыпь и спустились на другую сторону железной дороги.
Предатель жестами объяснил, откуда партизаны шли и с какой стороны их следует ждать обратно. Обер-лейтенант, обрадованный тем, что пятеро еще не появлялись, побоялся ошибиться. Достав разговорник и трехцветный фонарь с маскировочным козырьком, офицер отыскал нужное слово:
— Покажи... — И, быстро пошевелив длинными тонкими пальцами музыканта, уточнил: — Ногами.
Глазастый, довольный налаженным взаимопониманием, пробежал в своих новых галошах от тропинки на полотно мимо похожей на скворечник будки обходчика. И после этого, согнувшись, будто на спине его мешок, проделал тот же путь в обратном направлении.
Обер-лейтенант произнес «Гут!» и поставил один пулемет в кустах, слева от тропинки, на которую должны были вернуться партизаны и откуда лучше всего просматривалась и простреливалась будка. И разместил вдоль той же тропы ровно десять солдат — по двое на каждого партизана.
А другая часть взвода, со вторым пулеметом, расположилась уже в глубине молодого леса — на случай, если партизаны прорвутся или обойдут тропинку.
Гитлеровцы замаскировались, замерли и со всеми приготовлениями опередили партизан максимум на пятнадцать минут.

НЕВЕЗЕНИЕ
Партизаны миновали хату Степанцов. Возле огороженной штакетником сельрады повернули налево. Исполосованная тележными колесами дорога вела отсюда в сторону казармы. Пятеро шли по ней вчера и намеревались вернуться сегодня.
Если бы они опять выбрали этот путь, то, без всякого сомнения, заметили бы подводы возле казармы. Несколько повозок в пустынной части села, где редко бывало больше одной, — это не могло не насторожить.
Но утомление вынуждало искать маршрут покороче. И пятеро свернули на огороды. Неровное поле с засохшей картофельной ботвой было открыто со всех сторон. Партизаны прибавили шагу. Возле ржавеющего в бездействии семафора они торопливо вскарабкались на рельсы и спустились на другую сторону железной дороги.
До будки обходчика оставалось метров четыреста. Насыпь высокой стеной теперь отгораживала пятерых от Леплявы. И партизанам показалось, что все опасности позади...
СЕКРЕТ, ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ (Продолжение)
Тем временем операция «Капкан» продолжала стремительно рассекречиваться.
Когда солдаты волочили через насыпь пулеметы, их увидел колхозник Опанас Максимович Касич. От оккупантов Касич ничего хорошего не ждал. Обнаружив приготовления солдат, старик встревоженно сказал жене:
— Бабо, ховай детей! Бо що-то зараз буде...
Заметь Касич партизан,
когда они проходили в двадцати — тридцати метрах от его дома, он мог бы их предупредить. В его характере сохранилась отчаянность. Но пятерых от Касича заслонила все та же насыпь.
В беседе со мной Опанас Максимович сказал:
— И невдомек мне было, что каты эти шукают партизан, а партизаны в цей же час идут прямо им в руки — и с ними Гайдар. Знать бы, что там Гайдар, что идет он зараз с теми хлопцами, я бы выбежал на эту насыпь и крикнул що есть духу: «Аркаша, беги по-пид стежкою!..» Хиба ж я знал?!
...Через несколько минут после того, как солдат приметил Опанас Максимович Касич, из казармы вышел путевой обходчик Игнат Терентьевич Сорокопуд. Жена послала его за водой. К своему величайшему удивлению, Сорокопуд обнаружил возле колодца подводу. Обходчик спросил возчика:
— Що це за пидвода?
— Так мы же, — ответил возчик, — с Хоцек.
— А чего?
— Немцы с пулеметами приихалы сюда. Выгналы нас пидводою.
— И много пидвод?
— Да ни, всего пять.
— Де же нимцы?
Кажись, пишлы вон туда, робют засаду. — И показал на лес за насыпью.
Сорокопуд ощутил, что в свежем утреннем воздухе запахло смертью. И поспешил уйти с открытого пространства.
* * *
Удача в эту длинную, тихую ночь, наполненную зловещими приготовлениями, сопутствовала убийцам.
Из осторожности, а также из-за суеверия майор умолчал по телефону о том, что к утру прибудет с подкреплением в Лепляву сам и тогда без задержки начнет вторую часть операции «Капкан» окончательное уничтожение партизанского отряда.
МЕТОДИКА
Все было точно рассчитано.
Солдаты, которые притаились под деревьями на холодной земле возле самой тропы, должны были, проявляя выдержку, дождаться, пока русские углубятся по тропинке в лес, затем оглушить их, хватить, вязать, тут же с помощью нашатырного спирта привести пленных в чувство и передать обер-лейтенанту.
Командир жандармской роты был обязан, не теряя времени, с помощью карманного разговорника допросить задержанных, то есть выяснить и отметить на карте, где находится новый лагерь партизан.
После этого пленных, всех, кроме одного (нужен проводник), следовало бесшумно ликвидировать холодным оружием.
Лишь в том единственном случае, если бы русские проявили нежелательное упорство, обер-лейтенанту велено было доставить их в Золотоношу. Предполагалось, что в городе Золотоноше беседа пойдет гораздо живей, в полном соответствии с красочными таблицами, где ученейшие фашистские медики аккуратно обозначили разноцветными кружочками самые чувствительные точки на человеческом теле.
У ЗАПАДНИ
Ежась от холода под деревьями, солдаты не спускали глаз с железнодорожного полотна и темнеющей возле самых шпал будки. Ориентир — будка — был тем более удобен, что к утру над землей повис редкий туман, который маскировал тех, кто сидел в засаде, но ухудшал видимость. А здесь уже точно было известно, откуда появятся русские.
На гребне высокой насыпи, на фоне тускло-серого, уже светлеющего неба, пятеро должны были предстать отчетливыми, как в учебном тире, черными контурами.
...А тяжелые, усталые шаги послышались совсем с другой стороны. Партизаны двигались слева, узким проселком между насыпью и кустарником. И их совсем не было видно. Это встревожило обер-лейтенанта: «Что, если идут совсем другие люди?.. Мы их сейчас возьмем, а партизаны ускользнут?..»
Но вот из-за большого черного куста появилась фигура человека. Клочья тумана мешали разглядеть подробности. Было впечатление, что человек с большим горбом — скорей всего, на его спине мешок.
Следом за ним появились второй, третий... Обер-лейтенант насчитал — пятеро...
Путники вроде направлялись к тропе, но план уже терял свою жесткость. И рукой в перчатке — на всякий случай — обер-лейтенант подал знак, и пулеметчик развернул пулемет. Пятеро отлично гляделись в прорезь прицела. Пулеметчик профессионально отметил: двигались они устало. Следовательно, реакция у них понижена. Их можно было бы сейчас скосить одной очередью. Но майор приказал:
— Брать только живьем. Нужны «языки», а не трупы.
Но что это?! Позабыв на миг осторожность, командир жандармской роты даже приподнял голову. Один из русских — высокий, который шел первым, — что-то сказал остальным, и партизаны, не думая идти к тропе, свернули вправо.
«Лесом?! — испугался и удивился обер-лейтенант. — Они собираются идти лесом? Но ведь есть приказ майора!»
Пятерым приказ известен не был. Они остановились у первого ряда сосен, кинули на землю тяжелые мешки и устроили привал.
Партизаны расположились, прячась от ветра, между соснами. И деревья отгородили их от жандармов. В засаде началась молчаливая паника.
«Отдыхают? — спрашивал себя обер-лейтенант. — Ждут других? Но какие могут быть другие, если майор сказал — их только пятеро».
До засады долетел резкий, повторяющийся звук, словно железом били по камню. Это чиркало кресало по кремню. Обер-лейтенант различил затлевший между деревьями огонек. Ветер донес крепкий самосадный дымок.
«Но ведь скоро уже будет светло», — нервничал обер-лейтенант.
А партизаны наслаждались покоем. Оставался последний бросок. Пять километров — можно не спешить. В этой части деревни редко кто появляется. Особенно в такую рань.
Обер-лейтенант неожиданно вздрогнул. Из углубления между деревьями появился тот самый партизан, который шел первым. Он что-то произнес, обращаясь к товарищам. Звякнуло пустое ведро. И партизан — один, без мешка — направился к тропе.
Быстро светало. Туман теперь висел в воздухе не стенкой, а разорванными полосами. И командир жандармской роты быстро, наблюдательно отмечал: высокий, очень сильные плечи. Легкий шаг спортсмена — привык много ходить? Шинель коротка. Голенища сапог коротки. Меховая шапка — рыжая — держится на самой макушке. Карманы оттопырены. Гранаты? На боку матерчатая сумка. Противогаз? Но зачем в лесу противогаз? В ней что-то другое... Тоже гранаты?
Беззаботно поддев дужку цинкового ведра мизинцем, русский веселым прогулочным шагом приближался к тропе. И теперь, с расстояния десяти—пятнадцати метров, обер-лейтенант без труда рассмотрел, что русский не просто широкоплеч и высок — это настоящий богатырь.
И обер-лейтенант, которого, пока он не стал офицером, часто и охотно били, испытал восхищение и много раз пережитый, как в детстве, страх.
Но все наблюдения и переживания заняли буквально доли секунды. А главное — командир жандармской роты тут же внес коррективы: высокого — тем более он, кажется, командир — живьем. Остальных из пулемета. И, жестом отделив высокого, дал знать о своих намерениях пулеметчику. Тот кивнул — он любил ошеломляющую и красивую стрельбу
И вот когда солдаты по обеим сторонам тропы изготовились к прыжку, а пулеметчик отыскал глазом ту щелочку между деревьями, которая позволила бы ему уложить остальных одной очередью, высокий с ведром, во второй раз не дойдя до тропы, снова повернул — теперь уже к насыпи.
«Идет к колодцу, — повеселел обер-лейтенант. — Значит, он тут же вернется. Они напьются воды и пойдут, наконец, к тропе. Куда же им еще деваться? И все произойдет по плану номер один. Правда, с небольшой задержкой. Это, конечно, нервирует и утомляет солдат, но пока все в рамках...»
Приподняв и опустив плечи, обер-лейтенант сбросил излишнее мышечное напряжение. Перевел дух. И ощутил, как от ужаса у него остановилось сердце.
«Подводы!.. Я забыл отогнать подводы».
Это был полный провал. В спецшколе их учили: даже выдающиеся разведчики чаще всего сгорают из-за небрежности в мелочах. А двадцатилетний жандарм мечтал служить в военной разведке — абвере, — у адмирала Канариса.
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Впопыхах брошенные подводы оказались непростительной ошибкой обер-лейтенанта. Партизаны дважды на обратном пути имели возможность заметить телеги: если бы, выйдя из леса, направились в обход деревни слева; или если бы не свернули на картофельное поле, а дошли до казармы по шоссе...
И вот судьба в третий раз выводила Гайдара к подводам.
Аркадий Петрович шел не к колодцу. Он направлялся за картошкой к путевому обходчику Игнату Сорокопуду, с которым был хорошо знаком.
Хлеб в лагере еще оставался, а всю картошку доели накануне, в лесу достать ее было негде — нужно снова тащиться в село. А Сорокопуд рядом.
Проходя неподалеку от обер-лейтенанта и солдат, Аркадий Петрович даже не взглянул на тропу и не заметил засады.
В руке его тихо поскрипывало ведро. Правый карман шинели оттягивал парабеллум и обоймы. Левый — гранаты-лимонки, которые он ценил еще с гражданской за компактность и заключенную в стальной оболочке мощь.
Земля с пожухлой травой и опавшими листьями, сосны, оголившиеся кусты — все было прикрыто зыбкой кисеей тумана. Казалось, в воздухе висит очень мелкий, не падающий снег. Чтобы различить жандармов, которые, задержав дыхание, распластались на земле, нужно было знать, что они тут, и попытаться разглядеть их сквозь туман...
Гайдар не знал, а многодневная усталость и еще одна ночь без сна приглушили всегдашнюю обостренность чувств.
По осыпающемуся скату Аркадий Петрович взобрался на насыпь, ступил на шпалы. Ему оставалось перешагнуть через рельсы (тут была одна колея) и спуститься по деревянной лестнице с разболтанными перилами к дому обходчика. Здесь, у правого крыла кирпичной казармы, стояли те самые подводы, которые обер-лейтенант добыл для успешного осуществления операции «Капкан» и которые обрекали теперь всю экспедицию на провал.
Провал этот означал конец карьеры обер-лейтенанта, кучу неприятностей для майора, не говоря уже о полицаях.
...Итак, Аркадию Петровичу оставалось перешагнуть через рельсы и обнаружить подводы. Он бы, конечно, подошел к возчикам спросить, откуда они и зачем. А возчики, с тем же простодушием, с каким они рассказали о засаде Сорокопуду, сообщили бы о ней и Гайдару...
Как поступил бы Аркадий Петрович?
Ударил бы, не теряя времени, в воздух из револьвера? Или, сбросив рыжую, слишком приметную ушанку, заполз бы обратно на полотно, цепко оглядел бы все пространство возле тропы, различил бы сквозь оседающий туман солдат и запустил бы в них одну за другой все «лимонки», сколько их было у него в карманах? А у «лимонки», писал Аркадий Петрович в очерке «Мост», «огонь яркий, звук резкий, который немец не помрет, то все равно от страха обалдеет».
В Прохоровском лесу Аркадий Петрович и четверо его товарищей появились бы уже поздно вечером. Разумеется, без всяких мешков с припасами. И снялись бы со стоянки, не теряя ни часа.
А дальше, думается, все развивалось бы по проекту, который уже во многих подробностях был продуман Аркадием Петровичем: новая база где-нибудь в Черниговских лесах... Большое партизанское соединение, построенное по армейскому образцу... Надежная связь с Центром...
И Гайдару пригодился бы его давний опыт командира гражданской войны.
СЕРДЦЕ ГАЙДАРА
Но случилось неожиданное для обеих сторон.
Когда обер-лейтенант, помертвев от мысли, что операция провалилась, машинально продолжал следить за Гайдаром, а Гайдар, не подозревая, что откроется ему через минуту возле казармы, спокойно и уверенно взбирался на полотно, пулеметчик, продолжая держать его на мушке и медленно разворачивая ствол, нечаянно задел прикладом запасной магазин.
Железо звякнуло о железо.
Гайдар стремительно обернулся.
Офицер вдавил пальцы в плечо пулеметчика, чтобы тот не выстрелил.
...Обер-лейтенант был молод, но душевно многоопытен. Однажды — еще в чине лейтенанта — он вынул дома из почтового ящика мятый конверт без марки и штемпелей. Адрес на нем был выведен не твердым, как раньше, а уже дрожащим почерком отца.
Слезы навернулись на глаза будущего обер-лейтенанта.
«Тяжко, наверное, им пришлось», — с болью и нежностью подумал он о родителях.
И отнес нераспечатанный конверт своему командиру, потому что еще в гитлерюгенде его учили: «Каждый отвечает только сам за себя».
И теперь, когда случилось неожиданное и русский обернулся, в голове командира жандармской роты возник дерзкий и четкий план. Он, обер-лейтенант вермахта, выполняя приказ начальника гарнизона и руководствуясь идеалами фюрера, не будет стрелять в партизана. Он позволит партизану уйти. Он подарит этому русскому жизнь — в обмен на четверых, которые продолжают беспечно сидеть под соснами, еще не зная, что участь их решена...
Продолжая сдавливать окостеневшими пальцами плечо изнемогавшего от вины и боли пулеметчика, обер-лейтенант приподнял голову.
Он считал себя философом, тонким психологом и знатоком сокровенных извилин человеческой души. Побывав за верность рейху в нескольких странах (жандармы нужны везде), обер-лейтенант по роду своей особой службы наблюдал множество смертей, которые с недавних пор стали вызывать в нем интерес знатока и коллекционера.
Наиболее примечательные случаи и способы умирания он трудолюбиво заносил в свой пухлый, в кожаном переплете, блокнот, где было записано и поразившее обер-лейтенанта русское слово «Perwatsch».
Порой, вдали от начальства, обер-лейтенант даже позволял себе «острые опыты», жадно наблюдая, как ведут себя люди, если им подарить неожиданное освобождение или внезапно, по пустяковому поводу, объявить, что они обречены...
Вот и сейчас, вновь обретя потерянное было самообладание, командир жандармской роты ставил беспроигрышный эксперимент. «Ведь каждый хочет жить!» — мудро полагал обер-лейтенант.
И он впился взором в этого могучего партизана в смешной короткой шинели, готовясь удостовериться по едва приметному кивку, покорно опущенным плечам или иному движению, что русский принял его условия...
...Оборачиваясь, Гайдар уже знал, что означает внезапный звук. Теперь, с возвышения, он сразу увидел, что солдаты распластались метрах в двадцати пяти от него, возле самой тропы. И внутри все сжалось от мысли, что на гребне насыпи он отчетливо виден со всех сторон и до обидного беззащитен.
Мысль заработала с непостижимой быстротой. Счет времени пошел на тысячные доли секунды.
Прежде всего, увидев направленный на себя пулемет, ствол которого нахально и безнаказанно торчал из реденького куста, Аркадий Петрович могучим усилием воли не позволил себе отпрыгнуть в сторону или побежать, а заставил себя замереть в той неудобной позе, в которой он оказался, обернувшись.
В науке воевать, как и в математике, существует свой язык символов. И то, что гитлеровцы притаились у единственной тропы на Прохоровку, а, увидев пятерых, не открыли огня, со всей очевидностью выдавало их план схватить партизан живьем.
Нечаянно обнаружив себя, немцы обрекали операцию на провал. Привычно подумав за противника, Гайдар понял: гитлеровцы готовы сейчас любой ценой исправить оплошность.
Так ему сделался доступен план обер-лейтенанта.
В кустах возле тропы ждали.
Инициатива на короткий срок переходила к Гайдару.
Ему открылась возможность принять любое решение, но только одно.
Аркадий Петрович много раз видел свою смерть — на той войне и на этой, но еще никогда его собственная судьба и жизнь других не зависели от малейшего его движения.
Замерев под дулом крупнокалиберного пулемета, которое — он ощущал это физически — смотрело ему прямо в грудь, и тем самым даря гитлеровцам надежду согласиться на молчаливое предложение, Гайдар на самом деле в оставшиеся ему доли секунды стремительно перебирал варианты...
Еще не поздно перемахнуть через насыпь. Шанс уйти невелик. Это ясно. И все-таки шанс этот есть. Есть! И весь прошлый опыт подсказывает ему, что не бывает таких ситуаций, когда рисковый человек может сказать себе: «Все. Кончено».
Но прыгнуть в сторону, умело уйти от наведенных на него стволов — значило бросить на произвол судьбы товарищей. И этот вариант сразу отпал.
Оставалось пойти на хитрость: сделать вид, что он ничего не заметил, неторопливо повернуться, уйти за насыпь — и дать сигнал оттуда.
Но здесь был риск опоздать.
— Ребята, немцы! — крикнул Гайдар.
Напряженный палец провинившегося пулеметчика чуть дожал спусковую скобу. Тугая очередь разорвала воздух. Партизан покачнулся, но продолжал стоять. Он был четко виден на фоне светлеющего неба.
Внезапно перед кустами возле тропы разорвались гранаты. Их бросили те четверо, что сидели под соснами. Обер-лейтенант и солдаты уткнулись в землю. Когда грохот смолк, под соснами, где устроили привал партизаны, лежали только брошенные мешки.
МАРОДЕРЫ ФЮРЕРА
Партизан лежал под насыпью лицом в песок. На спине его темнело небольшое пятно: пуля прошла навылет. Рыжая шапка свалилась с головы и лежала рядом. Ветер шевелил светлые, давно не стриженные волосы. Казалось, родная незримая рука прощалась с убитым.
Операция «Капкан» сорвалась. Приказ — «Только живьем, нужны «языки», а не трупы!» — не был выполнен ни в одном своем пункте. Допрашивать особыми методами было некого. Местонахождение нового лагеря осталось неизвестным.
Звонок Глазастого поднял с постели, оторвал от пиршественного стола сотни убийц на стокилометровом пространстве. И всю эту армаду остановил один человек.
Когда стрельба закончилась, из казармы вышел путевой обходчик Игнат Сорокопуд — тот самый, к которому направлялся Аркадий Петрович.
— Ком! Ком! — поманил его долговязый солдат. И добавил по-русски: — Человек. Хоронить.
Издали обходчику показалось, что убитый ему знаком, но Сорокопуд притворился, будто случившееся несчастье его не интересует и он озабочен только тем, чтобы поскорее выкопать могилу.
Сорокопуд поднялся на ту же насыпь, распахнул створки будки для инструментов, которая стояла возле самых рельсов, и, вытащив груду лопат, стал выбирать, какая поострей.
Лопатами давно никто не пользовался, они начали ржаветь, и, отбрасывая с лязгом после осмотра одну за другой, обходчик исподволь наблюдал с возвышения, что происходит возле убитого.
Сорокопуд видел, как подавленный неудачею молодой офицер подошел к подножию насыпи, где возле поверженного партизана толпились молчаливые солдаты. Они робко, даже с опаской смотрели на мертвого...
Обер-лейтенант понимал: отчаянный поступок русского произвел на его роту глубокое впечатление. Солдат следовало поскорее увести, но сперва предстояло покончить с формальностями. И обер-лейтенант распорядился обыскать убитого.
Привычный к таким вещам пулеметчик извлек из шинели русского парабеллум, обоймы к нему, четыре гранаты, а из карманов гимнастерки — две книжечки в сафьяновых обложках с золотым тиснением.
«Комсомольская правда», прочитал обер-лейтенант на обложке одной. «Союз писателей СССР» — было написано на другой. И офицер удивленно произнес:
— О-о!
Раскрыв оба удостоверения, командир жандармской роты увидел фотоснимки убитого. Партизан смотрел с глянцевитых квадратиков бумаги проницательно и насмешливо. И офицер отвел глаза.
Тем временем пулеметчик уже протягивал испачканную землей и зачерненную сажей костров брезентовую сумку из-под противогаза. Обер-лейтенант был брезглив. Он показал нетерпеливым жестом, чтобы сумку ему распахнули. И рукой в серой замшевой перчатке вынул и повертел толстую тетрадь в грубом, изгибающемся коленкоровом переплете.
«Тоже вел записи», — самодовольно подумал обер-лейтенант, вспомнив свой блокнот.
Держа тетрадь на раскрытой ладони, он пролистнул ее, но записи были сделаны карандашом, к тому же очень мелким почерком. Офицер ни слова не смог прочесть. И распорядился сберечь тетрадку, чтобы передать ее в разведотдел штаба.
Пулеметчик запихнул тетрадку в карман своей шинели, а сумку отбросил в сторону: кроме нескольких ломтиков сала, в ней больше ничего не было. И опять присел возле убитого.
Дело в том, что, обыскивая партизана, пулеметчик нащупал ладанку. Богатый опыт в обшаривании трупов подсказал ему, что ладанка могла быть и золотой. Но под гимнастеркой оказался привинченный к нижней рубашке советский орден. И солдат торопливо его открепил.
Орден был из настоящего массивного серебра с позолотой. На нем в обрамлении знамен были изображены рабочий и крестьянка, которые грациозно и гордо несли над головой серп и молот.
Но справа рубиновая эмаль ордена была отбита, а темное серебро примято. Это оставила свой след пуля.
Пулеметчик заранее представил, как вынет в подвыпившей компании свой трофей и будет хвастаться исключительно точным попаданием в сердце. И уже собрался сунуть орден в карман, но обер-лейтенант строго сказал:
— Покажи.
Пулеметчик протянул свою находку. Офицер заметил, что серебряный овал запачкан кровью, и молча, рукой в перчатке, указал на непорядок. Солдат поспешно вытер трофей о шинель убитого.
Подбросив орден в воздух и ловко поймав его, обер-лейтенант решил, что сохранит этот серебряный кружок на память о русском партизане, который предпочел умереть за других.
Как все убийцы по призванию, обер-лейтенант был немножко сентиментален.
* * *
И вот какая мысль уже много лет не дает мне покоя: а что, если бывший обер-лейтенант жив?.. Что, если где-то в Западной Германии, в его особняке, в шкатулке для безделушек и сувениров, до сих пор лежит орден «Знак Почета» с помятым пулей ободком и поврежденной эмалью? Орден, известный по миллионам фотографий Гайдара, за № 6844?..
СТРАХ
Колонна автомобилей из Золотоноши появилась в Лепляве ровно в шесть. Майор выпрыгнул из головной трехтонки (ехать в своем «опеле» он поостерегся).
Обер-лейтенант — его рука во время рапорта дрожала, — сбиваясь, доложил о случившемся.
Начальник гарнизона, не стесняясь присутствия солдат, сказал командиру роты все, что он о нем думал, и о всех ожидающих его последствиях. Но когда обер-лейтенант протянул майору столистовую тетрадь и две сафьяновые книжечки, объявив, кто убит, майор хитроумно подумал, что превратит неудачу в победу. Он сообщит командующему, что в результате неотложно принятых мер обезврежен известный русский писатель-террорист, организатор многочисленных диверсий, от руки которого пал несчастный полковник, комендант Переяслава. И господа офицеры теперь опять смогут безбоязненно ездить на своих машинах, не рискуя погибнуть.
Тем временем пулеметчик, стоя возле убитого, давал вполголоса пояснения вновь прибывшим солдатам, остро жалея, что не может продемонстрировать орден с такой замечательной вмятиной.
Солдаты не знали рухнувших планов майора и переговаривались о том, насколько же опасен был этот русский, если для его поимки были подняты гарнизоны в Переяславе-Хмельницком и Золотоноше.
Еще смутно надеясь напасть на следы нового партизанского лагеря, майор приказал прочесать лес. Но солдаты, не спуская глаз друг с друга и оглядываясь на убитого, вытянулись в недлинную цепь. И дальше ста метров от дороги не пошли.
Обер-лейтенант был прав: каждому хотелось жить.
Но жить его солдатам теперь было страшно.
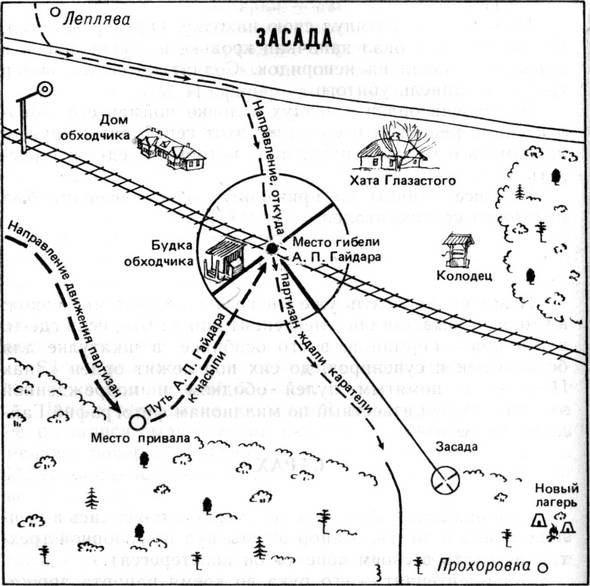
Часть V. ТАЙНИК
...Но бродит весть по свету,
что сумка часа ждет,
что песне недопетой
настанет свой черед.
Его приказ услышав
сквозь толщу долгих лет,
нам кожаная сумка
откроет свой секрет
Не зря он был солдатом,
не зря он мок и мерз,
и, кроме автомата,
и, кроме автомата,
и, кроме автомата, еще он сумку нес.
Александр Левиков. Сумка Гайдара
ТУПИК
Пора было возвращаться в Москву. А я по-прежнему не имел понятия, где и кому перед самой гибелью Гайдар оставил на хранение главную часть своих бумаг.
Из Леплявы я уезжал теперь надолго. И мне захотелось проститься с партизанским лесом, где я знал теперь все тропинки и встречал многие деревья как старых своих знакомых. А кроме этого, во мне продолжало жить настороженно-радостное предчувствие, что напоследок, в немногие оставшиеся часы, что-то непременно прояснится...
В лесу я внимательней обычного смотрел под ноги. Неутомимо орудуя щупом и саперной лопаткой, я до самой темноты продолжал надеяться, что откопаю какую-нибудь цинковую коробку из-под патронов, набитую размокшими бумагами, или гофрированный ящик из-под мин.
Однако чуда не произошло.
Прощальный ужин в обществе Афанасии Федоровны был вдвойне грустен. Давило чувство сокрушительного поражения. И в то же время казалось: сумка рядом.
Я по-прежнему говорил «сумка», хотя речь шла о переложенных во что-то бумагах. И понимал, что допустил где-то в своем поиске ошибку
Гайдар не мог просто взять и закопать свои бумаги: в случае его смерти они бы безвозвратно пропали. Значит, он рукописи кому-то отдал. Круг людей, которым бы Аркадий Петрович мог довериться, был очень узок. И получалось, что я все время хожу возле сумки.
— А дедушке Козубу, — давясь горячей картошкой, спрашивал я Афанасию Федоровну, — Аркадий Петрович ничего оставить не мог? Ведь Гайдар приходил к дедушке и подолгу с ним беседовал.
— С дедушкой было интересно, — соглашалась она. — Дедушка был, по-нынешнему, пионер-следопыт. Знал, как люди жили в старину, в каком году построен Канев и кто поставил первую хату в Лепляве. Но дедушка был уже такой старый, что сегодня ты ему тетрадки оставишь, а завтра он возьмет и помрет...
— Значит, ни в старом лагере, ни в новом Аркадий Петрович, по-вашему, сумку не прятал?
— Ручаться не могу. Но думаю, что не прятал.
— В Лепляве он заходил к Сорокопуду, к дедушке Касичу, который жил возле насыпи, к дедушке Козубу, к вашему брату — Игнату Касичу, к вам. Ни в одном из этих домов он своих бумаг на хранение не оставлял. Я имею в виду на долгий срок. Но где-то он их оставил?!
При всем своем врожденном такте Афанасия Федоровна не выдержала:
— Если даже оставил, я-то откуда могу знать где? Разве Гайдар мне докладывал, что он делал и с кем пил чай в Хоцках, Комаровке, Озерищах, Гельмязеве или Келеберде? — И, побледнев от внезапной догадки, остановилась: — Мабуть, Аркадий Петрович отдал свои тетрадки Швайкам?
ГДЕ ПЛАНШЕТ ПОЛКОВНИКА ОРЛОВА?
Впервые о семье Швайко я прочитал в отчете капитана Башкирова. Он писал: «В селе Михайловском Каневского района... я встретил жену лесника Швайко, сын которой был курьером и ординарцем у партизана Гайдара».
Естественно, что в первый же свой приезд на Украину в 1962 году я собрался в Михайловку, но Афанасия Федоровна меня предупредила: «Они давно там не живут».
На всякий случай я позвонил в Михайловский сельский Совет. Мне ответили:
— Да, семья Швайко тут жила, но сразу после войны Анна Антоновна с детьми отсюда выехала. Куда? Этого мы сказать не можем. Адреса она не сообщила.
Много позже я узнал, что мне сказали неправду. Семья Швайко, действительно, в Михайловке не жила, но, уезжая, оставила свой адрес — на случай, если ее станут разыскивать бывшие окруженцы.
В том же году через Киевский горвоенкомат мне посчастливилось найти полковника Орлова. Я попросил его сообщить, знал ли он семью лесника Швайко.
Через некоторое время полковник прислал мне свои записки о сорок первом годе, о знакомстве с Гайдаром, о совместном их походе — с боями — по немецким тылам. В частности, Орлов рассказал следующее.
После удачного прорыва из Семеновского леса Орлов, Гайдар и еще около пятидесяти бойцов и командиров поселились в лесу под Озерищами, в нескольких километрах от Леплявы. Тут стояли кем-то недавно построенные шалаши, в которых с грехом пополам можно было укрыться от дождя и холодного ветра. Не было одеял, и Аркадий Петрович нарубил кинжальным штыком лапника и сколько мог утеплил эти жилища.
Однажды возле шалашей появился немолодой, болезненного вида мужчина с маленькими усиками на добром, усталом лице. Незнакомец отрекомендовался лесником кордона № 54. Звали его Михаил Иванович Швайко.
Узнав, в каком бедственном положении находится группа, лишенная всяких припасов, в которой к тому же появились больные, лесник до перехода окруженцев в партизанский отряд регулярно снабжал полковника и его товарищей продовольствием.
В своих записках Орлов особо отметил, что сыновья лесника, Вася и Володя, «были нашими помощниками. Вместе с маленькой сестренкой Олей, стоя на часах, они трижды предупреждали нас о приближении немцев. Разумеется, Аркадий Петрович с ребятами быстро подружились. В особенности с Володей, который не отходил от Гайдара ни на шаг. И мы прозвали его адъютантом».
На мой вопрос, где семья лесника живет теперь, полковник ответил, что не знает.
Я запросил Киев, Полтаву, Черкассы — адресные столы этих городов ничего сообщить на смогли. Хотел искать дальше, но тут меня что-то отвлекло. Начались новые поездки. Возникли новые версии, которые в ту пору казались более перспективными. И сейчас я расплачивался за то, что не довел поиск семьи Швайко до конца.
Домой я возвращался через Киев. Из автомата на речном вокзале позвонил Орлову, предупредил, что скоро буду, завез в гостиницу свой увесистый чемодан и, прихватив магнитофон, отправился на бульвар Лихачева, где жил полковник.
В тесной прихожей мы обнялись. От мягких, выбритых щек Орлова пахло одеколоном. Одет он был по-весеннему, в рубашке с отложным воротничком.
Александр Дмитриевич легонько втолкнул меня в комнату. Я поздоровался с Марией Филипповной и сел на диван. Сам Орлов устроился на своем любимом месте — возле письменного стола.
Полковник был высок, массивен. В авиацию он пришел, когда в летчики набирали богатырей. И я физически ощущал, как ему тесно в малогабаритке.
— Заводи свою машину. Розетка у тебя за спиной, — без лишних расспросов велел Александр Дмитриевич.
Я включил разговор с Известным полицаем.
Александр Дмитриевич слушал запись, сердито и даже враждебно следя за тем, как вращаются бобины, словно из железного ящика вещал живой полицай. Мария Филипповна, осуждающе глядя на меня, то и дело бросала беспокойные взоры на мужа.
Со стен на меня смотрели фотографии Орлова, по которым можно было проследить весь его боевой путь. Вот он, совсем еще юный, семнадцатилетний, с новеньким орденом Красного Знамени, полученным из рук командарма М. Н. Тухачевского прямо на кронштадтском льду; на соседней фотографии Александр Дмитриевич был с двумя шпалами майора — уже после Испании; на остальных — уже в погонах, с орденами на цветастых ленточках. Среди наград выделялся орден Ленина.
Над моей головой висели, грозя обрушиться, битком набитые книжные полки. Тут были в основном многочисленные издания повестей и рассказов Гайдара. И резкий, самоутверждавшийся голос предателя, который лгал и оправдывался, звучал в этой комнате особенно кощунственно.
Мне вдруг сделалось за этот голос стыдно. Я опустил голову. А когда кончилась пленка и я встал, чтобы поставить другую кассету, то увидел, что полковник плачет. Крупные слезы катились по его грубым щекам со множеством шрамов от осколков стекла и металла.
— Машенька, дашь ты мне, наконец, платок? — резко обернулся он к Марии Филипповне.
Ни слова не говоря, Мария Филипповна скрипнула дверцей шкафа, протянула накрахмаленный платок и, пока Александр Дмитриевич его разворачивал, поставила на стекло письменного стола рюмочку с каплями. В комнате нежно и печально запахло увядшими ландышами. Орлов вытер платком щеки и глаза, без возражений выпил лекарство.
— Значит, предал отряд Александр Погорелов, — растягивая слова, произнес полковник. — Какой же это Погорелов?.. Фамилия вроде знакомая. А как он выглядел, уже не помню. Покажи-ка мне лучше фотографию.
— Снимка у меня нет, — мешался я. — Обошел несколько деревень — ни у кого не сохранился.
— Нет, ты мне эту фотографию достань, — требовательно произнес полковник. — Мы поместим ее в твоей книге и делаем такую подпись: «Вот подлец, который предал нашего Аркашу».
Александр Дмитриевич встал и несколько раз прошелся по комнате.
— Погорелов, Погорелов... Какой же это Погорелов? — едва слышно просил он сам ебя. И вдруг громко рассмеялся: — Да я же его отлично знаю. Это же он привел нас в отряд... Это было под Озерищами. Мы только вырвались из Семеновского леса. Жили в шалашах. Голодно, надо казать, жили. Вдруг утром, неподалеку лесной опушки, где стояли шалаши, раздались два винтовочных выстрела.
Мы хватились за оружие. Через минуту появился Гайдар. Он вел под конвоем мужчину в гражданском — грузного, круглолицего, испуганного. Когда они приблизились, я понял: задержанный пьян.
Аркадий Петрович доложил, что стоял в наряде, приметил подводу с подводчиком и верхового рядом. Окликнул. Велел остановиться. Подводчик бросился в кусты, а верховой повернул обратно и пустил галопом.
«Пришлось стрелять, — сердито закончил Аркадий Петрович. — На подводе несколько мешков муки и неполная канистра спирта».
«Кто вы такой? Ваши документы?» — обратился я к арестованному.
«Не имеете права меня задерживать», — ответил он.
Стараясь быть корректным, объяснил, что мы вышли из окружения, ищем партизанский отряд, который находится где-то поблизости.
«Много вас, дармоедов, по лесу шатается, — сказал он, — всех, думаете, партизаны к себе возьмут?»
«Вы разговариваете с полковником Красной Армии!».
«Не блести своими шпалами... Я тоже большой начальник».
Тут Аркадий Петрович, который стоял позади арестованного, сделал мне знак: мол, я сейчас приведу его в чувство.
«Товарищ полковник, — взяв под козырек и незаметно мне подмигивая, произнес Гайдар, — разрешите вывести задержанного вражеского лазутчика в расход». — И щелкнул затвором.
Арестованный моментально протрезвел:
«Не расстреливайте меня!.. Я все скажу».
И он сказал, что зовут его Погорелов, что он заместитель командира партизанского отряда по снабжению.
Я приказал отконвоировать Погорелова в лагерь.
Вернулся Аркадий Петрович с командиром партизанского отряда Гореловым и комиссаром Ильяшенко. Они пришли познакомиться с нашей группой. И после короткой беседы предложили перебраться в дом лесника неподалеку от их лагеря.
Так мы попали в отряд.
Но что бы нам в то утро догадаться: если Погорелова прижмет кто другой, он так же легко все расскажет?
А знаешь, что я сейчас понял?! — вскочил вдруг Орлов. — Когда, ты говоришь, Погорелов сбежал из партизанского отряда? 18 октября? Сразу после нашего ухода к линии фронта? Так вот, я думаю, что он предал и нашу группу.
Посуди сам. Михаил Иванович Швайко вывел нас на самую глухую дорогу. По ней уже давно никто не ходил. И вдруг мы наталкиваемся на засаду. Сперва ударил крупнокалиберный пулемет, потом автоматы. Нескольких ребят скосило сразу... И я еще ломал голову: откуда взялись тут немцы?.. А теперь понятно откуда...
Орлов поднялся и вышел.
— Спрячьте вы свои ужасные пленки, — взмолилась вполголоса Мария Филипповна. — Ему потом будет плохо с сердцем. Он и так пять раз на день бегает к ящику, все ждет ваших писем.
— Мария Филипповна, я рано утром улечу. Мне нужно задать Александру Дмитриевичу один-единственный вопрос.
— Ни одного. Вы улетите, а я буду каждую ночь вызывать «неотложку». Напишите ему из дома. Он ответит.
— Но я уже здесь.
Мы услышали шаги Орлова. И Мария Филипповна торопливо разрешила:
— Хорошо, но только один.
Орлов возвратился из ванной с раскрасневшимся от холодной воды лицом. Его редкие седые волосы тоже были намочены и аккуратно причесаны.
— А знаешь, что самое обидное? — произнес он с порога. — Ведь я Аркашу предупреждал. Вокруг Горелова шныряли такие... хари. А Гайдар был поэт и романтик. Ему казалось, что он сумеет в отряде все починить и исправить. И теперь, когда я не сплю...
Мария Филипповна тяжело вздохнула.
— Машенька, — быстро повернулся он к ней, — ну, бывает, что я иногда не сплю. Я ведь могу и днем выспаться. Так вот, когда я не сплю, я думаю, что смалодушничал.
В группе у меня были такие боевые хлопцы. Мигни я им только — взяли бы они Аркашу под белы руки и увели бы с нами. А я постеснялся: неудобно! Корреспондент. Писатель. Кинодраматург. Орденоносец. Обидится...
Да и пусть бы обиделся, зато бы остался живой! Понимаешь, живой! И сидели бы мы сегодня, скажем, вчетвером: Машенька, Аркаша, ты да я. И ничего бы тебе не нужно было искать и копать. Сидел бы ты на диване, как сейчас. И Аркадий Петрович Гайдар сам бы рассказывал... А рассказывать он умел... Так вот этой бесхребетности я себе простить и не могу! — И, приподняв стул за спинку, Орлов ударил им об пол.
— Саша, — предостерегающе произнесла Мария Филипповна.
— Машенька, человек приехал на один вечер. У нас происходит нормальный рабочий разговор.
— Я понимаю, но только тоном ниже.
— Есть тоном ниже, — повеселел Александр Дмитриевич и подмигнул мне. — Лучше покорми нас. А то наш инспектор Мегрэ прямо с днепровских просторов. Питаться от розетки он еще не научился.
Мария Филипповна вышла в кухню. Полковник сразу сделался серьезным. Времени для мужского разговора у нас с ним было в обрез.
— Что? — тихо и со значением спросил он.
— Мог Аркадий Петрович оставить свои рукописи леснику Швайко?
— Мог, — твердо произнес он.
— Почему вы так думаете?
— Почему? — с иронией и грустью переспросил он. — Да потому, что я тоже оставил Михаилу Ивановичу свой планшет.
— Но вы никогда мне об этом не рассказывали.
— А получилось вот что, — продолжал Александр Дмитриевич. — Перед падением Киева наша дивизия перелетала на новую базу. Командир взлетел первым. Я должен был лететь последним. Когда все работоспособные машины поднялись в воздух, а что подняться не могло — то горело, я забрался в свой истребитель. А он не завелся. То ли какой «мессер» по нему ударил, то ли что. Механики отбыли на грузовиках. Из начальника штаба авиадивизии я сразу превратился в пехотинца без пункта приписки.
«Ишачок» свой я запалил. А при мне две вязки секретнейших бумаг. Часть сунул в огонь. Остальные понес в штурманском планшете. Имелся у меня коробок полярных спичек они не мокли в воде и ветром их не гасило, чтоб в случае надобности спалить остальное. Но все же донес я бумаги до партизанского отряда. А когда собрался к линии фронта, Гайдар сказал:
«Не тащите планшет с собой. Оставьте леснику».
Я так и сделал. Взял только это...
Александр Дмитриевич выдвинул ящик письменного стола и положил передо мной командирское удостоверение в истершейся матерчатой обложке, поперек которой шла неровная полоса излома.
Я раскрыл удостоверение. Излом прочертил и фотографию. Александр Дмитриевич был на ней молод. Волосы еще темны. Вместо погон — четыре шпалы на петлицах. И над левым карманом орден Красного Знамени и медаль «XX лет РККА» на продолговатой колодке.
— Пронес в сапоге, под пяткой, — пояснил Орлов, показывая на излом.
— А планшет?
— Я ж тебе сказал: планшет я оставил Михаилу Ивановичу Швайко. Он обещал спрятать в надежном месте.
— И вы вернулись за ним?
— Конечно.
— Когда это было?
— В сорок четвертом, после освобождения Киева и Канева.
— И получили свой планшет обратно?
— Обратно я получил не планшет.
— Просто бумаги?
— Ты мне слова не даешь сказать. Я получил орден и медаль.
— Про орден вы расскажете потом. Сейчас меня интересует планшет.
— Михаила Ивановича я в живых уже не застал. За помощь нам и другим окруженцам полицаи его расстреляли. Сыновей те же предатели отправили в Германию. Жена с дочкой жили в Михайловке. Это другой берег Днепра. Когда я установил их адрес и приехал, Анна Антоновна оказалась в отъезде. Дома была только Леля. За три года она подросла. Сначала я ее даже не узнал. Леля и вернула мне орден и медаль. Ей было известно, где они хранятся.
— А планшет?
— Сам планшет мне был не нужен. Я получил другой. А бумаги, которые я оставил, к 1944 году утратили и свою секретность, и свою ценность.
— А где семья лесника живет теперь?
— Ты меня уже спрашивал. В сорок пятом они поселились в Бердичеве. Потом их следы я потерял.
...Всю дорогу от бульвара Лихачева я шел пешком, не ощущая тяжести магнитофона и не замечая ничего вокруг. Впервые за многие наши встречи я услышал о том, что Орлов доверил леснику документы и награды.
Правильно ли полковник поступил? Правильно. Армейский разведчик, отправляясь на пять—десять километров в тыл врага, сдает начальнику штаба даже письма из дома. Орлову же предстоял путь в несколько сот верст.
Он перешел линию фронта. Вернулся в авиацию. Продолжал бить врага и удостоился других наград.
Что же в сообщении Орлова обнадеживало? Да прежде всего то, что планшет он оставил по совету Аркадия Петровича. А Гайдар никогда не советовал того, чего бы не рискнул сделать сам. И если Леля, самая младшая в семье, тут же возвратила Александру Дмитриевичу его награды, значит, каждый имел доступ к хранилищу.
Но где семья Швайко жила теперь? Что с сыновьями? Ведь один из них был у Аркадия Петровича ординарцем...
ОТКЛИК ИЗ СИБИРИ
Трудно представить, что лет пятнадцать назад радио было всесильнее телевидения. Телестудии существовали в немногих крупных городах. Единая система телевизионной связи только создавалась. Писатель Сергей Сергеевич Смирнов свой поиск героев Брестской крепости начал по радио. И его всенародно известная книга «Брестская крепость», удостоенная Ленинской премии, была создана прежде всего благодаря откликам на радиовыступления.
Задолго до того, как Ираклий Луарсабович Андроников шагнул к нам в дом с экрана телевизора, мы слышали его рассказы по радио.
Я прилежно учился у них обоих.
Осенью 1962 года, возвратясь из поездки в Лепляву, я впервые пришел на Центральное радио, в литературную редакцию детского вещания.
Мне посчастливилось. Заведующая редакцией Лидия Сергеевна Виноградская, выслушав мой сбивчивый рассказ о том, зачем я ездил на Украину, сказала:
— Ищите дальше. А мы вам поможем.
Это было первое слово поддержки, которое я услышал. Оно определило всю мою работу по сегодняшний день.
Книга «Партизанской тропой Гайдара», документальный роман «Обыкновенная биография» (Аркадий Гайдар) в серии «Жизнь замечательных людей», как и эта повесть, родились из большого количества поисковых передач, задуманных и осуществленных в литературной редакции детского радио.
...В очередном своем выступлении перед микрофоном я рассказал о героической семье Швайко и обратился к слушателям с просьбой помочь найти жену лесника и его детей.
Передача шла сорок минут. Писем, как всегда, поступило много, но, где сейчас живет семья Швайко, никто из моих корреспондентов не знал.
Через месяц передачу повторили.
Результат оказался прежним. Каждодневное ожидание: вот-вот узнаю адрес, — изрядно вымотало меня. Я решил прекратить поиски.
Однажды на моем столе тренькнул телефон.
— Они живут во Львове, — услышал я в трубке голос Виноградской.
— Кто они? — переспросил я недоуменно.
— Семья Швайко. Об этом сообщил их родственник из Сибири. Запишите их адрес.
Я тут же позвонил в агентство Аэрофлота.
ЗНАКОМСТВО
Семья Швайко жила на тихой улице, в старинном доме, неподалеку от знаменитого оперного театра. Дверь открыла пожилая полная женщина. Волосы гладко зачесаны в пучок. Лицо почти без морщин. Глаза внимательные, близко посажены к переносице. Движения точные, быстрые. Это была вдова лесника, Анна Антоновна.
Она с достоинством пожала мне руку. Пока я вешал в прихожей куртку, обстоятельно оглядела меня.
— Проходите, пожалуйста.
Комната, куда я вошел, была громадна, но по расстановке мебели я понял, что она единственная.
— Пойду согрею чай, — сказала Анна Антоновна.
Я сразу направился к стене, увешанной фотографиями. Особенно много, по сельской моде, их было в желтой полированной раме под стеклом.
Вот Анна Антоновна в молодости: сарафан, белая кофточка, в лице решимость, природная сила и грусть. Видно, и тогда ей жилось нелегко.
Рядом девочка лет пятнадцати. Глаза смотрят прямо. Волосы до плеч. Волнистая прядь спускается на лоб. Так носили после войны. Леля? Тут же другие снимки: мальчик в зимнем пальто и фуражке, лет тринадцати-четырнадцати. Володя? Юноша, похожий на Володю, но светловолосый и постарше. Вася?..
А вот Володя в гимнастерке с погонами. Густые темные волосы его зачесаны назад... Снимок повзрослевшего Василия. Значит, оба сына остались живы?!
А в нижнем углу рамы я обнаружил снимок, отклеенный от служебного удостоверения. Пожилой мужчина в толстой нанковой куртке и белом хлопчатом свитере. Маленькие усики на добром лице. В глазах усталость. Похоже, человека давно уже подтачивал какой-то недуг. По сходству черт с детьми не стоило труда догадаться: Михаил Иванович.
Значит, это ему Орлов доверил планшет, набитый секретными документами, а Гайдар — скорей всего — свои рукописи?
Чаепитие длилось долго. Анна Антоновна расспрашивала, где я в Москве живу, в каком классе у меня сын, здоровы ли мои родители.
Но за ее расспросами проступало отчетливое желание понять, что я за человек и стоит ли ради меня погружаться в то далекое, полное печали и горя прошлое. Для меня ее решение значило многое: ведь в журналистике важна подробность.
Когда чаепитие закончилось, я вернулся к желтой раме с фотографиями.
— Михаил Иванович похож на старого учителя, — сказал я. — Он преподавал когда-нибудь в школе?
— В семье у нас только Вася стал учителем, — ответила Анна Антоновна, глядя на фотографию. — Муж любил детей, но работать в школе ему не довелось. При царе служил в пограничниках. Когда началась революция, сперва партизанил. Потом его назначили комиссаром продотряда. После демобилизации избрали председателем райисполкома. Должен был пойти на повышение, но тяжело заболел. Врачи ему помочь не сумели. И с руководящей работы по состоянию здоровья он вынужден был уйти. Решил поступить на спокойную должность — в лесники. И сложил на этой «спокойной» должности голову.
— Где же вы под Леплявой жили?
— На кордоне № 54. Это неподалеку от лагеря партизан. Прямо в лесу стоял большой дом. Занимали мы в нем только одну комнату. В остальных — соседи. Одно соседство оказалось особенно неприятным. Когда муж председательствовал в райисполкоме, он раскулачил известного мироеда П. Но муж был человеком мягким. Излишки имущества отобрал, а ссылать не стал. Пожалел семью.
И вот осенью сорок первого, когда пришли германцы, П. сделался нашим соседом.
Я был озадачен.
— Но раскулаченный мироед был вашим соседом только первое время, — произнес я. — А потом-то вы, наверное, поселились в отдельной избе?
— Кто вам так объяснил? — недоуменно и строго спросила Анна Антоновна.
— Никто. Просто я думаю: имея таких соседей, невозможно было помогать окруженцам.
— Невозможно? — усмехнулась женщина. — А вы бы что сделали на нашем месте?.. Стучит в окошко раненый или просто голодный. А я ему скажу: «Ступай, солдат, мимо. Никакой тебе еды не будет, потому что за стенкой у меня доносчик и мироед»? Гостил у нас Ивкин, секретарь Киевского подпольного горкома. Посмертно его наградили званием Героя Советского Союза. Он предлагал убрать П. Муж не согласился: «Как можно, соседи...» Муж говорил: «Пока рядом партизанский отряд, нас не тронут».
И он оказался прав: П. донес, когда отряда не стало...
А помогали мы так. Пока стояли теплые дни, еду носили военным в лес. А с наступлением холодов оборудовали сарайчик. Навалили побольше сена. Отнесли туда брезент, попоны.
— И соседи знали, где этот сарайчик?
— А как же?.. Помогать мы могли только на глазах.
Анна Антоновна замолчала. В комнате зазвенела тишина. Я знал немало людей, которые в годы войны рисковали. Они подвергались опасности, но все же надеялись: вдруг обойдется. А здесь был тот ошеломляющий случай, когда семью за подвиг ждала неминуемая кара, но это никого не остановило...
ПАЦИЕНТ
— Гайдар пришел с отрядом Орлова, — продолжала Анна Антоновна. — Но вы бы поглядели на этот отряд: голодные, заросшие. Они были в таком виде, что муж — это случилось впервые — не решился вести их к нам в дом и пришел со мной посоветоваться. Я тут же поставила в печку два ведерных чугуна с картошкой. Даже раскулаченным нашим соседям велела, чтобы варили тоже. Ведь целый отряд под лавку не спрячешь. И сказала мужу: «Ничего. Веди».
Он привел. Я дала им умыться. Они скромно вошли в комнату. Сели. Я нарезала хлеб. Поставила перед ними чугун с картошкой. Они вмиг ее расхватали и начали есть вместе с кожурой. Я не выдержала. Заревела. А потом узнала, что они дня три совсем ничего не ели.
— Фамилий не помните?
— Помню только несколько человек. Сам Орлов. Майор Алферов. Полковник НКВД Александров. Начальник Житомирской милиции Долгов. Он единственный среди них носил очки. Был с ними и Гайдар.
Выглядел Аркадий Петрович хуже всех: лицо полное, нездоровое, с желтизной. Под глазами будто проведено сажей. Здороваясь, так закашлялся, что чуть не задохнулся. Но что мне понравилось: спросил, где помыть руки. Ел, очищая каждую картошину и ножичком сверху посыпая солью.
Но знаете, что интересно?.. Он ведь не сразу нам открылся, что он Гайдар. И вот, когда они уже сидели за столом, прибегает ко мне на кухню младшенький, Володя.
«Мама, говорит, среди командиров есть один солдат. Он пьет чай с малиной. Он больной. Сильно кашляет. Но ты знаешь, мама, он не простой солдат».
От мужа я слышала, что живет их отряд в шалашах. И спят они на голой земле. Нарубят лапника, чтобы помягче было лежать, завернутся в шинель, прижмутся друг к другу — вот и весь комфорт. А уже октябрь. По ночам заморозки.
И я сказала Орлову:
«Товарищ этот, который кашляет, серьезно болен. Его нужно оставить у нас».
Орлов согласился. И я принялась лечить больного.
Приготовила по народному рецепту питье: зверобой, девясил, липовый цвет, тысячелистник, что-то еще. Постелила ему прямо на теплой печке. И он, видно было по лицу, обрадовался, что у нас остался.
«Впервые за три недели, — сказал он, — буду ночевать под крышей. Спасибо вам, хозяюшка, а то какой я, с таким кашлем, солдат?»
Прожил Аркадий Петрович у нас два дня. Ему стало легче дышать. Он начал лучше выглядеть. Но жить у нас дольше счел неудобным.
Когда надел свою шинель и пилотку, подошел ко мне, потряс руку.
«Никогда, — сказал, — не забуду вашей доброты. Я поражен результатами лечения. Если останусь жив, обязательно про народные ваши методы напишу. Но главное, приглашаю всю вашу семью после войны к себе в гости. Дорогу в оба конца я оплачиваю. А если потеряете мой адрес, то всегда найдете меня в Москве через Союз писателей».
А назавтра приходит такой боец Миша. Волосы рыжие, по профессии шорник. И приносит половину ведерка молока. «Это, говорит, Аркадий Петрович прислал. Чтоб при мне выпили, чтоб я видел, как вы пьете».
Впервые за нашу беседу Анна Антоновна засмеялась. Смеялась она редко. И смех получился неожиданный и немного тяжеловатый.
— «Пейте при мне, чтоб я мог сказать Гайдару, что вы пили», — повторила она, продолжая смеяться.
* * *
Больше в этот день нам поговорить не удалось. Сперва вернулись из школы внучки. Потом пришли с работы Леля с мужем. Леля стала похожа на маму. Только черты лица ее были мягче. За ужином Леля рассказала смешной случай.
Братьев дома не было. Должны были прийти военные. Ее послали на пост. А Леле сделалось скучно, стала она играть припасенной куклой и не заметила, как появился Аркадий Петрович. Леля застыдилась, спрятала куклу за спину. А Гайдар не стал подшучивать, только наклонился и объяснил: «Часовым на посту играть в куклы не положено».
РАЗОЧАРОВАНИЕ
В комнате Швайко я провел целый день. Все это время я не забывал о рукописях Аркадия Петровича, пробуя даже угадать, где теперь, после переезда во Львов, Анна Антоновна хранит бумаги из тайника своего мужа: в серванте? В ящиках платяного шкафа? Или вон в той картонной коробке — кажется, из-под пылесоса — на буфете?
Но первым начать разговор о тетрадях Гайдара я считал неудобным, даже невежливым. Я видел, что Анне Антоновне хочется поведать о многом, что выпало семье. И ждал, когда она заговорит о бумагах сама.
— К вам каждый день приходили окруженцы, — продолжал я разговор. — Вы их кормили и еще давали с собой. Где же вы брали столько продуктов?
— Мы имели большой участок. Кроме того, ходили в Лепляву на заработки. Поможем выкопать картошку — нам дают за это два-три мешка. Но когда появился отряд Орлова, мы поняли, что нам его не прокормить.
В тот вечер, когда мы впервые угостили полковника и его товарищей ужином, а потом проводили до шалашей, чтобы они не заблудились по дороге, муж — наверное, была уже полночь — созвал большой семейный совет.
Гайдар заснул на печке. Мы тоже все устали. У детей слипались глаза. Но Михаил Иванович не позволил уйти спать даже маленькой Леле.
«Очень видные люди, — сказал муж, — попали в беду. Долг нашей семьи помочь им остаться в живых, чтобы они смогли возвратиться к своим делам и своим семьям».
И распределил между нами обязанности. Каждый теперь точно знал, что он должен делать.
У мужа в Озерищах был знакомый председатель колхоза. Немцы потом его расстреляли. Михаил Иванович отправился к нему рано утром. И председатель дал из утаенных от оккупантов запасов трех кабанчиков, несколько центнеров муки. Еще чего-то. Я варила мясо, пекла хлеб, а муж с мальчиками отвозили еду на тележке в шалаши...
— А помните ли вы у Аркадия Петровича сумку? — не выдержал я.
— Кто же ее не помнит? — усмехнулась Анна Антоновна. — Он без нее и не ходил. Сумка была кожаная, как солдаты носили. И тугая, как футбольный мяч.
— Кожаная?
— А какая же еще?
Я не стал ничего уточнять. Теперь уже не имело значения, какая сумка запомнилась вдове лесника — брезентовая или сшитая из кожи. Важно было только одно: оставил Гайдар свои бумаги Михаилу Ивановичу или, быть может, самой Анне Антоновне. И если оставил, то где рукописи теперь: в этой комнате? В коридоре в кладовке? В подполе дома на кордоне № 54, куда нужно будет срочно ехать?
Спрашивая, помнит ли она сумку, я надеялся, что моя собеседница тут же охотно и подробно расскажет о бумагах Аркадия Петровича. А то просто вынет и положит передо мной. Но по выражению лица Анны Антоновны я заметил, что тема эта ее мало интересует и она ждет другого, более существенного вопроса.
— Если можно, — робея от грустного предчувствия, произнес я, — подробней о сумке.
Женщина снисходительно пожала плечами.
— Я уже говорила: сумка всегда была при нем. Только однажды он приехал переодетый в немецкое. Напугал меня до смерти. В этот день я сумки у него не видела.
На душе у меня становилось все печальнее. Я чувствовал, что разговор о сумке вот-вот погаснет. И будет уже неудобно к нему опять вернуться. И я задал вопрос, который приберегал напоследок:
— Орлов говорил, что Гайдар посоветовал ему оставить свой планшет Михаилу Ивановичу.
Я думал, что Анна Антоновна захочет узнать, при каких обстоятельствах Аркадий Петрович дал столь волнующий для меня совет. Но она спокойно, даже утомленно ответила:
— Мужу много чего оставляли. Оружие, важные карты, письма к начальству и семьям.
— А в чем, в каком месте Михаил Иванович все прятал?
— Сперва муж клал документы в стеклянные банки из-под огурцов и помидоров. А вот куда он их относил... Вообще поначалу закапывать банки ему помогал Вася. А после муж прятал уже все сам.
— А Василий Михайлович далеко живет?
— В Житомирской области. Поедете?
— Поеду.
— Я вас расстроила? Но мы тогда старались поменьше знать. Не спрашивали имен. Не спрашивали, куда люди идут. Я не спрашивала мужа, где он все прячет.
— А где спрятан планшет Орлова?
— Не имею понятия.
— Но Александр Дмитриевич мне рассказывал: как только он приехал в Михайловку, Леля — она тогда еще была школьницей — сразу вернула ему награды. Значит, она знала, где находится тайник?
— Где тайник, кроме мужа, не знал никто. А что касается наград, то вы еще молодой и не помните, какой редкостью до войны и в начале войны был орден, поэтому награды полковника Орлова мы берегли особо. И они лежали у нас дома в подушке.
— Но неужели у вас не сохранилось ни одного документа той поры?
Анна Антоновна сняла с буфета ту самую картонную коробку, на которую я поглядывал с такой надеждой, открыла крышку и положила передо мной маленькую стопочку бумаг, похожую на колоду старых карт.
Стопочка состояла из четвертушек, которые когда-то были сложенными в несколько раз листами. Но листы от времени пожелтели, протерлись на сгибах и разлохматились.
Я глядел на эти четвертушки, испытывая нетерпение, что это? Что они мне сейчас откроют?.. И в то же время не решаясь к ним притронуться: я опасался, что от прикосновения они вдруг рассыплются и станут пылью...
Но меня успокоило то обстоятельство, что Анна Антоновна минуту назад держала эту стопочку в руках. И я бережно снял и перевернул верхний лоскут.
На нем поблекшими фиолетовыми буквами было выведено:
7. Военком 421 БАО...
8. Нач. связи ВВС 5 арм...
9. Секретарь Киев. гор...
10. Член Союза сов. пис...
Начертание букв мне показалось знакомым. Я почувствовал, как в груди рванулось сердце. И торопливо перевернул еще одну четвертушку.
«Партбилет № 2093790, — прочел я.
30.10.41».
Давний навык игры в кубики помог мне подобрать остальное. И я с огорчением убедился: это не рука Гайдара. Передо мной лежал отзыв о героической деятельности семьи Швайко, оставленный полковником Орловым.
«Мой настоящий отзыв, — писал Орлов, — могут подтвердить следующий руководящий состав и члены ВКП(б), входящие в состав моего сводного отряда:
1. Зам. командира 4 дивизии НКВД интендант первого ранга т. Николаев А. П.
2. Преподаватель школы марксизма-ленинизма 4 стрелковой дивизии батальонный комиссар Стефанов.
3. Начальник областного управления НКВД Житомирской области капитан... Долгов В. М.
4. Начальник особого отдела 4 стрелковой дивизии товарищ Смирнов Н. Д.
5. Начальник Киевского областного управления НКВД т. Лифшиц. (Шестая фамилия пришлась на сгиб и полностью стерлась.)
7. Военком 421 БАО батальонный комиссар Бугаев.
8. Начальник связи ВВС 5 армии майор Алферов.
9. Секретарь Киевского горкома ВКП(б) т. Ивкин.
10. Член Союза сов. писателей — воен. корреспондент т. Гайдар А. П.».
Это был первый найденный мною документ, который имел отношение к событиям и тайнам Леплявского леса.
Я перечитал приведенный Орловым список. Из девяти человек, названных полковником, я располагал сведениями лишь о троих: Гайдар и секретарь Киевского горкома партии Ивкин погибли. Бугаев живет в Александрии. Остальных надо было искать.
Но вот что меня удивило: отзыв был помечен тридцатым октября.
А ведь Орлов ушел к линии фронта восемнадцатого. Как же он очутился в доме Швайко через двенадцать дней? Больше того, в документе имеется ссылка на Гайдара, но 30 октября Аркадия Петровича уже не было в живых.
— Не сомневайтесь, — успокоила меня Анна Антоновна. — Орлов в самом деле уходил. Муж проводил их отряд до Гельмязева. Возле Золотоноши они наткнулись на засаду. Случился бой. У Орлова погибло несколько человек. Пришлось отступить. И Александр Дмитриевич вернулся к нам. Пожил немного в Озерищах. Собрался опять. В последний раз он и оставил нам свои награды. А что Гайдара убили, мы не знали еще долго.
ВСПЛЕСК ПАМЯТИ
На третий или четвертый день я встал пораньше и отправился за билетом на самолет. Я надеялся быстро обернуться, а проторчал в очереди. И к Анне Антоновне явился только в двенадцатом часу.
— Собиралась уже звонить вам в гостиницу, — сказала мне Анна Антоновна, отворяя дверь. — Боялась, что вы заболели и вас тоже надо будет лечить травами. — Она улыбнулась.
В комнате я все объяснил и вынул из кармана листок с вопросами, которые продумал еще вечером. Но Анна Антоновна меня опередила:
— Извините, если я что не так спрошу: вы ищете только сумки: планшет Орлова, чехол от противогаза, который был у Гайдара? Они вам нужны для музея?
— Планшет Орлова мне нужен меньше всего. Просто я думал: там, где лежат бумаги полковника, может храниться что-нибудь еще. Допустим, тетради Гайдара.
— Вы бы так и сказали. Теперь мне все понятно. Муж никогда не говорил, кто ему что оставил. И он бы, конечно, ни словом не обмолвился о тетрадях Гайдара. Но я все эти ночи не сплю. И сегодня утром, когда под окнами уже гудели поливальные машины, я вспомнила один разговор мужа с Аркадием Петровичем. Я слышала только обрывок.
— Давайте по порядку. Здесь все очень важно. Какого это было числа?
— Чисел вообще не помню. Ведь не было ни газет, ни календарей. Про радио уж не говорю.
— Хорошо. Разговор произошел до боя у лесопилки или после?
— Боюсь ошибиться. Одно совершенно точно: это был последний приход Аркадия Петровича.
— Он заходил прощаться?
— Вроде бы нет. Зашел, как всегда. Особенно не торопился. Но помню обстановку какого-то тревожного ожидания. Чаще стали заглядывать на кордон немцы. Наглее сделались полицаи. Например, мы заработали с Володей картошку в Лепляве. А полицаи не позволили нам ее увезти: мол, много очень, столько вам не нужно. И мы у себя на кордоне уже никого не оставляли ночевать в сарайчике.
Анна Антоновна разволновалась. Налила себе воды.
А в стакан добавила каких-то капель. Выпила. Стала немного спокойней.
— Вернемся к последней встрече. Как выглядел Гайдар? Он был в нашей форме или немецкой?
— В нашей. В немецкой он приходил только один раз. А выглядел плохо. Правда, не кашлял. Мы привыкли, что он всегда бодрый. Любил пошутить, поиграть с детьми. Загадывал им загадки, всегда смешные. Случалось, постоит, посмотрит, как я орудую возле печки. Скажет:
«Ой, хозяюшка, как ты ловко хлебы печешь!»
А в этот вечер даже не улыбнулся. Я забеспокоилась: «Наверное, очень голодный». И решила накормить его посытней.
Но дрова подвернулись сырые. А у Гайдара была такая привычка: вот он сидит, неторопливо беседует. Вдруг: «До свидания. Очень спешу». И убегает без чая, без еды.
Я побоялась, что и теперь он может уйти голодный. Зашла в комнату предупредить, что ужин будет готов через десять минут, и увидела, что происходит очень важный разговор.
— Почему вы так решили?
— Почему? — она задумалась. — По каким-то мелочам... Аркадий Петрович был человеком выдержанным. А когда я вошла, он резко обернулся. Увидел, что это я, сразу успокоился, снова наклонился к мужу и тихим голосом, но очень настойчиво стал ему что-то доказывать, легонько постукивая ребром ладони по столу.
Я поняла: это у них надолго. Ужин как раз поспеет. И вышла на цыпочках в коридор.
— Зачем же вы ушли? — не удержался я.
— Я подумала, что Гайдару, наверное, было бы неприятно, если бы я осталась.
— Но вы хоть успели понять, о чем шла речь?
— Нет... То есть я поняла самый общий смысл. Аркадий Петрович говорил о каких-то бумагах. Мол, эти бумаги не менее важны, чем секретные документы.
— Вы видели эти бумаги? Гайдар вынимал их из сумки? Держал в руках? Положил на стол?
Анна Антоновна, чуть выпятив нижнюю губу, виновато помотала головой.
— На столе не было ни листка. Это я хорошо помню. Ведь я собиралась подавать ужин.
* * *
Еще двое суток назад я был уверен, что получу из рук Анны Антоновны хотя бы одну тетрадку. На самый худой конец, она просто сообщит, где спрятаны бумаги. И я вернусь под Лепляву их откапывать. А сейчас у меня было ощущение, что мой поиск только начинается...
* * *
— Вы передали главный смысл беседы. Но хоть одно особенное словечко или выражение у них в разговоре проскользнуло?
— Не было словечка, — твердо произнесла Анна Антоновна. — Или я не ухватила. Нарочно не обратила внимания. Ведь я старалась не слышать и не запоминать. Так мне было спокойней.
— Хорошо. Давайте проследим, что было дальше.
— Я поставила хлеб, намяла пюре. Аркадий Петрович любил пюре. Еще я зажарила яичницу с салом. Гайдар пошел мыть руки. Я налила в рукомойник теплой воды. А когда вернулась, он вытирал тряпкой пол: набрызгал. Я поругала его. Он ополоснул руки. И за ужином о бумагах больше не говорил. Сказал только:
«Женушка моя небось сейчас думает: «Где это мой Аркашка?» А он сидит с Михаилом Ивановичем и его супругой и важно кушает яичницу. — И вдруг добавил: — Хотел бы я увидеть сына. Последнее время мы совсем мало встречались... Такая работа, — вздохнул он. — То я заканчивал один сценарий, то начинал второй. И мне нужно было ехать в Одессу, Ялту или Клин. И каждая поездка считалась неотложной и важной. И всерьез посидеть и поговорить было некогда. И я все успокаивал себя: «Вот через недельку, в крайнем случае через месяц я освобожусь». А теперь, кто знает, удастся ли вообще увидеть сына?»
Анна Антоновна замолчала, подперла голову рукой, полуприкрыла глаза. И через минуту, не меняя позы, тихим голосом добавила:
— А вы знаете — словечко-то было. Гайдар сказал: «Бумаги эти будут мне нужны для книги». А муж ответил: «Хорошо».
— Что «хорошо»?
— Ну, значит, не беспокойтесь.
— Выходит, речь шла о бумагах, которые Гайдар уже отдал? Но в таком случае он должен был появиться с толстой сумкой, а уйти с пустой. Или пришел со свертком...
— Этого совсем не помню. Зря говорить не хочу. А было еще вот что. Михаил Иванович спросил:
«Нет ли у тебя, Аня, чего-нибудь непромокаемого или просто материи поплотней?»
Я сказала:
«Плотной материи нет. Все раздала. Кому на вторые портянки. Кому на шарф. Зато есть старая клеенка. Рисунок на ней выгорел. На стол класть некрасиво. Но клеенка еще крепкая».
Муж ответил:
«Клеенка даже лучше».
Я принесла из чулана. Положила на лавку. И ушла... А для чего клеенка им понадобилась, до сих пор не знаю. Не было уже про нее больше никакого разговору.
Позвонили в дверь. Анна Антоновна вышла в прихожую. Я даже обрадовался нежданному перерыву. И когда она возвратилась, спросил — только чтобы поддержать беседу:
— Что было дальше?
— Мы закончили ужин. Я убрала со стола. Вода в чугуне была уже нагрета. Я пошла на кухню мыть посуду. Гайдар с мужем еще немного побеседовали. Потом муж позвал меня в комнату:
«Аркадий Петрович хочет с тобой попрощаться».
Гайдар уже стоял одетый — в шинели и шапке.
«Хозяюшка, — сказал он. Ему почему-то нравилось это слово. — Хозяюшка, может получиться так, что я больше не смогу к вам прийти. Поэтому я прошу: когда вернутся наши, сообщите в Москву, в Союз писателей, что я у вас был».
От его слов я даже растерялась:
«А если наши вернутся не скоро? И я ничего не буду про вас знать?»
«Все равно, — ответил он. — Когда бы ни пришли — напишите, что осенью сорок первого года, находясь в окружении, в вашем доме гостил писатель Аркадий Гайдар».
Я ответила:
«Не беспокойтесь. Сообщу».
«А я доброты вашей не забуду, — пообещал он. — И если останусь жив, после войны всех вас разыщу».
Я поглядела ему в лицо. У него были измученные глаза. Я притянула его голову к себе. Мы троекратно, по-русски, с ним расцеловались. И он вышел из комнаты.
Муж сказал:
«Я пришлю с улицы детей. Провожу Аркадия Петровича и вернусь».
Дети охраняли дом, пока у нас гостил Гайдар.
Больше я Аркадия Петровича не видела.
...Громко щелкнула клавиша магнитофона с надписью «Стоп». Прекратилось легкое шуршание пленки. В комнате стало необыкновенно тихо. И в этом безмолвии Анна Антоновна негромко и твердо произнесла:
— Теперь я вам скажу, на что понадобилась клеенка. Я вспомнила. У мужа, когда он пошел провожать Аркадия Петровича, под мышкой был сверток, точно он нес небольшую вязку книжек.
— Вы думаете, Михаил Иванович показал Гайдару, куда он прячет его тетради?
— Мог показать. Точно не знаю.
— А вам?
— Мне он несколько раз говорил, что отведет на то место. Но не успел.
О ЖАНРЕ
Если бы я писал приключенческую повесть с вымышленными героями, то в этой главе я бы сам себе пришел на помощь. Или бы Леля вспомнила, что отец в день ареста, часа за два до прихода полицаев или немцев, сунул ей в кармашек кусочек бересты и велел беречь. И она берегла, как память, и только недавно разобрала на свернувшемся в трубочку обрывке коры план...
Или бы я поехал к одному из сыновей Анны Антоновны скажем, к Василию Михайловичу в Житомирскую область. И он, выслушав меня, с мягкой улыбкой заметил бы:
«Мы с братом давно разыскали тайничок. Я вам сейчас кое-что покажу».
Или бы канавокопатель, трудясь в заболоченном партизанском лесу под Леплявою, извлек бы неопознанный предмет, который бы оказался... и т. д.
На самом же деле тайник Михаила Ивановича затерялся двадцать с лишним лет назад, и добрые волшебники не спешили мне на помощь.
Неудачи утомляют. Я попросил извинения у Анны Антоновны и расстроенный вышел на улицу.
Стоял теплый субботний вечер. На бульваре неподалеку от оперного театра несколько сот болельщиков, разделясь на довольно большие группы, жестикулируя и отчаянно споря, обсуждали итоги только что завершенного шахматного матча.
По тротуарам, отдыхая, неторопливо двигалась нарядная публика. В воздухе висел гул оживленных голосов и смех, который не могли заглушить автомобили и троллейбусы.
У входа в кинотеатр волновалась большая толпа — здесь показывали зарубежный детектив. Судя по рекламному рисованному щиту, главный герой отгадывал все загадки с помощью длинноствольного бесшумного пистолета.
И только я никак не мог отвлечься от своих детективных проблем.
Захотелось посидеть и в одиночестве все обдумать. Я протиснулся в узкую дверь крошечного кафе, взял кусок яблочного пирога, стакан кофе с молоком и выбрал столик в дальнем углу.
«Успел ли Аркадий Петрович передать свои рукописи леснику? — размышлял я. — Судя по рассказу Анны Антоновны, успел».
Но вот что странно: в бараке на кордоне № 54 жило несколько семей, в том числе раскулаченный мироед П. с женой и детьми. Кроме того, окруженцы передавали друг другу по цепочке, что на скрещении дорог живет добрый лесник, который никому не отказывает в куске хлеба и нескольких горячих картошинах.
Значит, барак и его окрестности были не самым спокойным местом на земле. Почему же Аркадий Петрович отдал свои бумаги Швайко, а не оставил их Афанасии Федоровне?
Конечно, Михаил Иванович мог спрятать их в лесу, но и Афанасия Федоровна тоже — лес начинался прямо за ее огородом.
Правда, у Михаила Ивановича был, надо полагать, хорошо оборудованный тайник. Но большой тайник — это и большой риск, что о хранилище прознают полицаи.
Казалось бы, все говорило за то, что свои тетради Гайдару следовало бы оставить у Афанасии Федоровны Степанец. А между тем Гайдар приносит их в дом Швайко.
Почему?
Мне вдруг показалось, что разгадка близка... К большому тайнику после освобождения Украины должно было вернуться много народу. И если бы даже лесник погиб, необходимость получить обратно документы заставила бы недавних окруженцев искать хранилище. И тот, кто остался бы жив, переслал по назначению бумаги убитых и пропавших без вести.
Значит, оставляя свои бумаги леснику, Аркадий Петрович верил: что бы ни случилось с Михаилом Ивановичем или с ним, Гайдаром, его тетради будут найдены и доставлены в Москву.
Аркадий Петрович все точно рассчитал. Но даже он не мог предположить, что потери среди окруженцев окажутся столь велики и к семье лесника — и то лишь за своими наградами — возвратится один только полковник Орлов.
...Выходя на улицу от Анны Антоновны, я думал: «Пора кончать бесполезный поиск».
Возвращаясь, я знал: это был минутный приступ малодушия.
БЕДА
Дверь мне открыла соседка. Я постучал и вошел в комнату. Не зажигая света, Анна Антоновна продолжала сидеть за столом возле бездействующего магнитофона.
Пока я бегал по улицам, взвешивая «за» и «против», она жила всеми чувствами и мыслями в прошлом. Для нее выбора не было. Она его сделала вместе с мужем в сорок первом.
— Если вы еще хотите что спросить, — произнесла Анна Антоновна, — спрашивайте. А то скоро все соберутся. И я займусь ужином.
Я видел, что она измучена и спешит закончить все беседы со мной. И обратился с последним вопросом:
— Михаил Иванович не успел показать свой тайник. Но может, он намекнул, где прятал бумаги: в сарае, на поляне под каким-нибудь пнем, на вершине дерева?
— Да, намекнул, — утомленно произнесла Анна Антоновна. — В самую последнюю минуту. Когда не стало партизанского отряда, предатели ободрились. Муж как-то мне сказал:
«За мной следят. Староста в Озерищах и полицаи в Лепляве на меня теперь очень пристально смотрят».
Я ответила:
«Ты устал. Тебе мерещится».
Он обиделся:
«Я знаю, что говорю».
Я испугалась:
«Уезжай».
Он помотал головой:
«Вам без меня будет плохо».
На самом деле он хотел сказать: «Из-за меня».
Один знакомый предложил мужу работу в Михайловке — на другом берегу Днепра. Не больно-то далеко, но все же с глаз долой. Тихо собрались. Вещей немного. Лошадь своя. Ночью переехали. Сняли комнату. Живем неслышно. И никто по ночам не просит показать дорогу.
А как-то днем варю борщ. Входят три леплявских полицая со своим начальником и вводят мужа. Они его арестовали на работе. И леплявский начальник полиции говорит:
«Собери побыстрей его в дорогу».
Всегда хочется думать о лучшем.
«Командировка?» — с надеждой спросила я.
«Да, — насмешливо ответил начальник. — Командировка. Довольно долгая».
Тут только я поняла, куда они его ведут. Внутри все окаменело, руки сами начали засовывать в узелок хлеб, луковицу, вареную картошку, брусочек сала. Не помню, как получилось, но на несколько секунд мы остались вдвоем. Муж мне шепнул:
«Я тебе оттуда сообщу, где все заховано».
Еще было время спросить: «Сейчас скажи где», но несчастье, которое совершалось в ту минуту, заслонило остальное.
Вошел начальник леплявской полиции, кивнул мужу:
«Поехали».
Только тут я очнулась.
«За что вы его увозите?!»
Начальник важно ответил:
«Он хотел меня убить».
«Да вы что? — обрадовалась я. — Он даже курицу зарезать не может. Я за него это делаю».
Муж сел на телегу. По бокам — полицаи. И воз покатил.
ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ В ПИДЖАКЕ
— Удалось вам повидать Михаила Ивановича после ареста? — спросил я.
— Удалось. — И после запинки добавила: — Два раза. Его увезли в Гельмязево. Тюрьма помещалась в бывшем здании райисполкома. В приемной полицай отыскал в длинном списке фамилию мужа, принял от меня передачу и сказал:
«Подойди на улице к форточке».
Я выбежала. К рамам уже были приделаны толстые решетки, но открылась форточка, и я увидела мужа. Он показался мне заспанным. Лишь после догадалась, что его уже пытали на допросах и он был измучен.
«Зачем ты пришла? — спросил он громко и резко. — Лучше бы смотрела за детьми. — И понизил голос: — Я тебе обещал...»
Но тут в камере начался шум. По-моему, там кого-то били. Муж махнул рукой, и форточка захлопнулась.
Я вернулась в Михайловку. Посоветоваться не с кем. Женщина, у которой мы снимали комнату, потребовала, чтобы мы немедленно от нее съехали. А кто нам сдаст другую квартиру?.. Я убедила хозяйку, что мужа арестовали по ошибке и скоро выпустят. И опять пошла в Гельмязево — за пятьдесят километров.
Отдала передачу. Муж в окне больше не появился. Я подождала. Вернулась в комендатуру. В комнате начальника сидел молодой хлопец, рослый, крепкий. Беседуя со мной, он от смущения розовел. Я спросила, в чем вина моего мужа.
«Обвинение очень серьезное. По нашим сведениям, у Швайко имелся радиоприемник, по которому он слушал советские радиопередачи, а потом разносил листовки».
«Значит, — обрадовалась я, — мужа взяли не за помощь военным».
«Да что вы, — замахала я на полицая руками, — у нас никогда приемника не было! Муж мало зарабатывал. В Лепляве все это знают».
Полицай приветливо улыбнулся:
«Если староста даст вам такую справку, это сильно облегчит положение Швайко».
Боясь поверить счастью, я побежала обратно. От Гельмязева до Леплявы восемнадцать километров. Прибежала — старосты нет. Будет только завтра. Я — домой. Поглядела, как дети. Схватила новый узелок и с утра пораньше — в Лепляву. Староста дал мне справку. Я опять в Гельмязево. Попадаю к стеснительному полицаю.
«Очень хорошо, — говорит он, прочитав справку. — Документ меняет всю картину».
Я стала горячо благодарить его за участие. Он опять порозовел. Гордая собой, я вышла из комендатуры и толкнула соседнюю дверь — передать Михаилу Ивановичу еду.
«Швайко у нас нет», — сообщил мне тюремщик.
«Вы, наверное, плохо посмотрели список. Я только вчера приносила ему передачу, и у меня приняли. А сейчас я привезла справку, что он не виноват, и его, наверное, в ближайший день-два выпустят».
«Швайко у нас нет», — раздраженно повторил тюремщик.
«Где же он?!»
«А тебе не все равно? Где бы он ни был, он закопан». — И засмеялся.
Я пошла на кладбище. Туда вела широкая, наезженная дорога. После базара кладбище было самым посещаемым местом. Меня нагнали несколько женщин, у которых тоже не приняли передачу.
Кончалась зима. Земля была мерзлой. И ходили разговоры, что полицаи ленятся как следует закапывать могилы. И мы шли, надеясь неизвестно на что.
Кто-то притронулся к моему плечу. Я увидела незнакомого мужчину. «Вы жинка Швайко?» — спросил он тихо.
Подавляя крик и плач, я едва слышно произнесла:
«Он... живой?»
Мужчина помотал головою:
«Обождите меня здесь».
Я остановилась. Было пронизывающе холодно. Я подумала: «Дети еще не знают, что они сироты».
Незнакомец появился в сопровождении двух молодых парней с лопатами. Я его спросила:
«Откуда вы знаете Михаила Ивановича?..»
«Я приезжал весной резать лес на хату. Михаил Иванович узнал, что у меня много детей. Подобрал хорошие деревья. «Пусть, — сказал он, — твой дом стоит двести лет».
Мы вышли к пустырю в конце кладбища. Посредине зияла запорошенная снегом яма. Была она засыпана только наполовину. Незнакомец велел молчаливым своим приятелям:
«Начнем здесь».
...У самой стенки братской могилы, в усталой позе, свесив голову на грудь, сидел мой муж. На нем была нижняя рубаха, шерстяной свитер кто-то украл. А на коленях лежал старенький пиджачок, в котором он ушел из дома.
«Помогите спуститься... туда», — попросила я незнакомцев.
У меня с собой была кошелка. В ней лежала скатерть, которую я собиралась поменять, если понадобится, на самогон для полицаев. Теперь я хотела завернуть в эту скатерть мужа.
...Я взяла пиджак с его колен и увидела в кармане для платочков уголок бумажки. Пеленая мужа в накрахмаленное полотно, я незаметно выхватила эту бумажку, зажала ее в кулаке и не разжимала, пока не осталась одна.
«Аня! — писал муж. — Меня допрашивал Самовольский Михаил. Он допытывался, откуда я беру и где храню бланки документов, что я давал с собою разным людям из окружения. Я ничего не сказал. Береги детей...»
Анна Антоновна сощурила глаза. На ее переносице появились глубокие складки, а голос дрогнул и сломался.
— Про тайник... ничего не было.
Я выключил магнитофон, чтоб не записывать, как она плачет.
* * *
«В записке не могло быть ничего о тайнике, — размышлял я поздно вечером в гостинице. — Михаил Иванович не думал, что жена отыщет его под землей. Он просто надеялся, что после его смерти вещи передадут семье. И сообщал в последнем письме только те сведения, которые были хорошо известны полицаям. Никаких подробностей о тайнике такое послание содержать не могло».
* * *
— Месяца через два меня разыскал человек, — заканчивала Анна Антоновна, — который сидел в одной камере с мужем. От него я узнала: Михаила Ивановича сильно били. В камере слышали, как муж кричал: «Вася, Володя, мальчики мои, на помощь!»
Тот же человек сообщил: мужа убили рукояткой нагана. Полицаи придумали себе такое развлечение — на пари. Выигрывал тот, кто убивал с одного удара. А мне выдали справку, что он умер от сердечного приступа.
ГАЙДАР ПОМОГ
— О тайнике человек из камеры ничего не знал, — вздохнула Анна Антоновна. — Этого секрета муж ему не доверил — ведь сосед мог быть подослан немцами.
Шло время. Несмотря на горе, я помнила о тайнике. И даже ночью просыпалась с мыслью — вдруг кто придет и потребует обратно свой документ? Что я отвечу? А в память мужа я хотела, чтобы ни один военный, который ему оставил свои бумаги, не ушел бы от нас обиженным. И для себя наметила: поищу тайник, когда сойдет снег. Мальчики помогут.
Но в ту пору ничего нельзя было загадывать вперед. С квартиры хозяйка нас, конечно, прогнала. Староста отвел нам брошенную, разоренную хату — с разбитыми стеклами и развороченным дымоходом. Только заделали окна и починили печь — полицаи угнали в Германию старшенького, Васю, а потом пришли за Володей.
Я поняла: хотят извести всю семью. Кинулась умолять этого старосту проклятого:
«Не бери Володю. Мы сегодня же ночью уйдем из села».
«Нам в Германии, — ответил он, — такие гарные хлопцы тоже нужны».
А в доме — ни картошины, ни куска хлеба. В чем Володя стоял, в том его и забрали. Я думала, что он — без горбушки хлеба — просто не доехал...
Два с лишним года я не имела от мальчиков никаких известий. В 1944 году пришли наши. Заработала советская почта. Я сохранила десятка два адресов, которые мужу и мне оставили военные, и по каждому написала.
Отправила я письмо и в Москву, как обещала Гайдару.
«23 апреля 1944 г.
Московскому Союзу писателей.
В сентябре—октябре месяце 1941 г. писатель вашего Союза, бывший военный корреспондент Гайдар Аркадий, попав в окружение со многими товарищами... находился оба эти месяца на Полтавщине, в Леплявском лесу, в тяжелых условиях, но позже как будто пробрался к своим...
Товарищ Гайдар просил по освобождении Украины от немцев сообщить Вашему Союзу о его месте пребывания в 1941 году. И вот настал этот счастливый день.
...А теперь, в свою очередь, я очень прошу вас, если тов. Гайдар А. жив и вы знаете о его местопребывании, сообщите мне его адрес. Я хочу ему написать о несчастье, постигшем моего мужа и сынишек, которые все помогали тов. Гайдару, когда он был в оккупации.
Адрес мой: с. Михайловка, Каневского района, Киевской области. Швайко А. А.»
[4]
— Вы разве не знали, что Гайдар погиб? — изумился я.
— Представьте себе, — слегка обидясь, ответила Анна Антоновна. — Пока рядом находился отряд, Гайдар забегал. А потом мы перестали Аркадия Петровича видеть. Был слух, что на окраине Леплявы убили корреспондента. Потом другой слух, что корреспондент успел перескочить через рельсы, а убили другого. Говорили, что взята Москва, что армия Гитлера подходит к Уралу.
Чему из этого нужно было верить? В конце октября возвратился полковник Орлов. Он искал Гайдара и партизан. Никого не нашел, ничего не узнал. И был уверен, что Гайдар с отрядом Горелова обосновался на новой базе.
Кажется, в мае 1944-го из Москвы пришел ответ.
«К сожалению, — писали мне, — мы с конца 1941 года не имеем от Гайдара никаких известий. По неофициальным сведениям, Аркадий Гайдар погиб».
Я тут же отправилась в Лепляву, побеседовала со знакомыми и отослала в Москву новое письмо:
«В лесах в очень тяжелом материальном положении мы помогали тов. Гайдару чем могли в то время. Я жила на Полтавщине, а потом выехала на Киевщину и о дальнейшей судьбе тов. Гайдара ничего не знала.
И вот теперь, после прихода нашей Красной Армии, я была на Полтавщине, и там сказали, что тов. Гайдар убит проклятыми фашистами в селе Леплява и закопан возле железнодорожного дома...
Если только т. Гайдар не пробрался к своим частям Красной Армии... и о его судьбе вы ничего не знаете, так это, видно, правда о постигшей тов. Гайдара участи»
[5].
...Однажды я получила извещение, что в Гельмязеве будет производиться вскрытие братских могил советских граждан, замученных и расстрелянных полицаями и оккупантами. Приглашались родные и близкие погибших. Я оставила Лелю дома и в назначенный день уехала.
Что я там видела, рассказать не могу и не буду.
Как вернулась домой — не помню.
Но когда вошла в комнату, мне протянули толстый казенный пакет. Я напугалась. В таких пакетах приходили похоронки. На мое счастье, я увидела обратный адрес: «Москва. Ул. Воровского, 52. Союз писателей СССР. Военная комиссия».
Машинально, как все в тот день, я надорвала пакет. А перед глазами у меня продолжали стоять картины, которые я наблюдала целый день в Гельмязеве. Буквы прыгали перед глазами. Но я все-таки прочла:
«Уважаемая Анна Антоновна!
Мы получили несколько Ваших писем, в которых Вы сообщали о жизни Аркадия Гайдара на Полтавщине. В одном из них Вы упоминали и о постигшем Вас горе, что Ваших сыновей угнали немцы.
Недавно я получила письмо из действующей армии. Автор письма сообщает примерно те же сведения о Гайдаре, что и Вы. Меня поразило сходство содержания Ваших писем. А когда я прочитала подпись: «Швайко Владимир М.» (полевая почта 58462) — у меня появилась какая-то надежда, что, может быть, это Ваш сын... Буду искренне рада, если действительно это так.
С сердечным приветом
Секретарь военной комиссии Президиума СП СССР
А. Полищук».
title="">[6]
Я закричала. Прибежала соседка-учительница. Принесла валерианки. А я не могла остановиться:
«Володя жив! Он солдат! Он мстит за отца!..»
...Гайдар мне говорил:
«Хозяюшка, если вам что понадобится, сразу напишите мне в Москву. Я помогу».
Я написала.
И Гайдар помог...
ОТОРОПЬ
Война пощадила сыновей. Они вернулись после Победы — рослые, красивые, в солдатских гимнастерках, на которых побрякивали медали. Володе привелось воевать больше, Васе — меньше. Зато Вася участвовал в штурме Берлина.
Семья перебралась к родственникам в Бердичев, затем во Львов. Вася получил назначение и уехал учительствовать в Житомирскую область.
— Когда выгнали немцев, вы не пытались найти тайник? — спросил я Анну Антоновну.
— Хотела, но побоялась. В лесу еще пряталось много всякой швали. И потом, не было повода. Ни один человек не явился за документами, хотя я оставила в Леплявском сельсовете свой адрес.
— А если б я сейчас попросил ваших сыновей?.. Они б не согласились поискать?
Анна Антоновна быстро, исподлобья посмотрела на меня. Были в этом взгляде испуг, недоумение и вопрос.
— Поговорите с Васей, — торопливо произнесла она. — Вася помогал отцу прятать помидорные банки с документами. Но это было еще до прихода группы Орлова...
Конечно, гораздо лучше должен бы знать Володя. От него, когда он даже был совсем маленьким, ничего нельзя было утаить. Помню, они оба уже приехали после войны и я как-то сказала, что беспокоюсь: вдруг кто приедет за бумагами, оставленными отцу?
А Володя уверенно ответил:
«Понадобится — найдем».
Если бы вы знали, какой это парень. Ребенком, бывало, вот он стоит возле тебя; только повернешь голову — его и след простыл.
Анна Антоновна засмеялась своим глубоким, тяжелым смехом.
Я улыбнулся. Мне тоже стало веселей — наконец-то в моей работе наметился просвет.
— Я приглашу ваших сыновей весной в Лепляву, — пообещал я.
— Володи нет, — холодно и даже отчужденно произнесла Анна Антоновна.
Володю она вообще поминала реже, чем Васю. Я давно заподозрил какую-то размолвку, но не желал расспрашивать о семейной драме и бодро, примирительно сказал:
— Мы пошлем Володе официальный вызов. Пусть оба приедут вспомнить детство.
— Володи нет, — громко и твердо повторила Анна Антоновна. — Володю... убили.
— Когда?! — вскрикнул я.
— В ноябре 1955 года.
* * *
Володи не стало через десять с половиной лет после Победы. Погиб человек, обронивший фразу: «Понадобится — найдем». Последний свидетель. Возможно, единственный, кто мог сказать: «Пойдемте, я провожу вас к тайнику». Или: «Я не знаю, где тайник, но однажды я возвращался домой и случайно приметил между деревьями отца. Он стоял, наклонившись, с маленькой саперной лопаткой. Наверное, я смог бы узнать это место».
Что это: трагическая случайность или преднамеренное убийство?
ВОЛОДЯ. СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ
Сохранился предвоенный снимок: парнишка лет четырнадцати в фуражке с матерчатым козырьком, натянутой на самые уши. Округлое лицо. Тяжеловатый подбородок. Отважные глаза. От смущения, что его снимают, Володя слегка втянул голову в плечи. И по сигналу фотографа замер, как перед прыжком.
Фотографировался Володя в Каневе, в день поступления в местный педагогический техникум. Мечтал он, конечно, о другом: хотел стать летчиком, полярником, водолазом, в крайнем случае — подводником.
Но в Лепляве не было аэроклуба, не было и парашютной вышки, а для военных, летных и всяких морских училищ он был еще просто мал — четырнадцать лет. Учить же его в школе дальше отец не мог — семья большая, трудно. И Володя после семилетки тоже согласился пойти в педагогический техникум — как Вася.
Учился Володя легко. У него была золотая память. Услышанное запоминал до последнего слова, поэтому не любил записывать, не терпел конспектов, отчего порой в училище возникали недоразумения.
Но Володе нравилось возиться с малышами. Он отлично пересказывал прочитанное и передавал увиденное. И было очевидно, что из него вырастет хороший педагог.
ОПЛОШНОСТЬ ЧАСОВОГО
4 октября 1941 года Володя Швайко стоял на посту неподалеку от барака лесничего и следил за тропой из Озерищ. А его брат Василий метрах в пятидесяти от другого угла дома наблюдал за дорогой из деревни Хоцки.
Отец предупредил мальчиков:
— Придут военные. Вы их встретите, проводите в дом и тут же вернетесь на свой пост. Глаз с дороги не спускайте — не ровен час, нагрянут немцы или полицаи.
Однако никто не шел. Утомясь стоять без толку, Володя уселся на удобный пенек, надвинул поглубже фуражку, поднял воротник пальто и принялся мысленно пересказывать сам себе книгу, которую недавно прочел, — роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».
Хорошие книги попадали в дом редко. Пересказывая, Володя продлевал удовольствие и заодно кое-что менял в событиях произведения и поступках героев, поэтому каждый роман он помнил в том виде, как его сочинил писатель и еще в двух-трех улучшенных вариантах — как сочинил бы он сам.
Сидя на удобном пне и чувствуя спиной широкий, пахнущий смолою ствол шершавой ели, Володя размышлял о том, что на месте Джима никогда бы не доверил набирать экипаж судна болтуну Трелони, который оказался разиней и в экспедицию на поиски сокровищ набрал одних пиратов.
Жестоко осудив за ротозейство сквайра Трелони и уже собираясь детально разобрать другие допущенные ошибки, Володя неожиданно услышал совсем близко от себя осторожные, крадущиеся шаги.
Военные гостили в доме каждый день. Окруженцы, которые уже уходили из этих мест к линии фронта, сообщали тем, которые здесь только появлялись, где живет лесник, который кормит, дает ночлег в сарайчике и показывает безопасную дорогу.
Но было известно и другое — военные проявляют деликатность. Договариваются, чтобы больше пяти-шести человек в один вечер в дом лесника не приходило, и даже устанавливают очередь.
А сейчас — Володя слышал это по множеству шагов — к дому направлялся целый отряд. Люди ступали осторожно, тяжело и сдержанно дыша, боясь обнаружить себя раньше времени.
«Не те!» — пронзило Володю.
Мысли одна страшней другой понеслись в голове.
Отец ему доверил, а он не оправдал.
Сейчас темно. И маленькая Леля, которая сидит возле окна, чтобы поддерживать зрительную связь с братьями, уже ничего не видит. Подавать ей условный сигнал бесполезно. Бежать к отцу поздно.
И тогда, чтоб предупредить об опасности, Володя в отчаянии крикнул:
— Хальт! Кто идет?!
...Ни себе, ни брату он потом никак не мог объяснить, почему в его окрик ворвалось это грубое, пугающее слово, которое он сам впервые услышал вражеских солдат позавчера, когда часовые в тяжелых шлемах, с автоматами остановили его возле понтонного моста.
Возможно, подсознательно выкрикнутое в испуге лающее слово несло в себе психологическую хитрость: для немцев он был как бы свой, а в бараке должны были понять: идут чужие!
Володя не успел обдумать, что может последовать за его окриком, потому что увидел сразу штук двадцать разновеликих стальных зрачков, которые внимательно уставились на него из полутьмы. В него нацелились автоматы с круглыми дисками, самозарядные винтовки с коротким кинжальным штыком, немецкие шмайссеры и револьверы самых различных систем. Володя догадался, что через секунду весь этот арсенал озарится на мгновение яркой вспышкой и что ему осталось напоследок только крикнуть что-нибудь красивое, как в фильме «Мы из Кронштадта».
Но ничего больше крикнуть он не смог. Он почувствовал, что у него остановилось дыхание, и непонятная сила сдавила ему грудную клетку.
Так уже однажды было, когда, купаясь в Днепре, он захотел нырнуть поглубже и, коснувшись дна, внезапно ощутил, что не хватает воздуха выплыть...
— Не во что больше поиграть? — как бы сквозь толщу воды услышал он строгий голос. И, словно вынырнув на поверхность, увидел в полутьме человека в кожаном пальто, на петлице которого поблескивали четыре шпалы, и еще нескольких военных. — Где здесь дом лесника? — спросил тот же полковник. — Мы сбились.
И Володя, опустив голову и кляня себя за рассеянность и глупость, провел гостей в комнату и вернулся на пост.
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ГЕНЕРАЛА
Минут через сорок послышались шаркающие шаги. Шел отец. Вообще он ходил легко и мог неутомимо пройти за день три-четыре десятка километров. Шарканье появилось недавно и всегда свидетельствовало о безмерной усталости.
— Идем, сынок, — ласково позвал отец. — Все пришли.
Отец стоял на ветру без пальто, в серой нанковой куртке, надетой поверх свитера, который был у отца один, и маме приходилось его часто стирать.
— А если немцы? — спросил Володя. После случившегося он предпочел бы остаться.
— Они сейчас ужинают, — серьезно сказал отец. — У них режим. И потом, немец не любит воевать в темноте.
Я это знаю еще по прошлой войне.
Пройдя длинным коридором, отец открыл дверь и легонько втолкнул мальчика в комнату. После мрака улицы и коридора Володя невольно прищурил глаза. Вместо малюсенького фитилька коптилки, которую обычно зажигали по вечерам, сберегая керосин, под потолком празднично сияла ослепительная двенадцатилинейная керосиновая лампа с белоснежным эмалированным отражателем. Вокруг нее плавали слоистые облака дыма.
А за столом, на лавках вдоль стен и даже прямо на полу сидело и ужинало так много народу, что гул от голосов напоминал леплявский клуб перед началом кино.
— А это мой младшенький, Владимир, — громко, с любовью и гордостью произнес отец.
Еда и разговор сразу прекратились. И все гости повернулись в его сторону. Одни смотрели на парнишку только из вежливости, другие с интересом и уважением, понимая, что сын помогает отцу. Но Володе казалось, что глядят на него насмешливо.
И он было рванулся, чтобы выбежать, но отец, думая, что мальчик в лесу немного одичал и стесняется, крепко обнял его за плечи и повел к столу. Отцу хотелось, чтобы сын часок-другой посидел в обществе необыкновенных людей, которые посетили их дом.
— Мы уже знакомы, — услышал вдруг Володя голос того самого полковника, который поинтересовался на улице, не мог бы Володя, стоя на посту, играть в менее опасные игры.
И новая волна стыда пронизала парнишку. Но деваться было некуда. Отец по-прежнему крепко и нежно держал его за плечи. И, опустив низко голову, так что подбородок вдавился в грудь между ключицами, и ничего не видя по сторонам, Володя обреченно шел к столу, над которым вилась струйка пара от большого, на целое ведро, чугуна.
Думая уже только о том, чтобы поскорее сесть, Володя стал искать глазами свободное место. Но гости вокруг стола расположились так плотно, что ни о каком месте не могло быть и речи.
Чуть скосив глаза влево, Володя заметил высокого, массивного летчика — полковника с орденом Красного Знамени и медалью. С обеих сторон от него сидели еще двое с четырьмя шпалами на петлицах. Но по строгости выражения лица летчика Володя догадался, что он главный даже среди полковников.
А возле худощавого капитана милиции в тонких золотых очках преспокойно и деловито солил картошку брат Василий.
В душе Володя обрадовался тому, что за столом для него не будет места и через минуту-другую он сможет уйти и уже никогда больше не встретится с этими людьми, перед которыми он так опозорился: окруженцы редко приходили к ним в дом чаще одного раза.
И вдруг незнакомый, глухой и простуженный голос произнес:
— Садись-ка, Володя, вот здесь...
Не подымая головы, Володя быстро, исподлобья вскинул взгляд.
Сперва он увидел огромную ладонь, которая похлопывала по отполированной доске лавки, показывая, где Володя может сесть, а потом и самого владельца ладони и простуженного голоса.
Это был крупный, с могучими плечами рядовой. Володе он показался уже немолодым.
«Столько лет — и все еще рядовой?» — недоуменно подумал парнишка.
Но, заметив орден над карманом гимнастерки и обратив внимание, как свободно чувствует себя этот рядовой среди командиров, Володя про себя решил: «Это он для маскировки».
И еще Володя подумал, что переодетый рядовой, скорей всего, прошел через пост Васи, не знает недавнего происшествия и потому так приветлив.
Упрямиться было глупо. Володя неловко перекинул через доску ногу в нечищеном сапоге. Потом вторую. Сел. И его тут же, как в картине про шпионов, которую он недавно видел, сдавили с обеих сторон плечами. Он почувствовал себя как бы туго спеленутым. О том, чтобы шевельнуть рукой или дотянуться до чугуна, из которого лениво вился дразнящий аппетит пар, нельзя было и помыслить.
Но в следующий миг Володя вдруг заметил, что плечи и руки его освободились.
— Замерз, наверное? — заботливо спросил его рядовой, поворачиваясь к Володе и кладя перед ним кусок хлеба, две большие картошины и придвигая солонку.
У соседа было крупное лицо с белесыми бровями, болезненно припухшими веками и внимательными зрачками. Володя обрадовался спокойному, располагающему взгляду рядового и теплой интонации в его слегка охрипшем голосе.
Володя хотел толково ответить, что дело не в холоде, а в нелепости, которая произошла. И если бы они остались с соседом вдвоем, то он бы, не мешкая, про эту нелепость рассказал. А когда столько народу, разве объяснишь? И Володя, ничего не ответив, покраснел, наклонил голову, ощутив на щеке недоуменный и, показалось, обиженный взгляд соседа.
Окончательно смутясь, Володя начал торопливо сдирать с картошины шелуху. Картошка была горяча и обжигала пальцы, а Володя жалел, что она не жжет еще сильней.
— Аркадий Петрович, доскажите вашу историю, — обратился к Володиному соседу милицейский капитан.
— У нас тут новый слушатель, — напомнил сосед, снова поворачиваясь к парнишке. — Так что, извините, я коротко повторю. Понимаешь, Володя, — ища взглядом глаза мальчика, произнес сосед, — мы находились в окружении в Семеновском лесу. Полковник Орлов, — сосед слегка поклонился в сторону летчика, — послал меня в разведку. Я добыл сведения, которые нас интересовали, а кроме того, принес известие, что противник окружил один наш очень крупный штаб...
Все, кто сидел за столом, понурились. Но Володя этого не заметил. Он поднял голову и теперь внимательно смотрел на своего соседа. Случалось, отец рассказывал о гражданской войне, о том, как служил в дивизии Николая Щорса, где, кстати, и познакомился с мамой, но чтобы совсем чужой человек, которого он впервые видел, остановил взрослый разговор для пояснений ему, мальчишке...
Володя метнул взор в сторону брата — видит ли Вася, что происходит? — и заметил едва приметную улыбку соседа, которого обрадовало внезапное оживление Володи.
И тут мальчик неожиданно понял: «Да ведь он же все знает!»
А сосед продолжал рассказ:
— Так вот, выхожу я из землянки полковника и вижу, что гуляет по нашему лесу новенький...
— Вы что же, знали в лицо всех, кто попал в окружение? — с иронией спросил милицейский капитан, сняв очки и протирая их не очень свежим платком.
— Александр Македонский знал в лицо и по имени каждого своего легионера, — невозмутимо ответил сосед. — Эдак тысяч шестьдесят. Я на свою память пока тоже не жалуюсь. Но чтобы у вас, товарищ Долгов, не возникло сомнений в подлинности моего рассказа...
— Что вы, — смутился капитан. — Я только спросил.
— Понимаю. И потому предлагаю вам, капитан, решить криминалистическую задачку, которую пришлось решать мне.
Капитан неизвестно зачем опять снял только что протертые очки, проверил на свет, чисты ли стекла. Все ждали. Водрузив очки на место, поправив дужки, капитан, заметно волнуясь, ответил:
— Я готов.
— Прекрасно, — обрадовался сосед и с немного озорным видом посмотрел вокруг.
Все заинтригованно следили за начавшейся игрой.
— Итак, я увидел лейтенанта лет двадцати, в новом шерстяном обмундировании. Ствол и диск автомата ППД отливали синевой. У лейтенанта еще был чистенький заплечный мешок, который, похоже, ни разу не бросали на землю. Новая командирская сумка из кожзаменителя... И пистолет ТТ в новой кобуре. Что вы на это скажете, капитан?
Долгов на миг сосредоточился и быстро, деловито, как будто он сидел на совещании где-то в управлении милиции, ответил:
— Здесь могут быть две версии. Первая: противник, готовя лазутчика, перестарался. Решив: раз их агент, по легенде, командир, то он должен быть безукоризненно экипирован. И вторая: все могло быть гораздо проще. Перед взрывом или затоплением большого склада человек оделся во все новое и предпочел даже новое оружие: не пропадать же добру!
— Вы умница, капитан, — уважительно произнес сосед. — Я тоже отмел все эти приметы, как случайные. Лейтенанта выдало другое: из мешка выпирал овальный край здоровой, килограмма на два, буханки. А мы, Володя, уже несколько дней не видели не только хлеба, но даже сырой картошки. Питались главным образом полусырой кониной, которую приходилось варить без соли. Мне стало очевидно, что гитлеровцы, готовя агента, перестарались. Я вынул револьвер и предложил лейтенанту спуститься в землянку полковника.
— А если бы он дал очередь из автомата? — спросил Володя.
Лицо парнишки порозовело, а темные волосы на затылке топорщились. Вид у него был взволнованный и смешной. Сосед попытался пригладить вихры широкой ладонью, но это оказалось бесполезным.
— Толковый вопрос, — ответил он Володе. — Но я все рассчитал. Лейтенанту, чтобы дать по мне очередь, нужно было сделать минимум четыре движения: положить руку на автомат, который висел у него на шее, отщелкнуть предохранитель, развернуться и направить ствол на меня. А мне достаточно было только нажать собачку. Правда, перед спуском в землянку автомат у него я забрал.
— И это все? — разочарованно спросил Долгов.
Сосед засмеялся, у него начался кашель. Морщась от боли, он потер грудь рукой.
— В хорошем авантюрном романе, капитан, — произнес он, отдышавшись, — невозможно предугадать конец. Тем более, если это не роман, а война, которая дарит на каждом шагу головоломные сюжеты.
Так вот, когда мы спустились в землянку, я этого новенького лейтенанта чуть не пристрелил. Он вдруг кинулся к Орлову. Я решил: какой-нибудь фанатик, — и едва не нажал гашетку.
— Встретили сына?! — обрадованно повернулся к Орлову Долгов.
— Просто хороший знакомый, — сдержанно уточнил полковник. — Из штаба.
— Александр Дмитриевич, доскажите остальное, — попросил Орлова Володин сосед.
— Нет уж, начали — продолжайте, — погрустнев, ответил Орлов.
— Короче, он служил адъютантом у генерала, — продолжал сосед. — Когда под Яготином противник начал подтягивать силы, чтобы захватить штаб, генерал вызвал адъютанта к себе.
«Лейтенант, — сказал он, хотя обычно звал его по имени, — слушайте мой приказ. Даю вам пять минут на сборы и десять на то, чтобы вырваться из этой мышеловки, пока мы вас прикроем огнем».
«Я с вами!» — заявил лейтенант.
«Отставить! Ваша задача — остаться в живых, чего бы это ни стоило, и дойти до наших... Когда перейдете линию фронта, попросите... добейтесь... чтобы вас приняли маршал Буденный или Тимошенко. Им... вы слышите, лейтенант, только им лично передадите на словах, что генерал такой-то попал в окружение, но живым врагу не сдался... Запомнили? Повторите... А чтобы вам безусловно поверили, возьмите вот это...»
Генерал расстегнул парадный китель с белоснежным подворотничком, отвинтил Золотую Звезду, рывком оторвал медаль от колодки с муаровой алой лентой, вложил золотой пятиугольник в ладонь лейтенанта. И загнул ему пальцы.
Адъютант стоял, не в силах произнести ни слова. Генерал повесил ему на шею свой автомат, трижды расцеловал и вытолкнул из хаты. Взвод охраны отвлек огнем внимание противника. Лейтенант выскочил из западни.
В какой-то хате добрая женщина запекла медаль в хлеб. С этим караваем за плечами, не отщипнув ни крошки, лейтенант пробирался к линии фронта.
«Я все-таки надеюсь, — сказал лейтенант, — что обстановка под Яготином улучшится».
Мне пришлось ему сообщить — для передачи маршалам: когда противник прорвался к штабной избе, генерал со своими командирами и бойцами отстреливался до последнего патрона. И вместе со всеми погиб.
— Откуда вам известно, что он погиб? — спросил один из командиров. — А если это была простая хитрость: звезду послать маршалам, а самому сдаться?
— По роду своей деятельности, — ответил сосед, — я привык отвечать за каждое свое слово — произнесенное или написанное. Потому разъясняю: я сам видел дом, в котором находился штаб. Там отвалились стены и рухнула крыша. Старик пасечник, что живет по соседству, рассказал: когда у наших, которые засели в доме, кончились патроны, немцы подбежали к избе и стали ломиться в двери. Тут раздался страшной силы взрыв. Рванул минимум ящик гранат.
Всех, кто сомневается, могу к этому дому отвести. Здесь недалеко — километров сто.
В комнате сделалось грустно и тихо.
Прервал молчание Володя.
— А разве сами фашисты не могут взять кусок золота? Выпилить такую же звезду, а потом отдать ее подосланному лейтенанту?
— Могут, — согласился сосед. — Но тут есть одна тонкость. Каждый орден или медаль, как винтовка или пистолет, имеет свой номер. Если этот парнишка-лейтенант благополучно перейдет фронт, Золотую Звезду перешлют в Москву. И в наградном отделе Президиума Верховного Совета СССР сразу установят, настоящая это медаль или поддельная. И если настоящая, то номер подскажет, кому она была вручена.
Сосед опять закашлялся. Володина мама быстро поставила перед ним фаянсовую кружку с чаем. В комнате запахло цветущей липой и лесной малиной.
А Володя нечаянно обнаружил, что сидит с недочищенной картошиной в руке и что ему очень хочется пить, как будто он провел день в пустыне.
Мама разносила чай гостям. Кружек было мало. И военным приходилось ждать. Володя поднялся со скамейки, подошел к ведру и выпил до дна целый кованый ковшик.
ВОТ ТАК СОСЕД!
Печаль прослушанного рассказа сблизила Володю со всеми. Он позабыл о недоразумении на посту и жадно переводил взор с одного лица на другое, ожидая продолжения волнующей беседы. Но все молчали. И Володин сосед первым понял, что молчание это нужно прервать.
— Мальчики, — обратился он к обоим братьям, — а где вы учились?
Когда обращались к обоим, Володя всегда уступал слово старшему брату.
— Я весной закончил педагогический техникум в Каневе, — ответил Вася. — В сентябре должен был начать свою учительскую деятельность... А Володя перешел на третий курс.
— Ребята, — неизвестно чему обрадовался сосед, — тогда вы, наверное, сдавали зачет по детской литературе?
— Это у Володи был зачет, — ответил Вася. — А я по детской литературе сдал уже государственный экзамен.
Володе показалось, что сосед обрадовался еще больше: он прищурил припухшие веки, приложил ко лбу руку козырьком, словно ему мешал яркий свет, и заговорил негромко, отрешенно и певуче:
«— А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдем из этого дома куда глаза глядят.
Подумала Светлана и спрашивает:
— А куда твои глаза глядят?
— А глядят они, Светлана, через окошко, вот на ту желтую поляну, где пасется хозяйская корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть, а за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. А что там за горой — уж этого я и сам не знаю».
Он читал довольно долго, не сбиваясь, словно перед глазами у него лежал отпечатанный текст. Наконец остановился и опять спросил у братьев:
— Мальчики, а из какой это книги я сейчас читал?
— Вы прочли из рассказа «Голубая чашка», — ответил Вася, слегка обиженный пустяковостью вопроса.
— А кто написал «Голубую чашку»? — довольно равнодушно спросил сосед.
— Не знаете? — спросил Володя и даже укоризненно покачал головой, хотя ему показалось странным: помнит наизусть целые страницы, а кто сочинил, не знает. — Гайдар, вот кто!
— Да ну! — искренне удивился сосед. — Первый раз слышу. Судя по фамилии, он, видимо, родом из Кабардино-Балкарии или даже из Турции?
— Из Арзамаса он, — не выдержал Володя. — Настоящая фамилия его Голиков. Просто у писателей есть привычка перефамиливаться.
Володя обратил внимание, что в комнате снова наступила странная тишина.
Перестали звенеть алюминиевые ложечки в эмалированных кружках с кипятком. Испуганно скрипнул под кем-то рассохшийся табурет. И только гулко и неостановимо щелкали своим маятником ходики.
И в этом безмолвии, неторопливо оглядев веселыми, даже озорными глазами сперва довольного своим ответом Васю, а потом снисходительного Володю, Аркадий Петрович сказал:
— Вот я и есть Гайдар.
Но Володю было трудно провести:
— А если я помню наизусть, — ответил Володя, — «Капитанскую дочку», значит, я Пушкин?
Комната взорвалась хохотом. Сосед обиженно отвернулся. Володя его даже пожалел: «Ведь человек шутил для веселья».
— Дядечка, не серчайте, — попросил Володя соседа. — Я и на уроках, бывает, сболтну.
— Ладно уж, — со скорбным видом согласился сосед. — Пошутить нельзя. — Он разжал руку и положил рядом с недоеденной картошкой Володи темно-красную сафьяновую книжечку.
«Союз писателей СССР» — блеснуло золотом на мягкой коже обложки. В одно и то же мгновение Володя почувствовал радость и испуг.
Все снова глядели на него.
Неловкими пальцами, которые начали мелко дрожать, Володя раскрыл удостоверение. В нижнем левом углу он увидел фото соседа.
— «Гайдар — Голиков Аркадий Петрович», — вслух прочитал Володя.
На фотографии Аркадий Петрович был в такой же гимнастерке, что и сейчас. Только без ордена.
— Верно, — растерянно произнес Володя. — Здесь подпись Максима Горького.
— А теперь, гражданин, — строго и официально заявил Гайдар, — предъявите документ, что вы Пушкин!..
Володе показалось, что от хохота дрогнула печка, звякнули кружки на столе и закачалась над головою лампа.
Володя хотел обидеться: ну сколько можно?.. То его попрекают, то теперь над ним хохочут. Но вовремя догадался, что смеются не над ним. Просто радуются возможности посмеяться.
Гайдар смеялся громче и заливистее всех, вытирая рукой невольно выступившие слезы и благодарно переводя глаза с Васи на Володю. И опять Аркадий Петрович попытался пригладить Володины вихры, и снова у него ничего не получилось. И тогда он просто обнял Володю, прижал его к себе и, обращаясь к обоим братьям, произнес:
— Спасибо, ребята.
Вася продолжал неуверенно улыбаться, словно опасаясь: лишь только он поверит, что в комнате у них Гайдар, это окажется шуткой. А Володя, выпустив из пальцев сафьяновую книжечку, которая пошла из рук в руки вдоль стола, повернул голову и начал в упор разглядывать Аркадия Петровича.
Теперь, когда Володя знал, кто сидит рядом с ним на лавке, он совсем иначе воспринимал все детали облика своего удивительного соседа.
Володя опять обратил внимание, что у Гайдара пустые петлицы. Но тут же нашел этому объяснение: «А зачем ему шпалы или даже ромбы?.. Ведь он писатель!»
Володя хорошо разбирался в орденах. В этой комнате перебывали люди со всевозможными наградами. И парнишка знал: Боевое Красное Знамя и Красную Звезду дают за отвагу на войне. А Трудовое Знамя или «Знак Почета» — за большие успехи в работе.
Значит, орден свой Аркадий Петрович получил за книги, которые Володя не просто читал, а мог пересказать от начала до конца, — за «Школу», «Военную тайну», за «Судьбу барабанщика»...
От ордена с выпуклыми фигурками рабочего и крестьянки взгляд Володи скользнул к лицу Гайдара. Мальчик увидел старательно, однако неровно выбритые щеки (брился без зеркала?). Крупный рот с особенно полной нижней губой. При разговоре она оставалась почти неподвижной. Нос с широкими нетерпеливыми ноздрями, которые дрожали и раздувались, когда он смеялся. И припухшие от простуды и недосыпания глаза.
Володе снова показалось, что взгляд их всевидящ и проникает в глубь тебя. И у него мелькнула совершенно детская мысль: «Аркадию Петровичу уже не соврешь. И ничего от него не скроешь. Он сразу увидит... А зачем же врать? — удивился вдруг Володя. — Ведь ему можно сказать всю правду. И он поймет. Другие взрослые забывают. А он, наверное, помнит, как сам был мальчишкой».
И Володя спросил:
— А это верно, что «Школу» вы написали про самого себя?
— Не совсем. Но предположим. — Гайдар ждал, что последует за этим.
— Но в «Школе» Бориса ранят, значит, вы в гражданскую тоже были ранены?
— Три раза, — кивнул Гайдар. — В последний раз мне снарядом оторвало челюсть.
Братья сначала с испугом, а потом с недоумением поглядели на лицо Аркадия Петровича: морщинки под глазами, глубокие складки, идущие от крыльев носа, ямочки на щеках, когда он смеялся, массивный упрямый подбородок, но ни малейших следов тяжелого ранения.
— Вот же она у вас, — показал Володя, испытывая желание прикоснуться к лицу Аркадия Петровича.
Гайдар неуверенно потрогал свой подбородок, пальцы его быстро ощупали челюсть, словно удивляясь, что она на месте.
— A-а, это мне уже в госпитале ее пришили, — вспомнил он. — Платиновой ниткой. Чтоб крепче держалась.
Ребята недоверчиво улыбнулись. Гости следили за новым диалогом-поединком. Но глаза Аркадия Петровича на этот раз были абсолютно серьезны. И только зрачки чуть прикрыты ресницами.
— Особенно долго хирург возился с левой стороной. Она никак не пришивалась. И здесь до сих пор еще можно нащупать металлические стежки. — И Аркадий Петрович показал пальцем, в каком именно месте.
Володя не выдержал, осторожно прикоснулся к его щеке. Затем нажал посильней.
— Н-ничего нет, — растерянно произнес он и посмотрел на Аркадия Петровича.
— Значит, нитка рассосалась, — развел руками Гайдар. — А ведь была из чистой платины.
Здесь уже смеялись вовсю — и отец, и Вася, и подоспевшая с кухни мама, и, конечно, сам Аркадий Петрович, который опять закашлялся.
«Что поделаешь, — вздохнул Володя, — на то, наверное, он и писатель, чтобы выдумывать».
И шепнул:
— Аркадий Петрович, пойдемте в нашу комнату. Там лежанка. Вам будет тепло. Хотите?
ОТКРОВЕНИЕ
Володина и Васина комната — это закуток за печкой. Здесь стоял небольшой столик, который заменял письменный, висела книжная полка с учебниками и растрепанными романами. В доме берегли керосин, поэтому освещался закуток бедно — отблесками все той же праздничной двенадцатилинейной лампы под потолком, но зато в комнатку выходила стена русской печки с лежанкой.
Аркадий Петрович отстегнул и положил на столик ремень с револьвером, сбросил сапоги, нащупал ладонью, в каком месте кирпич погорячей, легко забрался на высокую лежанку и, блаженно вздохнув, улегся на спину, согревая простуженные легкие. Рядом с собой, не снимая, он пристроил сумку.
Вася подложил Гайдару под голову подушку в пестрой наволочке, а Володя укрыл Аркадия Петровича полушубком и стал, как это делала мама, подтыкать овчину под бок, но помешала сумка.
Володя заметил ее еще за столом. Во время ужина сумка лежала у Гайдара на коленях.
— Да выбросьте вы свой противогаз, что вы его повсюду таскаете, — хозяйственно посоветовал он Аркадию Петровичу. — Другие военные давно кинули.
Гайдар усмехнулся, приподнял голову, перекинул через нее широкую брезентовую лямку и сам подоткнул полушубок себе под бок.
— Противогаз я тоже выбросил, — ответил он. — А в чехле ношу бумаги.
Володя наклонился к самому лицу Аркадия Петровича и едва слышно произнес:
— Секретные?
— Нет, — засмеялся Гайдар, — просто записи, которые мне будут нужны для работы.
— А как вы работаете? — еще тише спросил Володя. И сердце его замерло в ожидании тайны, которая сейчас откроется.
— Как работаю? — переспросил Гайдар. — Очень просто: беру чистую тетрадку на двенадцать листов или общую — на сто, или лучше всего, если подвернется толстая амбарная книга — листов на двести, и чирикаю в ней карандашом, а когда надоест, рисую смешные рожицы.
Но часа, проведенного за ужином, оказалось для Володи достаточно, чтобы понять, какая неуловимая грань отделяет в речах Гайдара серьезное от розыгрыша. И он ринулся в азартную игру сам.
— А слабо вам показать свою тетрадку? — с подначкой в голосе спросил Володя.
— За-ачем? — всерьез удивился Аркадий Петрович.
— Хочу посмотреть, много ли у вас ошибок.
Гайдар негромко хохотнул, оценив проницательность и дерзость парнишки, снова приподнялся с подушки и, отстегнув матерчатый клапан сумки, вынул общую тетрадь и протянул ее Володе, с интересом наблюдая, что последует дальше. А Володя растерялся. Он полагал, что Гайдар, как все взрослые, станет говорить: «Не занимайся ерундой, сейчас не до этого, займись чем-нибудь серьезным». И теперь, когда тетрадь лежала на его развернутых, с растопыренными пальцами ладонях, словно ему доверили грудного младенца, Володя не знал, что делать, и в надежде на совет и помощь взглянул на брата.
Васе тоже было любопытно, что в тетрадке и как пишутся книги, это было заметно по его лицу и по тому, как он вытянул шею, разглядывая обыкновенную общую тетрадь. Но с другой стороны, на правах старшего, он полагал, что Володя сам затеял свою игру — пусть сам и выпутывается. Может, в другой раз будет осмотрительней.
При этом братья не сводили глаз с тетрадки. Она была в коленкоровом переплете. Верхняя обложка ее выгнулась, норовя свернуться в трубку. И под обложкой на серой ворсистой бумаге химическим карандашом было выведено крупными печатными буквами
АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ ГАЙДАР
и что-то было записано еще в отдельной рамочке, где прочесть удалось только два слова: «...писателей СССР».
Тетрадь, похоже, искупалась в воде, потому что надпись химическим карандашом изрядно размыло, а листы слегка припухли. Володя попытался разгладить обложку — напрасно: она тут же опять свернулась. И тогда он тетрадку раскрыл.
Свет от лампы, которая горела в комнате под потолком, проникал на лежанку очень скупо. Володя различил только бледные, почти налезающие друг на друга волнистые линии мелких строк.
— Побереги глаза, — посоветовал Гайдар.
— Я и в полной темноте читаю, — ответил Володя, понимая, что, только отшучиваясь, он может продлить то необыкновенное, что сейчас происходило, — на самом деле он ничего прочесть не мог.
Следы жесткого карандаша поистерлись и от влаги размылись. Строчки напоминали арабское замысловатое письмо и для постороннего глаза были абсолютно неразборчивы.
— Как же вы сами-то читаете? — спросил Володя.
— А я не читаю, — ответил Гайдар. — Я только пишу.
— А когда вернетесь в Москву?
— И в Москве не стану читать. Видишь, везде поставлено число? Взгляну: «4 октября». Подумаю, что же я 4 октября записал? И вспомню.
Братья засмеялись.
— Нет, серьезно, — басовито вмешался Вася.
— Каждый человек знает свою руку, — ответил Гайдар. — Поэтому любые свои каракули я читаю легко. Когда попаду домой, передиктую тетрадки на машинку. У меня появится несколько экземпляров. Один я разрежу по эпизодам. И сделаю подборку: эпизоды про детей, про бойцов, про партизан, про изменников.
— И что же вам такие подборки дадут? — опять спросил Вася.
— Все будет зависеть от того, над чем я соберусь работать. Если над очерком для газеты, то одного-двух эпизодов мне вполне хватит. И я напишу, быть может, сто очерков и пятьдесят рассказов.
— Так много! — не выдержал Володя.
— Это не много, — ответил Аркадий Петрович. — Не много, — раздумчиво и даже с сожалением произнес он. — А если соберусь писать большую книгу, то материала мне может даже не хватить.
Допустим, в очерке я просто расскажу, как рядовой Иванов отправился в глубокий вражеский тыл, привел «языка» и был отмечен медалью «За отвагу». Но если я задумаю сделать Иванова главным героем повести или даже романа, то этих сведений будет уже недостаточно.
Тогда я вспомню, что сын лесника Володя Швайко может читать в темноте и даже в безлунную и беззвездную ночь видит на целых сто метров. И наделю этой способностью рядового Иванова.
А потом я в своей тетрадке отыщу страницу про сержанта Петрова. Левша, он бросал гранаты на тридцать пять метров. Однажды сержант был тяжело ранен в правую руку. Остался один — товарищи его погибли. И гитлеровцы подумали, что им не составит труда взять сержанта живьем. А Петров зубами выдернул чеку и уложил одной меткой гранатой нескольких солдат.
А еще я вспомню авиадесантника Сидорова. Сидоров прыгал с транспортного самолета. Вслед за ним прыгнул его товарищ по взводу, у которого не раскрылся парашют. Сидоров поймал товарища в воздухе, и они приземлились на одном парашюте. Рядовой Иванов в моей будущей книге станет похож и на самого себя, и на тебя, Володя, и на сержанта Петрова, и на десантника Сидорова. Это уже будет как бы собирательный образ. И тогда моему герою придется дать новую фамилию: Тутышкин, Свекольчук или Селедкин.
— Селедкин!.. — залился Володя, а Вася просто улыбнулся.
— Селедкин, — подтвердил Аркадий Петрович, смеясь одними глазами. И, немного выждав, добавил: — Или Тимур Гараев.
— Но это ж будет неправда, — пугаясь своих слов, произнес Володя. — Тимур еще пацан.
— Но ведь вы с Васей тоже пацаны, — ответил Гайдар, беря с Володиных колен свою тетрадку и заталкивая ее в сумку, — а стоите на часах, охраняете дом. Помогаете людям, которые попали в окружение. И еще неизвестно, что вам предстоит.
Гайдар опять закашлялся. Володя кошкой спрыгнул с печки и возвратился с большой кружкой остывшего, но достаточно теплого чая. Аркадий Петрович торопливо выпил.
ПИСТОЛЕТ СИСТЕМЫ «ВАЛЬТЕР»
— А покажите еще, где подпись Горького, — попросил Володя.
Аркадий Петрович снова расстегнул карман гимнастерки, который оттопыривался, и вытащил сперва за плоский ствол маленький никелированный вальтер с костяными щечками рукоятки, а потом уже сафьяновую книжечку.
У Володи с Васей за месяц перебывало в руках немало всякого оружия — трофейного и нашего. И, приметив крошечный вальтер, пригодный только для стрельбы на близкое расстояние, Вася усмехнулся:
— Зачем вам этот пистолетик? За воробьями охотиться? У вас же есть парабеллум.
— Парабеллум, — ответил Аркадий Петрович, — для противника. А эта игрушка, — показал он на вальтер, опуская его обратно в карман, — для себя. В окружении всякое может случиться.
В отряде Орлова Гайдара считали скрытным. На самом же деле Аркадий Петрович стал на фронте просто более сдержанным и молчаливым. И в его сегодняшней неожиданной откровенности были повинны уют гостеприимного дома, горячий чай, жаркие кирпичи под спиною и простодушное обаяние умных, любознательных мальчишек.
Что бы о нем ни говорили и ни думали, только с детьми он чувствовал себя вполне раскрепощенно, понимал их и верил, что они понимают его тоже.
...У Володи пропала охота рассматривать подпись Горького. Он вернул билет с тиснением «Союз писателей СССР». Гайдар застегнул карман, который снова начал оттопыриваться, и прикрыл глаза. Очень хотелось спать.
Вася опустил босые ноги сперва на лавку, потом на пол.
А Володя остался сидеть. Лишь в этот миг он осознал, что праздник появления Аркадия Петровича у них в доме означал смертельную опасность для Гайдара и всех гостей.
И никелированный вальтер, оттягивая карман, десятки раз на день напоминал писателю о своем суровом предназначении.
Володе с его воображением не стоило труда представить: вот он сидит сейчас на печи. Гайдар, повернувшись на бок и натянув полушубок, дремлет рядом. За столом в большой комнате — неторопливый говор и позвякиванье посуды.
Вдруг в комнату вбежит Вася и крикнет:
«Усадьбу окружают немцы!»
Гости, схватив оружие, станут возле дверей и окон.
А Володя полезет в подпол — не прятаться, а достать утаенные от родителей две гранаты и высокую жестяную банку из-под монпансье, полную запалов, винтовочных и пистолетных патронов.
И вот лампа в комнате уже не горит. Стекла выбиты. Внутренность дома на короткие мгновения освещается вспышками из винтовочных и револьверных стволов.
Володя подползает к Гайдару, который стоит возле окна и неторопливо, как в тире, выбирая цель, стреляет из парабеллума.
«Аркадий Петрович», — шепчет Володя, протягивая свой арсенал.
«Молодец, — хвалит Гайдар, беря из Володиных рук и тут же бросая в окно гранату. — Ложись!»
Но сражение становится все более жестоким. И, подозвав Володю, Гайдар что-то кладет ему в ладошку и зажимает пальцы.
«Отнесешь в Москву, — слышит он простуженный голос Аркадия Петровича. — Отдашь только в руки Михаилу Ивановичу Калинину».
При очередной револьверной вспышке Володя успевает разжать ладонь — в руке у него тяжелый серебряный овал с фигурками рабочего и крестьянки. И подписью — «Знак Почета».
БАРАБАНЩИК
Но странные дела начали твориться вокруг отряда... Однажды, под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.
Аркадий Гайдар. Судьба барабанщика
О первом появлении Гайдара в доме лесника мне поведали трое: Анна Антоновна, Леля и Василий Михайлович Швайко, встреча с которым еще нам предстоит. От них же я услышал: в тот день, когда Аркадий Петрович почувствовал себя почти здоровым и вернулся в шалаши, из лесу, часа в три пополудни, прибежал Володя.
— Ховайте еду — немцы! — крикнул он с порога. И помчался прочь.
— А ты куда?! — испугалась Анна Антоновна.
И Володя одними губами, чтобы не слышали соседи:
— До шалашей.
Группа Орлова находилась приблизительно в четырех километрах от дома Швайко. И уже по рассказу Александра Дмитриевича я знаю, что Володя пулей ворвался в лагерь. Видимо, он бежал без остановки всю дорогу, потому что лицо его было белее полотна. И остатков воздуха в легких ему хватило только на одно слово:
— Немцы!..
Поблизости оказался Гайдар.
— Не останавливайся, ходи, — велел он Володе и сам прошел с ним по маленькой опушке два круга и только после этого спросил: — Сколько?
Но Володя замотал головой, не в силах ответить. И Аркадий Петрович решил ему помочь:
— Триста, двести, сто?..
— Сто с гаком!..
— Значит, не больше пятидесяти, — догадался Гайдар.
— Залить костры, уходим в лес, — распорядился полковник.
— Где ты их видел? — спросил Гайдар Володю. — Далеко отсюда?
— Отец послал меня в Хоцки с поручением. Я побежал напрямик,
охотничьими тропками. Слышу — едут подводы. И еще слышу голоса. Но что говорят — не разберу.
Я подкрался к дороге. Вижу обоз. Телеги покрыты пятнистым брезентом. В одном месте из-под брезента высовывается пулемет. А рядом с телегами идут солдаты. И уже хорошо было слышно, что они говорят...
— Что же они говорили?! — нетерпеливо перебил его Аркадий Петрович.
— Но они быстро очень говорили. Я не понял. Разобрал только «Hutte» и «Zagerfeuer», то есть «шалаш» и «костер». Это мы проходили еще в школе. По теме «Пионерское лето».
...Полковник Орлов вспомнил, что за короткий срок Володя трижды предупредил их об опасности. И ни разу гитлеровцы не застали лагерь у шалашей врасплох.
Это не могло быть случайностью. Володя, надо полагать, тайно охранял лагерь. Хорошо зная обстановку в селах, он, видимо, дежурил на немцеопасных направлениях.
Вот за какие исключительные заслуги Володя удостоился звания адъютанта Гайдара и получил разрешение в любое время появляться у шалашей.
Аркадий Петрович подружился с парнишкой. У них состоялось несколько серьезных и продолжительных бесед. О чем?.. Этого мы, наверное, уже никогда не узнаем.
Однажды Аркадий Петрович дал братьям важное поручение: пойти в Лепляву и установить наблюдение за понтонным мостом через Днепр. Гайдар хотел выяснить, сколько солдат охраняет переправу, через какое время они меняются, где установлены пулеметы.
Аркадий Петрович разрабатывал план налета на Каневский аэродром. Гарнизон в Каневе был невелик, а в партизанском отряде имелись летчики. Считалось вполне реальным захватить один или два транспортных самолета
«Юнкерс-52», на которых несколько десятков окруженцев могли бы перелететь через линию фронта.
— Если вас задержат, — наставлял Аркадий Петрович, — скажите, что идете к товарищам в Лепляву. Имена помните? Если вас упрекнут, что крутитесь возле переправы, сошлитесь на то, что мама просила узнать, пускают ли по немецкому мосту на каневский базар. — Гайдар отстегнул ремешок и протянул ребятам свои часы: — Вернетесь с задания — отдадите.
Братья доставили нужные сведения, но осуществить налет на Канев Аркадий Петрович не успел...
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Знал ли Володя, что Гайдар оставил рукописи Михаилу Ивановичу? Судя по всему, знал.
Ведь они часто виделись. И Аркадий Петрович мог сказать адъютанту, что ему нужно спрятать свои бумаги, и даже попросить совета. Не исключено, что именно Володя рекомендовал Гайдару оставить тетради у них в доме.
А возможен и другой вариант. В тот вечер, когда Аркадий Петрович передал рукописи леснику, братьев в комнате не было: они охраняли дом. Выйдя на улицу, Гайдар мог увидеть Володю и сказать ему:
«Я только что оставил тетради твоему отцу. Те самые, что я показывал. Если не трудно, присматривай за ними. Буду жив — они мне пригодятся».
А что Гайдар обращался к Володе с просьбами, свидетельствует одно Володино письмо, у которого необычная предыстория.
Как мы помним, в 1942 году сначала Васю Швайко, а потом и его младшего брата полицаи отправили в Германию. Володя покинул дом без единой картошины в кармане. И мама его боялась, что он умрет по дороге с голоду.
Но умереть с голоду ему не дали. Парни и девушки, которые ехали вместе с ним в вагоне, делились с Володей своими скромными припасами.
Еще недавно Владимир Швайко был студентом педагогического техникума, комсомольцем, помощником отца и адъютантом у Гайдара. Теперь их всех везли в теплушке, где до этого перевозили скот. И в Германии, на специально созданном невольничьем рынке, специально обученные новому ремеслу торговцы поштучно распродали доставленных с Украины «восточных рабочих» фашистам-рабовладельцам.
«Восточные рабочие» были заняты от темна до темна. Кормили плохо, но мучительнее усталости и голода было ежечасное унижение. Некоторые не выдерживали, но Володя выдержал и помог выдержать другим.
Каждый вечер перед сном он вслух пересказывал себе и товарищам прочитанные дома книги. Прочитал он до войны не слишком много. Поэтому некоторые повести и романы Володя пересказывал несколько раз. Особенно часто его просили рассказать «Остров сокровищ» Стивенсона, «Овод» Войнич и «Судьбу барабанщика» Гайдара.
В фашистской неволе Володя пробыл полтора года. К счастью, ему с одним приятелем удалось бежать, несколько месяцев они скрывались и вышли навстречу Советской Армии.
Володя тут же вступил добровольцем. Получил старенькую красноармейскую форму и обшарпанную винтовку с трехгранным штыком.
Амуниция, конечно, была неказиста, и все-таки он был уже солдат. В батальоне объявили, что завтра — наступление.
А «самый страшный час в бою — час ожидания атаки», — писал поэт-фронтовик Семен Гудзенко.
Что же делает в эти трудные часы перед боем рядовой Владимир Швайко? Он идет к военторговскому автофургону, покупает письмо-конверт, то есть плотный лист бумаги размером с тетрадную страницу, который складывается вдвое. Одна его наружная половина расчерчена линейками: куда, кому, адрес отправителя. Все остальное пространство отводилось для текста.
В том же фургоне Володя купил школьную ручку, пузырек чернил. Отыскал укромное место и сел писать письмо.
Он писал не матери с сестрой, которые остались одни в Михайловке. Не родственникам в Бердичев. Он писал в Москву.
Володино послание благополучно дошло, не затерялось на фронтовых дорогах. Теперь это ценный исторический документ. Вот оно:
«Москва.
Союз Советских писателей.
Дорогие товарищи!!!
Очень прошу сообщить мне о судьбе... Аркадия Гайдара. Я был его близким другом в 1941 году в октябре месяце...
Во время оккупации немцами города Киева... писатель т. Гайдар находился неподалеку от Киева, откуда и попал в наши леса вместе с частями Красной Армии. Тут-то я с ним и познакомился.
Здесь Аркадий Гайдар связался с нашим местным партизанским отрядом. В отряде он находился более чем месяц.
В ноябре месяце на одном озере вместе с начальником этого отряда они попали в плохое положение, но, по некоторым данным, т. Гайдар прорвался через вражеское окружение и скрылся. Дальше его действия мне уже неизвестны.
Находясь в нашем лесу, Аркадий Гайдар просил меня после прихода Красной Армии написать вам (подчеркнуто мной. —
Б. К).
Прошу написать мне, Может быть, вам известно что-нибудь о нем.
В. Швайко».
[7]
В Володиной версии того, что произошло с Гайдаром, отчетливо проступают отзвуки двух трагических событий:
1) в конце октября 1941 года на окраине Леплявы пятеро партизан нарвались на засаду, один из них погиб, остальным удалось прорваться через вражеское окружение;
2) в первых числах ноября «начальник партизанского отряда» с двумя товарищами действительно попал в «плохое положение»: он был выслежен, схвачен и казнен.
Предполагал ли Володя, что Гайдар погиб? Да. Ведь только «по некоторым данным» Аркадий Петрович «прорвался... и скрылся». Следовательно, существовали и другие сведения, но Володя еще надеялся на чудо. В коротком письме (одна страничка мелким почерком) он дважды просит сообщить ему «о судьбе Аркадия Гайдара».
Вопреки слухам и, быть может, вопреки очевидным фактам, он еще надеется: вдруг писатель остался жив.
Это было не только горячее желание. Возможно, у Володи с Гайдаром были свои дела и адъютант считал нужным в них отчитаться. Во всяком случае, одно оставленное ему поручение — сообщить в Союз писателей — он выполнил так быстро, как только сумел.
Надо полагать, с той же ответственностью он выполнил и другие, если они были.
Из Москвы Володе ответили то же, что и его маме: по неофициальным сведениям, Аркадий Петрович погиб. Володю просили обстоятельней рассказать о пребывании Гайдара во вражеском тылу, о том, в каких боевых операциях участвовал Аркадий Петрович, находясь в партизанском отряде.
Но в Союз писателей от рядового Швайко не поступило больше ни строчки. Или где-то затерялся ответ из Москвы. Или не дошло до столицы второе Володино письмо. Или просто, раз Гайдар погиб, Володя не увидел смысла в дальнейшей переписке.
Словом, произошла техническая неувязка, и она стала одной из причин того, почему в конце войны или вскоре после победы не был разыскан тайник лесника Швайко.
Ведь каждое слово о Гайдаре в Москве внимательно изучалось. В более подробном рассказе Володя мог упомянуть о бумагах Гайдара, оставленных отцу, или просто о тайнике.
На эту подробность, можно не сомневаться, перед своей поездкой в Лепляву обратил бы внимание капитан Башкиров. Он бы расспросил Анну Антоновну, с которой встречался в Михайловке.
Но...
...Воевал Володя храбро. Из пехоты попал в танкисты. Машину подбили. Володю тяжело ранило в обе ноги. По счастливой случайности, он избежал ампутации. После выздоровления был направлен в личную охрану маршала К. К. Рокоссовского, но отпросился на передовую — он мечтал найти, быть может, даже освободить брата. Васю на фронте Володя не встретил. Был ранен во второй раз, а затем и в третий... Последнее свое ранение он получил уже на немецкой земле.
...Анна Антоновна, когда закончилась война, поселилась во Львове. Вскоре к ней переехал и Володя.
В 1951 году издательство детской литературы в Москве выпустило сборник «Жизнь и творчество А. П. Гайдара».
В нем впервые был напечатан переставший быть секретным отчет А. Ф. Башкирова, где упоминалось о семье Швайко, говорилось о том, что у партизана Гайдара были дневники и рукописи, которые после его гибели исчезли.
Но к Володе в руки этот сборник не попал. И никто ни разу не спросил бывшего адъютанта: «Владимир Михайлович, а лесник Швайко, с которым в окружении встречался Гайдар, вам, случайно, не родственник?»
«ГАЙДАРОВСКИЙ ПОЛК»
В июне 1965 года я ехал в Житомирскую область к Василию Михайловичу Швайко. Для меня это был последний шанс узнать что-либо о тайнике его отца.
Но предстоящая встреча волновала и по другой причине. Я многое слышал об удивительной дружбе Гайдара с детьми. И здесь тоже заключалась какая-то удивительная тайна.
Куда бы ни приехал Аркадий Петрович — в Пермь, Архангельск, Хабаровск, Москву или глухое село, — через день-два возле него уже крутились озабоченные мальчишки, связанные с ним загадочными делами. Одного слова Гайдара оказывалось достаточно, чтобы любой из них кинулся очертя голову выполнять любое поручение.
Писатель Рувим Исаевич Фраерман вспоминал, что еще в начале тридцатых годов, когда слава Гайдара была не так велика, стоило Аркадию Петровичу выйти из дома, как невесть откуда возникали мальчишки. Вытягиваясь по-военному, они спрашивали:
— Аркадий Петрович, не будет никаких приказаний?
И Гайдар отвечал:
— Сегодня не будет. Если будут — позову. Ступайте на свой пост.
«Где находился этот пост и какой это пост, понять было невозможно», — добавлял Фраерман.
И вдруг помощь ребят понадобилась. И тогда Гайдар подошел к окну, раскрыл его — оно выходило на улицу, где уже стоял летний московский вечер, — и несколько раз негромко свистнул.
Казалось бы, кто мог услышать этот свист в столичном шуме? Однако вскоре у входа раздался звонок, в дверях появился мальчик лет двенадцати и произнес:
— Аркадий Петрович, вы подавали сигнал. Я явился за приказанием.
— Есть для вас задание, — ответил Гайдар. — Отдаю вам всем боевой приказ...
С помощью мальчишек в тот день удалось спасти от гибели немолодого уже человека, талантливого писателя, который тяжело заболел, а у него было слабое сердце.
Но удивительнее всего, что та же картина повторилась и на войне.
«Невозможно подсчитать, сколько их было, «адъютантов» Гайдара, за время нашего с ним пути (по тылам противника. —
Б.К.), — вспоминал полковник А. Д. Орлов. — Стоило наведаться в какое-нибудь село, как возле Аркадия Петровича (других в его присутствии мальчишки не признавали) вырастал, словно гриб после дождя, какой-нибудь Петро или Гришко, который с готовностью сообщал, что за обстановка в деревне и много ли немцев.
Можно было подумать, что Гришко нарочно сидел и ждал, когда мы наконец появимся.
Я не переставал удивляться этому дару Аркадия Петровича мгновенно завоевывать доверие ребят — от пятилетних малышей до комсомольцев. Никаких заискивающих, добреньких слов он им при этом не говорил. Но тянулись к нему гурьбой».
Полузнакомые мальчишки-комсомольцы по просьбе Аркадия Петровича вывезли из окруженного гитлеровцами Семеновского леса подводы с ранеными. Это позволило полковнику Орлову и Гайдару повести на прорыв из кольца всех, кто был способен носить оружие.
А ведь мальчишки рисковали головой.
Почему все это мне вспомнилось по дороге на Житомирщину? До сих пор про «адъютантов» Гайдара я только слышал. А теперь мне предстояло знакомство с бывшим мальчишкой, который сам выполнял опасные поручения Аркадия Петровича.
И я думал: «Вдруг Василий Михайлович по собственным своим ощущениям и впечатлениям объяснит, в чем же заключалась притягательная сила личности Гайдара?»
Ведь сам я Аркадия Петровича ни разу не видел.
ВОСПОМИНАНИЯ «ПРО БУДУЩЕЕ»
До колхоза «Перемога», что означает «Победа», я добирался на поезде, автобусе, а потом еще пешком. И Василий Михайлович заметил меня из окна, когда я уже подходил к его дому.
Пожимая мне руку, он, как его мама, чуть поклонился, подхватил с земли мешок с магнитофоном и чемодан и внес в избу. Познакомив с женой и сыном, накормив обедом, Василий Михайлович пригласил меня в «зал».
Пол, подоконники, двери тут блестели от свежей масляной краски. И комната походила на большую китайскую лакированную шкатулку.
Среди фотографий на стенах я обнаружил знакомые лица, но сейчас меня больше всего интересовал хозяин.
Василию Михайловичу было за сорок. Когда-то светлые, почти соломенного цвета волосы его начали седеть. Ходил он медленно, слегка сутулясь, но в его фигуре ощущалась большая физическая сила. Голос Василия Михайловича был чуть басовит, с приятным раскатом. Отвечал он не спеша, всегда секунду-другую подумав.
— Володя сообщил в Союз писателей, — начал я, — что дружил с Гайдаром. Вы тоже?
— Я так сказать не могу, — с оттенком сожаления произнес он. — У меня дружбы с ним не получилось. Но зато у меня есть заслуга: я ввел Аркадия Петровича к нам в дом, — засмеялся Швайко.
Мы с братом стояли на посту. Володя с одной стороны нашего барака, а я — с другой. Отец велел встречать гостей. Кто придет, сколько будет народу — этого он нам никогда не говорил. И уже после мы узнали, что это была группа Орлова.
Через пост Володи, я видел, прошло, наверное, человек двадцать, если не больше. А мимо меня — никто. И я уже решил, что ждать некого.
Вдруг под чьими-то ногами неосторожно хрустнул валежник, и в кустах, где нет никакой дороги, послышался шорох. В голове сразу: «Кто?! Немцы?.. Полицаи?.. Или случайный военный, которому дали наш адрес, а он сомневается, туда ли попал?.. И что делать: ждать, не подавая вида? Или, наоборот, бежать, пока еще не поздно, к отцу?»
Никакого решения принять я не успел, потому что в зарослях еще сильней затрещало. И оттуда появился высокий красноармеец. Плечи молотобойца. Лицо круглое. На голове пилотка. Одет в короткую, словно нарочно подрезанную, шинель. Сапоги немецкие, трофейные — и те с короткими широкими голенищами. Такое впечатление, что все обмундирование ему мало. На боку оттопыривается противогазная сумка. А в руке, прямо перед собой, он держит парабеллум.
А мы ведь с братом на пост выходили безоружными. Пистолеты у нас с Володей появились позже. И когда я увидел этого незнакомца, который шел с револьвером прямо на меня, стало жутковато.
А уже полутьма. Я один. Володя в стороне. Да и что он сможет сделать, если даже его позвать? А незнакомец, не опуская парабеллума, идет прямо ко мне.
«Немцев, — шепчет, — поблизости нет?»
«Пока, — отвечаю с душевным облегчением, — нет».
«Понимаешь, сбился с тропинки. Наши тут недавно прошли. Не заметил, случайно, в какую сторону?»
Я отвел его к бараку.
«Идите, — показал, — по коридору прямо».
А во мне и радость, что незнакомец оказался свой, и еще не выветренный страх.
Я, конечно, его не узнал. И когда ужинали за одним столом — тоже. На портретах в своих книгах он был молодой, смеющийся. А в нашей комнате сидел уже человек средних лет, и видно было, что ему сильно нездоровится. Это уже после чая он вдруг стал читать наизусть главы из своих произведений и нам открылся.
— Экзамен по детской литературе вы Аркадию Петровичу вроде бы сдали, — пошутил я. — Отчего же у вас не сложилась с ним дружба, как у вашего брата?
— Отчего? — виновато и чуть насмешливо улыбнулся Василий Михайлович. — Не хватило времени...
Когда немцы заняли наш район и родители решили, что мы будем помогать окруженцам, отец распределил между нами обязанности.
Володя был проворней. Ему отец доверил разведку. Брат ходил по деревням. В каждом селе у него имелись — или он себе нарочно завел — приятели. И от них точно знал, где стоят солдаты или в какую сторону направились полицаи. Они поодиночке-то ходить боялись.
В зависимости от доставленного сообщения отец выбирал маршруты для тех военных, которые направлялись к линии фронта. Проводником с ними отец посылал несколько раз Володю.
А я отвечал за охрану дома и безопасность гостей. Военные посещали нас каждый день. Их надо было накормить, дать умыться, устроить в сарайчике на ночлег, приготовить еды на утро и на дорогу. Поэтому вторая моя обязанность состояла в том, что я помогал по хозяйству маме. Был, так сказать, тимуровец у себя дома.
Когда под Озерищами поселился отряд Орлова, отец назначил Володю связным между домом и шалашным лагерем. Брат бегал туда каждый день, иногда по два-три раза. Часто виделся с Гайдаром. И если Аркадий Петрович был свободен, они подолгу беседовали.
Володя расспрашивал, каждый ли мальчишка в гражданскую мог вступить в Красную Армию; как Гайдар в пятнадцать лет смог сделаться командиром; интересовался, почему Аркадий Петрович написал ту или другую книгу, встречал ли он на самом деле Жигана, Чубука, Яшку Цыганенка, Сережу Щербачова, Тимура или они выдуманы.
Возвращаясь, Володя многие беседы тут же мне пересказывал. Ответы Гайдара были очень интересны, особенно когда он объяснял, кто послужил ему «моделью» для того или иного образа. Но я был весь в заботах о том, чтобы наколоть поскорей дрова, привезти три-четыре мешка картошки, выкопать поглубже яму, в которой бы картошка не померзла и не повяла до весны. И слушал брата вполуха.
Одно я запомнил: Аркадий Петрович объяснял Володе, что в Чубуке из повести «Школа» собраны черты многих людей, которые сыграли важную роль в судьбе самого Гайдара.
Это был отец, школьный учитель Галка, который тоже выведен в повести «Школа», и несколько командиров Красной Армии. Их советы и уроки много раз спасали Гайдару жизнь на гражданской и в сорок первом.
Конечно, Володя рассказал бы вам об этих беседах лучше.
— А с вами Аркадий Петрович воспоминаниями не делился?
— Нет... Но зато, — повеселев, добавил Швайко, — у нас было с ним приключение.
Поехали мы однажды с Аркадием Петровичем за соломой. В своих шалашах, на голой земле, они по ночам сильно мерзли. А солому и подстелить можно, и щели ею заткнуть, и просто в нее зарыться.
Погрузили мы на повозку маленький стожок. Катим назад. Тележка у меня двухколесная, на Полтавщине такую называют бида. Я стою на оглоблях, управляю резвой нашей лошадкой. Аркадий Петрович свернулся калачиком на макушке воза.
А день выдался теплый, засветило солнышко. В лесу тихо, уютно, кругом золотая листва, будто нет никакой войны.
Подъехали к крутой горке, на вершине которой стоял наш барак, я стал нахлестывать лошадь, чтобы она резвей взяла подъем и не вздумала остановиться на полпути. Взлетели мы наверх стрелой. Это мне показалось странным. Оборачиваюсь, а пассажира-то моего и нет. Он, видать, на теплом солнышке пригрелся, заснул и, когда я погнал в гору, сполз.
Я перепугался. Остановил биду. А в голове веселенькие мысли: что, если, падая, Гайдар напоролся на штык своей же винтовки или просто сильно ушибся?..
Кинув вожжи, я сломя голову бросился назад. Смотрю — бежит сам. В руке винтовка. Лицо заспанное и рассерженное.
«Что ты, кричит, за возчик такой: седока потерял?!»
А я, с одной стороны, доволен, что ничего плохого с ним не случилось, а с другой — горю со стыда.
«С детства, отвечаю, при лошадях. Сколько народу перевез. И сроду у меня никто с воза не падал. Это впервые, извините».
А Гайдар не спеша вскарабкался на самый верх, устроился поудобней и засмеялся:
«Поскольку в первый раз, то прощаю. Но когда вернутся наши и ты станешь работать в школе, то приди в класс и честно сознайся: «Ребята, я потерял однажды в лесу писателя». А я после войны приеду и проверю».
Это в нем было удивительней всего, — продолжал Василий Михайлович. — Гитлеровцы рядом. Радио нет. Слухи по деревням ходят самые разные. А Гайдар зайдет к нам после какой-нибудь диверсионной операции, снимет с себя два-три немецких автомата, сложит их в углу, повесит на гвоздик пояс с револьвером и с одной только сумкой через плечо сядет на лавку.
Мама сразу придвинет ему хлеб, горячую картошку. Аркадий Петрович хрустнет соленым огурцом. Мало совсем поест, выпьет жадно кружку чая. И начнет разговор про будущее.
Помню, обнял он Володю с Лелей, прижал их крепко к себе и говорит:
«Как только получите мое письмо, сразу покупайте билеты — и всей семьей ко мне. Адрес у меня такой: Большой Казенный переулок, восемь. Неподалеку от Курского вокзала. Я вас встречу. Только не забудьте указать в телеграмме номер поезда. А если не сможете приехать ко мне, я приеду к вам.
Привезу гостинцев. Отпразднуем встречу. Потом сядем за этот же стол. И все вместе — Леля, Володя, Вася и я — начнем сочинять толстую-претолстую книгу».
А Леля была маленькая. Испугалась:
«Мы не умеем».
«Ничего, — успокоил ее Гайдар, — научу. Это просто. Работа над такою книгой, Леля, начинается с припоминания. Каждый из вас вспомнит, куда и зачем он бегал, где и кого встретил и что случалось по дороге. Еще вы вспомните, что за люди к вам приходили, кому и чем вы помогали. И расскажете мне. Я тут же запишу, перескажу своими словами. Тоже кое-что припомню — и получится у нас с вами прелюбопытнейшая книга».
«А папа не велит никому ничего рассказывать, — снова решительно заявила Леля. — А то людям, которые приходят к нам в гости, и всем нам будет плохо...»
Гайдар перестал улыбаться, внимательно и, мне показалось, даже с печалью посмотрел на Лелю, провел своей большой ладонью по ее волосам, неожиданно поцеловал ее в лоб и ответил:
«Папа, конечно, говорит все правильно. Но после войны, когда я приеду, на земле уже не останется ни одного фашиста. И Михаил Иванович, наверное, разрешит».
Всем стало жалко, что такой интересный разговор вдруг прекратился. И тогда я говорю:
«Аркадий Петрович, я бы желал иметь от вас подарок — вашу книгу с надписью. Раз вы мне велели провести урок на тему «Как я потерял в лесу писателя», то нужен какой-нибудь документ. Иначе дети мне просто не поверят. Скажут, так не бывает».
Гайдар улыбнулся:
«Сейчас, к сожалению, у меня ничего нет. Что было — роздал. Но когда мы отпразднуем победу, ты, Вася, напиши мне. Если даже твое письмо меня не застанет, книги тебе вышлет мой секретарь».
Я остановил магнитофон.
— Секретаря у Аркадия Петровича не было, — заметил я.
Швайко пожал плечами:
— Он и в другой раз нам сказал: «В Москве меня ждет большая и трудная работа. Раньше каждую свою книгу я сперва сочинял в уме, затем шел к машинистке, садился с нею рядом, все ей рассказывал, и она печатала. А теперь у меня в сумке накопилось много записей. Диктовать придется каждый день. Без секретаря мне уже не обойтись».
И на войне Аркадий Петрович откровенней всего был с детьми. Пятнадцатилетней разведчице партизанского отряда Маше Ильяшенко, по прозвищу Желтая ленточка, и детям лесника он поверял главные свои мысли о том, как и над чем он собирается работать после победы.
ПРОБЛЕСК
«Лакированную комнату» наполнили сумерки. Василий Михайлович поднялся и включил свет.
— Вы знали, что Гайдар оставил Михаилу Ивановичу свою сумку?
Швайко резко поднял голову:
— Кто вам сказал?
— Ваша мама.
— Я помню другое: полковник Орлов готовился переходить фронт. Разбирал в нашей комнате свои вещи: что оставить, что взять с собой. Мне Александр Дмитриевич подарил в тот вечер ножик с двадцатью лезвиями и портмоне. Володе что-то еще. Ножик я не сохранил. А портмоне берегу, как память о тех днях.
И вот отцу полковник передал на хранение свой планшет — большой, штурманский, с прозрачной крышкой. В нем лежали секретные документы. Мне особенно запомнился толстый пакет с пятью сургучными печатями. Орлов его специально вынимал и показывал. Ну, вроде как самую большую ценность. Но что Гайдар оставил свою сумку, я слышу в первый раз.
— Это была связка бумаг или несколько общих тетрадей. Ваша мама принесла старую клеенку. Михаил Иванович все в нее завернул и, ничего не сказав, куда-то унес.
— Отец умел хранить тайны, — подтвердил Швайко и прошелся по комнате.
— Но у вас есть хоть какое-нибудь представление о тайнике?
— Как вам сказать?.. Раза два мы с Володей помогали отцу прятать документы. Что это было, не имею понятия. Отец не обмолвился ни словом. Бумаги лежали в трехлитровых помидорных банках и были завязаны тряпками с неприятным запахом, которые не пропускали воду. Мы с братом закапывали. Отец стоял рядом.
— А где? В каком месте?
— Спросите что-нибудь полегче. — Швайко опять сел за стол. — Мы даже не старались запомнить. Знаете, как бывает в детстве? Тебя позвали помочь. Ты наспех — только бы поскорее отвязаться — выполнил поручение. И побежал к своим, в ту пору казалось, более важным делам.
— Все же попытайтесь вспомнить.
— Копали под дубом. Дерево было старое. Лет четыреста ему. Не меньше. Заступы наши то и дело застревали в корнях. Володя хотел их подрубить. Отец не позволил:
«Дереву же больно. И потом, чужому в корнях будет труднее найти».
Но где стоит этот дуб... Одним могу вас утешить: тетрадок Гайдара в этих банках нет. Банки мы закапывали до прихода группы Орлова.
А больше с отцом ничего не прятали. И его самого с лопатой в руках я тоже не видел.
— А в бараке тайника быть не могло? В погребе, в стене или где-нибудь под самым потолком?
— В бараке отец не держал ни листка. Боялся подвести людей, которые ему доверились, и погубить нас. Мама, верно, вам рассказывала, в каких условиях мы жили. За стенкой семья раскулаченного куркуля. Все им нужно было видеть и знать. Стоило войти в дом человеку, тут же в комнату без стука вваливался кто-либо из соседей за луковицей или щепоткой соли. И запирать дверь нельзя — сразу подозрения. И в любой час могли нагрянуть солдаты и полицаи.
— Вы сказали, что не видели больше Михаила Ивановича с лопатой в руках. Значит, он потом уже закапывал все сам, а заступ прятал?
— То есть вы думаете, что у него было два тайника, — улыбнулся Швайко, — один для бумаг, а другой для лопаты? Но в таком случае и риск, что тайник будет обнаружен, тоже увеличивался вдвое. Нет, отец на это пойти не мог. И я предполагаю совсем другое.
Когда Орлов принес свой планшет, отец велел нам с Володей выйти поглядеть, нет ли кого в коридоре и возле барака. Мы с братом никого не встретили и пришли об этом сказать. Отец взял планшет под мышку. Вышел из комнаты. И появился ровно через четверть часа. Орлову и нам было очевидно, что планшет уже спрятан в надежном месте.
— Значит, тайник был рядом с домом?
— Конечно. Отец спал не больше двух-трех часов в сутки. Часто даже не раздевался, только сбрасывал сапоги. А работы нам все прибавлялось. И он позаботился о том, чтобы хождение к тайнику отнимало как можно меньше времени.
— А что, по-вашему, мог представлять тайник — дупло, лисью нору?
— Дупло, — усмехнулся Швайко, — кажется надежным местом только городскому человеку. А я, помню, обратил внимание, что отец унес бумаги Орлова вместе с планшетом.
— Пустой планшет Михаил Иванович мог бросить в лесу.
— Отец не стал бы его выбрасывать возле самого дома. И потом, в темноте он рисковал обронить какой-нибудь важный документ. Думаю, он спрятал бумаги вместе с планшетом. Вот почему я полагаю, что тайник у него был большой, наверное, даже с закрывающейся крышкой.
— И все же что это могло быть?
— Скорей всего, какая-нибудь дубовая кадушка для соления капусты, молочный бидон с защелкивающейся крышкой (в колхозах в таких возят молоко). Небольшой сейф, хорошо замаскированный. Не смейтесь. В сорок первом году в лесу можно было отыскать и пушку, и грузовик, и самолет.
Сбитый наш двухместный бомбардировщик мы нашли однажды с Володей. Пилот погиб. Штурман был ранен. Мы помогли ему добраться до села, где жил фельдшер. Когда мы рассказали про этот случай Аркадию Петровичу, он все порывался пойти в ту деревню узнать, что стало с летчиком. Но тоже не успел.
— Володя знал, где тайник?..
— Вам бы приехать пораньше да спросить у него самого... Володя был при отце разведчиком. Получал от него важные задания. И знал, конечно, больше нашего.
Про тайник он мог узнать нечаянно. Или, наоборот, из упрямства: «Ах, от меня скрывают — так я нарочно узнаю».
Вообще, пока не пришлось, погрузив в спешке на телегу самое необходимое, бежать ночью в Михайловку, Володе многое казалось игрой...
— Но вы же с Володей были еще и близкими друзьями. И если он сделал — чаянно или нечаянно — такое важное открытие, как же он не поделился с вами?
— Понимал, что я не похвалю. Сегодня, конечно, мы бы на Володю не сердились за его тогдашнее мальчишество. А могло быть и так, что он порывался сказать, а я не дослушал.
Однажды, например, он сказал:
«Когда Аркадий Петрович напечатает свои записки, то многим полицаям будет жарко...»
Я пропустил тогда эту фразу мимо ушей. А сейчас думаю: «Откуда он знал? Из беседы с Гайдаром? Аркадий Петрович читал ему свои тетрадки? Или он сам читал тетрадки, которые оставил Гайдар?»
Слушая Василия Михайловича, я с каждой минутой все сильней ощущал, что рушится моя последняя надежда. И уже в порыве отчаяния спросил:
— Хорошо. Предположим, что завтра я покупаю новую лопату, буханку хлеба, две банки консервов и еду под Лепляву, на кордон номер 54. С чего я должен начать?
— С чего хотите. Только без меня вам там делать нечего.
— Но если вы знаете, где нужно искать, почему ж вы до сих пор не добрались до тайника?
Василий Михайлович снова встал. Под его ногами скрипнула свежепокрашенная половица. А на стене появилась громадных размеров скорбная тень.
— Если бы я знал, — медленно произнес он, — я бы давно поехал и выкопал. Мне эти бумаги не нужны. Я бы это сделал только ради памяти отца, который принял великую муку, но не выдал тайн, которые ему доверили.
С той поры прошло двадцать лет с лишним. У меня самого подрос Леонид, который недавно заявил, что непременно станет офицером. А я и теперь по ночам просыпаюсь от голоса отца:
«Вася, Володя, мальчики мои, спасите, придите на помощь!»
Я не искал тайник, потому что не было никакой приметы, никакой зацепки. Разве можно перекопать целый лес? А сейчас я думаю... Не хотите выйти на воздух? Я расскажу вам одну историю.
Мы двинулись по дороге меж огородами и небольшими садами. Я искоса поглядывал на Василия Михайловича, а он не спешил начинать.
— Военные, которые у нас гостили, — негромко заговорил он, — делали нам с Володей подарки. И среди прочего имущества — значков, цепочек, ремней, кошельков, перочинных ножей — получили мы с Володей еще и три пистолета.
Новый бельгийский браунинг забрал отец. В гражданскую он хорошо стрелял. И вроде похожий браунинг был у него во время службы в продотряде. И по штуке досталось нам с Володей.
Свои пистолеты мы, конечно, опробовали: ушли подальше от дома, поставили на песок две пустые бутылки, выпустили в них по обойме. Сейчас уже не помню, попали мы в наши мишени или нет, но только больше нам пистолеты ни на что не пригодились.
И когда отец предупредил, что за ним следят и в любой час могут нагрянуть с обыском, мы с братом перебрали все наше богатство. Ножички, портмоне, автоматические ручки отложили в одну сторону, а пистолеты, значки, несколько горстей патронов — в другую. Но браунинги и боеприпасы к ним нужно было во что-то положить. А заодно мы решили спрятать и наши комсомольские билеты.
«Я знаю во что!» — обрадовался Володя.
Он поднял с пола сморщенный футбольный мяч. Надрезал ножницами камеру, опустил в нее пистолеты, всыпал значки и патроны. Оставалось положить туда же спрятанные в сарае комсомольские билеты. Но билеты, чтобы не настораживать соседей, мы решили взять утром...
Швайко остановился возле развилки, где росла дикая груша. Внимательно, слегка прищуря веки, взглянул на меня.
— Я утомил вас своими разговорами, — произнес он вдруг. — Вам с дороги пора отдохнуть. Отложим все беседы на завтра.
— Нет-нет, доскажите сейчас, — испугался я.
— Тогда я коротко, — согласился Василий Михайлович, который устал много больше моего... — Утром мы с Володей отправились в лес. За пазуху, под пальто, Володя спрятал саперную лопатку. А я нес под мышкой футбольный мячик. Он был тяжеловат и весьма округлился, но постороннему догадаться, что в нем, было, конечно, трудно.
Когда мы отошли от усадьбы, Володя велел мне: «Обожди», а сам исчез, проверяя, не следит ли кто за нами. Возвратился он через четверть часа. Увидел неподалеку большой трухлявый пень. Отсчитал от него сколько-то шагов. И повернул. Снова отсчитал — и опять повернул. И когда остановился возле трехствольной березы, сказал:
«Прятать будем здесь».
Володя выкопал довольно глубокую яму. Взял из моих рук мяч. Но прежде чем опустить его в землю, вынул из кармана своего пиджака комсомольский билет и велел:
«Давай твой».
Я протянул. Он стал засовывать обе книжечки в камеру. Из его билета выпала полоска бумаги. Это была, наверное, четвертушка тетрадного листа в клеточку, сложенная вдвое.
Володя быстро поднял записочку и положил ее обратно в комсомольский. Мне стало любопытно, я спросил:
«Чего ты там написал?»
Он смутился: «Ничего», зашнуровал покрышку, и мы быстро закопали мяч.
А теперь я думаю: не было ли чего в той записочке про тайник? Ведь самой любимой Володиной книжкой был «Остров сокровищ».
— Вы поедете со мной в Лепляву? — спросил я.
— Для чего же я вам это рассказываю? — ответил Швайко.
СМЕРТЬ АДЪЮТАНТА
Мы возвращались с Василием Михайловичем из школы. Только что закончилась встреча с детьми и учителями. И теперь мы с Василием Михайловичем изнемогали от огромных охапок гладиолусов, роз и садовой ромашки.
От меня взрослые и дети впервые услышали о подвиге семьи Швайко. Я перехватил несколько изумленных взглядов ребят, для которых явилось полной неожиданностью, что скромнейший их преподаватель Василий Михайлович, оказывается, помог спасти в 1941 году сотни окруженцев и что сам Гайдар обещал ему, если останется жив, прислать в подарок все свои книги.
Это был последний день моей командировки. Дома нас ждал прощальный обед. Времени для деловых бесед оставалось в обрез. И я спросил:
— Василий Михайлович, как погиб Володя?
Швайко поник, еще больше ссутулился.
— Это произошло во Львове. Вам бы лучше спросить у мамы. Или же у Лели.
— Не хватило духу.
— Давайте присядем.
Метрах в ста от дома мы аккуратно положили на траву наши цветы и устроились на полусгнившем бревне.
— В 1955 году, в самый праздник 7 Ноября, Леля с мужем собрались в гости. А у Володи расстроилась компания. Они его позвали с собой. Он пошел. Хозяева оказались хорошими людьми. Володя там понравился. Он произнес задушевный тост. Удачно шутил за столом. И хозяйка даже упрекнула Лелю: что ты, мол, так долго скрывала от нас своего брата?
И только одному гостю Володя не понравился. Он был чуть постарше. Вроде работал слесарем. Но главное, в этот вечер его никто не приглашал. Он явился сам. Не выгонять же? Быстро нахватался из стакана. И начал цепляться к Володе.
Володя был по характеру парень добродушный, физически очень сильный. Отец с малых лет приучил нас к тяжелой работе. Володя был невысок, а мускулатура — хоть лепи с него Геракла: каждая мышца видна отдельно.
Благодаря своей силе он выжил в плену и совершил побег. Когда поступил в действующую армию, был трижды ранен. Служил связистом, пехотинцем, танкистом. Ходил в тыл за «языком». И снова ему пригодилась его физическая сила.
Вот почему к полупьяным придиркам незваного гостя Володя отнесся снисходительно. Они даже из квартиры вышли вместе. Брат нисколько не опасался за себя. Если б тот полез в драку. Володя бы с ним справился.
Но никакой драки не было. Ни слова не говоря, этот подонок ударил Володю ножом под левую лопатку. Брат успел только вскрикнуть: «Ой!»
* * *
Володю, как и его отца, могли убить рукояткой нагана полицаи. Он мог умереть от мороза и голода, когда его, без теплой одежды и куска хлеба, втолкнули в теплушку и повезли в гитлеровскую Германию. Его мог забить плетьми немец, рабовладелец двадцатого века, на ферме которого Володя работал. Наконец, на фронте он мог сотни раз погибнуть от пули, снаряда, мины, бомбы или от огня в полыхающем танке.
А Володя умер спустя десять лет после Победы от руки подвыпившего хулигана.
...Это не укладывалось в сознании.
* * *
...— Наверное, через год после этого несчастья вызвали меня в военкомат, — продолжал Василий Михайлович.
«Предъявите, — велят, — вашу орденскую книжку».
Отвечаю:
«Таковой у меня не имеется».
«Вы, — спрашивает военком, — Швайко В. М.?»
«Да. В чем дело?»
«Тут вам прибыли две медали «За отвагу», которые вы не получили, за бои в Карпатах и в Восточной Пруссии».
Тогда я смекнул, в чем дело. Объясняю:
«Это награды моего брата. Я Швайко В. М. — Василий. Он Швайко В. М. — Владимир. Но брата убили уже после войны».
«Извините, — пожал мне руку военком, — что я вас ошибочно обеспокоил».
Куда военком девал эти медали, я не знаю. Наверное, отослал обратно в Москву. Гайдар при мне объяснял Володе, что дает все награды Президиум Верховного Совета СССР. И туда же, по всей вероятности, они возвращаются...
ТАИНСТВЕННЫЕ ОСТРОВА
Наверное, каждому начертано судьбой открыть свой «остров сокровищ». Но одни даже в детстве ничего не ищут и смеются над чудаками, которые мечтают что-то найти. Другие принимают за «остров сокровищ» первую же обнаруженную ими болотную кочку. И радости от такого открытия им хватает на всю дальнейшую жизнь.
И лишь тому, кто поставил перед собой нешуточную цель и вооружился мужеством и терпением на долгий срок, выпадает рассчитать конструкцию ракеты для межпланетных путешествий, доказать, что в снежной Якутии существуют россыпи алмазов, не уступающие южноафриканским; пересадить живую почку или сердце, создать спасительный для миллионов пенициллин или соорудить неисчерпаемый по своим возможностям лазер...
Я не изобретал гиперболоид. Не надеялся осчастливить человечество великим научным открытием. Я хотел найти две-три общих столистовых тетради — искал запечатленную мысль, которая много раз заносилась на бумагу, как последняя.
В шестом классе, вскоре после окончания войны, я прочитал в журнале «Звезда» «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Эту удивительную повесть, которую Фучик писал в тюрьме, уже зная, что он приговорен, вынес по листочку и сберег отважный и надежный человек.
А через несколько лет стала известна история «Моабитской тетради». Татарский поэт Муса Джалиль, который попал в плен, писал в берлинской тюрьме Моабит стихи. Его рукописи тоже сохранил и переслал в Советский Союз верный человек, антифашист. Солдатский и писательский подвиг Мусы Джалиля был посмертно отмечен Золотой Звездой и Ленинской премией.
Хотелось верить, что и бумаги Гайдара надежно припрятаны и могут еще быть найдены. И когда друзья говорили мне: «Ты ищешь то, чего давно уже нет. И если даже сохранился тайник, то рукописи в нем давно размыли грунтовые воды» — я, не споря с ними, начинал рассказывать, как работал Гайдар.
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА
Утро
Гайдар перевернулся на правый бок, поправил одеяло, потому что сразу стало зябко спине, и собрался еще немного поспать. Но сон уже прошел. Остались только тяжесть в ногах и утомление во всем теле от беспокойно проведенной ночи. И Аркадий Петрович открыл глаза.
Серый свет из крошечного, как в чулане, оконца под бруствером позволял разглядеть привычную и бедную обстановку землянки: четыре топчана, вкопанный в грунт стол, коптилку из сплющенной гильзы от зенитного снаряда, сосновые бревна стен. Над входом тускло поблескивали стекло и рамочка портрета. А печки не было. Одеяло, солома тюфяка и даже доски топчана насквозь отсырели. Сушить их было некогда и негде. И заснуть на такой постели можно было, только хорошо намаявшись за день.
Гайдар отбросил одеяло, спустил ноги, ощупью нашел портянки, засунутые в сапоги, не глядя, намотал их и через несколько секунд был уже обут. Так же машинально, ощупью, проверил, на месте ли сумка, хотя всю ночь спал, подложив ее под голову. Подушка получалась жесткой. И днем от нее ныла шея. Но класть сумку на ночь в другое место он не желал.
Быстро и привычно дотронувшись рукой до холодного ствола ручного пулемета, прислоненного к стенке возле изголовья, Аркадий Петрович надел через плечо сумку, снял со стены вафельное полотенце, и, стараясь не разбудить товарищей, поднялся по дощатым ступеням, и вышел.
Землянка стояла в лесу, который в этот ранний час казался глухим и дремучим. На востоке, где Леплява, небо начинало быстро светлеть, а здесь, возле болота («Кто же ставит лагерь возле болота?» — каждое утро думал Гайдар), царил полумрак и все выглядело сказочным и нереальным, потому что и деревья, и кусты, и пни, и землянки тонули в тумане, который смягчал и скрадывал детали и очертания.
Аркадий Петрович несколько раз глубоко вздохнул. Пахло застоявшейся водою, сосновой корой и гнилым сеном. На память пришли рассветы в Солотче на Мещере, куда он почти каждое лето ездил отдыхать и работать с Паустовским и Фраерманом. Однако предаваться воспоминаниям было некогда. Утренним временем, когда лагерь еще спит, Гайдар особенно дорожил.
Возле рукомойника он повесил на толстую ветку сумку и ремень с револьвером, сделал, по обыкновению, несколько медленных наклонов,
энергично, так, что хрустнули кости, покрутил руками, потом две или три минуты раскачивал молоденькую сосну и закончил зарядку приседанием.
После каждого упражнения он глубоко дышал и теперь чувствовал, что горячая кровь разлилась по телу, смывая усталость, с которой он проснулся.
Гайдар поднял крышку рукомойника, наполнил из ведерка до краев бачок, разделся до пояса и начал быстро плескать на себя студеною водою, торопливо растирая ее ладонью по телу. От кожи пошел пар. Аркадий Петрович докрасна вытерся сухим полотенцем, надел гимнастерку, щелкнул пряжкой пояса, перекинул через голову лямку сумки и напился, как для простоты было принято в отряде, прямо из ведра.
Сразу до тошноты захотелось есть. Аркадий Петрович вспомнил, что вчера не ужинал и в землянке у него нет даже сухаря.
Иметь личные продуктовые запасы партизанам было запрещено. Относилось это в первую очередь, конечно, к местным, которые могли наведываться домой, но Аркадий Петрович подчинился правилу, хотя ему это было труднее всех.
Кормили в отряде дважды в сутки. А Гайдар, когда увлекался работой, забывал поесть. Если же его звали ужинать, он, случалось, не отвечал или просил оставить его в покое. Его оставляли. И он вообще нередко ел раз в сутки.
А писать поутру на голодный желудок было тяжело. Голова вскоре начинала кружиться. Мысли делались размытыми, из глубин памяти ленивей всплывали слова. И тут его выручали подушечки.
Когда группа Орлова перебралась из шалашей в пустующий дом возле партизанского лагеря, командир отряда Горелов прислал гостям в подарок большой картонный ящик слипшейся карамели.
Подушечки разделили на равные доли. Поскольку еды не хватало, Орлов и другие товарищи, безостановочно согреваясь чаем, довольно быстро расправились со своими пайками. А Гайдар завернул полученные конфеты в чистую тряпочку и разворачивал ее, только если ощущал, что от голода становится трудно писать.
И в это утро, подумав после умывания о конфетах, Гайдар сказал себе: «Рано. Нужно подождать».
И хотя сумка была на нем и ничего не стоило сунуть руку и взять карамельку, Аркадий Петрович не позволил себе положить в рот ни одной сладкой крошки.
Гайдар спустился на минуту в землянку, повесил на гвоздик полотенце, надел шинель, прихватил за воронкообразный ствол пулемет и снова поднялся наверх. Пройдя немного по тропинке, он свернул направо. И, миновав полянку с плитой (это была отрядная кухня-столовая), направился к темнеющему на отшибе огромному пню. Пень был его кабинетом.
Здесь лучше думалось и писалось, чем в землянке с ее несвежим воздухом и запахом давнишней плесени. Потом, возле пня можно было разжечь костер, но разводил он огонь крайне редко.
Чтобы разжечь горку сушняка, нужно было вынуть из кармана молочно-белый кремень, обломок рашпиля, который служил для высекания искр — кресало, — и обрывок бельевой веревки с разлохматившимся и зачерненным концом — трут.
Прижав обрывок веревки большим пальцем к кремню, нужно было чиркать кресалом по камню, пока от искры не затлеет трут. После этого дымящуюся веревку следовало поднести к сухой бересте и что есть силы дуть, пока березовая кора не вспыхнет.
Но все это требовало времени. И хотя Гайдар чувствовал, как в нем, особенно поутру, все тоскует по сухому теплу, потому что и шинель, и гимнастерка отсыревали за ночь тоже, и он бы многое отдал, чтобы, работая, иметь возможность повернуться к огню то одним, то другим боком и протянуть на секунду-другую к пылающим сучьям быстро стынущие на ветру ладони, — Аркадий Петрович считал, что не может позволить себе по утрам такой роскоши.
Из вечернего разговора в командирской землянке Аркадий Петрович знал, что подъем нынче будет в лагере ранний, что запланировано несколько диверсионных операций, а значит, и рабочее утро будет особенно коротким. Следовало торопиться.
Гайдар уселся на пень, поставил ноги на толстый корень, выгнувшийся из земли, передвинул на колени сумку, отстегнул матерчатую крышку, вынул тетрадь, полусточенный карандаш и перочинный ножик и хитро заострил самый кончик грифеля, чтоб буквы получались меньше и тоньше, а грифель при этом не ломался.
Опустив ножик обратно в маленькое отделение, Аркадий Петрович раскрыл тетрадь. Это была предпоследняя из московского запаса. В ней еще оставалось не меньше половины чистых страниц. И каждый раз, принимаясь за работу, Гайдар оказывался перед дилеммой — больше записать, расходуя как можно меньше бумаги.
Но как он ни исхитрялся, тетради все равно кончались. Достать новые было негде. А делать записи на отдельных листках он считал пустым занятием. В сумке листы сминались, рвались, текст на них стирался. И много ценнейшего материала из-за этого уже погибло. Что он станет делать без тетрадей, Аркадий Петрович не знал, старался пока об этом не думать и в шутку уверял себя: «Даст бог день — даст и тетрадки».
Конечно, было бы легче работать и удалось бы подольше растянуть свои писчебумажные запасы, будь у него чернила. И в деревнях, наверное, чернила и школьную непроливайку можно было бы достать.
Но чтоб писать чернилами, требовался стол. Правда, стол, вкопанный в грунт, имелся в землянке. Но работать за ним Аркадий Петрович не мог. От света каганца быстро утомлялись глаза. Даже сквозь толстую подошву стыли ноги, а главное — давил на голову низкий потолок. И Гайдару казалось, что мысли от этого становятся плоскими.
Стол можно было бы соорудить и возле пня. Плотников в отряде хватало. Но все уже настолько привыкли видеть Гайдара с сумкой на коленях, что никому не приходило в голову, что это неудобно. А сам он ничего объяснять не хотел. Он опасался, что если даже скажет, то за один раз ему стол не соорудят, а работе помешают. А Гайдар спешил...
Аркадий Петрович не смог бы ответить ни себе, ни другим, почему так спешит, но он ежесуточно пребывал во власти могучего стремления как можно больше успеть, словно кто-то все время нашептывал ему: «Скорей! Давай скорей!..»
Эпизоды последних боев у стен Киева, картины отступления, отчаянные сражения наших регулярных частей уже в глубоком немецком тылу, выражения лиц наших солдат в минуту опасности; подробные описания партизанских операций, сравнения с похожими операциями времен гражданской; отважные и подлые поступки, глаза детей во время воздушной тревоги в Киеве и под огнем в Семеновском лесу, когда они смотрят на тебя, а ты ничем не можешь помочь; женские голоса, убаюкивающие детей, успокаивающие раненых; предсмертные просьбы умирающих, которые шепчут имена и адреса. Звуки войны — шелест летящих тяжелых снарядов, кошачий вой мин, пронзающее завывание пикирующего бомбардировщика, всегда пугающий щелк оружия, в котором кончились патроны; имена героев, о которых следует при первой возможности сообщить на Большую землю; фамилии, адреса и деяния предателей, которых ни в коем случае нельзя забыть, — все это практически безостановочно билось, тасовалось, ярко вспыхивало в клетках мозга, просилось на бумагу.
Лишь на короткий срок воспоминания куда-то отодвигались, когда Гайдар приступал к выполнению боевого задания. Здесь уже он сосредоточивался на том, что ему предстояло, то есть не спускал глаз с участка дороги, где все должно было произойти, помнил, что держит в руках гранаты со вставленными запалами, а в одной уже выдернуто кольцо.
Это значило: как только он расслабит пальцы, которые сдавливают скобку, граната через две-три секунды взорвется, и потому ее нужно метнуть, пока не устала рука.
Но когда уже пылали на дороге транспортер и грузовики, когда уже утихали выстрелы застигнутых врасплох и разбежавшихся солдат, когда партизаны, неся или везя на подводах трофеи, успевали отбежать достаточно далеко и могли не опасаться преследования, мысли, связанные с литературной работой, тут же возвращались к нему.
И потому одну из ближайших своих задач, помимо участия в боевых операциях, Аркадий Петрович видел в том, чтобы ценой каких угодно усилий поскорей отписаться, то есть разгрузить голову от огромного количества впечатлений.
Гайдар мечтал, что наступит такая пора, когда он сможет просто вести дневник, то есть делать записи за одни сутки, и начнет ту книгу, замысел которой прорисовывался все отчетливей.
И если он успевал утром заполнить своим быстрым мелким почерком, обретенным тоже здесь, на войне, пять- шесть тетрадных страничек, то внутреннее напряжение ненадолго спадало. Наслаждалась коротким покоем память. Отдыхали, точно он разгрузил вагон, мышцы. Возникало радостное ощущение добросовестно выполненного долга...
И в голове начинала выстраиваться новая вереница эпизодов, ожидающих своей очереди.
...Гайдар пролистнул заполненные страницы, поправил в пальцах карандаш, низко взяв его за сточенный край. Сегодня предстояло записать историю, которую он рассказывал за столом у лесника Швайко, — «Золотая Звезда генерала».
...Карандаш начал толсто писать. Гайдар вынул ножик — и не смог его открыть. Потерявшие чувствительность пальцы не ухватывали выемку в верхней части лезвия. Гайдар понял, что основательно замерз.
Шинель, которую он носил, едва прикрывала колени, вдобавок она была изрядно потерта и продырявлена пулями и осколками в нескольких местах. Но сколько шинелей за последние дни он ни примерял — то коротки рукава, то узко в плечах.
Впору ему оказался только эсэсовский черный плащ с кокетливой пелериной, найденный с чемоданом нового обмундирования в подбитой автомашине. Гайдар, преодолев чувство гадливости, однажды переоделся в эту форму. И отправился в таком виде на задание.
Товарищи в зарослях подстраховывали его, и Аркадий Петрович вышел на шоссе. Увидев легковушку, неторопливо и властно поднял руку. Машина сбавила ход и стала подруливать к обочине.
Гайдару впервые довелось так близко увидеть глаза врага.
Сначала он заметил неприязнь и раздражение полковника, который сидел рядом с водителем, что эсэсман их останавливает. И трусливое недоумение в глазах шофера, который словно спрашивал: «Разве я сделал что-нибудь не так?»
И еще Аркадий Петрович запомнил, как от возмущения в лицо полковника кинулась кровь, когда он, Гайдар, открыв левой рукой бронированную дверь, не отдал честь, что было грубым нарушением воинского устава, не потребовал документы, а тут же навел на полковника висящий на шее автомат. И внезапную бледность того же полковника, который мгновенно попытался отстраниться, отсесть подальше, неизвестно как догадавшись, что это не эсэсман, что перед ним стоит русский партизан.
Время замедлило свой бег. Оно словно до бесконечности растянулось. Гайдар помнил, как он неторопливо ударил из автомата по переднему сиденью и, приподняв ствол, по заднему, где находились еще двое. И внезапно, в порыве ненависти, стал безостановочно и беспорядочно бить внутрь кабины — за Киев, за взорванные мосты через Днепр, за малышей на Бориспольском шоссе, расстрелянных из «мессершмиттов».
...Эсэсовский плащ Гайдар больше ни разу не надел. Было противно его носить. Да и свои ребята могли подстрелить по ошибке.
Командир отряда, обратив внимание, как ветха на писателе шинель, распорядился выдать ему новый полушубок. Аркадий Петрович примерил. Полушубок был легок, удобен, нигде не жал, а главное, в нем было так тепло, что хоть спи на снегу.
Покрасовавшись в обнове, поблагодарив командира за проявленную заботу, Гайдар снял овчинное полупальто и вернул его завхозу. Полушубков в отряде было мало. И Аркадий Петрович не хотел быть одетым лучше других.
После долгих уговоров он согласился взять только ушанку с рыжим мехом: ушанок было много и должно было хватить на всех.
Так Гайдар остался в старой своей шинели, которую ласково называл капотом — в память незабвенного одеяния Акакия Акакиевича Башмачкина.
И если Гайдар ухитрялся при такой экипировке писать по нескольку часов в день, то лишь потому, что его выручала давняя закалка солдата и рыболова и уже на войне обретенное умение, сев за работу, мгновенно отключаться от обстановки и собственных ощущений.
Дома, верно, этому бы удивились. В Москве Гайдара мог выбить из рабочего настроения даже скрип половицы, если кто-то проходил в коридоре мимо его комнаты.
...Поняв, что он до нутра продрог на своем пеньке и, пока не согреется, не сможет продолжать работу, Гайдар спрятал в сумку свою тетрадку и поднялся.
Только теперь он заметил, что холодное солнце разогнало туман, что лагерь давно встал и готовится к трудовому дню. Возле рукомойника одни ждали очереди, другие плескались, зачерпывая кружками прямо из ведра.
У лениво разгоравшейся плиты суетились две отрядные поварихи в телогрейках и ярких, праздничных платках. А дневальные чистили картошку — уже на вечер — и нарезали хлеб к завтраку. Круглые буханки, килограмма по два каждая, лежали в больших плетеных корзинах.
Боец Трофим Северин из Леплявы разрезал караваи кинжальным штыком на четыре части. Четвертушка служила пайком. Хлеб был свежий, только что привезенный, а штык остро отточенный. Под тонким длинным лезвием буханка сперва проминалась и только потом распадалась, показывая свою теплую и липкую мякоть.
Мельком взглянув, как Северин расправляется с буханками, Гайдар поздоровался, подошел к плите. На ней грелось два бака — один с чаем из шиповника, а во втором по ускоренному методу варилась каша: с вечера крупу заливали водой. Лишь только она закипала, ее можно было есть.
Аркадий Петрович поднес руки к свободному раскаленному краю плиты. От быстрого перепада температуры кончики пальцев мгновенно заныли. Гайдар подумал: если б в землянке стояла хотя бы маленькая печка, он бы, наверное, успевал гораздо больше.
— Аркадий Петрович, покушайте!..
Поворачивая ладони то одной, то другой стороной к теплу, Гайдар обернулся. Северин, гордый такой возможностью, протягивал большой ломоть. Это была чуть примятая горбушка, брак хлебопечения. Куска, который дарил Северин, хватило бы, чтоб возвратиться к пню и, не ощущая легкого подташнивания, продолжить заметки, пока не сварится каша и не вскипит чай. Но Гайдар не хотел, чтобы его появление возле кухонной плиты было объяснено тайными намерениями раньше всех получить горбушку, к тому же сверх нормы. И он ответил:
— Спасибо, Трофим, но так рано я никогда не завтракаю.
Гайдар опять уселся на пень, вынул из сумки тетрадь, а в отделении для противогазной маски нащупал тряпицу. Он развернул ее, взял липкую, с приставшей ниточкой карамельку и положил ее в рот. В запасе оставалось еще две подушечки. На два рабочих утра.
...К завтраку, кроме хлеба, чая и каши из неразмолотой пшеницы, был выдан еще кусок сала граммов на тридцать. А после еды было назначено совещание. Командир пригласил к себе в землянку весь руководящий состав отряда и Аркадия Петровича.
Горелов сидел за длинным узким столом. Это был жилистый, широколицый человек. Казалось, он не знает усталости. Волосы его были темны и густы, рот улыбчив, а взгляд тяжел и цепок.
Обсуждалась продовольственная проблема. Партизанский рацион был явно скуден, что отражалось на боевом духе. Заседание уже было в полном разгаре, когда в землянку спустился Аркадий Петрович.
— Товарищ Гайдар, в чем дело? — спросил командир. — Почему вы опоздали?
— Прошу извинить. В Переяслав сегодня пойдет обоз с продуктами, отобранными фашистами у населения. Вечером в Гельмязеве десятихатники обходили дома и наказывали готовить к утру подводы.
— Откуда сведения? — недоверчиво щурясь, спросил командир.
— Прибегал Володя, сын лесника Швайко.
Это был надежный источник.
— Обоз перехватим, — сказал командир. И, уловив настороженно-вопросительный взгляд Гайдара, добавил: — Начальником группы по захвату продуктового обоза назначаю Аркадия Петровича.
Полдень
С Гайдаром пошло десять человек. Партизаны расположились в засаде километрах в двух от села Хоцки. Дорога имела в этом месте удобный изгиб. Вдоль проселка тянулся густой кустарник. Сквозь его заросли засада не просматривалась. Это Гайдар проверил сам. Двое наблюдателей были отправлены версты за полторы в сторону Гельмязева, чтобы заранее приметить обоз. Остальным следовало ждать сигнала.
Время текло медленно. Мимо засады в обе стороны проносились машины — легковые и грузовые. Каждая из них могла стать желанной добычей. Но сегодня был нужен продуктовый обоз.
Непривычное оживление на дороге раздражало и вселяло беспокойство. Угон большого обоза дело хлопотное. И какой-нибудь не вовремя появившийся грузовик с солдатами мог сорвать всю операцию.
Часы на руке отсчитывали минуты. Впустую расходовалась нервная энергия, одинаково нужная для боя и письма. А вереница подвод с мешками и ящиками не появлялась.
Лежа на животе на холодной земле, ощущая правым локтем жесткий приклад пулемета, а левым боком — твердый брусок сумки, Аркадий Петрович поднял воротник шинели, опустил наушники меховой шапки и решил поработать.
Мимо кустов, замедляя ход на повороте, проносились машины. Их стало ощутимо меньше. Это увеличивало шансы на удачу, но заранее сказать ничего было нельзя.
Гайдар улегся на бок, засунул стынущие ладони в сомкнутые рукава шинели и начал припоминать и обдумывать очередной сюжет, который следовало занести в тетрадку, — ночной поход в Киев.
Работу над этим эпизодом Аркадий Петрович нарочно откладывал до лучшей поры, когда у него появится стол, чернильница с чернилами, какой-нибудь закут с печкой и он перестанет сидеть на ветру. Гайдар хотел написать о недавнем, перебивая свой рассказ воспоминаниями о прошлом, о девятнадцатом годе. А это требовало покоя и достаточно большого напряжения.
Но печки в землянках упорно не ставили. Уходить из этих мест командир не собирался. Выкраивать время для записок с каждым днем становилось все трудней. Гайдар не был уверен, что сумеет работать, когда наступят еще большие холода. И понял, что откладывать не стоит.
Аркадий Петрович покрутил шеей, которая начала затекать, посмотрел сквозь сито желтых листьев кустарника на дорогу. Она в ту минуту была пустынна. Взглянул, где товарищи. Все были на своих местах. И приступил к делу.
Война приучила его каждый день находить новые приемы работы. В прежние годы, чтобы написать рассказ или повесть, Аркадий Петрович перво-наперво выбирал место, где он поселится. Выбор был не слишком велик: дома творчества под Москвой или в Ялте, половина избы в Солотче или номер «люкс» в клинской гостинице.
В Солотче, куда он приезжал с Паустовским и Фраерманом, в первый же вечер заключалась «конвенция», где кто сидит и по каким дорожкам во время работы ходит.
Паустовский писал в бывшей баньке, иногда прямо на машинке. А Гайдар с Фраерманом сочиняли большей частью на ходу, в ритм своим шагам, довольно громко при этом бормоча и проверяя на слух каждую фразу. Для бормотания без помех требовались ровные, непересекающиеся тропки, достаточно знакомые, чтобы не глядеть под ноги, и достаточно пустынные, чтобы никто не попадался навстречу. Иначе можно было сбиться с ритма, потерять очень важную мысль. Или слово.
На фронте от многого пришлось отвыкать.
Еще по дороге из Москвы в Киев Аркадий Петрович твердо решил, что отправлять в редакцию он будет только совершенно законченные вещи. В этой решимости заключалась и требовательность к себе, и маленькая хитрость. Аркадий Петрович лучше других знал, что попал на войну случайно. Опасаясь, что в любой день его могут отозвать, он спешил стать для газеты необходимым, а быть может, и незаменимым.
С той внутренней собранностью, которая пришла к нему, как только он ощутил себя военным человеком, Гайдар четко разделил всю свою работу на три момента: наблюдение, осмысление и писание.
Гайдар с интересом и болью подмечал, как меняется облик Киева, который он любил со времен далекой юности. На улицах возникали баррикады из мешков, возле памятника Тарасу Шевченко однажды утром вырос круглый железобетонный колпак дзота. В стальных заслонках, которые защищали окна бомбоубежищ от осколков, прорезались бойницы. Постовые милиционеры ходили с немецкими винтовками на плече и длинными кинжальными штыками на поясе.
Женщин в городе стало заметно больше, чем мужчин. Военные встречались чаще, нежели штатские. Привычными для глаза стали вооруженные рабочие — широкие ремни поверх пиджаков или пальто. На поясах револьверы, патронташи, финки с деревянными лакированными рукоятками.
Но если наблюдать можно было всегда и всюду, то обдумывание требовало уединения.
На передовой условий для этого, естественно, не было. Там он участвовал в боевых действиях, выступал перед бойцами. Он рассказывал о героизме красных курсантов времен гражданской войны, о писателях, с которыми был знаком (его об этом просили), о литературном труде, непременно читая напоследок отрывки из своих книг.
Но чаще всего вопросы бойцам и командирам — в блиндаже, в землянке, в окопе в минуту затишья — задавал он. Ответы старательно записывал, зная, что дома, в Москве, пригодится любая подробность.
Когда он возвращался вечером в Киев, в гостиницу «Континенталь», то время до рассвета распределялось так: холодный душ (горячего давно не было), ужин (ему всегда в ресторане оставляли), разговор с редакцией по телефону, беседы с товарищами-журналистами (обмен новостями, который позволял представить обстановку в целом). А еще нужно было постирать и погладить (на передовую он приезжал всегда подтянутый, выбритый, в выглаженном обмундировании и с чистым подворотничком).
И до утра, до автомобильного гудка под окнами, приглашавшего снова на передовую, оставалось четыре-пять ночных часов.
Гайдар подчинялся призыву клаксона — своей машины у него поначалу не было. Ездил на чужих — кто пригласит. И время на главную работу — обдумывание и писание — он урывал уже от сна, который становился трех- и даже двухчасовым.
Безостановочность этого конвейера чуть было не привела Гайдара в отчаяние, пока он не нашел выход: дорога. Это была единственная часть суток, где время тратилось непроизводительно.
И Аркадий Петрович стал ездить на передовую городским транспортом в одиночку. Сперва он ехал через весь город на трамвае, к радости своей обнаружив, что ему хорошо думается на жесткой лавке вагона.
Но долго усидеть не удавалось. Он уступал свое место женщине, ребенку или раненому. И пристраивался в уголке на площадке. Здесь трясло и подбрасывало. И пассажиры часто спрашивали: «Вы сейчас выходите?» Или просили: «Разрешите, я положу торбочку».
Поэтому спокойная работа начиналась, когда он выходил на кольце, показывал на контрольно-пропускном пункте свои документы и подныривал под полосатый шлагбаум. Это была уже передовая. И Гайдар знал, что час-полтора принадлежат теперь только ему.
Дорога, по которой он шел, была исковеркана воронками, завалена то с одного края, то с другого расщепленными деревьями, разбитыми телегами и автомашинами, раскиданными взрывом ящиками и лошадиными тушами, обезображенными кузовами и сорванными кабинами. Гайдар приучил себя, не отвлекаясь, обходить завалы и провалы, следить за небом; слыша завывание мин, бросаться в воронки, ухитряясь при этом не прерывать думания или, в крайнем случае, не терять нить.
А теперь, в отряде, чтобы не пропадало время, нужно было привыкнуть работать в пятнадцати метрах от дороги, по которой взад и вперед катили гитлеровцы.
Ночной поход в Киев
Гайдар подавил в себе желание вскочить с земли и пройтись. Вместо этого он только перевернулся на другой бок.
Аркадий Петрович припомнил свои гулкие шаги по настилу Цепного моста (в тишине над рекой они отдавались продолжительным металлическим звоном в фермах); успокаивающий плеск внизу, возле израненных осколками гранитных опор, и ту особую прохладу от огромных масс живой, быстрой воды, когда возникает потребность остановиться и долго, глубоко вдыхать чистый, влажный, оживлявший тело воздух.
Перейдя мост, Гайдар тут же стал подыматься на Владимирскую горку. Он выбрал более короткий, но и более крутой подъем. Слева, на фоне синего, в звездах неба, из облака могучих крон возносилась бронзовая фигура князя Владимира, осеняющего своим крестом Днепр.
Проплутав в темноте по тропкам громадного парка, Аркадий Петрович неожиданно для себя вышел к зданию Филармонии. Это был центр города. Тут начинался Крещатик.
Гайдар остановился и прислушался. Он надеялся уловить звуки далекой ружейной и пулеметной пальбы, которая бы означала, что где-то на окраине наши продолжают драться. В этом случае он должен был предупредить защитников города, что последний мост через Днепр к утру будет взорван.
Аркадий Петрович сам упросил начальника Киевских переправ полковника Казнова доверить ему это задание. Полковник вынужден был согласиться, потому что у него совсем не оставалось людей.
Но Киев встретил Гайдара тишиной. Не вспыхивали зарницы далеких пушечных выстрелов. Молчали пулеметы. Хорошо, если наших войск в городе уже нет. А если это затишье до утра?
Вынув из кармана шинели ТТ, Гайдар оттянул затвор, загнал в ствол патрон и, уже не пряча пистолет, двинулся дальше по Крещатику — мимо громадного здания Центрального универмага. А на площади Льва Толстого свернул налево, на Красноармейскую улицу.
Взорванная электростанция уже не давала городу света. На улицах прекратилось всякое движение. Исчезли трамваи и автобусы. Хлопали от ветра двери оставленных жилых домов и неохраняемых общественных зданий. И все же было ощущение, что город не спит, а живет полной ожиданий и страхов жизнью.
Противник в город еще не вошел. Это было очевидно. Гитлеровцы опасались ловушки. Но Гайдар рисковал наткнуться на вражеских разведчиков.
Сквозь занавески и шторы светомаскировки кое-где прорывались слабые и загадочные отблески пламени самодельных светильников. Через нечаянные щели Гайдар схватывал острым глазом мимолетные сцены: люди прятали небогатые свои сокровища, жадно и безрадостно ели, бинтовали раны, запоздало собирали вещи, обнимались и плакали на прощание.
Но что бы на его глазах ни произошло, он не должен был ни во что вмешиваться.
Ему надлежало до утра вернуться на командный пункт переправы, где ждали его сообщения. И он не имел права быть убитым.
Заслышав говор, шаги или заметив чью-то тень, Аркадий Петрович прижимался к стене или входил в подъезд. Убеждался, что это не противник, и шел дальше. Он направлялся к Голосеевскому лесу: если наши части еще держали оборону, то прежде всего там.
В самом конце Красноармейской улицы, в полном безмолвии, он вдруг услышал звонкий чистый голос:
— Дяденька, вы не видели мою маму?
Эхо, которое спряталось под аркой, подхватило последнее слово и понесло его вдоль домов:
«Маму... маму... ма...»
От неожиданности Гайдар вздрогнул, повернул голову. Глаза его привыкли к темноте, и он увидел: возле мрачной арки трехэтажного дома, где в окнах не было заметно ни огонька, на детском деревянном стульчике сидела девочка лет пяти.
Приблизясь, Аркадий Петрович разглядел, что была она в пальто и берете. Из-под берета торчал хвостик светлых волос, стянутых широким нарядным бантом. Даже в полумраке было заметно, что лицо девочки заплакано и глаза смотрят испуганно, доверчиво и с надеждой. В руках она держала черного с белой грудкой котенка.
— Как тебя зовут? — спросил Гайдар.
— Марийка.
— Мама давно ушла?
— Еще утром. Она сказала: «Я на полчасика. И мы едем». Мы должны были ехать через Днепр. У нас и вещи сложены.
— Может, мама ждет тебя дома?
Девочка помотала головкой.
— Дома ее нет. Я сидела в комнате, пока не стало темнеть. Свет не горит, я боюсь.
— Ты не спрашивала соседей? Вдруг они ее видели?
— По нашей лестнице все уехали.
Котенок, который спал, свернувшись уютным калачиком, на руках у девочки, поднял голову, встал на лапки, потянулся, выгнув спину и наставив пистолетом хвост. Марийка опустила его на землю, где стояла чашка с молоком. Но котенок не стал лакать. Он был сыт.
Было очевидно: с матерью девочки что-то случилось. Но что?..
Наводить справки о несчастных случаях негде.
— Хочешь есть? — спросил Аркадий Петрович. У него была с собой плитка шоколада «Золотой ярлык».
Девочка снова помотала головой, и опять смешно запрыгал хвостик ее волос с бантом, что насторожило котенка.
Марийка продолжала пристально смотреть на Гайдара снизу вверх, точно ему нужно было только вспомнить, где может находиться ее мама. Теряясь от этого взгляда, Гайдар стремительно думал.
Взять девочку с собой он не мог. В эту ночь он был разведчиком. И если бы даже Марийка согласилась подождать, пока он вернется из Голосеевского леса, он все равно не мог ее взять с собой, потому что утром, после неизбежного взрыва Цепного моста, его ждало отступление по Бориспольскому шоссе. Сколько дней оно продлится?.. Чем закончится?.. Этого не знал никто. Но и оставить девочку одну на улице он не мог тоже.
Аркадию Петровичу показалось, что из подъезда соседнего дома слышны голоса. Взяв Марийку за руку, он вошел с ней в парадное. На лестнице, на третьем этаже, мелькнул пугливый свет.
— Стой здесь. Я сейчас, — сказал Гайдар девочке шепотом.
— Я боюсь, — беззвучно заплакала она. И вцепилась в его руку.
— Тогда... — И Аркадий Петрович приложил палец к своим губам.
Девочка кивнула и перестала плакать.
Он поднял Марийку (она тут же обвила его шею, не выпуская котенка), левой рукой прижал ее к себе, а правой вынул из кармана шинели пистолет. И, нащупывая легким прикосновением подошв стертые ступени, начал медленно подниматься наверх, к свету.
Сверху вместо голосов теперь доносился скрежет чего-то тяжелого, что двигали по каменным плитам. Скрежет позволил Гайдару быстро подняться по лестничным маршам и затаиться в темном углу между вторым и третьим этажом.
А на следующей площадке, на гвозде, горела керосиновая лампа с привернутым фитилем. И мужчина лет сорока в клетчатой рубашке, согнувшись, толкал дерматиновый диван, на котором был навален разный хлам: медные тазы для варенья, гипсовая статуэтка поэта, настольная лампа без абажура с бронзовыми фигурками ангелов, которые взмахивали крылышками.
Мужчина не понравился Гайдару. И, приложив к своим губам ствол пистолета — в знак того, чтобы Марийка с ним не разговаривала, Аркадий Петрович стал так же бесшумно спускаться. На улице, подняв голову, Гайдар оглядел окна всех этажей. Они были темны. И луч света пробился не сверху, а снизу.
В покрытой чугунной решеткой яме, сбоку от асфальтированной пешеходной дорожки, желтело плохо задернутое старым шерстяным одеялом окно подвала.
Гайдар стал искать вход. И обнаружил возле парадного вывеску: «Лицую брюки и пиджаки». Большая стрелка показывала вниз. Крепко держа за руку Марийку, которая прижимала к себе уснувшего котенка, Гайдар вошел в подъезд, спустился под лестницу. Входная дверь в мастерскую была приоткрыта. Они прошли по темному коридору вперед. Путь им снова преградила дверь. И Гайдар вежливо постучал в нее рукояткой ТТ.
— Входите, — ответил немолодой мужской голос.
Двое стариков, муж и жена, сидели на гнутых венских
стульях возле узлов и фанерных чемоданов, среди которых выделялся полукруглый футляр перетянутой ремнями швейной машинки «зингер».
А двое мальчишек, старший из которых был ровесником Марийки, лежали на широкой деревянной кровати под лоскутным одеялом.
Тут, как и во многих домах в эту ночь, пока оставалась возможность выбора, решали.
А дело заключалось вот в чем. Дочка стариков, Соня, две недели назад, когда все были уверены, что Киев выстоит, записалась санинструктором в пехотную часть, где служил командиром роты ее муж.
— У них сумасшедшая любовь еще с очага,
[8] — сказала жена портного.
А мальчишек Соня оставила родителям. И вот теперь старики сидели на узлах, понимая, что надо уходить из города, и не имели силы отважиться на такой шаг с внуками и швейной машинкой, без которой не могли существовать.
Гайдар в двух словах рассказал о Марийке, дал понять, что не может больше задерживаться. И поскольку в шинели с пустыми петлицами он порой производил невыгодное для себя впечатление, то вынул из кармана и показал свой писательский билет.
— Сонечка вас, конечно, читала. Она все читала, — сказал старик. — Она будет очень жалеть, что вы ее не застали.
— А девочка пусть у нас поживет, — вздохнула старуха. — Пойди, — обратилась она к Марийке, — познакомься со своими приятелями. Это Миша и Алеша. Они рисуют, поют и уже знают буквы.
Миша и Алеша, удивленные тем, что девочка у них остается, сели, не забыв запахнуться в одеяло, из которого теперь торчали только их головы. А Марийка крепко держалась за карман шинели Гайдара.
— Идите по своим делам, — разрешил Гайдару старик. — Мы все равно никуда не поедем. А Сонечке скажем, когда она вернется, — улыбнулся он жене, — что она оставила нам троих.
— Я с вами. Я пойду с вами, — испуганно и моляще заговорила Марийка. — Ведь вы идете искать мою маму? — И она снова посмотрела на него с надеждой.
...Гайдар помнил, как торопливо пожал руки старикам, кивнул мальчишкам, поцеловал в соленые глаза девочку и, сунув под графин несколько сотенных бумажек, вышел — почти выбежал на улицу.
Он опаздывал в Голосеевский лес. Он рисковал, он мог не успеть вернуться к мосту до рассвета.
* * *
Когда случай с Марийкой был припомнен до самых мелких подробностей: там, в подвале, при свете, выяснилось, что глаза у девочки темные, а к ее матроске под пальто приколот маленький значок Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая перед войной была празднично и шумно открыта в Москве; когда Гайдару оставалось только сесть, положить на колени тетрадку и сжато, без лирики, все записать, прибежал один из наблюдателей:
— Обоз... с большой охраной...
Вечер
Захватить удалось всего пять подвод, и две перепуганные коровы сбежали в лес сами. Необычное в это утро оживление на шоссе помешало взять больше, но страх оккупантов перед всякого рода зарослями избавил партизан от преследования.
До лагеря оставалось еще изрядное количество километров, когда все участники операции ощутили вдруг волчий голод. На подводах пригодным к немедленной еде оказался только белый липовый мед в пузатом бочонке. Извлеченные из голенищ, в ход пошли деревянные и алюминиевые ложки. Но много ли можно съесть густого меда — без хлеба, без воды? Каждый черпнул из бочонка два-три раза, облизнул липкую ложку и сунул обратно в сапог, а Гайдар — в маленькое отделение сумки. С тем и прибыли в лагерь.
Аркадий Петрович коротко доложил командиру, как дело началось да чем кончилось. И пока с возов уносили на склад захваченное оружие, муку, сало, разделанные свиные и овечьи туши; и пока находчивые поварихи доили пригнанных перепуганных коров и растапливали плиту, обещая к вечернему обеду украинский борщ с трофейной свининой, Гайдар заторопился к своему пню.
До наступления сумерек он занес в свою тетрадь эпизод «Марийка» и еще один — «Голосеевский лес». И когда он уже перестал различать следы своего карандаша на листе — а работалось ему хорошо, и было желание закончить сегодня историю той киевской разведки, — Аркадий Петрович спустился в землянку, запалил трут, вздул огонь и при свете лампадки из гильзы, на могучем всплеске сил занес на бумагу еще один сюжет — «Взрыв Цепного моста».
Задув светильник, Гайдар поднялся наверх. Совсем стемнело. В центре лагеря горел большой костер. Увидев Аркадия Петровича, партизаны потеснились, давая ему место на толстом, поваленном стволе, заменявшем скамейку.
Аркадий Петрович поблагодарил, сел. Он испытывал приятное и чуть болезненное состояние внутренней опустошенности. Хотелось покоя и еще хотелось побыть среди людей.
И когда Аркадий Петрович подсел к огню — погреться, отдохнуть, послушать какую-нибудь забавную историю, пусть и не самую правдивую, лишь бы веселую, завхоз Иван Семенович с требовательно-капризными интонациями в голосе произнес:
— А что вы, Аркадий Петрович, все пишете? Утречком, я заметил, сидели. С операции возвратились — опять, гляжу, карандашиком скребет. Почитали бы нам чего-нибудь от скуки.
— Для потехи, Иван Семенович, ничего не пишу, — негромко, устало ответил Гайдар. — Но против скуки могу рекомендовать хорошее средство.
— Какое же это, интересно?
— Почаще ходить на операции.
Партизаны засмеялись.
— У меня другая должность, — обиделся Иван Семенович. Глаза его сердито спрятались под густые, насупленные брови.
— Тогда не жалуйтесь, что она скучна, — добавил Гайдар.
Бойцы оживились. Вспыхнул смешок. Внезапным улучшением настроения тут же воспользовался комиссар отряда, Моисей Иванович Ильяшенко.
— Товарищи партизаны, — начал он, — Аркадий Петрович нынче утомлен. И если он разрешит, я скажу несколько слов. С позволения командования товарищ Гайдар создает историю нашего партизанского отряда. Короче говоря, он пишет книжку, которая будет напечатана в городе Москве.
Вокруг костра сделалось так тихо, что стало слышно, как лопаются пузырьки на стволе сырой березы, кинутой в огонь.
— В Москве? — переспросил Игнат Касич.
— В Москве, — подтвердил комиссар Ильяшенко. Он понимал, о чем его спрашивают.
Батареи в отрядном приемнике едва теплились. Ловить удавалось только немецкие станции, которые уже дважды на русском языке передавали, под грохот медных тарелок и фанфар, сообщение о том, что Москва ими взята, что в честь этого события уже выбита бронзовая медаль и готовится парад, который состоится 7 ноября на Красной площади, принимать его будет сам Адольф Гитлер.
— В какой же типографии вы будете печатать свой труд? — спросил Гайдара один из окруженцев, старший лейтенант, который недавно пришел в партизанский лагерь. В его голосе были и вызов, и недоверие.
— Я не имею дела с типографиями, — отрезал Аркадий Петрович.
— А с чем же вы имеете дело? — раздраженно переспросил старший лейтенант. — Кто же будет делать из ваших тетрадок книжки?
Беседа со старшим лейтенантом была Гайдару неприятна. Но разговор слушали все.
— Печатал и будет печатать мои книги Детиздат, то есть издательство детской литературы.
— Понятно, — кивнул старший лейтенант. — И находится этот детский издат в Алма-Ате?..
— Вас интересует, где он находится? — переспросил Гайдар, сделав вид, что не заметил издевки.
Аркадий Петрович положил на колени свою сумку. При ярком пламени костра было видно, что противогазный чехол мок в воде, много валялся на сырой земле и вдобавок испачкан сажей костров.
— Представьте, что это Красная площадь, — показал Гайдар на сумку. — Здесь, справа, Спасская башня, из которой во время парадов выезжают на белом коне маршалы. Тут Кремлевская стена. В центре, возле стены, Мавзолей. Против Мавзолея, через площадь, — улица 25 Октября. Так вот, если пройти по этой улице до конца и повернуть направо, то в двух минутах ходьбы будет Малый Черкасский переулок, где находится Детиздат.
Ильяшенко внимательно следил, что еще отмочит этот новенький. Но тот сердито запахнулся в полушубок, а партизаны весело переглядывались.
Гайдара видели в деле. Он брал на себя самое опасное и трудное. Первым открывал огонь. Последним уходил. Не хвастал. Не лгал. Не делал и не говорил ничего пустого.
И если он сказал, что сочиняет книжку для какого-то Детиздата, расположенного возле Кремля и Мавзолея, то, значит, так и есть. И немцы врут.
Иначе с какой радости он сидел бы с утра до ночи в своей куцей шинелишке на ветру и писал в тетрадке?
— И что же, там будет про каждого из нас? — спросил Северин, тот самый, который хотел утром подарить Аркадию Петровичу отличную, сытную горбушку.
— Про каждого, — согласился Аркадий Петрович, — чтобы твои, Трофим, дочь или сын могли бы прибежать с этой книжкой в школу и сказать: «А тут и про моего папку. Оказывается, на войне он был у меня герой!..»
* * *
В землянке, после беседы у костра, Аркадий Петрович долго не мог уснуть. Перво-наперво он ждал, пока от тепла его тела немного согреется соломенный тюфяк и толстое верблюжье одеяло, поверх которого он положил еще свою шинель, и его перестанет знобить от холода и непроходящей сырости.
А во-вторых, нужно было подготовиться к завтрашнему дню. Еще лет десять назад, на Дальнем Востоке, начав «Военную тайну», он сделал для самого себя важное открытие: если с вечера проговорить в уме или даже вслух завтрашний «урок», то на другой день работа идет очень споро. Не нужно тратить минуты и часы на раскачку. И не приходится останавливаться и думать, а что писать дальше.
Тогда же он приучил себя, проговорив эпизод, делать наброски плана. Здесь, в лагере, набрасывать планы он уже не успевал. Все-таки отряд — не дом творчества в Ялте. Но, целиком полагаясь на свою память, к которой вернулась юношеская цепкость и прочность, он отбирал в уме «случаи» для записи, выделял особо нужные и резкие детали и с этим засыпал.
После разговора у костра о будущей книге Гайдар наметил для следующего утра «Подвиг капитана Рябоконя».
Чувствуя, как под одеялом накапливается тепло, и понимая, что засыпает, Аркадий Петрович успел взглянуть на светящийся циферблат. Без десяти минут полночь. Наказав себе проснуться в три, он в тот же миг заснул.
...Посреди ночи Гайдар вздрогнул, как от толчка. Поднес к лицу часы. Стрелки показывали пять минут четвертого. Вставать не хотелось. Аркадий Петрович досчитал до трех. На слове «три» спустил ноги. Быстро оделся, взял ручной пулемет и вышел из землянки.
Небо было морозно-чистым. Звезды светили ярко и празднично. От близкого болота несло гнилью и сыростью. Сырость тут же стала заползать в рукава и за воротник.
Гайдар застегнул шинель на все пуговицы. Поправил на плече «дегтярь» и, стараясь ступать как можно бесшумней, направился в сторону лесопильного завода. Там был самый отдаленный пост.
Аркадий Петрович с точностью до одного дня мог сказать, когда родилась в нем эта привычка проверять посты — в августе девятнадцатого. Недалеко отсюда, под Кожуховкой, на рассвете заснули часовые. И белые, ворвавшись в село, чуть не перебили всю курсантскую роту.
Став ротным командиром в тот же день, а было ему тогда пятнадцать лет, Гайдар ни разу с той поры не передоверил никому проверку постов. Это много раз спасало жизнь и ему, и бойцам, особенно в Сибири, в борьбе с Иваном Соловьевым, который оказался большим мастером на коварные и смертельные выдумки.
В партизанском отряде, числясь рядовым, Аркадий Петрович возобновил свои обходы. Он считал, что караульная служба в лагере слаба. Просыпался
в три часа каждую ночь. А случалось, и раньше. И командование, зная об этом, до утра уже не проверяло посты.
— Стой! Кто идет?! — перепугался часовой возле штабной землянки.
— Не кричи, свои! Ты что, заснул?
— Никак нет, товарищ Гайдар, просто слегка задумался.
— Задумываться лучше с открытыми глазами, — напомнил Аркадий Петрович. — Ты видел кинжалы, с которыми ходят немецкие разведчики?
— Не доводилось.
— Напомни утром. Я тебе покажу.
Обойдя все посты, Гайдар возвратился в землянку. Было без четверти четыре. Сырая постель в душной землянке еще хранила слабое тепло. Аркадий Петрович сразу уснул и проспал до начала шестого.
В это утро ему было отчего-то неспокойно. Он опять обошел посты. Уже заступила другая смена. И один из часовых, молодой парень, с оттенком легкого превосходства в голосе произнес:
— Все в порядке, товарищ Гайдар, можете спокойно сидеть на пенечке и писать.
Аркадий Петрович ничего не ответил. Вернулся к своей землянке. Быстро закончил туалет. Пристроив пулемет у ног, уселся на пень, достал тетрадку, положил в рот карамельку, предпоследнюю из своего секретного запаса. И вывел карандашом: «Подвиг капитана Рябоконя».
И тут со стороны лесопильного завода ударил винтовочный выстрел, за ним второй и третий... И сквозь заросли донесся рев нескольких автомобильных моторов.
Ехали каратели...
ВСТРЕЧИ
Надежда на то, что футбольный мяч хранит записку про тайник Михаила Ивановича, была самой призрачной. Но оставалось слишком мало шансов, чтобы я мог пренебречь хотя бы одним. А кроме того, думалось: попав на бывшую усадьбу лесника, мы отыщем что-нибудь еще. Скажем, трехлитровую банку с документами... А там будет видно.
Для экспедиции в Лепляву нам с Василием Михайловичем оставалось только выбрать время. Обоим удобнее всего было лето. Однако близилась 25-я годовщина со дня гибели Аркадия Петровича. Бывшие лейтенанты Абрамов и Скрыпник известили меня, что к 26 октября будут в Лепляве. Я пригласил к тому же сроку и Василия Михайловича.
20 октября я уже находился в Каневе. Осень выдалась неприветливая, как в сорок первом. Рано осыпались деревья. Моросили дожди. Давно не показывалось солнце. И в колхозах опасались, что не успеют до заморозков управиться с овощами.
Рядом со старой двухэтажной гостиницей возле парка имени Гайдара светлело недавно построенное легкое здание со стремительно-тревожной фигурой горниста на фронтоне. Это была Библиотека-музей А. П. Гайдара, единственный в мире памятник детскому писателю, деньги на который заработали и прислали дети. Одна девочка писала: «Мама дала мне деньги на мороженое. Я их посылаю на строительство музея».
...Тут мне был знаком каждый экспонат. Но дольше всего я обычно простаивал возле вертикального стенда. На голубом его сукне под толстым бронестеклом белели две небольшого формата страницы, заполненные торопливыми карандашными строчками. Это было письмо «лейтенанта С. Абрамова» от 1 мая 1942 года — первое известие о подвиге и гибели Гайдара.
В сорок втором эти листки проделали нелегкий путь из глубокого немецкого тыла в Москву. И уже совсем недавно, подаренные Дорой Матвеевной Гайдар, прибыли из Москвы в Канев.
Стоя возле двух этих страничек, я думал: сколько же народу привело в движение письмо Абрамова — тогда, в сорок втором, и после, в сорок четвертом, когда «Комсомольская правда» прислала капитана Башкирова, и еще позже, в сорок седьмом.
И то, что я теперь ждал в Каневе Скрыпника, Абрамова и Швайко, то, что миллионы ребят хотели теперь быть похожими на Аркадия Петровича, было отдаленным эхом все того же письма.
Странички, которые я теперь видел сквозь толщу стекла, не позволили Гайдару пропасть без вести, исчезнуть бесследно. Это было первое и долгое время единственное документальное свидетельство его героизма и верности долгу.
* * *
Сергей Федотович Абрамов приехал первым. В шляпе, габардиновом пальто. Лицо полное, гладкое, оттого необычайно моложавое. Густые, темные усы прикрывают маленький, детский рот.
Не дав Сергею Федотовичу перевести дух, я распахнул перед ним дверцу райкомовского «газика», и мы понеслись встречать Скрыпника. Василий Иванович прислал телеграмму: «На киевский не достал. Еду винницким Золотоношу...»
Золотоноша была та самая, куда ровно четверть века назад — день в день — было сообщено о неожиданном появлении пятерых партизан. И дорога тоже оказалась «та самая», по которой немецкий майор не рискнул отправить ночью грузовики с солдатами.
Лишь только я очутился в одной кабине с Абрамовым и осознал, что за путь нам предстоит, я стал во всем находить следы давних событий.
Промелькнувшее здание леплявской железнодорожной станции напомнило: ведь откуда-то отсюда звонил Глазастый.
Глядя на провода, которые тускло и неотступно блестели вдоль обочины, я думал: «Скорей всего, те же самые». Ухабы напоминали о том, что неровности дороги (теперь-то во много раз лучшей) заставили майора вызвать помощь из Хоцек.
Когда мы проносились по центру Гельмязева, я успел показать Абрамову массивное, выкрашенное в желтый цвет здание. Здесь в сорок первом ломали на допросах пальцы командиру отряда. Тут допрашивали и убили рукояткой нагана добрейшего лесника Швайко, но до всего этого сюда, в помещение районной управы, поступил донос Глазастого.
Абрамов на ходу приоткрыл дверцу и проводил уплывающее от нас строение тяжелым, жестким взглядом.
В Золотоноше, у кирпичного здания вокзала, мы затормозили. До прибытия винницкого оставалось десять минут. И я двинулся вслед за Абрамовым через толпу на перрон.
Когда появился поезд, Абрамов сперва побежал ему навстречу, потом повернул обратно. Где какой вагон, было не понять. И тут раздался крик:
— Сережа!
Не дожидаясь, пока остановится поезд, рискуя запутаться в полах длинного пальто, с подножки спрыгнул Скрыпник. Выпустив из рук старенький чемодан, Василий Иванович бросился к Абрамову, и они судорожно обнялись. Вынули из карманов накрахмаленные платки, стыдливо приложили их к глазам и быстро спрятали обратно.
Я расцеловался со Скрыпником, представил водителя Юру, подхватил чемодан. И мы направились к выходу. В Лепляве нас ждала Афанасия Федоровна.
«Поверил бы тогда немецкий майор, — подумал я, — если б ему сказали, что через двадцать пять лет двое ускользнувших из его капкана партизан встретятся на золотоношском вокзале — не пленные, не связанные, не избитые? К пиджаку одного будет пристегнута потускневшая медаль «За взятие Берлина» и у обоих — «За победу»...
Абрамов и Скрыпник с той далекой осени встретились впервые.
Я ловил в машине обрывки разговора.
— У тебя, Василий Иванович, что за семья? — спрашивал Абрамов.
— Жена и три дочки, — низким, раскатистым голосом отвечал Скрыпник. — А у тебя?
— Жена и три сына.
— Я серьезно спрашиваю, — обиделся Василий Иванович.
— Не веришь, спроси у Бориса Николаевича. Он был у меня дома.
Водитель Юра гнал «газик», нас всех кидало из стороны в сторону. Но никто не сетовал.
Мы выехали на площадь перед Леплявским сельсоветом. До избы Степанцов оставалось метров полтораста довольно прямой, но пыльной дороги. Впереди, там, где она расширялась, толпился народ. При виде нашей машины люди пришли в движение.
— Свадьба сегодня, что ли? Молодых ждут? — поинтересовался Скрыпник.
— Это вас встречают, — ответил всезнающий Юра.
Действительно, люди облепили палисадник Афанасии Федоровны и соседский огород. Много народа стояло возле магазина и недавно выстроенного кафе.
Порозовевший от гордости Юра сбавил скорость и, непрестанно гудя, торжественно повел свой экипаж сквозь толпу. Юра не остановился на улице возле забора, что ему было гораздо удобнее, а, продолжая гудеть, свернул в узкий проход между огородами, где тоже стояли женщины и мужчины. Легонько задевая их овальными крыльями вездехода, Юра покатил к осевшему крыльцу. На ступенях в новой клетчатой кофте и желтом платке, без пальто, стояла Афанасия Федоровна.
Василий Иванович торопливо вышел из кабины. Афанасия Федоровна побежала навстречу.
— Вы Скрыпник, — сказала она, улыбаясь. — Я вас сразу узнала. Вы однажды у нас плясали.
— Я уже седой, — ответил Василий Иванович, снимая шляпу. — Я уже не могу плясать. — И стал целовать Афанасию Федоровну.
Подоспел Абрамов. Громадными ручищами обнял обоих. И снова, как на вокзале, только уже втроем, они замерли. И опять притихли люди. И в этой тишине я не осмелился вскинуть давно взведенный «Зенит». Бывают минуты молчания даже для репортеров.
— Вам же холодно! — спохватился Абрамов, заметя, что Афанасия Федоровна стоит в одной кофте.
Молодое румяное лицо Сергея Федотовича блестело от слез. Сняв пальто, он торопливо набросил его ей на плечи, а сам остался в темно-синем пиджаке, борта которого с двух сторон обрамляли медали и ордена.
Награды звякнули.
Кто-то из зрителей заплакал.
И словно звук медалей послужил сигналом, плач раздался со всех сторон. И даже самоуверенный и расторопный Юра хлюпнул носом.
Отчего заплакали встречающие, я не знаю. Может, снова вспомнили первый год войны. Или пожалели, что не все солдаты дожили до сорок пятого. Или с гордостью подумали: «Вот дала Феня людям по куску хлеба. И эти двое, подкрепившись тем куском, пошли бить ворога — до самой победы».
Абрамов и Скрыпник обернулись ко всем, кто собрался поглядеть на них.
— Здравствуйте, товарищи, доброго вам здоровья, — произнес Скрыпник и поклонился.
А Сергей Федотович снял шляпу с темной цыганской своей головы и добавил:
— Вот мы и свиделись.
Уже на крыльце я приметил Василия Михайловича Швайко. Он приехал без нас и скромно стоял в сторонке. Я представил его Скрыпнику и Абрамову. Они крепко пожали ему руку.
— Ваш отец сильно выручил нас, когда мы голодали под Озерищами, — сказал Абрамов.
Василий Михайлович наклонил голову.
В хате разделись. К приезду гостей дом блестел. На окнах крахмальные занавески. Глиняный пол заново вымазан, застлан свежайшей соломой. И на белой скатерти уже стояло то, что могло стоять загодя: маринованные помидоры, кочном заквашенная капуста, днепровская вяленая рыба. А хозяйка, торопливо очистив луковицу, уже крошила ее в салат.
На правах старожила я снял со стены длинное полотенце и пригласил всех с дороги помыть руки.
— А в доме-то все как было, — сказал, утираясь, Скрыпник.
Мы вернулись в избу. На столе в фаянсовой миске дымилась картошка и привлекало взоры блюдо с разрезанным гусем. Защелкали замки чемоданов — появилось прихваченное из дома угощение.
Наконец расселись. На столе уже некуда было поставить даже солонку. А на лавках еще оставалось много свободного места.
Сергей Федотович поднялся и взял граненую рюмку:
— За того, — произнес он, оборачиваясь к портрету Аркадия Петровича, — кто в последний миг своей жизни подумал не о себе, не о своей семье... Поступи он иначе — не родилось бы у тебя, Василий Иванович, трех дочек, а у меня — трех сыновей.
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ
На рассвете 26 октября 1966 года мы шли из центра Леплявы к насыпи. Мы — это Абрамов, Скрыпник, Швайко, райкомовский шофер Юра и я.
Медленно рассеивался туман с болот. Под ногами шуршали опавшие листья. И в полной тишине далеко разносились наши шаги. Говорить никому не хотелось.
Когда справа от асфальта шоссе потянулись огороды, Абрамов остановился.
— Вроде бы, возвращаясь, мы повернули на эти раскопанные грядки, — неуверенно произнес он.
Скрыпник молчал, припоминая.
— Ну да. Вон стоит светофор. А возле него должна быть дорожка.
— Похоже, — согласился Василий Иванович.
Мы пересекли картофельное поле с побуревшей, засохшей ботвой и узенькой, едва видной тропинкой поднялись к светофору, перешагнули через рельсы, спустились с насыпи и оказались по другую сторону железнодорожного полотна.
Тут все заспешили. Впереди отмерял большие быстрые шаги Абрамов. За ним едва поспевал всегда сдержанный Скрыпник. Нарочно сойдя с дорожки, чтобы сразу всех видеть, трусил сбоку жадный до впечатлений Юра. Немного опустив голову, внимательными грустными глазами смотрел на происходящее Швайко.
Слева от нас высилась насыпь. Справа тянулся кустарник. Впереди, на железнодорожном полотне, темнело пятно какого-то строения с покатой крышей. Четверть века назад этим путем в это же время двигались пятеро партизан.
Кустарник кончился внезапно. Открылось свободное пространство, и мы услышали возбужденный голос Абрамова:
— Гляди, Василий Иванович, наша полянка.
Поляна имела метров пятнадцать в ширину и около семидесяти в длину.
Слева ее ограничивало железнодорожное полотно. Справа — молодые посадки. Примерно в центре деревья расступались. Тут начиналась полутропинка, полудорожка на Прохоровку.
Не дойдя до тропы, Абрамов вдруг резко повернул к посадкам, остановился возле небольшого углубления, образованного соснами, и сказал:
— В этом месте мы сделали привал.
— А не ближе к тропинке?
— Да как же могло быть ближе? Выемка между деревьями укрывала нас от ветра. А там дальше от ветра спрятаться было уже негде... Интересно, — покачал вдруг головой Сергей Федотович, — сколько же нам оставалось до поворота?
Я сосчитал — тридцать больших шагов.
Мы все долго стояли и молчали.
— Все же не понимаю, — негромко произнес Скрыпник, — почему мы отпустили Аркадия Петровича одного?
— Никуда мы его, Василий Иванович, не отпускали. Он же сердился, если мы ходили хвостом. Тебя однажды не было. Я увязался за ним. Он оборачивается: «Сережа, я не денежный ящик, чтобы меня охранять».
И когда Аркадий Петрович поднялся со своего мешка, мы тоже поднялись. Будто бы поразмяться. Нам и в голову не приходило, что немцы в тридцати шагах.
Они оба остановились посреди поляны, неторопливо оглядывая все вокруг и словно удивляясь, что этот тихий, безлюдный уголок оказался смертоносным.
— На рельсы он поднялся у дальнего края будки, — вполголоса произнес Абрамов, — если смотреть от нашего бивуака. Только чего же он туда пошел? — Абрамов, тяжело дыша, стал подыматься по скату насыпи. Мы последовали за ним. — Теперь понимаю: с этого края положе подъем и ближе крыльцо обходчика.
— Но мы-то шли по пятам.
— Не скажи. Мы еще играли в жмурки. Аркадий Петрович двинулся направо. А мы — для приличия — прямо. Тоже дошли до железной дороги. И его отгородила от нас вот эта будка для инструментов.
— Да, мы потеряли его из виду, пока он не крикнул: «Ребята, немцы!» — сказал Скрыпник.
— Крикнул? Разве он кричал? Крик его совершенно не отложился у меня в памяти. Я помню, мы кинули по гранате. Потом спрятались за будку.
— А с чего мы стали вдруг кидать гранаты?
— Как с чего? Пулемет ударил по Гайдару.
— Почему же он раньше-то не ударял? Ведь немцы нас видели, когда мы еще шли с мешками на спине.
— Верно. Что-то послужило сигналом... Вспомнил! Ведь вот какая вещь-то. У Аркадия Петровича была такая манера: он разговаривал очень тихо. Даже если рассказывал у костра, где собиралось много народу, не напрягал никогда голоса. Слушать его порой было трудно. Но тихий, глуховатый голос успокаивал.
— В его манере говорить была какая-то надежность, — добавил Скрыпник.
— А тут он крикнул. Я даже не понял, что... Вон Василий Иванович говорит: «Ребята, немцы!» А для меня звук его голоса был просто как сигнал... как удар тока... Будто электричество прошло по позвоночнику... Вот почему я сейчас и вспомнил.
Абрамов и Скрыпник замолчали.
— Что же было дальше? — не выдержал Юра.
Для него весь разговор, который сейчас происходил, был как живое кино.
— Что было дальше, это, Юра, сейчас уже не имеет значения, — ответил Скрыпник, торопливо закуривая.
— Ну а все-таки?
— Когда Аркадий Петрович предупредил нас, — негромко произнес Абрамов, — ударил пулемет. Мы швырнули в пулеметчиков гранаты и спрятались за эту будку. Перевели дух — мы сильно испугались. И Василий Иванович позвал: «Аркадий Петрович!»
— Вроде я позвал, когда мы уже проползли между рельсами? — усомнился Скрыпник.
— Мы же сначала думали, что Аркадий Петрович успел перепрыгнуть. И ждет нас по другую сторону железной дороги. А он не ответил. Тогда мы решили, что он ранен. Проползли по шпалам вперед.
— В сторону пулеметов? — усомнился Юра.
— А куда же еще? — ответил Скрыпник. — Мы же думали, если он ранен, вынести его на себе.
— Мы, Юра, проползли вперед, — терпеливо объяснил Абрамов. — А Гайдара на рельсах не оказалось. Мы снова позвали. Он не ответил. Мы обрадовались: «Значит, перепрыгнул!» Тут нас заметили немцы. Открыли огонь из того же пулемета. Мы вскочили и бежать.
Абрамов достал из кармана платок, вытер лоб и щеки. Гладкое лицо его без единой морщины было цвета мела, словно все произошло только что. Бледность лица оттеняли густые черные усы.
1 мая 1942 года, то есть в тот самый день, когда Абрамов послал свое письмо в Москву, он был назначен командиром саперной роты партизанского соединения С. А. Ковпака. Лично и вместе с товарищами Сергей Федотович пустил под откос двадцать эшелонов, подорвал десятки мостов и других объектов. Но никогда он не был так близок к смерти, как 26 октября 1941 года.
Скрыпник стоял возле козел с запасными рельсами и глядел на реденькие кустики возле тропинки, где в то далекое утро затаился пулемет. Василий Иванович прошел от Киева до Берлина. Участвовал в штурме рейхстага. А сейчас вымерял глазом расстояние от будки до злополучных кустов.
Я спрыгнул с рельсов и сосчитал: оказалось тоже тридцать шагов.
В тридцати шагах от крупнокалиберного пулемета юные лейтенанты, читатели Гайдара, готовы были унести Аркадия Петровича на себе.
...Сраженный пулей, Гайдар упал под насыпь. Место, где он лежал, с насыпи не просматривалось.
...Сняв шляпы, Абрамов и Скрыпник подошли к тяжелому камню, установленному на месте первой могилы Гайдара. Мы втроем — Швайко, Юра и я — удалились в сторонку. Но я успел вскинуть «Зенит» и нажал спуск затвора.
ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ ГАЙДАРА
Пусть потом... когда-нибудь подумают, что жили на земле такие люди, которые только из хитрости называли себя детскими писателями...
Аркадий Гайдар. Из выступления. Воспитание мужества
— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?
Аркадий Гайдар. Военная тайна
За обедом у Афанасии Федоровны Скрыпник спросил меня:
— Вы разве не едете с нами в Киев?
— Мы с Василием Михайловичем еще немного побудем.
— А это верно, что Аркадий Петрович оставил свою сумку вашему отцу? — обратился к Швайко Сергей Федотович.
— Так говорит мама. Зря она не скажет, — ответил сын лесника.
— Аркадий Петрович если даже умывался, то сумка у него висела на боку, — с недоумением в голосе произнес Абрамов. — В руки на минуту никому не давал.
— Афанасии Федоровне однажды оставил, — сказал я.
— Да ну! — не поверил Сергей Федотович. — Правда?
Афанасия Федоровна отнесла в сени горку грязной посуды и вернулась.
— Вы ж видели, какая на нем была сумка, — ответила она. — Тяжеленная, как сундук. Мне стало его жалко. Я предложила спрятать. Он оставил, а на другой день пришел и забрал.
— А вашему отцу когда он оставил? — снова обратился Абрамов к Швайко.
— Числа моя мама не запомнила, — ответил Василий Михайлович, — но говорит, что это был его последний приход к нам.
— Что тебя, Сережа, смущает? — спросил Скрыпник.
— Не смущает — огорчает. Аркадий Петрович столько беспокоился за эту сумку. И вдруг она исчезла неизвестно куда.
— Вася, — щурясь от дыма, обратился Скрыпник к Швайко, — а что за пистолеты спрятал ваш брат?
— Один был браунинг второй номер, — охотно ответил Швайко, — а второй не то французский, не то бельгийский. Похож на ТТ. Но чуть поменьше.
— Я почему спрашиваю, — мягко произнес Скрыпник. — У Гайдара был маленький вальтер. И если этот вальтер спрятан в тайнике вашего брата и вы этот пистолетик найдете, то у нас будет хотя бы одна вещь, которую Аркадий Петрович держал в руках.
— Я знаю, о каком пистолете вы говорите, — заулыбался Швайко. — Нет, маленький вальтер Гайдар нам не оставлял.
— Этот вальтер Аркадий Петрович подарил мне, — сказал Абрамов.
— Тебе? Когда? — Голос Скрыпника прозвучал мощно и раскатисто.
— После боя у лесопилки. Мы сидели с ним на пеньках. Настроение было плохое. Он вдруг говорит: «Сережа, запиши мой адрес. Если что случится — сообщишь в Москву». Я начал искать карандаш, клочок бумаги. А Гайдар сказал: «Не записывай. Лучше запомни: «Москва. Союз писателей».
Запоминать тут было нечего. А Гайдар, вижу, расстегивает карман гимнастерки. Я решил: все-таки ищет карандаш. А он протягивает мне маленький пистолет.
«Этот вальтер, — сказал, — давно у меня хранился. Теперь я дарю его тебе».
Когда после гибели Аркадия Петровича мы разошлись, я остановился в одном доме. Хозяйка замешивала тесто. Я попросил ее запечь пистолет в хлебец. Она запекла. И дала мне еще одну буханочку — для еды. Я положил оба каравая в вещевой мешок.
А на другой день ночью я переправлялся через Днепр в плоскодонке. Течение в том месте было сильное. До берега оставалось несколько метров, плоскодонка напоролась на корягу. И перевернулась. Я очутился в воде, а мешок с караваями пошел на дно...
— Но это ж случилось возле самого берега! — не выдержал Скрыпник.
— Ну и что? Глубина-то порядочная. Потом ноябрь. Вода ледяная. Я нырнул раза два, но темно. Ничего не видно.
— Пришел бы утром!
— Я так и думал. Но когда я искупался, была ночь. Никто не хотел меня пускать в дом. Время такое — все боятся. А я мокрый. Холод. Ветер. Спички намокли. Спасибо, одна женщина мне открыла. И когда я вошел в избу и хозяйка дала переодеться в сухое и напоила чаем, я уже был готов. Кашель. Жар. Воспаление легких. Две недели в беспамятстве в чужом доме...
Скрыпник вышел из-за стола, бросил рассеянный взгляд на самодельную репродукцию «Наймички» с надписью: «Дорогой мамочке от Лиды».
— Я-то, Сережа, думал, ты сейчас скажешь: «Да не ищите вы, хлопцы, футбольный мяч. Неизвестно, что в нем найдете. А возьмите вы лучше у меня пистолет Аркадия Петровича, который я все эти годы берег...»
— Нарочно я, что ли? — обиделся Абрамов.
— Не сердись. Просто нелепо все получилось. Я ведь тоже как-то сидел с Гайдаром у костра. Народу на огонек собралось много. Говорили кто о чем. Аркадий Петрович молча слушал и вырезал ножом суденышко из коры. Это был остроносый фрегат: две мачты, паруса из брусничных листьев, на корме — каюта с крошечными окнами. Руль и киль.
Я заинтересовался искусной вещицей. Аркадий Петрович протянул мне кораблик, сложил нож, стряхнул с коленей стружку, поднялся и молча ушел. Кораблик был ему не нужен. Я оставил его себе. И вот спроси меня — куда он подевался?
А если б я сберег кораблик, ты, Сережа, — пистолет, Афанасия Федоровна — одну какую-нибудь тетрадку, а в семье Швайко сохранился бы самый маленький блокнотик — это было бы целое богатство. А так вроде ничего не осталось.
— Осталось! — возразил я.
Все недоуменно обернулись в мою сторону. Я пошел в соседнюю комнату, вынул из чемодана и положил на уже прибранный обеденный стол кожаный портсигар. Краска и лак на портсигаре слегка облезли, но он все равно выглядел как новый.
— Что это? — спросил Скрыпник.
— Вещи Гайдара. Я сейчас их покажу. Но сперва скажу несколько слов.
В том, что погиб Гайдар и пропали его тетради, в которых могло быть лучшее из всего, что он создал, — это жестокость войны. Ее законы Гайдар понимал трезвей многих. Еще в 1935 году, в письме ростовским пионерам, он сказал: «Лучше, чтобы Алька остался жив, лучше, чтобы Чапаев остался жив... — но так на свете не бывает».
То есть война не бывает без жертв и потерь. Но одну из ее беспощадных закономерностей Аркадий Петрович... как бы это сказать... перехитрил.
— Кого же он там перехитрил, — прервала меня Афанасия Федоровна, — если его самого убили?
— Гибель, Афанасия Федоровна, не всегда самое страшное. Порой гораздо страшней бесследность. Не мне вам рассказывать, что Гайдар был отчаянно храбрым человеком. Но храбрость его не была безрассудной, он проявлял ее только там, где она была нужна. И храбрость эта не была безоглядной. Аркадий Петрович сознавал, что любой день на войне может стать для него последним. И принял свои меры предосторожности.
На случай, если бы его ранили и ему бы грозил плен, он обзавелся маленьким вальтером и носил его в нагрудном кармане гимнастерки, где оружие, как правило, не носят. И во-вторых, позаботился о том, чтобы не пропасть без вести.
В быту Аркадий Петрович был скромным, даже неприхотливым человеком. Любил вареное мясо с мозговой косточкой и соленые огурцы. Подолгу носил одни и те же сапоги и сам отдавал их в починку. Не признавал дорогих авторучек. Писал школьными двухкопеечными перьями, которые надо было макать в чернильницу. Тяжелый свой писательский труд никогда не называл творчеством. Всегда говорил: «Моя работа», как будто занимался кузнечным или портняжным ремеслом.
Но при этом Гайдар сознавал, что немало сделал для развития литературы и воспитания той молодежи, которая вместе с ним участвовала в борьбе с фашизмом.
На фронте он еще раз убедился, что имя его имеет немалую притягательную силу. И чтобы в случае гибели на него самого и его книги не пала тень, он придумал свою «систему оповещения». Она сложилась не сразу и совершенствовалась по мере того, как менялись и ужесточались обстоятельства.
Приняв решение остаться в осажденном Киеве, Аркадий Петрович сообщил домой жене: «Пользуюсь случаем, посылаю письмо самолетом». Он знал, что самолет последний. И письмо тоже оказалось последним из тех, которые получили его близкие. Но оно же стало первой вешкой в гайдаровской «системе оповещения».
В тот же день, когда из Киева в Москву ушел последний самолет, Гайдар написал еще одно письмо.
Дело в том, что за несколько часов положение на фронте резко ухудшилось. Стало очевидно, что противник может в любую минуту ворваться в город. Аркадий Петрович счел за лучшее не ночевать в полупустой гостинице «Континенталь», расположенной возле самого Крещатика. И отправился на квартиру к своему водителю Саше Ольховичу, который жил на Круглоуниверситетской улице, 15, в полуподвальном помещении. Если бы гитлеровцы вошли ночью в город, сюда бы они сунулись не сразу.
Гайдару не спалось. Он сел и написал письмо Тимуру, потом вынул из сумки свою фотографию, вложил все в конверт, четко вывел на нем адрес и передал письмо утром Сашиной маме, которая положила его в сундучок с семейными и деловыми бумагами.
Но связь с Большой землей была уже прервана. Почта, естественно, не работала. Какой же был смысл писать письмо, да еще на московский адрес?
А вот какой: Гайдар попросил Сашину маму отослать пакет, когда возвратятся наши.
Но Тимур письма не получил.
В 1963 году я познакомился с Александром Куприяновичем Ольховичем. Услышав, что Гайдар оставил его матери конверт, я спросил:
— А что же с этим письмом было дальше?
— Наверное, лежит в том же сундучке, — ответил Ольхович, — я, признаться, о нем просто забыл.
Мы тут же поехали с ним на Круглоуниверситетскую, но письма в сундучке не оказалось.
— Я ж тебе, Саша, говорила, — объяснила Ольховичу его мама, — угнали меня германцы на работу. А когда вернулась, все разорено... Печку, что ли, они, ироды, теми бумагами топили...
И все-таки одна фраза из сожженного «иродами» письма до нас дошла. Ее запомнил Ольхович, которому Гайдар его читал:
«По всей вероятности, мы Киев оставим, но я обещаю тебе, что мы сюда вернемся и тогда с тобою встретимся».
Обещание поразило молодого шофера. В той обстановке мало что предвещало скорое возвращение...
И вот что еще примечательно: авиаписьмо свое Гайдар отправил, по-видимому, 17 сентября. Письмо Тимуру в квартире Ольховича он писал в ночь на восемнадцатое. Утром восемнадцатого был получен приказ Москвы, который разрешал оставить Киев. А вечером девятнадцатого Аркадий Петрович пошел на разведку в полупустой город. Уходя, он сказал начальнику всех переправ полковнику Казнову и батальонному комиссару Белоконеву:
«Если я не вернусь, доложите при случае в Москву, что я остался в Киеве».
Уже находясь в партизанском отряде, Гайдар хотел отправить с полковником Орловым пакет, перевязанный веревочкой, но полковник не рискнул взять бумаги. Иными словами, Гайдар пытался использовать любую возможность дать знать о себе в Союз писателей или близким.
И вот что удивительно: пропало письмо, оставленное в доме Ольховича, неизвестно, куда исчез пакет, который не взял Орлов, но сведения о том, что эти пакеты были, дошли.
А полковник Е. Ф. Белоконев написал в 1963 году в редакцию «Юности» о походе Гайдара в Киев и его просьбе «доложить при случае в Москву».
Но если бы «система оповещения» свелась лишь к этим попыткам, она бы вряд ли достигла своей главной цели.
Гайдар это предвидел и придумал вот что. В каждой деревне, в каждой избе, куда он заходил, он называл себя, говорил, что он корреспондент и писатель.
Это было неблагоразумно с точки зрения личной безопасности, но Гайдар пренебрег благоразумием на тот случай, если бы его пришлось искать...
Аркадия Петровича всегда отличала доброта. Он остался ей верен и на войне: дарил свои книги, карандаши, которые на оккупированной территории сразу обрели большую ценность, трофейные вещицы, он отдал часы, компас, складной нож со множеством лезвий (купленный в Военторге вместе с первой кожаной сумкой).
Бабе Усте, матери Афанасии Федоровны, он принес очки, добытые во время диверсионной операции. Случайно подошли и стекла.
[9]
Я знаю два дома, где Гайдар, уходя, вынул из кармана и положил на стол немалые суммы денег. Даже в пору всеобщего бедствия он нашел семьи, которые нуждались больше остальных...
И через двадцать с лишним лет десятки людей, некоторые со слезами на глазах, вспоминали об Аркадии Петровиче. Многие даже не знали его фамилии и запомнили как детского письменника и корреспондента.
Наконец, последнее: всех без исключения Гайдар просил при первой же возможности сообщить о нем в Москву.
Но и в такое простое дело Гайдар внес два усовершенствования. Он не давал домашнего адреса, который нужно было записывать на бумажке. Он говорил: «Запомните: Москва, Союз писателей». Такой адрес, действительно, было легко запомнить. И в годы войны все письма о Гайдаре и к Гайдару (ведь многие корреспонденты не знали, что Аркадий Петрович погиб) поступили в правление Союза писателей.
И второе его усовершенствование заключалось в том, что на память о себе Аркадий Петрович дарил оружие. К оружию у него была детская страсть и острый, профессиональный интерес. Он добывал его где только мог. И тут же спешил опробовать. Сколько перебывало у него в руках трофейных автоматов, ручных пулеметов, револьверов, пистолетов, винтовок, карабинов, гранат всех систем, включая немецкие «толкуши» на деревянных рукоятках, ножей, эсэсовских кинжалов, никакому учету не поддается. Но свой арсенал он быстро и охотно раздаривал.
Первый известный нам подарок он сделал водителю Саше Ольховичу. Саша получил наган. На деревянных «щечках» рукоятки с обеих сторон было вырезано: «Гайдар».
Подарок получался со значением. Остался бы револьвер у Саши, перешел бы в другие руки — это был его, Гайдара, след... Но Ольхович под Борисполем попал в окружение. Револьвер ему пришлось закопать.
Я повернулся к Абрамову:
— Сергей Федотович, вы помните, кто был проводником группы Орлова, когда вы с боем вырвались из Семеновского леса?..
Абрамов заволновался:
— Минуточку, сейчас вспомню. Раненый капитан. Несли на носилках. Фамилия, что называется, лошадиная, типа Белоконева.
— Вы несли капитана Рябоконя. Он был родом из-под Канева, почему он вас и привел к Озерищам. Рябоконя сильно покалечило. Осколки мины буквально разорвали ему руку и бок. На тех же носилках его бережно доставили родным. Было совершенно очевидно, что воевать он больше не сможет.
Однако Гайдар подарил капитану браунинг второй номер, хотя у Рябоконя на ремне висел свой ТТ. Зачем?..
— Я думаю, Аркадий Петрович желал отметить его подвиг, — негромко произнес Швайко.
— Конечно. Вручая браунинг, Аркадий Петрович сказал: «Такого героического поступка, когда тяжелораненый человек вывел в безопасное место две тысячи солдат, военная история до сих пор не знала».
[10]
Но, передавая пистолет, Гайдар попросил Рябоконя, когда придут наши, написать в Москву. Все это мне рассказал сам Яков Константинович. Аркадий Петрович полагал, что Рябоконь уже не сможет воевать в партизанах или служить в армии, а потому благополучно дождется освобождения.
Но Рябоконь подлечился. Создал подпольную группу, которая работала на ваше, Сергей Федотович, партизанское соединение — соединение Ковпака. После освобождения Украины добился, чтобы его снова направили в армию. Вторично был тяжело ранен — уже недалеко от Берлина. Снова чудом выжил, но пистолет Гайдара сберег, в госпитале держал его под подушкой и домой вернулся с подарком Аркадия Петровича на поясе.
Однако война кончилась. Оружие полагалось сдавать. Рябоконь пошел в райком партии. Там он объяснил, от кого и за что получил пистолет, и сказал, что хотел бы оставить браунинг себе на память, как награду.
Секретарь райкома взял пистолет в руки. Никакой надписи на рукоятке или стволе — мол, «тов. Рябоконю за небывалый героизм» — не было. Удостоверения или самодельной справки с двумя-тремя подписями, что браунинг вручен капитану Рябоконю вместо правительственной награды, у Якова Константиновича тоже не оказалось.
Однако секретарь райкома пообещал, что возьмет пистолет пока лично себе, а затем передаст его в музей.
Но секретаря райкома вскоре перевели на другую работу. И следы пистолета затерялись. Браунинг второй номер пропал, когда уже ничего не стоило его сохранить...
Сейчас Яков Константинович — инвалид первой группы. Он заслуженный и добрый человек. Охотно и неутомимо встречается с детьми. Но о том, что Аркадий Петрович просил его написать в Москву, Рябоконь вспомнил, когда я приехал к нему в Верхнячку...
— Вам, Сергей Федотович, Гайдар подарил третий свой пистолет (из тех, что мне известны). И ваше письмо от первого мая 1942 года, которое начиналось словами: «Уважаемая товарищ Гайдар! Выполняя просьбу вашего мужа... сообщаю вам...» — явилось первым свидетельством того, что «система оповещения», придуманная Аркадием Петровичем, сработала...
Как только ваше письмо достигло Москвы, нашим разведчикам, которые действовали здесь, в глубоком немецком тылу, через Верховное Командование был послан приказ собрать все возможные сведения о судьбе писателя А. П. Гайдара.
Правда, понадобились месяцы, чтобы пришел ответ старшего лейтенанта И. Гончаренко, который «лично тоже встречался и много беседовал в октябре 1941 года» с Гайдаром. Он подтвердил, что Аркадий Петрович отказался идти к линии фронта с «очень сильным отрядом Орлова». Гончаренко подтвердил также, что Гайдар был убит, когда «ходил на хутор за продуктами».
В 1944 году на Украину был направлен капитан А. Ф. Башкиров. На основе его отчета была составлена справка о гибели военного корреспондента газеты «Комсомольская правда» А. П. Гайдара, подписанная Ю. Жуковым.
Справка была и осталась первым и единственным официальным документом, который удостоверил, что Аркадий Петрович не пропал без вести.
А следом за Башкировым в Лепляву приехали жена, сын, сестра Гайдара, его друзья — писатели, работники Детиздата, где продолжали выходить его книги.
Аркадий Петрович не ошибся, когда предполагал, что его будут искать...
А теперь я хочу вам показать вот это...
Я открыл кожаный портсигар, который состоял из двух раздельных, вдвигающихся половинок. В меньшей лежал тугой полотняный сверток. Полотно было давнишней выделки, из грубой, отчетливо проступающей нитки. Ткань пожелтела от времени, и на ней появились те пятна ржавчины, которые неизвестно откуда берутся на очень старом белье.
Я развернул сверток. Это был носовой платок. Края его были аккуратно подрублены и прошиты на машинке. В одном из уголков синели маленькие изящные цветочки с зелеными листьями — не то васильки, не то вероника. Поперек угла было вышито детской рукой: «На счастье». И стояла дата сердечного пожелания — «1941».
Из платка на скатерть выпало три предмета: прозрачный пластмассовый мундштук (грани его отливали янтарем, а сопло, куда вставлялась папироса, обгорело и даже отчасти спеклось), огрызок толстого четырехцветного карандаша (лак его облез, и на боках отчетливо проступила волокнистая древесина) и дощечка из фанеры.
Дощечка была чуть больше спичечного коробка. С одной стороны ее покрывала коричневая, поблекшая краска, похожая на спичечную серу. А на другой синели четыре оборванных строчки:
28.9.41
В лесу у дер.
Семеновка
под Киевом
Карандаш, портсигар, дощечка, платок, мундштук начали переходить из рук в руки вдоль стола.
— Что это? — прервал молчание Скрыпник.
— Вещи Аркадия Петровича, — ответил я. — Мне их подарил Александр Дмитриевич Орлов.
— Так они у Аркадия Петровича и лежали, — спросила Афанасия Федоровна, — завернутые в платок?
— Нет, предметы накопились у Орлова постепенно. Платок попал к Александру Дмитриевичу после выхода из Семеновского леса. У Орлова прохудился сапог. Лили дожди. Он попросил у запасливого Гайдара какую-нибудь тряпицу обмотать ногу. Тряпицы не нашлось. Аркадий Петрович вынул из сумки два носовых платка, которые получил в детском подарке. И отдал полковнику. Один платок пришел в полную негодность. Орлов его выбросил. А второй сохранился.
Трофейный четырехцветный карандаш Аркадий Петрович дал Орлову что-то записать. И полковник позабыл вернуть. А мундштук и портсигар Аркадий Петрович подарил Орлову 18 октября, когда Александр Дмитриевич уходил к линии фронта. И самую большую ценность в этой коллекции, конечно, представляет дощечка.
— Не пойму, для чего она, — сказала Афанасия Федоровна, крутя в руках фанерку.
— Это дощечка от бутылки с зажигательной смесью, — ответил Скрыпник. — Дощечка была облита серой, как спичечный коробок. И бутылочная головка тоже. Дощечкой чиркали по головке. Сера загоралась. Бутылку бросали в танк. Дощечки эти солдаты иногда оставляли себе — зажигать спички и прикуривать. И называли так — «ширкало».
— А что означают слова «В лесу под деревней Семеновка»? — спросил Швайко.
— В этом лесу мы прятались, отступая по Бориспольскому шоссе, — сказал Абрамов. — Там собралось много народу. Немцы лес оцепили. Подогнали даже танки. Из этой мышеловки мы с группой Орлова и прорвались сюда, под Лепляву. А надпись... — пожал он плечами, — что может означать такая надпись?..
— Мне поначалу тоже так казалось, — сказал я, придвигая к себе фанерку, — что сидел Аркадий Петрович на поваленном дереве или пеньке, делать было нечего, настроение, вероятно, было плохое, на глаза попалась гладкая дощечка. Он вынул из кармана карандаш и набросал первое, что пришло в голову.
Но обратите внимание на одну странность: фанерка полированная, гладкая, а некоторые буквы корявые — «л» в слове «лес» больше похоже на «п» или «м». У цифры «9» внизу какой-то странный хвостик, словно сорвался карандаш и пошел писать сам. Почему?
— Мне кажется, Гайдар эти буквы сперва вырезал, — заметил Швайко, — а затем обвел чернильным карандашом.
— Верно. И возникает вопрос: а почему Аркадий Петрович не сделал эту бесхитростную надпись одним только ножом? На светлом дереве, наверное, ее было бы трудно прочесть. Тогда почему он не набросал тот же текст простым химическим карандашом? Карандаш стирается и легко размывается. Только если буквы вырезаны и прочерчены чернильным грифелем, они обретают заметность и долговечность.
Значит, Гайдар выводил эти строчки не от скуки. Ему нужно было, чтобы они сохранились надолго. И тогда мне впервые пришло в голову: а что, если дощечка не так уж проста? Что, если у нее было какое-то особенное предназначение, а текст ее... зашифрован?
— Ну уж, Борис Николаевич, вы скажете, — засмеялся Сергей Федотович. — Может, поискать уж заодно и бутылку с зажигательной смесью и на дне ее — продолжение?..
— Я бы не прочь найти и бутылку с продолжением, только текст фанерки зашифрован. И у этого шифра есть простенький, но ключ.
— Шутите, — недоверчиво улыбнулся Абрамов.
А Василий Иванович и Швайко посмотрели на меня с искренним удивлением. Я подошел к лавке, которая заменяла Афанасии Федоровне книжную полку, взял томик
Гайдара и прочитал вслух начало последнего письма:
«Дорогая Дорочка!.. Вчера вернулся и завтра выезжаю опять на передовую, и связь со мной будет прервана. Положение у нас сложное. Посмотри на Киев, на карту, и поймешь все сама...»
Это было авиаписьмо, о котором я рассказывал. Гайдар послал его 17 сентября. Взгляд на карту объяснил бы Доре Матвеевне, что обстановка вокруг Киева резко ухудшилась. А 19 сентября Совинформбюро сообщило: после продолжительных боев наши войска оставили город Киев.
Где Гайдар, успел ли он уйти из города — этого уже никто сказать не мог. Теперь давайте представим: рано утром Дора Матвеевна открывает почтовый ящик и обнаруживает в нем фанерку. Узнала бы она, кто написал эти несколько слов?.. Конечно.
Почерк на фанерке, где каждую букву сперва пришлось вырезать, отчасти изменился. И все-таки она бы сразу узнала руку Гайдара. И тогда ключом к загадочной надписи стала бы уже известная строчка авиаписьма: «Посмотри на Киев, на карту».
На дощечке стояло число — 29 сентября. Надпись была сделана через одиннадцать дней после падения Киева. Значит, Гайдар в городе не остался. Это было хорошо. В городе передвигаться и прятаться гораздо труднее.
А карта бы уже подсказала: Семеновка находится в глубоком немецком тылу. А лес?.. Значило ли, что лес партизанский?.. Нет. Гайдар умел хранить военную тайну. Будь лес партизанский, Аркадий Петрович не упомянул бы Семеновки. Следовательно, он был просто в окружении.
Большего о себе 29 сентября Гайдар не знал и сам...
А положение в Семеновском лесу было отчаянное. Сергей Федотович может рассказать об этом лучше меня. Кругом танки и немецкие автоматчики. Нет воды, нечего есть. Сергей Федотович предпринял попытку вырваться со своими саперами из леса, но плотный огонь заставил их повернуть обратно.
Таким образом, фанерка служила как бы продолжением авиаписьма, а с другой стороны — Аркадий
Петрович это вполне допускал, — она могла стать последним известием о нем.
— Обождите, — остановил меня Скрыпник, — вы полагаете, что Аркадий Петрович собирался каким-то образом эту дощечку послать?..
— Не собирался, а послал. Перед самым прорывом из Семеновского леса он отдал ее Орлову. Если бы во время боя они потеряли друг друга и полковник перешел бы линию фронта, он должен был тут же переслать дощечку в Москву. Помня историю с тремя известными пистолетами, я полагаю, что и дощечек Аркадий Петрович заготовил и роздал несколько. А быть может, просто много. И по-видимому, давал их с собою людям, которые мелкими группами отваживались на прорыв.
— Отчего же Орлов не сделал, как его просили? — повернулась ко мне Афанасия Федоровна.
— Полковник перешел линию фронта в декабре. Сведения на дощечке устарели.
Семье писателя полковник сообщил открыткой, что находился с Гайдаром в окружении. А дощечку оставил себе на память. В конце концов это самое короткое послание Гайдара достигло Москвы. Оно прочитано и расшифровано.
И у меня такое ощущение: окажись у Гайдара в запасе больше времени, он бы придумал, что сделать, чтобы не пропали и его тетради. Как бы ни повернулись обстоятельства.
— Что же вы собираетесь делать с этими вещами? — спросил Скрыпник, показывая на портсигар и дощечку.
— Передам в Музей Гайдара.
— К нам, в Канев? — оживилась Афанасия Федоровна.
— Нет, в Москве.
— А разве в Москве тоже открыли Музей Гайдара? — удивился Абрамов. — Я не слышал.
— Еще не открыли. Но я подожду. Да и Орлов мне наказывал: «Передашь только в московский музей...»
РАСКОПКИ
Проводив Скрыпника и Абрамова, которые отбыли на «метеоре», мы со Швайко позвонили в райком партии.
— Буду рад вас видеть, — ответил первый секретарь. Когда мы вошли в приемную, пожилая машинистка поднялась из-за низкого столика.
— Проходите, пожалуйста, — сказала она. — Петр Филатович вас ждет.
Мы вошли и смутились. Громадный кабинет был полон народу: тут шло совещание. Петр Филатович поднялся навстречу, поздоровался. Я представил ему и присутствующим Василия Михайловича. Участники совещания заулыбались, закивали головами. Фамилия Швайко многим была знакома.
С секретарем райкома в этот мой приезд мы виделись впервые. И я сказал:
— Спасибо, Петр Филатович, за камень.
— Не стоит, — ответил он, усаживая нас. — Я огорчен, что камень плохо обтесан.
Для присутствующих разговор выглядел загадочным, и Петр Филатович пояснил:
— В Лепляве, на месте первой могилы Гайдара, с 1947 года стояла фанерная колонка. Весной ее, конечно, подновляли, но фанера есть фанера. Пришлось обратиться к начальнику строительства Каневской ГЭС. Он дал материалы, кран, самосвал. Среди строителей отыскались добровольцы. И теперь возле будки обходчика — гранитный монолит. Вес — две тонны. На нем мраморная плита. Буквы позолочены. Но обтесан плохо.
— И все-таки теперь там камень, а не фанера, — сказал я. — Большое спасибо.
— Будут нам еще задания? — спросил, улыбаясь, Петр Филатович.
— Есть одно дело. Но у вас совещание...
— Ваши дела для нас не чужие. И, я думаю, всем будет интересно послушать. Верно?
Я коротко рассказал о подвиге лесника Швайко, сумке Гайдара и футбольном мяче Володи.
— Обратите внимание, товарищи, — сказал секретарь райкома. — Живем вроде бы здесь, на Черкасщине, мы с вами. А историю наших мест узнаем из Житомира и Москвы. Предлагаю: райком комсомола поднимает на поиски футбольного мяча и тайника Швайко молодежь. А колхозы дают необходимую технику и берут на себя часть расходов. Что скажете, товарищи председатели?
— Дадим, — решительно ответили председатели. — Тетрадки Гайдара надо найти... И еще — что сохранилось...
Я взглянул на Швайко. Он сидел, вобрав голову в плечи. На лице его был испуг: к такому размаху поиска мы еще не были готовы.
— Мы сперва попробуем сами, — робко произнес Василий Михайлович.
— Смотрите, — слегка обиделся Петр Филатович. — Мы не каждый день такие добрые. Просто сейчас есть возможность.
— Если не справимся, придем опять, — пообещал я. — А пока нам нужна только машина.
— Грузовая?
— Легковая.
— «Газик» устроит?
— Вполне.
...Спать в гостинице мы легли пораньше, но долго не могли уснуть. В начале седьмого под окошком коротко и громко квакнул гудок: приехал райкомовский шофер Юра.
— Куда поедем? — спросил Юра, когда мы очутились на улице.
— Сперва за лопатами к Афанасии Федоровне.
— Минуточку, — ответил Юра и быстро зашептал: — По щучьему велению, по моему хотению... Прошу... — и распахнул дверцу.
На полу «газика» между передним и задним сиденьем лежали два отливающих синевой лома, три лопаты с сияющими белизной черенками, топор, ведро с длинной веревкой и даже металлическая «кошка».
— Наколдовать что-нибудь еще? — с хитрой улыбкой спросил Юра.
— Да, — серьезно ответил я ему. — Наколдуй нам, пожалуйста, удачу...
«Газик» понесся по асфальту вниз, к Днепру. Мы без задержки проскочили временный мост через реку и поползли по сыпучему песку в Лепляву. Возле сельсовета свернули, проехали мимо дома Афанасии Федоровны, в конце улицы опять повернули налево, и нас закачало на ухабах, затрясло на жестких корнях. Начался лес.
Для Василия Михайловича здесь уже начинались родные места. Он попросил Юру ехать помедленней и распахнул дверцу. В фигуре Швайко ощущалось напряжение. Он всматривался в очертания кустарника и облик деревьев, как в лица.
До лагеря оставалось версты две, когда Швайко выпрыгнул на дорогу и тут же растворился в зарослях.
— Юра! — наконец донесся его голос. — Жми прямо по дороге.
Мы медленно взяли с места и вскоре увидели улыбающегося Василия Михайловича. Он стоял в распахнутом пальто на верхней кромке высокого и крутого склона. Этот склон сплошь зарос кустарником. И лишь в том месте, где мы остановились, шла неширокая, покрытая редкой травой просека, словно здесь когда-то пролегала дорога.
— Подгребай ко мне, — весело крикнул Швайко Юре.
— Опрокинемся, — меланхолически заметил наш водитель.
— Какое опрокинемся! Я тут двести раз поднимался с возами. Писателя только однажды потерял, — хмыкнул он. — И каждое первое сентября об этом рассказываю... Так у меня ж на возу не было кабины. А у тебя есть.
Я впервые видел Василия Михайловича в веселом, даже озорном настроении.
Юра включил передний диффер, направил «газик» на откос. Машина завыла, завиляла и медленно поползла вверх, задирая капот. Мы со Швайко шли рядом, готовые ее подтолкнуть.
Но передние колеса вскоре зашуршали по твердому насту, и машина выползла на давно заброшенную дорогу.
Скоро мы увидели несуразно длинный дом. Та его часть, что находилась ближе к нам, осела. Зато вторая еще крепко держалась на своих опорах.
— Здесь мы и жили, — негромко произнес Василий Михайлович, подходя к уцелевшей половине барака. — Сюда и приходил к нам Гайдар.
Мы поднялись на крыльцо. Василий Михайлович подергал обитую войлоком дверь — она не поддалась. Швайко рванул посильней — дверь открылась. Пахнуло сыростью, плесенью и тленом.
Мы вошли в коридор. Было темно. Юра щелкнул фонариком. Луч света позволил увидеть, что проход в глубине завален кирпичом и какими-то обломками. А направо мы обнаружили еще одну дверь. Швайко легонько толкнул ее — она неслышно распахнулась.
— Наша комната, — сказал он.
Мы вошли. Окна с неразбитыми стеклами, сквозь пыль которых с трудом проникал свет. Большой обеденный стол на крестообразных ножках. Справа русская печь. Со стен свисают лохмотья довоенных газет, заменявших обои.
И повсюду — на полу, в углах — какие-то тряпки, бесформенный хлам.
Глядя на такой разор, трудно было представить, что в этой комнате были отогреты и накормлены сотни командиров и бойцов, которые по разным непростым причинам оказались в немецком тылу. Отсюда лесник выводил их на проверенные, безопасные тропы.
Я приблизился к столу. Он был покрыт выцветшей клеенкой.
Значит, за этим столом Гайдар собирался после войны писать вместе с Лелей, Володей и Васей книгу. Тут в последний свой приход он объяснял Михаилу Ивановичу, что его бумаги представляют не меньшую ценность, чем секретные документы. На этом столе были завернуты в старенькую клеенку тетради. И Михаил Иванович вынес сверток через ту же дверь, в которую мы только что вошли, в тот лес, что растет вокруг.
Вроде я достиг в своем поиске предпоследней черты. От рукописей Гайдара меня сейчас отделяли не города, не села, не реки, не версты. От полуразваленного дома, где мы находились, до тайника Михаила Ивановича оставались метры. Сколько — тридцать, сорок, семьдесят?.. После долгих месяцев поисков и мытарств, переездов и перелетов, радио- и телепередач с запросами я, казалось бы, находился у самой цели, которая... по-прежнему была далека.
Подстелив свежую газету, которую мы утром купили в киоске, Василий Михайлович сидел на лавке за столом, а Юра уверенно, почти профессионально, метр за метром обследовал комнату: выдвигал ящики самодельного буфета, обстукивал половицы и стены, заглянул даже под печь.
Он извлек немало хозяйственных предметов: кочергу, сковородку, ухват без черенка, чугун, погнутую вилку. К тайнику Михаила Ивановича они отношения не имели.
Печь разгораживала помещение на две неравные половины. Я заглянул в закут. В узкий простенок были втиснуты маленький столик и лавка. Это была комната Васи и Володи. Сюда они пригласили Гайдара в памятный вечер первого знакомства.
Я придвинул скамейку, встал на нее и оглядел лежанку.
Кирпичи хранили еще кислый запах перестоявшегося теста и легкий дурман сухих трав. Превратясь в пергамент, валялся истершийся кожушок. Больше ничего здесь не было. Я спрыгнул на пол. И снова оглядел закут.
Над столом косо висела легкая тростниковая этажерка. Она была пуста, и только на верхней полке лежала растрепанная книга без обложки. Я взял ее, отряхнул пыль. Раскрыл. Это оказался учебник ботаники. Параграфы обведены кружками. Строчки подчеркнуты. Я пролистнул книгу и на всякий случай потряс.
Выпало два засохших садовых эдельвейса. Беловато-серые сплющенные цветки способны сохранять свою форму десятилетия. Но все это я заметил краем глаза, потому что из тех же страниц выпала сложенная вдвое полоска бумаги в клетку.
Ученые считают, что во сне за секунду можно прожить целую жизнь. За эту секунду, которая мне понадобилась, чтобы наклониться и поднять листок, в голове пронесся вихрь мыслей. Вспомнил я и рассказ Эдгара По «Украденное письмо».
Был похищен государственной важности документ. Его искали во всех почти недоступных местах. А похититель спрятал листок в кожаную охотничью сумку, которая висела на виду.
И еще я думал: «Связана ли записка из книги с той, что была вложена в комсомольский билет Володи?.. Что, если это две половинки одного текста?.. Но кому и для чего Володя мог оставить эти половинки?..»
«Для Володи война долгое время была игрой», — вспомнил я слова Василия Михайловича.
В записке было: «Вовка, дай списать!»
Я вложил листок в книгу и оставил ее на столе.
* * *
Василий Михайлович повел нас мимо полусгнившей изгороди, за которой начинался лес. И вскоре, позабыв о нашем присутствии, он стал рассматривать деревья. Сперва его интересовали только сосны. Каждую из них он оглядывал снизу доверху, подолгу задерживаясь на верхушках и время от времени бросая взгляд на изгородь: далеко ли она.
Внезапно Василий Михайлович вздрогнул, резко поднял голову и сделал несколько быстрых шагов вперед.
Рядом затрещали ветки, с лопатами под мышкой появился Юра. Швайко стоял перед раздвоенной сосной.
— Первый привет от Володи, — хрипло произнес Василий Михайлович.
— Под ней и рыть? — спросил Юра.
— Малость подожди. Теперь уж немного осталось, — ответил Швайко.
Он взял из Юриных рук лопату. Провел по земле идеально ровную черту. Построил к ней перпендикуляр. Разделил верхний левый угол пополам и, смешно ставя ноги по одной линии, стал отмерять шаги.
Я вдруг отчетливо представил, как это делал сам Володя, который продолжал по инерции играть в индейцев, следопытов и сыщиков. Конечно, Володя не предполагал, что его клад станут искать без него. И теперь Василий Михайлович трогательно копировал его движения, чтобы не ошибиться в расчете таинственных координат...
Нетрудно было догадаться, куда направляется Швайко. Я увидел березу с мощным, выпирающим из земли корнем, который переходил сразу в три одинаково изогнутых ствола. «Трехстволка». Приметней дерева не придумаешь. Володин клад должен быть здесь.
И не ошибся. Швайко остановился. Обтер платком пот со лба. Обнял один из стволов. Похлопал его, как друга после долгой разлуки. И сказал, ни к кому не обращаясь:
— Чайку бы сейчас.
Юра бросил лопату. Исчез. И вернулся с белой пластмассовой канистрой литра на три.
— Пейте. Утром набирал.
— А кружка есть?
— А вы вот так, — посоветовал Юра и, отвинтив крышку и высоко подняв канистру над головой, подставил широко раскрытый рот под струю.
В итальянских фильмах подобным способом пили вино из бурдюка лихие супермены.
Швайко попробовал напиться по-суперменски. Вода затекла ему за воротник. Вымочила всю рубашку.
— Я лучше, Юра, из ладошек попью. Налей, — сказал Василий Михайлович и протянул водителю канистру.
Я взглянул на часы: половина одиннадцатого.
— Начнем? — спросил Юра.
Швайко кивнул. Юра схватил с земли лопату.
— Юра, у твоей лопаты сломан черенок, — сказал я ему.
— Да вы что? Инструменты совсем новые. Петр Филатович велел дать со склада.
— А вот иди сюда, я тебе покажу.
Держа лопату обеими руками, Юра подошел ко мне. Взгляд его был оторопелым и неприязненным.
— Дай Василию Михайловичу самому найти, — сказал я тихо. — Мы придем на помощь, если он устанет или позовет.
Юрино лицо смягчилось. Он улыбнулся и кивнул. И тут же отправился к машине.
Я издали наблюдал за Швайко. Он не спеша нагнулся, поднял с земли лопату и, не оглядываясь, не ища нас, приблизился к березе. Дважды обошел ее, словно выбирая, с какой стороны начать. Вонзил лопату в землю и отбросил первый ком.
Юра принес острый топор, оба лома и ведро с веревкой. Мы продолжали с ним стоять в сторонке. Василий Михайлович уже скинул пальто и пиджак. Под березой желтела немалых размеров яма. Но в том, что Швайко выбрасывал своей лопатой, не было ничего, кроме чистого песка и белых, тонких корневых побегов.
Швайко остановился, рукавом рубашки вытер лицо.
Я подошел поближе:
— Дайте-ка, Василий Михайлович, я вас сменю.
— Пока не надо, — ответил он и начал рыхлить стены ямы, видимо надеясь, что острие вот-вот наткнется на что-нибудь металлическое или тряпично-упругое. Но, кроме щепок и обрубленных корней, ему ничего не попалось.
— Позвольте, я копну с другой стороны, — не выдержал Юра.
— Копай, — согласился Швайко.
— Отдохните, — предложил я Василию Михайловичу.
Он не стал спорить.
Разрешение наш водитель расценил как свою большую удачу. Он не сомневался, что футбольный мяч со своей начинкой ждет только его. И заработал с такой скоростью, что через две-три минуты наши лопаты одномоментно звякнули о металл. Мы вздрогнули и, присев, оба запустили в яму свои руки.
— Пистолеты? — быстро, нервно спросил Швайко.
— Встреча на Рейне, — ответил Юра. — Стукнулись лопатами.
Василий Михайлович сменил меня. Потом я снова — его, Юра от отдыха отказался. И часа через полтора под березой зияла большая яма. Шатром над ней возвышались оголенные корни.
Мы уже не сомневались: корни, способные разрушить бетон, разорвали камеру и покрышку. Надежд, что мы извлечем комсомольский билет с вложенной запиской, уже не оставалось. Мы только могли откопать, если повезет, остовы пистолетов.
— Давайте рубить корни, — предложил Юра.
— Загубим дерево, — ответил Швайко.
— Мы только те, что мешают. И потом, лес все равно подчистую спилят: здесь будет Каневское море.
Топор был один. Мы рубили им поочередно. Корни сопротивлялись, упруго отбрасывая сталь. Однако топор был остер. И корневые отростки через какое-то время безжизненно повисали, но мы не трогали мощных корневых стволов.
Под березой уже зияла глубокая яма. Первым в нее спрыгнул Юра, Он нагребал песок в ведерко, подавал нам, мы высыпали и возвращали обратно. За Юрой спустился Василий Михайлович. Но и он не зачерпнул ведром ни куска железа, ни лоскута кожи.
Юра сидел на пеньке. Белобрысые волосы его прилипли ко лбу. Казалось, он выскочил из парилки. Но пар его нельзя было назвать легким. Василий Михайлович продолжал неистово углублять котлован под деревом. Я относил ведра с песком. И полубегом возвращался обратно. Потом мы поменялись опять.
Корни березы вздымались над ямой. В том, что три молодых мощных дерева качались на тонких, старчески изогнутых ногах, было что-то пугающее. Василий Михайлович работал, не поднимая глаз. Он испытывал неловкость, что мы ничего не нашли. Наконец сказал:
— Где-то я дал промашку.
Ужинали мы с Василием Михайловичем в номере. Нужно было понять, что произошло.
— Вы уверены, — спросил я, — что береза та самая, под которой прятал свой клад Володя?
— Я ж прикидывал: и от дома недалеко, и повернута как надо. И потом, по количеству шагов от сосны...
— Давайте завтра на всякий случай поищем под какой-нибудь соседней «трехстволкой».
Ночью я проснулся от того, что хлопнуло оставленное открытым окно. Лил дождь. И в небе я не различил ни малейшего просвета.
Под утро в комнату постучали. Вошел Юра и молча поставил у наших кроватей по паре новых резиновых сапог.
Позавтракали в столовке и отбыли в лес.
Трехствольных берез обнаружилось до удивления много. Мы отобрали шесть, которые больше остальных подходили нам по своим приметам. Каждый облюбовал себе дерево. И, взяв лопаты, мы разошлись. Но раскопки в одиночку подвигались нестерпимо медленно.
— Давайте все сюда, — решительно заявил Василий Михайлович, — когда закончим в одном месте, пойдем в другое.
После ночного дождя песок сделался гораздо тяжелей. А руки и плечи ныли еще от вчерашнего.
До обеда мы все обследовали под Юриной березой. И наполовину под моей. Согрели чай. Съели пирожки, купленные утром в буфете, и принялись снова.
Под четвертой березой мы работали, уже вздув два костра. Но и тут ничего не нашли. Юра отвез нас в гостиницу. Забрал наши сапоги, чтобы просушить их дома (в гостинице сушить было негде). И мы опять до утра остались с Василием Михайловичем вдвоем.
— Борис Николаевич, — сказал он, — на что вам дались эти пистолеты? Я понимаю, если б нашли сразу...
— Если б нашли сразу, это было б даже неинтересно: все равно что прийти в булочную и купить батон.
— Ладно, поглядим, что нам подарит завтра, — успокоился Швайко.
Ночью мы дрожали под своими одеялами. А утром все разъяснилось: ударил мороз. Увядшая трава и опавшие листья побелели от инея и снега. Остатки луж затянуло стеклом, а деревья стали словно лакированные. Как и четверть века назад, холода наступили непривычно рано.
Юра привез нам просушенные, еще теплые после печки сапоги. Мы быстро позавтракали и отправились на кордон.
В каждом, кто ищет, живет вера в счастливый случай: вот еще один удар заступом, еще одна скважина, еще один опыт — и мать сыра земля или таинственная, а порой и жестокая природа отдадут или откроют тебе то, за чем ты пришел.
Эту веру в непременную удачу нам привили фильмы и книги, где за полтора часа экранного времени или на протяжении двухсот страниц остросюжетного романа главный герой, исправив собственные ошибки, победив скепсис окружающих и перехитрив безмолвную природу, что-то там триумфально доказывает.
На самом же деле профессиональные кладоискатели — геологи и археологи — нередко ищут свои «острова сокровищ» десятилетиями. А между тем островки-то немалые... Древний город может занимать громадные площади. А уголь или нефть какого-нибудь месторождения может потянуть на миллиарды тонн. Казалось бы, чего тут искать? Иди и бери.
А на деле далеко не каждому выпадает подержать на ладони два-три невзрачных, только что извлеченных из грунта кристаллика или ритуально омыть себе лицо в первом фонтане нефти. И уже точно подсчитано: у геолога в среднем всего два шанса против девяноста восьми найти то, что он ищет. Вот почему кладоискателям нужно прежде всего терпение.
* * *
В последний день, намеченный для поиска пистолетов, мы трудились как одержимые. Убедясь, что и под оставшимися березками Володиного тайника нет, мы выбрали несколько других. Выгребли новые тонны песка. Когда стемнело, разожгли костры. И кинули в изнеможении лопаты лишь в десять вечера.
Мы пробыли в лесу четырнадцать часов. Сделали за это время только один перерыв. И лишь сейчас, разогнув спины, увидели ту панораму, что развернулась вокруг.
Стволы, ветви и даже листья деревьев покрыл лед. Было такое впечатление, что каждый дуб и каждую березу одели в толстое стекло.
Деревья увеличились в размере. Ветви, нависая со всех сторон, походили на застывшие хищные щупальца, свет костров отражался в ледяной чешуе. В глаза, куда ни повернись, ударяли синие, желтые, зеленые блики. Было такое ощущение, что лес ожил и деревья перемигиваются между собой. Зрелище было фантастически красивым. Но нам от него сделалось не по себе.
Мы торопливо собрали инструменты, погрузились в машину, но и по дороге в Канев деревья тянули к нам свои остекленевшие ветви, царапались в окна, сердито ударяли по крыше.
Высадив нас возле гостиницы, Юра спросил:
— Что делаем завтра?
— Будем звонить в обком просить помощи, — ответил я ему. — Будем искать тайник Михаила Ивановича.
ГЛАВА, КОТОРОЙ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ
...Пятеро саперов работали восьмой день. Командовал ими лейтенант Толя Григорьев, высокий, всегда улыбающийся широкими расплюснутыми губами. В детстве Толя был музыкантом, играл на трубе в военном оркестре. Потом решил стать сапером. И теперь готовился в военно-инженерную академию.
Еще в поиске участвовали бульдозерист дядя Миша, экскаваторщик Николай Александрович. И десять добровольцев прислал райком комсомола.
К сожалению, Швайко уехал домой. Юру отозвали. Возил нас в лес грузовик с фанерным верхом. На фанере, броско: «Люди!» Та же трехтонка доставляла инструменты и продукты: обед мы готовили сами.
Главными работниками у нас считались саперы. Каждого сопровождали двое или трое местных ребят. Если боец «слышал» железо, в дело вступали землекопы. Если звук в наушниках усиливался, сапер дальше уже раскапывал сам. Но когда миноискатели долго молчали, на помощь со своим экскаватором приходил Николай Александрович.
Полукубовым ковшом метр за метром он срезал тонкие ломти грунта. А в случае надобности копал глубже.
Во время работы экскаватора я всегда стоял рядом, наблюдая за тем, что высыпется из ковша. Я не терял надежды, что рано или поздно блеснет осколок стекла или я замечу в комках земли полуистлевшую обложку служебного удостоверения.
Забегая вперед, скажу: ни одной трехлитровой помидорной банки, закопанной лесником, мы не нашли.
А тем временем бульдозерист дядя Миша осторожно корчевал пни. Он упирался острым краем косо развернутого ножа в пень и на самой малой скорости трогал с места свой «танк». Пень начинал клониться, показывая облепленные землею корни. Кто-нибудь при этом наблюдал. не появится ли в их переплетении какой предмет. Когда вывороченный пень ложился срезом на землю, сапер прослушивал его «бороду» и опускал щуп в землю.
Лес, в котором мы безуспешно искали два пистолета, оказался набит сталью.
Откапывали мы каждый день. Но что? Разорванные стволы минометов, тележки от пулеметов «максим», автоматные магазины, иные еще с патронами, каски обеих армий, остовы винтовок, пряжки, ремни, изъеденные ржавчиной штыки, пуговицы, котелки, шомпола, гаечные ключи, осколки бомб и снарядов, части автомобилей и просто рваные куски железа.
А на восьмой день произошло одно событие. Я дежурил по кухне. На вкопанных в землю рогулинах в ведре варился лапшовый суп с картошкой и полученной в совхозе бараниной. А в другом очаге попыхивал поставленный на угли чугун с кашей.
Но дрова подвернулись сырые. Суп мой упорно не закипал. А время близилось к обеду.
Работал наш поисковый отряд неистово. Аппетит у всех был зверский. И было бы стыдно в час дня их досыта не накормить.
Я отошел в сторонку поискать сухого валежника, потому что вблизи лагеря все было выбрано, и, обходя кусты барбариса, ухнул в наполненную опавшими листьями яму. Это была воронка или окоп на двух-трех человек, какие тут попадались довольно часто.
Испугаться я не успел. Ушибся не очень. Зато, падая, заметил сухую березу, которая могла помочь моему супу быстрей закипеть.
Я вылез из ямы, облепленный, как ежик, сухими листьями, направился к березке, срубил ее, ободрал бересту, отсек сучья потолще. И обмер: обод!.. Мне вдруг показалось: когда я падал в яму на мягкую кучу листьев, на другом конце этой воронки или окопа мелькнул краешек обода.
Не обруча от дубовой кадушки. Не шины тележного колеса. Там был трубчатый обод железной бочки.
Не померещилось ли?.. Я рванулся к кустам и сквозь цепкие ветви с засохшими темно-бордовыми ягодами совершенно отчетливо разглядел ржавый обод. Цепляясь курткой за сучки и колючки, я подобрался к яме. Смахнул слой листьев — на боку, засыпанная песком, лежала железная бочка.
Что в ней могло быть? Как она сюда попала? Сбросил ли ее в эту яму давний мощный взрыв? Или бочка была кем-то закопана, а взрыв тяжелого снаряда или небольшой бомбы ее обнажил? Как бы там ни было, сама закатиться в гущу леса и закопаться в землю такая бочка не могла.
В каком-то внезапно охватившем меня жару я принялся было откапывать ее топором. Но, к счастью, остановился. Во-первых, я не имел понятия, что в бочке могло оказаться. Во-вторых, дисциплина существовала для всех.
Я неофициально числился кем-то вроде начальника экспедиции, то есть я говорил: «Копайте здесь, а там пока не надо». И меня слушались. Но как только завывало в наушниках миноискателя или на поверхность вылезало загадочное железо, главным становился Толя Григорьев. А он в первый же день решительно заявил:
— Все неясное железо выкапываю только я. Вопросов, надеюсь, нет?
Вдобавок я вспомнил, что осенью сорок первого гитлеровцы сбрасывали на Ленинград вместо зажигалок и фугасок такие вот бочки со взрывчаткой или горючей смесью.
Сброшенная с большой высоты, бочка издавала тугой, угнетающе-низкий звук, не похожий на все знакомые: завывание пикирующего бомбардировщика, нарастающий гул дальнобойного тяжелого снаряда или пронизывающий, ввинчивающийся свист фугаски. Вой падающей бочки, в особенности с проделанными в ней отверстиями, создавал ощущение вселенской неизбежной катастрофы.
Набитая взрывчаткой с каким-то наскоро засунутым в нее капсюлем, такая бочка чаще всего не взрывалась. Она проламывала крышу, перекрытия двух-трех этажей, превращала в труху мебель, сплющивала печи, кухонные чугунные плиты и застревала где-нибудь в столовой или детской спальне.
Но от ее тупого удара в окружности двухсот—трехсот метров испуганно вздрагивали, даже, казалось, подпрыгивали дома, в ушах долго звенел вдавливающий тебя в землю низкий звук. И прибывшие на машинах с сиренами саперы произносили разные крепкие слова, пытаясь найти чертов взрыватель, который мог сработать при перевозке бочки.
Что, если такой гитлеровский подарочек лежал сейчас в яме?
— Толя! — крикнул я. И неизвестно почему: — Товарищ старший лейтенант!
Осторожности ради я хотел сперва показать находку только ему: вдруг я стою возле полутонны тринитротолуола, где не сработало взрывное устройство? Но все-таки ликующие ноты в моем голосе выдали меня. Экскаватор и бульдозер перешли на холостые обороты. И со всех сторон затопали сапоги.
— Ау! Где вы?!
Я отозвался. Первым бежал Толя. За ним саперы: Дима, Гена, Петя и Леонард. Следом — ребята-комсомольцы. Замыкали кавалькаду дядя Миша и Николай Александрович.
Я не стал ничего объяснять. Просто показал на яму.
— Всем отойти! — раздался голос Толи. — Подальше, — добавил он, выждав.
Мы нехотя повиновались.
Быстро и тревожно стучало сердце. Я жалел, что рядом нет сейчас Василия Михайловича. Похоже, подтверждалась его версия о фундаментальном тайнике его отца. Толя подошел к яме. Легонько постучал костяшками пальцев по железу. Бочка почти целиком лежала в земле. Это ухудшало резонанс. Но по стуку Толи, который он повторил уже сильней и громче, мы все убедились, что бочка не пуста.
— Несите лопаты! — велел Толя.
Откапывал он сам. Мне удалось подойти поближе. Я мелко дрожал, точно перекупался в реке, но воздал хладнокровию и мастерству Григорьева должное, когда он саперной лопаткой снимал землю такими тонкими ломтями, точно нарезал к столу сыр или колбасу.
Все-таки мы дождались: появился верх бочки. Крышки у нее не было — затерялась, сорвало, сгнила? Ведь она могла быть и деревянной, скажем, дубовой, взятой с кадушки для соления огурцов. Там, где полагалось быть крышке, набился песок.
Толя выгребал его пальцами с коротко остриженными ногтями. Лишь два или три раза, когда попадались крепкие комки, он рискнул порыхлить их тупой стороной карандаша. Чтобы ускорить дело, Толя прокопал в бочке «тоннель», рука уходила в отверстие по самое плечо, а песок не кончался.
Внезапно лейтенант остановился. Замер:
— Здесь тол. Все в укрытие!
Но разочарование от этих слов было столь велико, что никто не двинулся с места.
— Отставить укрытие! — так же неожиданно произнес младший лейтенант: — Это смола.
Бочку обкопали со всех сторон и вытащили руками, не подгоняя технику. Песок из нее выгребли той же саперной лопаткой. Больше чем на треть бочка была заполнена смолой, которая внутри покрывала стенки до самого верха. Железо во многих местах истончилось и порвалось, но сохранило форму.
На всякий случай мы проверили, нет ли чего в смоле: какого-нибудь котелка с плотно защелкнутой крышкой. Не обнаружили ничего.
Мы отправились обедать. Суп с грехом пополам, когда я подбросил в огонь березовые поленья, закипел. Я разлил свое варево по мискам. Ели товарищи вяло. И добавки почему-то никто не просил.
После обеда мы уже не работали. Набитая песком бочка из-под смолы — кому она понадобилась в лесу? — нас совершенно опустошила.
Выходит, не я один верил, что мы вот-вот найдем тайник.
Запрятав инструменты и взяв с собой только миноискатель, мы, не дожидаясь фургона, ушли в Лепляву.
Вечером в клубе показывали «Подвиг разведчика». Мы заняли целый ряд. Я с завистью наблюдал, как на экране все удачно получалось у нашего отважного разведчика, роль которого исполнял Павел Петрович Кадочников.
И никто, разумеется, не догадывался, что сорокаведерная железная бочка из-под смолы, которую каждый из нас в душе проклинал за погубленный рабочий день и надолго испорченное настроение, имела прямое отношение к нашему поиску.
...Шел одиннадцатый, предпоследний день работы нашей экспедиции. Мы сидели с Толей Григорьевым на поваленном дереве и рассматривали самодельную схему произведенных раскопок, когда из-за дикой обомшелой яблони появился боец Леонард.
Он шел с напуганно-таинственным видом, как артист самодеятельного театра, которому поручили сыграть шпиона.
— Товарищ лейтенант, — отрапортовал он шепотом. — Мною обнаружено массивное устройство неизвестной системы. Похоже на мину большой мощности.
Леонард был старше своих товарищей. В армию его призвали после окончания пединститута, где не было военной кафедры. В части Леонарда считали грамотным специалистом.
— Лес полностью был разминирован в сорок пятом, — встревоженно сказал Григорьев.
— Но это устройство я обнаружил случайно, без миноискателя. Возможно, оно сюрпризное и миноискатель его не слышит.
— В двух словах, но по порядку, — велел Григорьев.
Мне показалось, Леонард на мгновение смутился, но мина с сюрпризом, то есть такой конструкции, чтобы ее трудно было обнаружить и невозможно обезвредить, — вещь не шуточная. Пришлось рассказать все.
— Метрах в тридцати от ямы, где лежала бочка, — начал Леонард, — растет старая груша. Я знал, что дикие груши жестки, но вроде заметил две поспелее. Положил миноискатель на землю. Подпрыгнул, ухватился за ветку. Потряс... Груши невозможно было даже надкусить. И когда наклонился взять миноискатель, то увидел, что из земли высовывается широкая макушка железного колпачка. Я присел, сдул листья, хотел вывинтить взрыватель... Честное слово, товарищ лейтенант, вы такого взрывателя тоже не видели...
Мы торопливо поднялись. У подножия уродливой, дряхлой груши лежал брошенный Леонардом миноискатель, рядом темнело пятно очищенного от листвы грунта размером с суповую тарелку. И в самом центре пятна, как проклюнувшийся после дождика гриб, угрожающе выглядывала из земли чуть заостренная шляпка. Даже на мой непросвещенный взгляд, взрыватель был крупнее обычного — при том, что из земли выглядывала только самая его макушка.
Лейтенант, взяв в руки миноискатель, прослушал все подходы к дереву. Звук в наушниках усиливался только по мере приближения к опасной шляпке. Велев нам отойти, Григорьев лег на землю и чувствительными подушечками пальцев стал отгребать от взрывателя песок, засохшие травинки и сосновые иглы.
Работал он осторожно и долго. Два или три раза делал короткий перерыв и лежал на земле, закрыв глаза. Но вот движения его стали быстрей и уверенней.
Григорьев позволил нам с Леонардом приблизиться. Из ямки торчал шестигранный колпачок. Он был гораздо крупнее взрывателя мины противотанковой и мог, по моим понятиям, принадлежать только мине морской.
— Лопату! — приказал лейтенант.
Он орудовал ею минут пять, не разрешая нам приблизиться.
— Вот так штуковина! — неожиданно присвистнул он.
Мы подошли и увидели странный предмет. Шляпка была шестигранным колпачком, навинченным на высокую горловину, впаянную в большой ящик. А ящик по длине и ширине напоминал средних размеров чемодан, но был раза в два толще и по самую горловину вымазан в смоле.
Григорьев на всякий случай проверил, не тянется ли от «чемодана» каких-либо сюрпризных проводов. Ничего не обнаружил. Бережно приподнял и перенес ящик на тропку. Зачем-то смахнул с него травинки и комочки земли. И принялся отвинчивать крышку горловины. Заскрипев, она поддалась. Он заглянул внутрь и — ничего не увидел.
— Пахнет бензином, — сообщил он. — По-моему, это бак от какого-то тяжелого грузовика. И в нем что-то есть, только не бензин. Бензин бы плескался.
В одном месте, у самого основания, горловина была плохо промазана, проржавела. Толя сильной рукой ее отогнул, как-то по-куриному, одним глазом, заглянул в отверстие и со словами: «Извольте получить свой заказ» — перевернул бак.
На землю выпал красноватый, ссохшийся кусок картона. Поблекшими золотыми буквами на нем было вытиснено: «Орден... к...ка».
Толя опять было взял в руки бак. Но я ему сказал:
— Стоп. Ничего больше не трогайте.
И побежал к шалашам. Там в вещевом мешке уже давно лежал без дела мой фотоаппарат. Еще на бегу я взвел затвор и, возвратясь к месту нашей находки, сделал первый кадр: бак и на земле орденская книжка. Затем я попросил Толю поставить бак на место, кое-как пристроил оторванную горловину. Снова щелкнул затвором: бак под корнем в земле.
Когда кончилась пленка в «Зените», я оглянулся. Весь наш кладоискательский отряд в полном составе стоял за моей спиной, не спуская глаз с нашей находки.
Еще толком не зная, что в этом железном просмоленном «чемодане», тут ли тетради Гайдара, я, однако, уже почти не сомневался, что перед нами тайник лесника Швайко. Или один из его тайников. И в порыве захлестнувшей меня радости, сказал:
— Мы всё нашли! Спасибо вам, дорогие люди! Спасибо, Леонард!
Саперы крикнули «Ура!».
Не знаю, слышал ли этот лес такое «Ура». Почти два десятка не слабых глоток орали что было сил. Затем саперы подхватили растерянного Леонарда и стали его подбрасывать. При каждом взлете он смешно взмахивал руками и ногами. С его головы слетела пилотка, из кармана посыпались блокнотик, кошелек, автоматическая ручка. Он не был готов к внезапно настигшей его славе. И мне показалось, что триумф пока не доставляет ему удовольствия.
Ждать фургон не имело смысла. Инструменты мы погрузили в экскаватор. И Николай Александрович собирался положить на сиденье и просмоленный бак.
— Это ж не мешок с гречкой, — обиделся лейтенант Толя. — Бак мы понесем на носилках.
Носилки соорудили из двух тонких жердей, соединенных поясными ремнями. Водрузили на них бак и торжественно двинулись к Лепляве. Примерно через каждый километр носильщики менялись: понести реликвию хотелось каждому. И довольно скоро я услышал обиженный шепот:
— Да, ты нес уже два раза.
Когда лес поредел и впереди стали видны крыши хат, я попросил всех остановиться и сказал:
— По деревне носилки понесут саперы. Нашли они. Это их праздник. У саперов он бывает редко.
Никто не возражал. Только лейтенант Григорьев сделался пунцовым.
— Привести себя в порядок, — негромко приказал он, — Обтереть травкой сапоги... Проверить пуговицы на гимнастерках. Поднять носилки. По героическому селу Леплява, где совершил свой последний подвиг товарищ Гайдар, за мной шагом марш!
Жаль, не было оркестра. Но и без него люди выбегали посмотреть на необычную процессию: впереди шел молодой офицер, за ним — четверо солдат, которые на пружинящих тонких жердях несли что-то обмазанное смолой. Это не была мина. Не был снаряд или бомба. Но солдаты так бережно несли свою ношу, будто она могла рассыпаться или взорваться. Бак поставили на лавку у крыльца Афанасии Федоровны. У водителей, которые обедали в кафе напротив, Толя раздобыл ножовку. С немыслимой быстротой стало известно, что саперы нашли, наконец, тайник лесника Швайко. И к дому повалил народ.
Тем временем Григорьев, возбужденный событиями дня и всеобщим вниманием, велел Леонарду крепко держать бак и принялся его пилить.
Сделав разрез у горловины, Толя вогнул внутрь оба надпиленных края. Отверстие увеличилось. И Григорьев засунул в него руку.
— Одна бумага, — то ли удивленно, то ли разочарованно произнес он.
Видимо, Григорьев рассчитывал найти в баке что-нибудь посущественней.
— Ничего не вынимайте, — сказал я. — Несем бак в дом.
В избе Афанасия Федоровна торопливо сдернула со стола скатерть:
— Ставьте прямо на клеенку.
Бак занял половину стола.
Вслед за нами в хату ввалился весь поисковый отряд, шоферы, которые дали ножовку, просто незнакомые люди (они случайно оказались рядом). И еще много народу толпилось возле крыльца и заглядывало в окна, надеясь поближе рассмотреть необычную находку.
И тут Григорьев показал мне широким жестом на бак.
— Теперь ваша работа.
Все лавки вокруг стола была заняты. Толя подсел на колени к Диме. Кому не хватило мест, плотной стеной стояли. В избе сразу сделалось душно.
А меня опять зазнобило, будто я только что вылез из ледяной реки. И эта дрожь передалась рукам. А я стеснялся, что кто-нибудь заметит. И еще, робея, думал: «А вдруг это совсем не тот тайник?»
Но сам же себе ответил: «Чей бы он ни был, мы его отыскали. Чьи-то судьбы через минуту перестанут быть безвестными. Кто-то узнает, где воевал его сын, отец или брат. Чей-то давний подвиг мы предадим огласке».
Я снял куртку, закатал рукава байковой рубашки и запустил руку в отверстие. Бак был заполнен наполовину. И всюду, куда достигали пальцы, они ощущали влажный картон. Я выхватил наугад несколько тонких книжечек. Это оказались комсомольские билеты и командирские удостоверения. Они слиплись. Я не стал их раскрывать, пока не подсохнут и не распахнутся сами. И продолжал извлекать все, что находила рука.
Я извлек еще одну небольшую стопку. И здесь почти все удостоверения склеились. И мне не терпелось посмотреть, а что на самом дне, но я сдержался.
Глупо было бы повредить неуместной торопливостью документы, которые пощадила судьба и грунтовые воды.
Все пространство на клеенке вскоре заполнили разноцветные, всякого размера книжечки. Я думаю, их было больше сотни. А я успел вынуть лишь малую часть того, что содержалось в железной коробке.
Видя, что на клеенке не осталось больше свободного места, Афанасия Федоровна распахнула сундук, вынула кусок чистого, ни разу не стиранного грубого полотна, постелила его на лежанке. И разрешила:
— Кладите сюда.
И Григорьев стал в растопыренных пальцах переносить удостоверения на лежанку.
Внезапно я вздрогнул. Я нащупал стопку вчетверо сложенных листков. Ошибки не было — листки. Вот место сгиба — овальное, утолщенное. А это края страниц.
Я подсунул под сгиб пальцы, затем всю ладонь, оторвал стопку от сырого железного дна. И почувствовал: листы расползаются на руке, как мокрая газета. Выхода не было: зажав стопку пальцами, я стремительно вынес ее на свет и подхватил другой рукой.
Положив листы рядом с баком, я не удержался и слегка отогнул верхние страницы. Текст был отпечатан на машинке. У Гайдара машинки никогда не было. Печатать он не умел. Но машинка имелась в отряде. На ней размножали сводки Совинформбюро.
И Гайдар мог продиктовать кому-нибудь то, что он не успел занести в тетради, как он до войны диктовал наизусть машинисткам сложившиеся в уме страницы повестей и рассказов.
Опасаясь неосторожными прикосновениями повредить размокшую бумагу, я стал дуть на слипшиеся страницы. В одном месте листки разошлись. И я успел прочесть: «Схема ук... ра...». По-видимому, «укрепрайона».
Я вернулся к столу, засучил повыше рукава. И тут лишь догадался, что бак ведь можно разрезать до конца.
Я обернулся. За все то время, что я разгружал бак и раскладывал с Григорьевым на столе и лежанке наши находки, в комнате никто не произнес ни звука.
Мы с лейтенантом общались без слов. И когда мне опять понадобилась ножовка и я оторвался на минуту от стола, один из водителей, на локте которого висела уже знакомая нам пила, ни слова не говоря, снял ее с руки и протянул мне.
Я держал, а Толя быстрыми, сильными движениями допилил бак. Мы распахнули его на две половины, как разрезанный арбуз.
Из бака на чистую клеенку и глиняный пол пролилось немного грязной воды.
— Извините, — сказал Толя.
— Глупости. Выливайте всю, — ответила Афанасия Федоровна. — Я подотру.
Толя приподнял и осторожно наклонил бак. Из распила потянулась тонкая струйка. Внутри бака что-то шевельнулось и стронулось. И
я увидел обложку: черную, выгнувшуюся, коленкоровую. Она резко выделялась среди пестрых документов. Обложка была с грубым, знакомым мне тиснением. На внутренней стороне ее должен был стоять фирменный знак: «Ленинград. Ф-ка «Светоч». Это была обложка от столистовой общей тетради. Дома, до войны, в таких тетрадях делал записи мой отец.
Толя аж присвистнул:
— Никак, та самая, про какую вы нам рассказывали?
На лавках и у дверей зашевелились, стараясь разглядеть, о чем идет речь. По комнате шелестнул удивленный и уважительный шепот.
Я ничего не ответил. У меня было достаточно неудач и оглушительных провалов, чтобы я мог себе позволить еще раз поторопиться с выводами.
Мало ли на земле — и в земле — тетрадок в черных, некрасивых коленкоровых переплетах?..
Та ли это тетрадь или, по крайней мере, кому она принадлежала, можно было бы выяснить, взглянув на ее страницы, которые пока что были погребены под толщей новой партии пестрых книжечек и разного рода бумаг.
Я дал Григорьеву отнести на лежанку десятка полтора удостоверений, потом несколько почтовых заклеенных конвертов с размытыми адресами, два толстых самодельных пакета из разлинованной бумаги. Только после этого я смог достать тетрадку. Под ней оказалась еще одна, в коричневом переплете.
Коричневая плавала в лужице воды, вымокла и набухла. В испуге, что размыло записи, я протянул тетрадку в черном переплете Григорьеву, а коричневую положил на самый край стола и начал сушить ее большим носовым платком, который выхватил из кармана. Платок, разумеется, тут же сделался мокрым, но мне уже протягивали чистое полотенце.
И в эту секунду лейтенант Анатолий Григорьев, позабыв, что он офицер, находится при исполнении и что за ним наблюдают подчиненные, крикнул мне:
— Пляшите — или не дам. Кину прямо в печь.
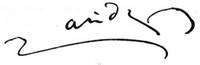
И выведено расплывшимся чернильным карандашом:

И подразнил меня издали тетрадкой в черном переплете. На первой ее странице была нарисована вот такая рожица:
Я никогда не выступал с сольными балетными номерами. Мой хореографический репертуар ограничивался вальсом, танго и падепатинером, которым меня обучили в кружке Ленинградского Дворца пионеров. Но, увидев смешную рожицу и знакомый росчерк, я вдруг забил ногами в тяжелых, с налипшей землей, ботинках неистовую дробь чечетки. С самозабвением профессионала я трамбовал каблуками глину пола. Трамбовал без музыки, под хлопки зрителей во все возраставшем темпе...
* * *
В Канев я не поехал. Когда все ушли, я попросил Афанасию Федоровну затопить печь. Потом в Москве меня ругали, что я принялся за сушку бумаг один, не вызвал специалистов, которые бы сразу пропитали все страницы особым составом, и т. д. Я обещал, что в следующий раз непременно так и сделаю, оправдываясь тем, что ни один листок у меня не рассыпался и не погиб.
А до Москвы и Киева была бессонная ночь в Лепляве. Афанасия Федоровна легла спать. А я до рассвета держал в руках тетради у зева русской печки.
Склеенные водой и краскою обложек, страницы разлипались медленно, однако я ни разу не прикоснулся к ним лезвием ножа, чтоб отделить один листок от другого. Я только дул в щель между страницами. Дул до полуобморочного состояния, до боли в боках, потому что видел: воздух разлепляет листы.
А мне надо было понять только одну вещь: можно ли в тетрадях Гайдара через столько лет хоть что-нибудь прочесть?
К утру они немного подсохли. Коричневая, которая больше пострадала, так и осталась разбухшей. Когда я хотел ее приоткрыть — обложка угрожающе затрещала. Я не на шутку испугался, спрятал ее в полиэтиленовый пакет, чтобы в Москве сразу отнести в лабораторию реставрации книг и рукописей Государственной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина.
Вторая тетрадь тоже оказалась не в лучшем виде. Первые двадцать или тридцать страниц ее спрессовались. На тех листах, которые мне удалось разлепить, записи простым грифелем размылись и стерлись. К счастью, начиная с середины, Аркадий Петрович начал пользоваться химическим карандашом.
Следы чернильного карандаша во многих местах расплылись, но в большинстве случаев строчки поддавались прочтению, тем более что почерк Гайдара я хорошо знал. Я изучал его рукописи в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Коротко его называют ЦГАЛИ.
Вот некоторые из прочитанных мною отрывков:
«Дети порою мудрее нас. В «Тимуре» у меня есть небольшой эпизод: жену убитого лейтенанта Павлова срочно вызывают в Москву. Она просит Женю Александрову приглядеть за ее маленькой дочкой.
А киевские пионеры организовали при кинотеатре «Смена» тимуровский детский сад. С малышами здесь играют, читают им сказки, разучивают песни. И два раза в день кормят (еду приносят матери, когда утром приводят детей).
Многие женщины благодаря тимдетсаду смогли поступить на производство. А это и помощь фронту, и подспорье семье».
* * *
«Узнал: тимуровских детских садов в Киеве уже пять или шесть. А газета «Советская Украина» сегодня пишет, что такие же сады организованы в Харькове и Днепропетровске. Значит, добрые примеры тоже бывают заразительны.
При первой же возможности — написать».
* * *
«По пути на передовую и с передовой (другого времени нет) составлял «в уме» обращение к тимуровцам. Четыре раза пришлось прерывать работу (то есть кидаться на землю от близкого воя мин), когда шел туда. И шесть раз — когда возвращался обратно.
Нравится строчка: «У вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги и умные головы».
* * *
«Быт на войне полон драматизма. Мать послала детей (мальчику Саше — 7 лет, Марине — 9) в соседнее село. Там приболела старенькая бабушка. А днем деревню, где осталась мать, занял противник.
Детей задержал наш дозор, когда они пытались попасть домой, то есть на занятую гитлеровцами территорию.
Опасения майора, начальника штаба: «Что, если дети работают на оккупантов?»
Испуг девочки: «Вы нам не верите? У нас папа танкист. Напишите ему: полевая почтовая станция № 1386».
И вдруг штабу понадобился проводник — провести наших разведчиков в глубь немецкой обороны. Кроме детей, сделать это было некому.
Новые сомнения майора: «Можно ли положиться в таком деле на ребятишек?»
Убедил его, что можно. Пошел с детьми и разведчиками сам. Ребята привели нас к своему дому. Негромко постучали в форточку. Дверь неуверенно открылась — на пороге стояла их мать. Она прокусила себе руку, чтоб не крикнуть. А потом крепко прижала детей, опасаясь, — если их отпустить, они пропадут снова.
Мы извинились и вошли в дом, потому что через две хаты, на крыльце сельсовета, какой-то фашист играл на губной гармошке что-то сентиментальное».
* * *
«Разговор в штабе фронта:
— Большое вам, А. П., спасибо!
— За что?!
— Ваши тимуровцы помогли раскрыть разветвленную разведывательно-диверсионную группу.
— Я-то здесь при чем? Благодарите ребят.
— Ребятам мы уже передали, чтобы прокалывали на рубашках дырочки, — улыбнулся полковник из оперативного отдела».
* * *
«Дети на войне. Выспрашивать. Не полагаться на память. Записывать каждый случай. Потом собрать все истории в одну книжку».
* * *
«ПРИКАЗАНО ОСТАВИТЬ КИЕВ»
* * *
«Последняя беседа в штабе фронта.
— Тов. Гайдар, есть распоряжение Москвы: любой ценой вывезти вас из Киева и доставить в Москву. Для вас забронировано место в самолете. Последнем.
— Спасибо. Я остаюсь. Я такой же солдат, как все. — И показал на свои петлицы.
Отослал с последней оказией домой письмо».
* * *
«Цепной мост через Днепр. Командный пункт. Полковник Казнов. Ст. политрук Белоконев. Проблема, которую они решали: взрывать или не взрывать? Если взрывать, то когда?
Предложил: «Позвольте, я схожу в Киев, разведаю обстановку».
(Здесь несколько страниц оказалось испорчено водой.)
На КП вернулся под утро. Казнов: «Мы вас, признаться, уже не ждали». Решение было принято сразу после моего доклада.
Цепной мост взорван.
Никогда не думал, что буду к этому причастен».
* * *
«Семеновский лес. Все должно произойти сегодня. Но А. Д. (видимо, Александр Дмитриевич Орлов. —
Б. К.) отдал приказ лишь после того, как местные комсомольцы увезли ночью на подводах раненых».
* * *
«Капитан Рябоконь — из местных. Сильно покалечен миной. То и дело впадает в беспамятство. Сделали для него пружинящие носилки. Отрядили 16 бойцов-добровольцев. Меняясь, они понесут капитана».
* * *
«Рябоконь:
— Как выскочить из этой мышеловки, я вам объяснил. А теперь не тащите меня. Лучше пристрелите. Вот пистолет. А то я снова потеряю сознание и начну своим криком сигнализировать противнику, где вы находитесь.
— Капитан, — ответил я, — спрячь свой браунинг. Ты лучше пристрелишь из него Гитлера, когда мы войдем в Берлин».
* * *
«Лесник. Служил у Щорса. В 1919-м он, как и я, воевал неподалеку отсюда, под Кременчугом. Был обижен какими-то мерзавцами. Ушел в лесники. В первые недели нынешней войны оказал помощь сотням людей, которые попали в окружение. В том числе — командирам и ответработникам.
Все видят: лесник — крупный организатор. Думают, что он специально оставлен для подпольной работы, имеет заранее подготовленные продовольственные и вещевые склады. А лесник добывает одежду и еду где только может.
Когда вернусь в Москву, поговорить в ЦК ВЛКСМ о награде — всей семье».
* * *
«А что, если собрать после войны всех, кому помог лесник?»
* * *
«...Десятый день в партизанском отряде. Вчера сорвалась операция по освобождению военнопленных. Все было разведано и выверено. Но кто-то часа на три нас опередил. Действовали наши предшественники неумело. Всполошили гитлеровцев. И тут появились мы... Потеряли трех человек. И новый грузовик».
* * *
«...Физически я сейчас здоровей, чем в Москве: круглые сутки на свежем воздухе. Но во мне живет предчувствие тревожных событий. Мой прежний опыт говорит за то, что немцы скоро доберутся до нашего леса. А он невелик. И дозорная служба в отряде пока поставлена плохо. Беспечность поразительная.
В «Тимуре» есть песенка старого партизана:
Я третью ночь не сплю.
Мне слышится все то же
Движенье тайное в угрюмой тишине.
Винтовка руку жжет,
Тревога сердце гложет,
Как двадцать лет назад
Ночами... на войне...
Помню, как я отбивался от редакторов, которые были против этой песни. В комитете по кино ее обозвали паникерской. Тех бы редакторов — да в наш бы перелесок, где я каждую ночь встаю и проверяю караулы, и в наши земляночки без печек — для повышения квалификации».
* * *
«Работал я раньше медленно, то есть сравнительно быстро писал, но очень долго готовился. Теперь моя задача — запасти как можно больше материала, чтобы дома работать практически без остановки: многое надо сказать».
* * *
«Сейчас мне кажется: дома я писал бы по книжке в месяц.
В сущности, для работы мне всю жизнь было нужно: тихий угол, стол на четырех ножках (чтоб не качался), стопка бумаги, мягкое перо (лучше 86-е), покой вокруг и покой внутри. И чтоб я мог выходить из комнаты, когда захочу, и меня бы никто не спрашивал, куда я иду, не желаю ли я молочка или яишенки, потому что иду ли я по дорожке, бросаю ли камни в воду — голова моя все равно безостановочно работает.
Впрочем, от яишенки я бы сейчас не отказался».
* * *
«Проблема сумки. Идя на задание, беру: пулемет Дегтярева, два запасных диска, сотню винтовочных патронов в карманы, пять-шесть гранат, парабеллум с несколькими обоймами. И сумку. Она полна. Тяжела. И довольно неудобна.
Если во время диверсионной операции я буду ранен и товарищам придется тащить меня на себе, то они прежде всего бросят сумку. Не пулемет же бросать?
Вот уже который день ломаю голову: куда ее деть, чтоб она не пропала — во всех случаях?»
* * *
«Похолодало. Вечерами заморозки. В землянке долго не проспишь. Но нет худа без добра — легче вскакивать посреди ночи, чтобы проверять посты».
* * *
«Как там дома с дровами и с деньгами?»
* * *
«Кто-то вспомнит обо мне и вздохнет украдкой».
* * *
«Часто думаю: какими станут люди, когда закончится война? Мерзавцы, конечно, полностью не переведутся. Но каждый после всего пережитого сделается мягче, внимательнее и добрее. Нам будет что рассказать своим детям о человечности и героизме. И мы вырастим небывалое по душевной красоте поколение.
И писать после войны мы должны лучше».
* * *
«Затекла спина. Столик бы для работы. Хотя бы на двух ножках».
НЕБОЛЬШОЕ ПОЯСНЕНИЕ
По всем законам поискового жанра я должен сейчас поставить точку, поблагодарить тебя, мой друг читатель, за то, что ты мысленно разделил со мной долгий путь, не корил за промахи и молчаливо звал продолжать поиск, когда от непрерывных неудач опускались руки, — пока не отыскался обмазанный смолою бак.
Но я уже говорил: в жизни все гораздо сложнее, нежели в приключенческих книгах и фильмах.
На самом деле никакого бака я не нашел.
И тетрадей Гайдара тоже.
Зная главнейшие события последних 127 дней жизни Аркадия Петровича, я попытался представить: «А что могло быть в тех тетрадях?»
А в действительности наш поиск обернулся совсем по-другому.
КАТАСТРОФА
Итак, после того как мы — Василий Михайлович Швайко, Юра и я — провели в лесу четырнадцать часов и сделались свидетелями редкого и пугающего зрелища — оледенения деревьев, наш «газик» притормозил у подъезда старой гостиницы.
Юра спросил:
— Что делаем завтра?
— Идем в райком просить помощи, — ответил я. — Будем искать тайник Михаила Ивановича.
Утром мы с Василием Михайловичем поднялись рано. Темным коридором, в котором почему-то не горели светильники, отправились умываться и чистить зубы. Повернули краны, а воды нет. В комнате у себя включили в розетки электробритвы — не жужжат. «Что за напасть?» — удивились мы.
Наскоро позавтракав, вышли на улицу. В райком идти было рано. Возвращаться в номер не хотелось. Мы стали спускаться вниз по улице Ленина. Под нашими ботинками разбивался и хрустел тонкий лед луж. Вдоль тротуаров поблескивали своей прозрачной стеклянной оболочкой липы.
Я поежился, представив на миг, что стою в рубашке изо льда, что ледяной панцирь надет прямо на голое тело и холодит мою кожу...
У развилки возле продовольственных магазинов двое пожилых рабочих пилили дерево. Это была могучая липа, которую неизвестно кто и зачем вывернул с корнем, и теперь она лежала поперек мостовой и перегораживала дорогу. Весь асфальт вокруг, словно здесь столкнулись машины, был усеян осколками льда.
Пилить толстое дерево домашней двуручной пилой — занятие нелегкое. У рабочих дело подвигалось медленно.
— Давайте мы вам поможем, — предложил Швайко.
Мы распилили ствол пополам. Потом — на четвертинки. Оттащили сучья и бревна в сторону, освобождая проезд.
— А кого это угораздило своротить? — полюбопытствовали мы. — Бульдозер, что ли, в темноте?..
— Сама липушка, — ответил сухощавый старик, — своей тяжестью упала. Налипшего льда, бедняжка, не выдержала.
Мы с Василием Михайловичем переглянулись: кругом сегодня чудеса.
Стрелки показывали половину девятого. У подъезда райкома стояло десятка два автомашин. На обоих этажах тревожно хлопали двери. Громко и торопливо переговаривались голоса. А возле приемной, на втором этаже, нас дожидался взъерошенный Юра.
— Наконец-то, — произнес он, — я уже и в гостиницу бегал. — Не может Петр Филатович вас нынче принять.
— Как это не может?! — удивились мы. — Петр Филатович сам сказал: в любое время. Даже телефон домашний дал.
— Не знаете, что ли, бедствие у нас стихийное! Оледенелые деревья по всему району падают. Оборваны провода. Нет электричества. Прекратилась подача воды. Не работают телеграф и телефон. Вечером из Киева шел автобус. На него свалилась громадная ива. Помяла крышу. Хорошо, никого не убила.
Мы подождали два дня.
В гостинице по вечерам разносили свечи. Дежурная ходила из комнаты в комнату и разливала из пузатого чайника по стаканам чай. Каждое утро мы приходили в райком и узнавали, что деревья продолжают падать и рвать провода.
Было очевидно: району еще долго будет не до нас. Мы простились с Юрой, передали привет Петру Филатовичу. И разъехались по домам.
Расставались мы с Василием Михайловичем не надолго — до конца мая. Ребята из Леплявской школы обещали нам помочь в раскопках. Надежда на весну, когда светит солнце и налипший лед не валит деревья, сглаживала горечь новой неудачи.
ДОРОГА ДЛИНОЮ В ПЯТЬ ЛЕТ
Поздней осенью, когда я возвратился в Москву, мне предложили написать книгу о Гайдаре для серии «Жизнь замечательных людей».
Задание было срочное. И чтобы ускорить мою работу, Центральный Комитет комсомола предоставил мне возможность посетить все места, где жил, работал и воевал Аркадий Петрович.
Наступила весна 1967 года. Я привел в порядок свое походное снаряжение. И отправился в путь. Только ехал я не в Лепляву.
Мне предстоял такой маршрут: Москва — Ленинград — Архангельск и Архангельская область — Льгов — Арзамас — Горький — Казань — Пермь — Свердловск — Оренбург — Астрахань — Баку — Ставропольский край — Красноярск — Абакан — Ужур — Хабаровск — Москва.
Почти в каждом городе я работал в архивах, искал и находил документы о юности, революционной, боевой и литературной деятельности Гайдара, его близких, его друзей.
Во время этой самой продолжительной своей поездки я нашел и встретил свыше ста человек, которые знали Аркадия Петровича, беседовал с ними, записывал на пленку их воспоминания.
Передо мной за короткий срок, словно бы наяву, прошла вся жизнь Гайдара.
Из дома я уехал в самую жару, а возвратился к Октябрьским праздникам, когда валил мокрый снег.
Все, что было мною в этой поездке увидено, пережито, запомнено, сфотографировано, записано на пленку, нужно было изучить, осмыслить, сопоставить, а потом сжато и связно рассказать.
Документальный роман «Обыкновенная биография» (Аркадий Гайдар) издательство «Молодая гвардия» выпустило в июне 1971 года.
Руки у меня были развязаны. У Швайко, я знал, начался отпуск. Самое время было нам обоим отправиться в Лепляву и взяться за лопаты.
Я позвонил в Канев. И мне ответили:
— Строительство Каневской ГЭС началось. Днепр перекрыт. Партизанский лес затоплен.
Во мне возникло чувство глубокой тоски и вины.
Я оповестил Василия Михайловича, что наша с ним экспедиция отменяется.
Навсегда.
ЗВОНОК ИЗ 1944 ГОДА
Был август семьдесят третьего. Я снова укладывал вещи. В Артеке открывался Первый Всесоюзный слет тимуровцев. Ждали около пяти тысяч делегатов. В качестве одного из руководителей Всесоюзного штаба Тимура, созданного при журнале «Пионер», я ехал знакомиться с ребятами, записывать их рассказы, перенимать опыт.
Зазвонил телефон. Я снял трубку.
— Борис Николаевич? — спросил мягкий мужской голос. — Здравствуйте. С вами говорит Башкиров.
Мне показалось, что я ослышался.
— Простите. Я не понял: кто?
— Алексей Филиппович Башкиров. Я прочитал вашу книгу «Партизанской тропой Гайдара» и желал бы с вами познакомиться.
Через полчаса в передней тренькнул звонок. И вошел Башкиров — в легком летнем костюме, худощавый, гибкий, глаза приветливые и внимательные.
— Где же вы были все эти годы? — спросил я, усадив Алексея Филипповича. — Я вас искал. Мне так нужна была ваша помощь!
Башкиров улыбнулся. Была в его улыбке загадочность и печаль.
— Знаете, когда закончилась война и я вернулся в Москву, я вдруг понял, что умираю, — ответил он. — Переживания, контузии, ранения — все разом внезапно ударило по мне. Силы уходили. Лекарства не помогали. Я подумал, что умирать нужно дома. И уехал под Чебоксары. В деревне там у меня жил отец. Сперва я только лежал, но родные стены, свежий воздух и парное молоко стали возвращать меня к жизни. Начал помогать по хозяйству. Потом сел за стол. Сперва работал для газет. Затем начал писать книги. Их у меня теперь довольно много. Из Чебоксар я вам пришлю.
— Но почему ж тогда, в сорок четвертом, вы ничего не написали о Гайдаре?
— Написал. Статья лежит до сих пор. Только печатать мне ее во время войны не позволили. Обстоятельства гибели Гайдара было решено засекретить. А что было после, вы уже знаете.
— Ничего не понимаю, — произнес я. — Но я же обращался и в Союз писателей, и в Союз журналистов, запрашивал Центральный адресный стол...
— Когда я прочитал вашу книгу, я догадался, что вы меня искали. И понял, почему не нашли... Моя настоящая фамилия Талвир.
...В Библиотеке имени Ленина я выписал все книги Алексея Филипповича. Оказалось, что Талвир — известный чувашский писатель. Его произведения переведены во многих странах мира.
Недавно Алексей Филиппович с женой и сыном переехал в Москву. Мы редко видимся. Чаще перезваниваемся. И меня не покидает ощущение, что я звоню ему в сорок четвертый год.
Сегодня я понимаю: в розыске Алексея Филипповича я допустил по тогдашней своей неопытности много промахов. Но если бы сотрудники отдела кадров произнесли одно только слово «Талвир» — я бы не искал загадочно исчезнувшего капитана Башкирова. И мне бы не понадобилось проделывать заново всю ту работу, которая еще в сорок четвертом была проделана Алексеем Филипповичем. И много чего могло произойти, встреться с Талвиром — Башкировым в шестьдесят втором, а не в семьдесят третьем…
[11]
СЮРПРИЗЫ ЛЕПЛЯВСКОГО ЛЕСА
Прошло несколько лет. Однажды проездом я остановился в Лепляве. Меня давно влекло взглянуть на те места, где еще недавно высился партизанский лес.
Было трудно представить, что земля, по которой я ходил, с ее тропинками, дорожками, оврагами, обвалившимися землянками и заросшими окопами, стала дном рукотворного моря. И это уже навеки.
Из дома Афанасии Федоровны я повернул налево. На окраине села дорога пошла слегка под уклон, и я очутился в лесу. Он и раньше не был густым. Теперь сделался еще реже. Торчали пни. Темнели невывезенные штабеля. И мне показалось, что леспромхоз, новая контора которого красовалась неподалеку, превысил свои полномочия. Окраина Леплявы не отходила в угодья Нептуна. И двухсотлетние дубы партизанского леса можно было бы поберечь.
Я шел и шел, а покалеченный пилами «дружба» лес не кончался. И кроме давнишнего болота, мне пока не встретилось никакой «большой воды».
Километрах в пяти от Леплявы дорогу пересекла бетонная трасса, выложенная шестиугольными плитами, как взлетная полоса.
Растительность по ее обочинам была вырублена. А дальше, метрах в ста, опять начинались прореженные заросли.
Бетонку проложили при сооружении Каневской ГЭС. И теперь дорога была безработной.
Не веря своим глазам, я пересек «взлетную полосу» и направился по грунтовой дороге, которая уходила чуть влево. Тут стоял... шлагбаум. Конец его был замкнут обычным амбарным замком, из чего я понял, что автомашинам проезд закрыт. Но я не грузовик и моря в своих кедах не боюсь.
Я обогнул запертый на замок шлагбаум и двинулся дальше. Здесь начиналось редколесье. Мощные деревья были сведены. Торчал и набирал силу лишь молодняк. Но хотя картина изменилась, я мог поручиться, что иду, почти бегу, по старой знакомой тропинке.
Стежка вывела меня на просторную поляну. Тут не росло ни одного кустика. Землю прочерчивали только ровные квадраты старательно уложенных валунов. Это были фундаменты. Зрительная память мысленно восстановила снесенные постройки.
Там, в отдалении, вспоминал я, находилась изба с высоким крыльцом. В ней жила глухонемая девочка. Однажды я зашел сюда напиться, а на меня накинулась большая овчарка, которая охраняла девочку и дом, и прокусила мне ногу.
Тут же стоял и второй дом, их всего было два. А в стороне от обеих изб мрачно темнел заброшенный длинный сарай без крыши, который именовался лесопильным заводом: до войны тут стояла пилорама.
На поляне, где я сейчас находился, 22 октября 1941 года появились грузовики с карателями.
От лесопилки до партизанского лагеря было рукой подать.
А Каневского моря — не видно!
Я побежал. Тропинка запетляла между пнями. Но я уже точно знал, куда она меня ведет. Километра через полтора я перешел на быстрый шаг. Сейчас должен быть еще один дом или развалины от него. Я миновал орешник и очутился на другой опушке. Избы не было. Но осталась изгородь и каре из камней.
Здесь когда-то высился дом лесника. Не тот, где жил Швайко, а другой — в нем командир партизанского отряда поселил Орлова и его группу. До окончательного перехода в отряд Горелова в этом доме ночевал и Гайдар.
Но если я стою сейчас на сухой и твердой земле, значит, и партизанский лагерь еще не стал морским дном?
Я побежал по тропе, по которой давно никто не ходил. Она заросла травой и грозила вовсе исчезнуть. Слева начиналась просека. Однажды я сильно устал. Захотел сократить путь. Пошел по ней — и заблудился... А рядом с просекой должны расти две дикие яблони... Яблонь нет. Только пни от них. Но сейчас это уже неважно.
Важно другое: метров через двадцать мой путь преградит заброшенная дорога, а за ней, под обрывом, — лагерь.
Я увидел под обрывом целый, не спиленный дуб, который, казалось, клонился к земле под тяжестью лет. У его основания темнела зарастающая яма.
Тут стояла землянка Гайдара.
Вокруг нее следы других землянок. Неподалеку должен находиться межевой столб 154/155.
Есть! Стоит!
Рядом со столбом площадка. На ней была оборудована кухня и столовая отряда. А неподалеку пень. Широкий, с одной стороны косо спиленный. Это на нем, положив на колени сумку, каждое утро работал Гайдар. Пень тоже не ушел под воду.
Но ведь барак лесника Швайко вообще стоит на холме! Значит, и его не настигла вода.
Перед новым марафоном я присел на пень Аркадия Петровича. Потрогал его бока руками. К ладоням прилипли тоненькие золотые пластинки сосновой коры. Сколько же на этом пне Гайдаром было передумано. Сколько заполнено страниц в тетрадях!
...К усадьбе Швайко я направился самым коротким путем. Пересек «взлетную полосу». И двинулся вдоль стены кустарника, ища глазами дорогу, ведущую к бараку.
Еще издали я увидел крутой скат, где Юра опасался опрокинуть свой «газик», а Василий Михайлович потерял однажды писателя. И услышал голоса. Они доносились сверху, со стороны дома, к которому я направлялся.
Меня охватило беспокойство. Я начал искать какой-нибудь лаз. Не нашел, стал продираться напрямик через кусты и вскарабкался на гору неподалеку от барака. От него тоже остался только фундамент. И я с досадой подумал о своем непоправимом промахе: не сфотографировал дом.
Я обошел со всех сторон площадку, на которой стоял барак. Споткнулся о большой чугунный горшок. Не в нем ли Анна Антоновна варила картошку и кашу для окруженцев? Собрать бы все. Потом ведь тоже не найдешь. Но меня снова отвлекли голоса.
Миновав бывший огород, я углубился в лес, где мы со Швайко искали футбольный мяч Володи, и увидел четыре брезентовые палатки, потухший костер и горку заботливо припасенного хвороста. Поблизости не оказалось ни души.
Пройдя еще немного, я увидел две группы ребят, человек десять. Они копали лопатами землю. А рядом с ними неумело орудовала длинным стальным щупом молодая женщина в спортивных брюках и синей кофточке с погончиками — пионервожатая или учительница.
— Здравствуйте, — негромко сказал я.
От звука моего голоса все вздрогнули, прервали работу, а учительница оставила воткнутый щуп и вынула из карманчика мятую бумажку.
— У нас есть разрешение, — сказала она, приняв меня за неусыпное начальство.
Я не стал читать бумажку. Только спросил:
— Что вы тут ищете?
Учительница повернулась к светлоголовому мальчику с планшеткой на боку.
— Гоша, — попросила она, — объясни товарищу.
Гоша по-военному разгладил складки клетчатой рубахи, поправил ремешок планшета.
— Жил на земле писатель, — начал он, — фамилия Гайдар. Не слыхали?
— Кажется, слыхал. Смотрел в детстве фильм про Тимура. Не его ли?
— Его, — деловито кивнул Гоша. — А в том бараке, мимо которого вы только что прошли...
— Извини, пожалуйста, барака я не заметил.
— Барак снесен, но остался фундамент, — уточнила учительница. Она все же считала меня начальством и немного нервничала. — И вообще, что же мы стоим? Давайте присядем.
Присели.
— В бараке этом в 1941 году жил лесник, — продолжал Гоша, — герой гражданской войны. Вместе с Николаем Щорсом рубил белых. А по соседству, в Гельмязевском партизанском отряде, служил пулеметчиком Аркадий Петрович, тот самый писатель, фильм которого вы видели в детстве. Обстановка в 1941 году была трудная. А у Гайдара была сумка. Не такая, как у меня. Потолще.
— Брезентовая. Из-под противогаза, — заметила учительница.
— Да. От противогаза. И в ней рукописи, — продолжал Гоша. — То есть уже совершенно готовые книги. Их оставалось только напечатать в типографии. Дело в том, что в отряде Аркадий Петрович очень быстро работал. — Гоша разволновался, промокнул вспотевший лоб чистым платком. — Но в отряде оказался предатель. Гайдар понял, что носить при себе рукописи опасно. Могли пропасть. Понимаете?... И Аркадий Петрович отдал их на хранение леснику, чтобы он после войны переслал бумаги в Москву
А лесник тоже погиб, не успев никому сообщить, где тайник. Вот нам и приходится искать.
— Может, товарищу что-нибудь не ясно? — напомнила Гоше учительница. — Рукописи имеют большую художественную и историческую ценность.
— Благодарю, — с трудом вымолвил я. — Мне все ясно. Я только не понял, откуда вы приехали.
— Из Челябинска, — ответила коротко подстриженная девочка. — Мы разносили по праздникам телеграммы, перебирали на овощной базе капусту, сидели с малышами от фирмы «Заря», накопили денег и приехали искать. А до нас тут искали ребята из Архангельска, Перми, Ленинграда, Стерлитамака. Приезжала целая школа вожатых, не помню откуда. А еще приезжают взрослые. Ставят в лесу палатку и копают целый отпуск. Говорят, раньше сердилась милиция. А теперь не сердится. Ей объяснили, что это операция «Сумка Гайдара».
— Полным текстом, — попросила учительница.
— Всесоюзная тимуровская операция «Сумка Гайдара», — повторила девочка. — Штаб ее — Музей Гайдара в Каневе. Только до нас все копали возле дома, где жила группа Орлова, поэтому ничего не могли найти. А Гоша на заседании тимуровского штаба доказал, что искать надо возле дома лесника Швайко.
Я с уважением посмотрел на зардевшегося Гошу: мне бы такого помощника!
— Что-нибудь нашли? — спросил я.
— Пока только две каски, — ответила девочка. — Ложку. Кусок винтовки.
Я поднялся.
— Спасибо. Извините, что отвлек.
— Что вы! Мы были очень рады, — с облегчением произнесла учительница.
— Дядя, а вы художник? — спросил Гоша.
— Почему ты вдруг решил?
— Все художники носят бороду.
— В рисовании, Гоша, я всегда был очень слаб. Больше тройки мне никогда не ставили.
— Кто же вы все-таки? — настаивал он.
— Кто? Старый тимуровец.
Я пожал руку успокоенной учительнице, толковой стриженой девочке и мудрому человеку Гоше. Поклонился остальным ребятам и двинулся в обратный путь.
Теперь я верил в свершимость невозможного. Отыскался Башкиров. Не стал дном моря участок гайдаровского леса, где стояли партизанские землянки, и тот, что примыкал к усадьбе лесника Швайко. Значит, можно создавать новый филиал Библиотеки-музея А. П. Гайдара в Каневе — «Партизанский лагерь». И есть еще надежда обнаружить легендарный тайник.
И если ребята не отыщут до зимы бумаги Гайдара, летом снова еду в Лепляву.
 1976; 1978
Леплява—Москва—Звенигород
1976; 1978
Леплява—Москва—Звенигород
ФОТОДОКУМЕНТЫ

Все годы на путях-дорогах Гайдара я не расставался с фотоаппаратом.
Я снимал боевых товарищей Аркадия Петровича, которые щедро делились со мной своими воспоминаниями; снимал многих своих собеседников, которые в 1941 году были участниками или свидетелями тех драматических событий; снимал места, где Гайдар жил, работал, воевал.
И когда я стоял возле хаты Степанцов в Лепляве, шел полузаросшими лесными тропинками, разжигал костер в старом партизанском лесу, возле обвалившихся землянок, мне порой казалось, что Гайдар где-то рядом...

В этой тетради в верхнем ряду помещены документы, рассказывающие о поиске. А в нижнем расположены снимки, отображающие жизнь и подвиг А. П. Гайдара.

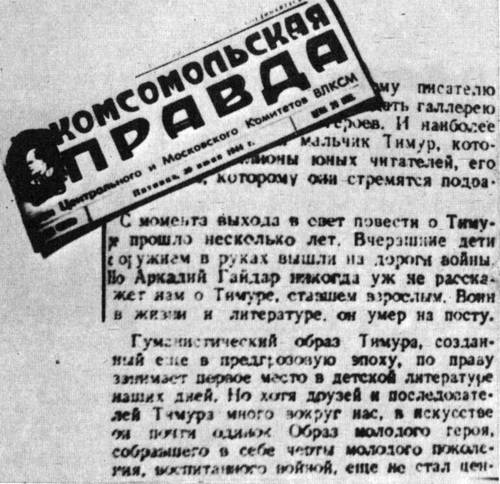
Первое — зашифрованное — сообщение в печати о гибели А. П. Гайдара. Оно появилось после расследования, которое провел А. Ф. Башкиров.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» капитан А. Ф. Башкиров. 1944 г.

Писатель А. Ф. Талвир (Башкиров). 70-е гг.



Аркадий Петрович Гайдар. Кадры киноленты, снятой в 1940 году, во время съемок фильма «Тимур и его команда».

Первая надпись, установленная на могиле А. П. Гайдара летом 1944 года.

В августе 1962 года я отправился по следам А. П. Гайдара. Старая мельница на окраине Леплявы.

Хата Степанцов в Лепляве. Снимок сделан в 1976 г. со стороны огородов.

В это окошко Аркадий Петрович всегда стучал...

А. П. Гайдар с читателями повести о Тимуре. 1940 г.
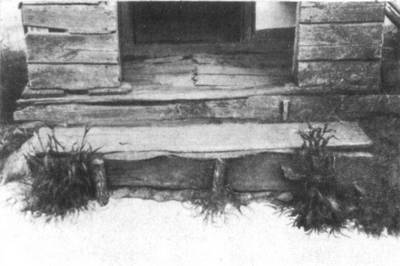
По этим ступеням…

...через это крыльцо в дом Степанцов приходил Гайдар.

А. Ф. Степанец. Вдова партизана. Встречей с ней в 1962 г. начался мой поиск. Фото 1971 г


Дом в Кунцеве, где А. П. Гайдар жил в 1931 году. Он чем-то напоминает штаб в фильме о Тимуре и его команде.
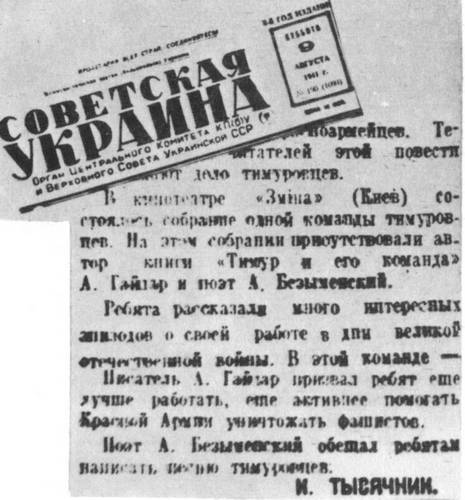
После встречи А. П. Гайдар сказал: «Ради таких минут стоило жить!»
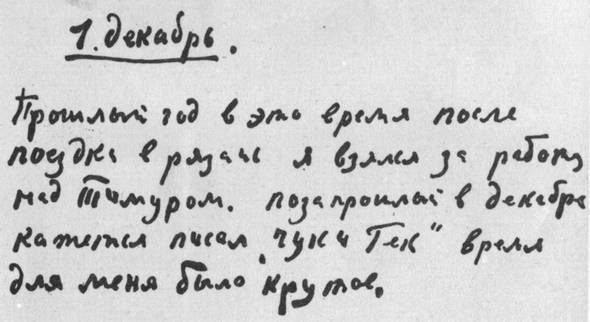
Строки из дневника. 1940 г.

Поэт А. И. Безыменский, автор песни «Молодая гвардия», рассказал о беседе А. П. Гайдара с тимуровцами Киева. Фото 1944 г.

Кинооператор А. Н. Козаков киевских тимуровцев снял. Фото 1943 г.

Второй фильм о Тимуре — «Комендант снежной крепости» — должен был снимать режиссер Л. В. Кулешов (май 1941 г.).

Очерки с Юго-Западного фронта, опубликованные в газете «Комсомольская правда», в которых Гайдар писал о Прудникове.

Комбат И. Н. Прудников, герой очерка А. П. Гайдара «У переправы». 1941 г.

И. Н. Прудников. 1963 г. В августе 1941-го Прудникова вынес с поля боя Гайдар.

Тимур киевской городской команды Норик Гарцуненко (кадр киноленты). 1941 г.

Н. М. Гарцуненко. 1950 г.

В этом доме в Киеве в 1941 году жил шофер Гайдара А. К. Ольхович.

А. К. Ольхович. 1941 г.

Здесь, в квартире Ольховича, Гайдар провел последнюю ночь перед уходом из Киева.
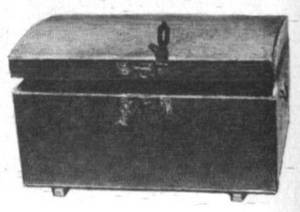
В сундучке Аркадий Петрович оставил письмо для Тимура.

В минуту отдыха...

С самым близким другом — писателем Р. И. Фраерманом. 1940 г.

С сыном Тимуром. 1 мая 1939 г.

Кабинет Р. И. Фраермана. Здесь А. П. Гайдар читал каждую свою новую вещь... Фото 1976 г.

Е. Ф. Белоконев был в 1941 г. представителем Военного совета фронта на Киевских переправах. 1943 г.

Е. Ф. Белоконев. 1965 г.


В этой болотистой речушке Гайдар чуть не утонул...

В. Д. Коршенко. С ним Гайдар шел с боями по тылам врага. Фото 1943 г.

В. Д. Коршенко. 1963 г.

Рабочий стол А. П. Гайдара. Здесь все лежит, как в день отъезда Аркадия Петровича на войну.


Бывший Большой Казенный переулок. Ныне улица Гайдара.

Шкатулка с документами, оставленными перед отъездом на фронт.

Парадная дома, где жил Аркадий Петрович.
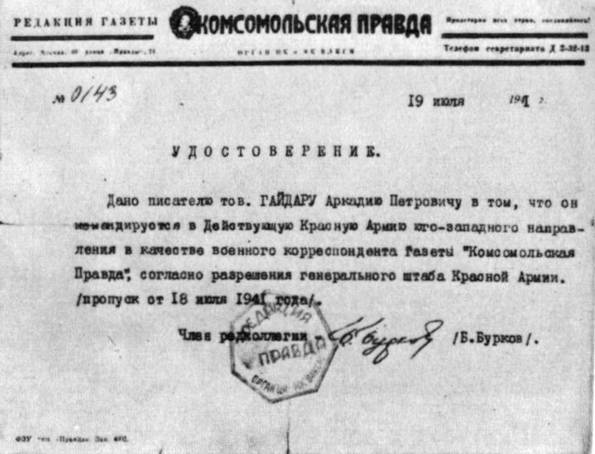
Дан приказ: ему на запад...

Полковник А. Д. Орлов. 1941 г.

На этом балконе в 1941 году (в доме помещался штаб ПВО Киева) Орлов беседовал с Гайдаром. Фото. 1964 г.

Раненый капитан Я. К. Рябоконь помог вывести из Семеновского леса группу Орлова. Фото 1940 г.

Я. К. Рябоконь. 1966 г.

Перед отходом поезда...

Киев... Здесь он начинал воевать мальчишкой.

Колхозник П. П. Руденко. К нему Гайдар часто приходил за хлебом. Фото 1963 г.

Дом близ лагеря партизан. Здесь в октябре 1941-го поселилась группа Орлова.

В батальоне комбата И. Н. Прудникова.

В нагрудном кармане — пистолет (см. главу «Пистолет системы «вальтер»).

Мост в Каневе. А. П. Гайдар писал о нем в очерке «Мост». Фото 1962 г.

Утром 20 сентября 1941 года, после возвращения А. П. Гайдара из разведки в Киев, Цепной мост был взорван.

Письмо к Д. М. Гайдар.

Командир партизанского отряда Ф. Д. Горелов.

Начальник штаба отряда И. С. Тютюнник.

Комиссар отряда М. И. Ильяшенко.

Разведчица Маша Ильяшенко — Желтая ленточка. 1945 г.

М. М. Ильяшенко (Денисенко). 1964 г.

Мой товарищ и помощник Н. М. Ильяшенко. 1964 г.

Дед Опанас Касич 26 октября 1941 года держал в руках уже пустую сумку Гайдара. Фото 1971 г.


Хата Степанцов.

Семья Степанцов перед самой войной.

Когда мой поиск заходил в тупик, я возвращался в хату Степанцов...

Партизанский лес. Его теперь часто называют Гайдаровским...

Здесь была землянка А. П. Гайдара.

На этом пне Аркадий Петрович работал. Фото 1963 г.


Через эти камыши партизаны отступали после боя у лесопилки 22 октября.

И пришли поздно вечером в хату Степанцов.

А. Ф. Степанец говорила: «С Гайдаром всегда приходили Скрыпник и Абрамов». В. И. Скрыпник. 1941 г.

В. И. Скрыпник. 1963 г.

Лейтенант С. Ф. Абрамов. 1941 г.

С. Ф. Абрамов с сыновьями. 1964 г.

Лучший сапер части Жора Астахов.

Это Жора снял автора книги после очередной нашей с ним неудачи.


В лесу по сей день ржавеет разное фашистское железо...

Последний день раскопок на усадьбе лесника М. И. Швайко. Октябрь 1966 г. (Слева — В. М. Швайко, справа — водитель Юра).

Крышка диска от пулемета А. П. Гайдара (снята с двух сторон).

25 октября А. П. Гайдар с товарищами шел из нового лагеря возле Прохоровки.

Из окна своей хаты их заметил полицай Глазастый.


На обратном пути, утром 26-го, партизаны прошли через Лепляву...

Пересекли насыпь возле семафора...

И вдоль железнодорожного
полотна двинулись к будке обходчика...

У будки их ждала засада...

Если бы Гайдар вышел к этому колодцу...

Отсюда Гайдар крикнул: «Ребята, немцы!..»

Лесник М. И. Швайко. 1941 г.

Его жена Анна Антоновна. 1940 г.

Старший сын Василий. 1941 г.

В. М. Швайко. 1964 г.

Володя Швайко — адъютант Гайдара.

Володя Швайко на фронте. 1944 г.

Оля Швайко. 1947 г.

Анна Антоновна с дочерью Ольгой Михайловной. 1964 г.

Солдатский обелиск на первой могиле А. П. Гайдара.


Гранитный монолит на том же месте был поставлен в 1966 году.

Вещи А. П. Гайдара (см. главу «Военная хитрость Гайдара»).

Автограф писателя на дощечке от бутылки с зажигательной смесью.

Сейчас на окраине Леплявы, на рукотворном холме, стоит этот обелиск.

Памятник на могиле А. П. Гайдара в Каневе.

«Все-таки где же тайник?»
ОТ АВТОРА
Этим фоторассказом я заканчиваю свой поиск на партизанских тропах Гайдара, начатый в августе 1962 года.
Благодарю всех, кто помогал мне в работе, — участников и очевидцев тех далеких событий, бывших командиров, бойцов, партизан — боевых соратников Аркадия Петровича.
Особая моя благодарность семьям погибших партизан, где трагедия 1941 года еще не поросла быльем...
Низкий поклон вам, дорогие друзья, здоровья и счастья.
Июль 1982 г.
Примечания
1
До 1943 года в Советской Армии не было погон. Знаки различия прикреплялись к петлицам. Один кубик — младший лейтенант. Два — лейтенант. Одна шпала соответствовала чину капитана и т.д. Кроме того, в зависимости от звания командиры носили нашивки на рукавах.
(обратно)
2
Значок ГСО — «Готов к санитарной обороне СССР» — выдавался тем, кто прошел курс обучения по оказанию первой медицинской помощи.
МОПР — Международная организация помощи борцам революции. Существовала с 1922 по 1947 год. Оказывала помощь жертвам буржуазного террора и борцам с фашизмом.
КИМ — Коммунистический Интернационал Молодежи — международная молодежная коммунистическая организация, которая существовала с 1919 по 1943 год.
«Ворошиловский стрелок» — почетное звание, которое присваивалось за высокие показатели в стрельбе из боевой винтовки.
(обратно)
3
В 1793 году, во время Великой французской революции, мятежники, сторонники короля, захватили неприступную крепость Тулон. Все попытки революционной армии овладеть ею закончились неудачей. Тогда никому не известный капитан Бонапарт предложил командованию свой план штурма, который был одобрен. И Тулон пал. С той поры «Тулон» в переносном смысле означает неожиданный успех дотоле безвестного командира.
(обратно)
4
Публикуется впервые. Письмо А. А. Швайко хранится в архиве Союза писателей СССР в Москве. Фонд 19, оп. 6, д. 20.
(обратно)
5
Публикуется впервые. Архив СП СССР. Ф. 19, оп. 6, д. 20.
(обратно)
6
Там же.
(обратно)
7
Публикуется впервые. Архив СП СССР. Ф. 19, оп. 6, д. 20.
(обратно)
8
В 20—30-х годах очагами называли детские сады.
(обратно)
9
Сейчас эти очки можно увидеть в витрине хаты Степанцов.
(обратно)
10
После того как полковнику А. Д. Орлову при активном участии А. П. Гайдара удалось вывести из Семеновского леса две тысячи человек, состоялось короткое совещание. Чтобы затруднить противнику преследование, было решено разделиться на мелкие отряды и разойтись в разные стороны. В партизанский лес под Леплявою вместе с А. Д. Орловым пришло около пятидесяти человек, по преимуществу комсостав.
(обратно)
11
Эта книга уже была подготовлена, когда пришла печальная весть, что А. Ф. Талвир скончался.
(обратно)
Оглавление
Эта повесть учит мужеству
«НАШЛАСЬ ЛИ СУМКА?
Часть I. «Я СЕГОДНЯ ВОЮЮ ПЕРОМ»
Часть II. ГДЕ СУМКА?
КОЕ-ЧТО О ФАШИСТСКОЙ РАЗВЕДКЕ
Часть III. НЕОЖИДАННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
Часть IV. КАПКАН
Часть V. ТАЙНИК
ФОТОДОКУМЕНТЫ
*** Примечания ***








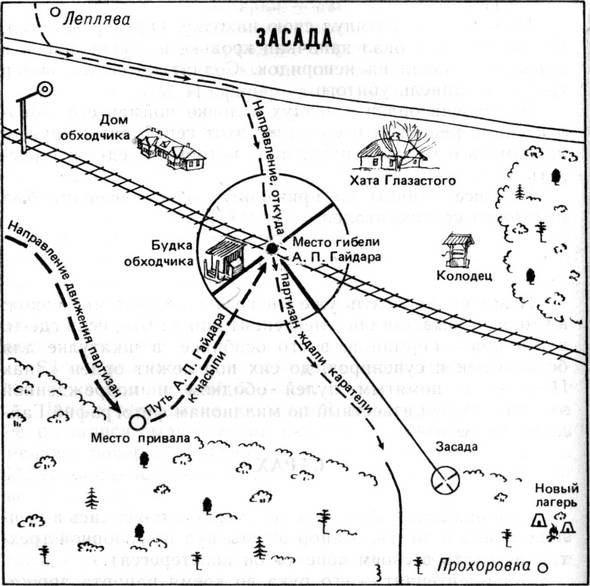
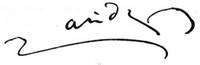





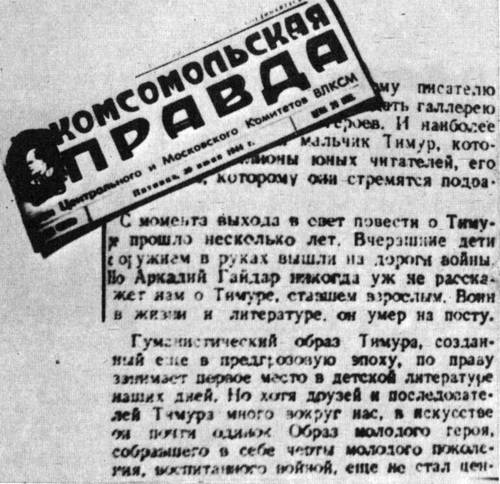 Первое — зашифрованное — сообщение в печати о гибели А. П. Гайдара. Оно появилось после расследования, которое провел А. Ф. Башкиров.
Первое — зашифрованное — сообщение в печати о гибели А. П. Гайдара. Оно появилось после расследования, которое провел А. Ф. Башкиров.
 Специальный корреспондент «Комсомольской правды» капитан А. Ф. Башкиров. 1944 г.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» капитан А. Ф. Башкиров. 1944 г.


 Аркадий Петрович Гайдар. Кадры киноленты, снятой в 1940 году, во время съемок фильма «Тимур и его команда».
Аркадий Петрович Гайдар. Кадры киноленты, снятой в 1940 году, во время съемок фильма «Тимур и его команда».
 Первая надпись, установленная на могиле А. П. Гайдара летом 1944 года.
Первая надпись, установленная на могиле А. П. Гайдара летом 1944 года.
 В августе 1962 года я отправился по следам А. П. Гайдара. Старая мельница на окраине Леплявы.
В августе 1962 года я отправился по следам А. П. Гайдара. Старая мельница на окраине Леплявы.
 Хата Степанцов в Лепляве. Снимок сделан в 1976 г. со стороны огородов.
Хата Степанцов в Лепляве. Снимок сделан в 1976 г. со стороны огородов.
 В это окошко Аркадий Петрович всегда стучал...
В это окошко Аркадий Петрович всегда стучал...
 А. П. Гайдар с читателями повести о Тимуре. 1940 г.
А. П. Гайдар с читателями повести о Тимуре. 1940 г.
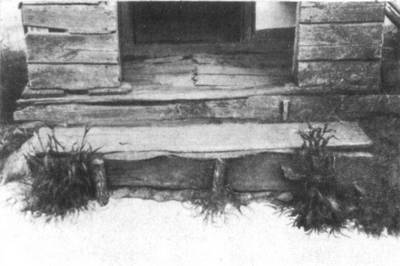 По этим ступеням…
По этим ступеням…
 ...через это крыльцо в дом Степанцов приходил Гайдар.
...через это крыльцо в дом Степанцов приходил Гайдар.
 А. Ф. Степанец. Вдова партизана. Встречей с ней в 1962 г. начался мой поиск. Фото 1971 г
А. Ф. Степанец. Вдова партизана. Встречей с ней в 1962 г. начался мой поиск. Фото 1971 г

 Дом в Кунцеве, где А. П. Гайдар жил в 1931 году. Он чем-то напоминает штаб в фильме о Тимуре и его команде.
Дом в Кунцеве, где А. П. Гайдар жил в 1931 году. Он чем-то напоминает штаб в фильме о Тимуре и его команде.
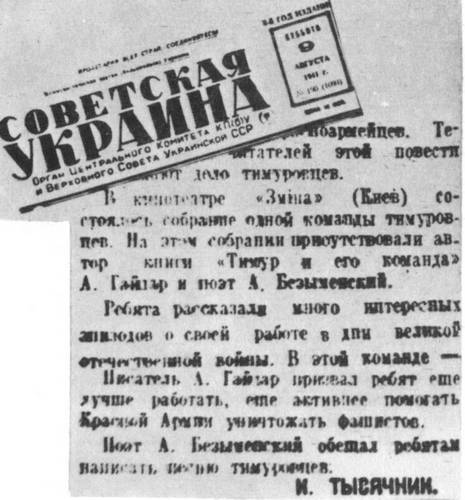 После встречи А. П. Гайдар сказал: «Ради таких минут стоило жить!»
После встречи А. П. Гайдар сказал: «Ради таких минут стоило жить!»
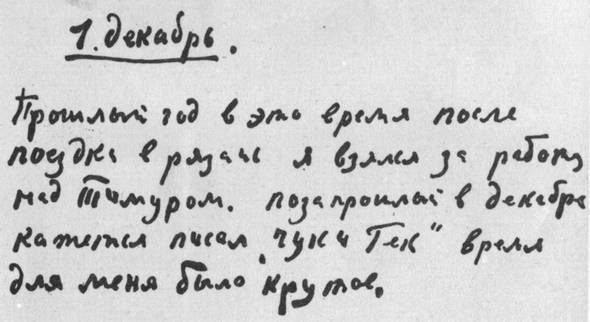
 Поэт А. И. Безыменский, автор песни «Молодая гвардия», рассказал о беседе А. П. Гайдара с тимуровцами Киева. Фото 1944 г.
Поэт А. И. Безыменский, автор песни «Молодая гвардия», рассказал о беседе А. П. Гайдара с тимуровцами Киева. Фото 1944 г.
 Кинооператор А. Н. Козаков киевских тимуровцев снял. Фото 1943 г.
Кинооператор А. Н. Козаков киевских тимуровцев снял. Фото 1943 г.
 Второй фильм о Тимуре — «Комендант снежной крепости» — должен был снимать режиссер Л. В. Кулешов (май 1941 г.).
Второй фильм о Тимуре — «Комендант снежной крепости» — должен был снимать режиссер Л. В. Кулешов (май 1941 г.).
 Очерки с Юго-Западного фронта, опубликованные в газете «Комсомольская правда», в которых Гайдар писал о Прудникове.
Очерки с Юго-Западного фронта, опубликованные в газете «Комсомольская правда», в которых Гайдар писал о Прудникове.
 Комбат И. Н. Прудников, герой очерка А. П. Гайдара «У переправы». 1941 г.
Комбат И. Н. Прудников, герой очерка А. П. Гайдара «У переправы». 1941 г.
 И. Н. Прудников. 1963 г. В августе 1941-го Прудникова вынес с поля боя Гайдар.
И. Н. Прудников. 1963 г. В августе 1941-го Прудникова вынес с поля боя Гайдар.
 Тимур киевской городской команды Норик Гарцуненко (кадр киноленты). 1941 г.
Тимур киевской городской команды Норик Гарцуненко (кадр киноленты). 1941 г.
 Н. М. Гарцуненко. 1950 г.
Н. М. Гарцуненко. 1950 г.
 В этом доме в Киеве в 1941 году жил шофер Гайдара А. К. Ольхович.
В этом доме в Киеве в 1941 году жил шофер Гайдара А. К. Ольхович.
 А. К. Ольхович. 1941 г.
А. К. Ольхович. 1941 г.
 Здесь, в квартире Ольховича, Гайдар провел последнюю ночь перед уходом из Киева.
Здесь, в квартире Ольховича, Гайдар провел последнюю ночь перед уходом из Киева.
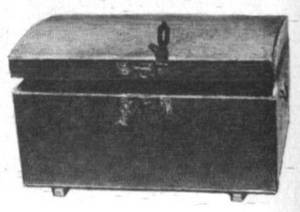 В сундучке Аркадий Петрович оставил письмо для Тимура.
В сундучке Аркадий Петрович оставил письмо для Тимура.
 В минуту отдыха...
В минуту отдыха...
 С самым близким другом — писателем Р. И. Фраерманом. 1940 г.
С самым близким другом — писателем Р. И. Фраерманом. 1940 г.
 С сыном Тимуром. 1 мая 1939 г.
С сыном Тимуром. 1 мая 1939 г.
 Кабинет Р. И. Фраермана. Здесь А. П. Гайдар читал каждую свою новую вещь... Фото 1976 г.
Кабинет Р. И. Фраермана. Здесь А. П. Гайдар читал каждую свою новую вещь... Фото 1976 г.
 Е. Ф. Белоконев был в 1941 г. представителем Военного совета фронта на Киевских переправах. 1943 г.
Е. Ф. Белоконев был в 1941 г. представителем Военного совета фронта на Киевских переправах. 1943 г.
 Е. Ф. Белоконев. 1965 г.
Е. Ф. Белоконев. 1965 г.

 В этой болотистой речушке Гайдар чуть не утонул...
В этой болотистой речушке Гайдар чуть не утонул...
 В. Д. Коршенко. С ним Гайдар шел с боями по тылам врага. Фото 1943 г.
В. Д. Коршенко. С ним Гайдар шел с боями по тылам врага. Фото 1943 г.
 В. Д. Коршенко. 1963 г.
В. Д. Коршенко. 1963 г.
 Рабочий стол А. П. Гайдара. Здесь все лежит, как в день отъезда Аркадия Петровича на войну.
Рабочий стол А. П. Гайдара. Здесь все лежит, как в день отъезда Аркадия Петровича на войну.


 Шкатулка с документами, оставленными перед отъездом на фронт.
Шкатулка с документами, оставленными перед отъездом на фронт.
 Парадная дома, где жил Аркадий Петрович.
Парадная дома, где жил Аркадий Петрович.
 Полковник А. Д. Орлов. 1941 г.
Полковник А. Д. Орлов. 1941 г.
 На этом балконе в 1941 году (в доме помещался штаб ПВО Киева) Орлов беседовал с Гайдаром. Фото. 1964 г.
На этом балконе в 1941 году (в доме помещался штаб ПВО Киева) Орлов беседовал с Гайдаром. Фото. 1964 г.
 Раненый капитан Я. К. Рябоконь помог вывести из Семеновского леса группу Орлова. Фото 1940 г.
Раненый капитан Я. К. Рябоконь помог вывести из Семеновского леса группу Орлова. Фото 1940 г.
 Я. К. Рябоконь. 1966 г.
Я. К. Рябоконь. 1966 г.
 Перед отходом поезда...
Перед отходом поезда...
 Киев... Здесь он начинал воевать мальчишкой.
Киев... Здесь он начинал воевать мальчишкой.
 Колхозник П. П. Руденко. К нему Гайдар часто приходил за хлебом. Фото 1963 г.
Колхозник П. П. Руденко. К нему Гайдар часто приходил за хлебом. Фото 1963 г.
 Дом близ лагеря партизан. Здесь в октябре 1941-го поселилась группа Орлова.
Дом близ лагеря партизан. Здесь в октябре 1941-го поселилась группа Орлова.

 В нагрудном кармане — пистолет (см. главу «Пистолет системы «вальтер»).
В нагрудном кармане — пистолет (см. главу «Пистолет системы «вальтер»).
 Утром 20 сентября 1941 года, после возвращения А. П. Гайдара из разведки в Киев, Цепной мост был взорван.
Утром 20 сентября 1941 года, после возвращения А. П. Гайдара из разведки в Киев, Цепной мост был взорван.
 Письмо к Д. М. Гайдар.
Письмо к Д. М. Гайдар.
 Командир партизанского отряда Ф. Д. Горелов.
Командир партизанского отряда Ф. Д. Горелов.
 Начальник штаба отряда И. С. Тютюнник.
Начальник штаба отряда И. С. Тютюнник.
 Комиссар отряда М. И. Ильяшенко.
Комиссар отряда М. И. Ильяшенко.
 Разведчица Маша Ильяшенко — Желтая ленточка. 1945 г.
Разведчица Маша Ильяшенко — Желтая ленточка. 1945 г.
 М. М. Ильяшенко (Денисенко). 1964 г.
М. М. Ильяшенко (Денисенко). 1964 г.
 Мой товарищ и помощник Н. М. Ильяшенко. 1964 г.
Мой товарищ и помощник Н. М. Ильяшенко. 1964 г.
 Дед Опанас Касич 26 октября 1941 года держал в руках уже пустую сумку Гайдара. Фото 1971 г.
Дед Опанас Касич 26 октября 1941 года держал в руках уже пустую сумку Гайдара. Фото 1971 г.

 Хата Степанцов.
Хата Степанцов.
 Семья Степанцов перед самой войной.
Семья Степанцов перед самой войной.
 Когда мой поиск заходил в тупик, я возвращался в хату Степанцов...
Когда мой поиск заходил в тупик, я возвращался в хату Степанцов...
 Партизанский лес. Его теперь часто называют Гайдаровским...
Партизанский лес. Его теперь часто называют Гайдаровским...
 Здесь была землянка А. П. Гайдара.
Здесь была землянка А. П. Гайдара.
 На этом пне Аркадий Петрович работал. Фото 1963 г.
На этом пне Аркадий Петрович работал. Фото 1963 г.

 Через эти камыши партизаны отступали после боя у лесопилки 22 октября.
Через эти камыши партизаны отступали после боя у лесопилки 22 октября.
 И пришли поздно вечером в хату Степанцов.
И пришли поздно вечером в хату Степанцов.
 А. Ф. Степанец говорила: «С Гайдаром всегда приходили Скрыпник и Абрамов». В. И. Скрыпник. 1941 г.
А. Ф. Степанец говорила: «С Гайдаром всегда приходили Скрыпник и Абрамов». В. И. Скрыпник. 1941 г.
 В. И. Скрыпник. 1963 г.
В. И. Скрыпник. 1963 г.
 Лейтенант С. Ф. Абрамов. 1941 г.
Лейтенант С. Ф. Абрамов. 1941 г.
 С. Ф. Абрамов с сыновьями. 1964 г.
С. Ф. Абрамов с сыновьями. 1964 г.
 Лучший сапер части Жора Астахов.
Лучший сапер части Жора Астахов.
 Это Жора снял автора книги после очередной нашей с ним неудачи.
Это Жора снял автора книги после очередной нашей с ним неудачи.

 В лесу по сей день ржавеет разное фашистское железо...
В лесу по сей день ржавеет разное фашистское железо...
 Последний день раскопок на усадьбе лесника М. И. Швайко. Октябрь 1966 г. (Слева — В. М. Швайко, справа — водитель Юра).
Последний день раскопок на усадьбе лесника М. И. Швайко. Октябрь 1966 г. (Слева — В. М. Швайко, справа — водитель Юра).
 Крышка диска от пулемета А. П. Гайдара (снята с двух сторон).
Крышка диска от пулемета А. П. Гайдара (снята с двух сторон).
 25 октября А. П. Гайдар с товарищами шел из нового лагеря возле Прохоровки.
25 октября А. П. Гайдар с товарищами шел из нового лагеря возле Прохоровки.
 Из окна своей хаты их заметил полицай Глазастый.
Из окна своей хаты их заметил полицай Глазастый.

 На обратном пути, утром 26-го, партизаны прошли через Лепляву...
На обратном пути, утром 26-го, партизаны прошли через Лепляву...
 Пересекли насыпь возле семафора...
Пересекли насыпь возле семафора...
 И вдоль железнодорожногополотна двинулись к будке обходчика...
И вдоль железнодорожногополотна двинулись к будке обходчика...
 Если бы Гайдар вышел к этому колодцу...
Если бы Гайдар вышел к этому колодцу...
 Отсюда Гайдар крикнул: «Ребята, немцы!..»
Отсюда Гайдар крикнул: «Ребята, немцы!..»
 Лесник М. И. Швайко. 1941 г.
Лесник М. И. Швайко. 1941 г.
 Его жена Анна Антоновна. 1940 г.
Его жена Анна Антоновна. 1940 г.
 Старший сын Василий. 1941 г.
Старший сын Василий. 1941 г.
 В. М. Швайко. 1964 г.
В. М. Швайко. 1964 г.
 Володя Швайко — адъютант Гайдара.
Володя Швайко — адъютант Гайдара.
 Володя Швайко на фронте. 1944 г.
Володя Швайко на фронте. 1944 г.
 Оля Швайко. 1947 г.
Оля Швайко. 1947 г.
 Анна Антоновна с дочерью Ольгой Михайловной. 1964 г.
Анна Антоновна с дочерью Ольгой Михайловной. 1964 г.
 Солдатский обелиск на первой могиле А. П. Гайдара.
Солдатский обелиск на первой могиле А. П. Гайдара.

 Гранитный монолит на том же месте был поставлен в 1966 году.
Гранитный монолит на том же месте был поставлен в 1966 году.
 Вещи А. П. Гайдара (см. главу «Военная хитрость Гайдара»).
Вещи А. П. Гайдара (см. главу «Военная хитрость Гайдара»).
 Автограф писателя на дощечке от бутылки с зажигательной смесью.
Автограф писателя на дощечке от бутылки с зажигательной смесью.
 Сейчас на окраине Леплявы, на рукотворном холме, стоит этот обелиск.
Сейчас на окраине Леплявы, на рукотворном холме, стоит этот обелиск.
 Памятник на могиле А. П. Гайдара в Каневе.
Памятник на могиле А. П. Гайдара в Каневе.
 «Все-таки где же тайник?»
«Все-таки где же тайник?»