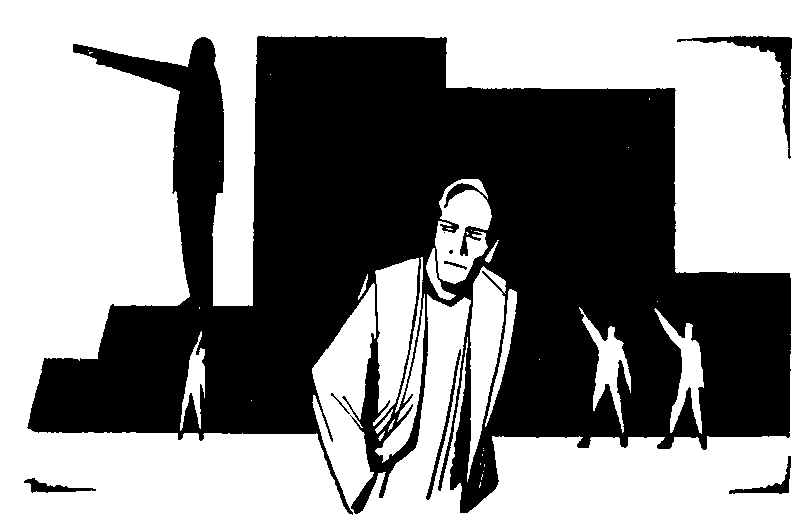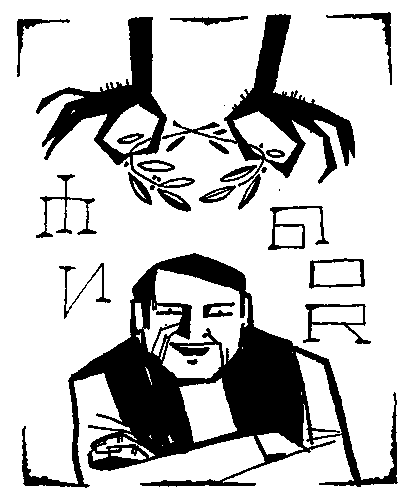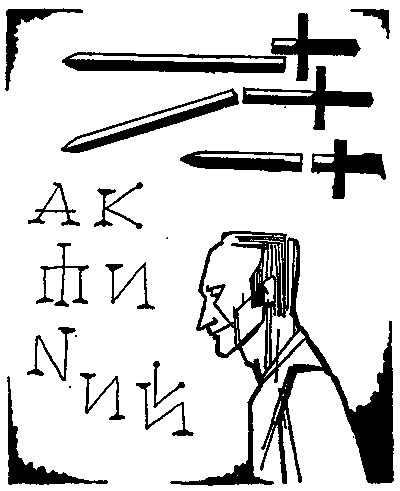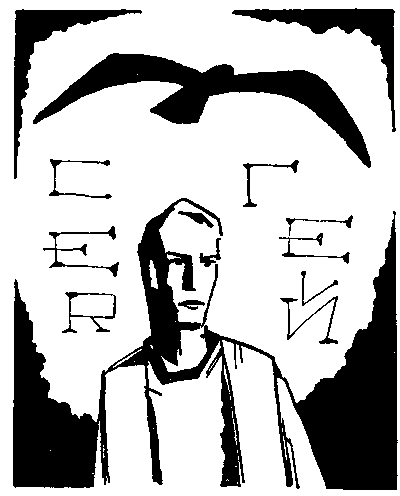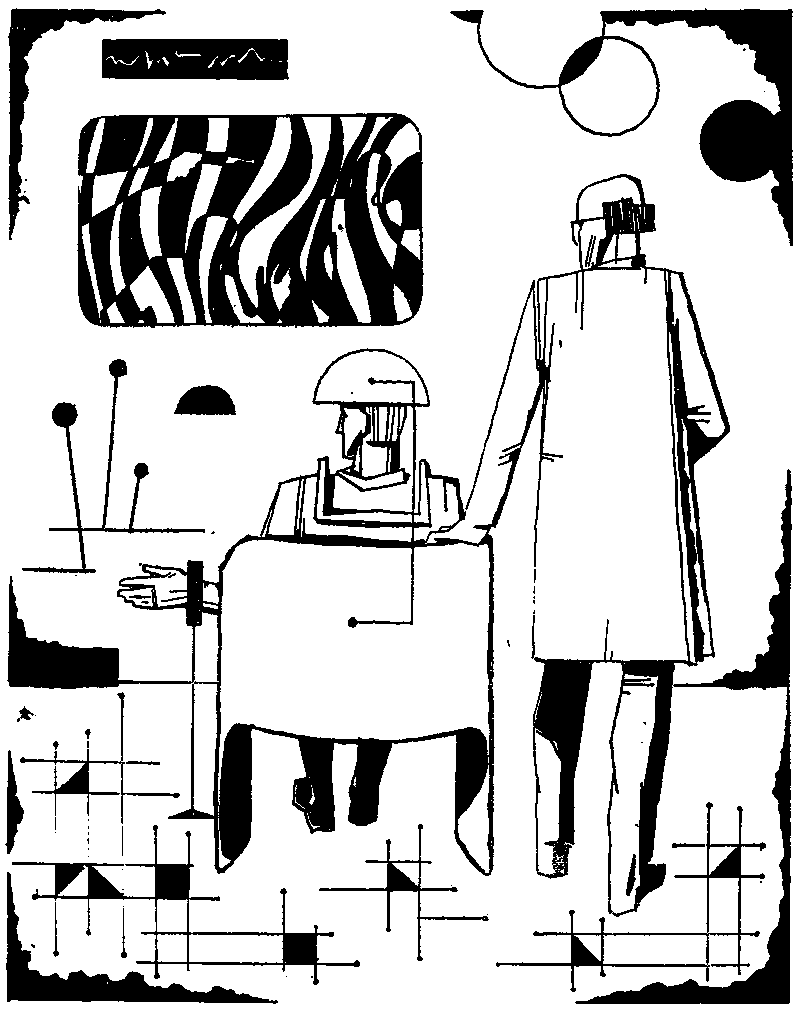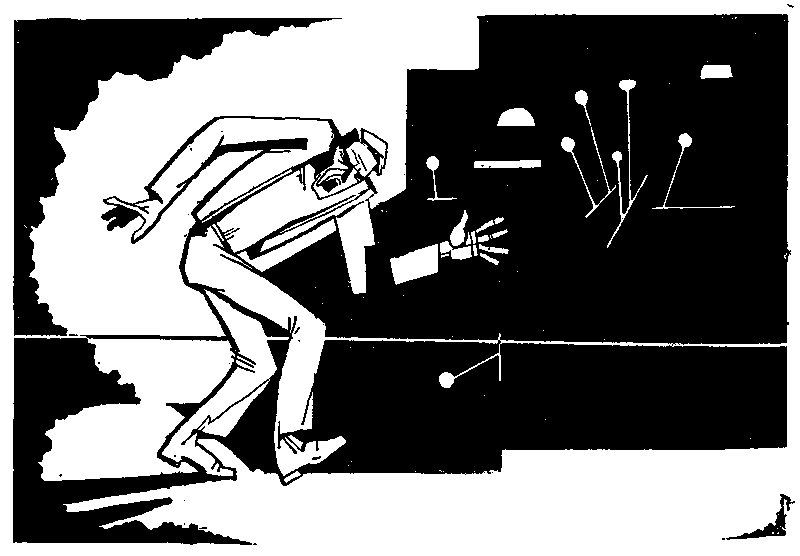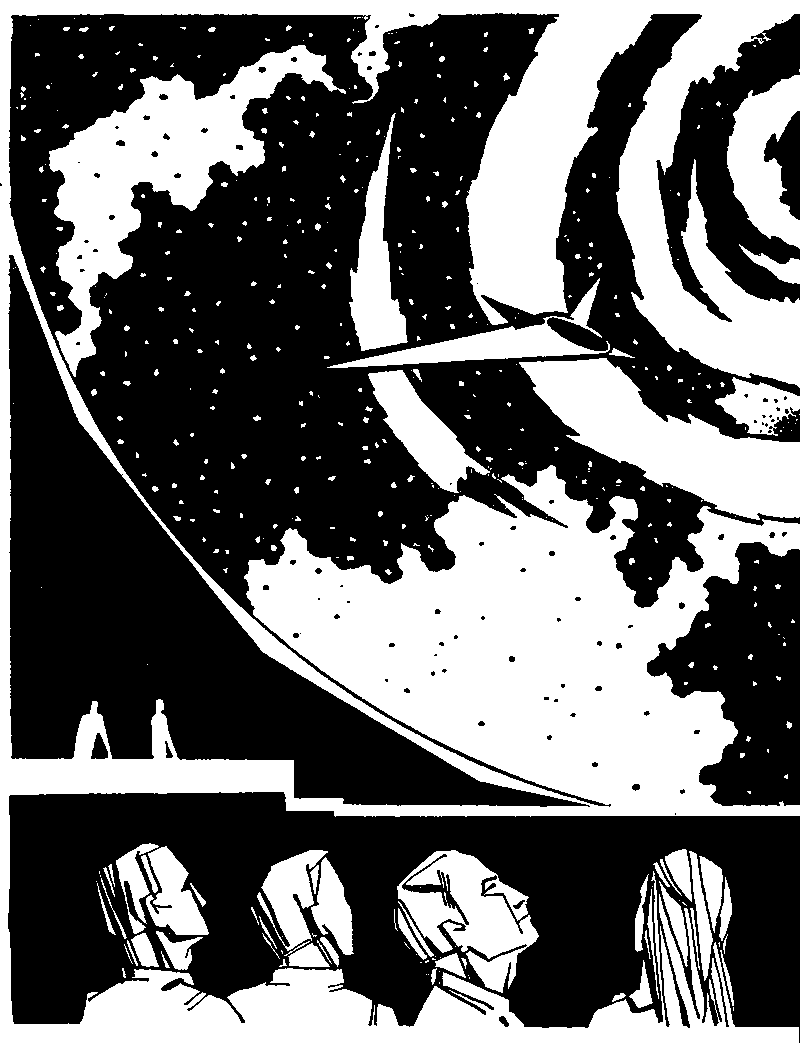Семен Слепынин
ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА
Семен Слепынин
ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА
Пришелец
Видения… Неотступные видения страшных миров и эпох!.. Они беспрерывно преследуют меня, мучают во сне. Второй день пытаюсь избавиться от них, отдыхая и набираясь сил в этой хижине. В окно я вижу нескончаемые нетронутые леса и гору с лысой вершиной. Чистый, первозданный мир, как не похож он на грохочущий супергород, по которому я ходил совсем недавно.
Утром, когда ловил в озере рыбу, очень хотелось подняться на гору, чтобы осмотреть местность. Но после магнитного сапога Хабора нога болела так, что о подъеме нечего было и думать.
Я вернулся к хижине, развел костер. Чуть покачивались вокруг березы с голубовато-белыми, словно светящимися изнутри, стволами, во все глаза глядели на меня из травы лютики и ромашки. Земля? Так хочется верить в это!
Скоро зайдет солнце, и я долго не смогу оторвать взгляда от великолепного заката. А там — снова ночь. Снова беспокойный сон с назойливыми видениями…
* * *
…Вокруг меня вспыхнуло холодное фиолетовое пламя. «Капсула», — мелькнула мысль. Пламя погасло, и капсула свернулась в щекотнувший пояс, который сразу исчез.
Я лежал на сухой траве. В ночной тьме глухо шептались деревья. Где я? Откуда я? И почему один, где все остальные?.. Мысли походили на клочья тумана, ползущие медленно и тягостно. С тревогой обнаружил, что думаю не только на русском, но и еще на каком-то языке…
Сознание медленно прояснялось. Я встал на ноги и увидел на себе вместо пилотской формы неудобный и крикливый костюм из синтетики. Пошатываясь, побрел наугад. Жиденький лес быстро кончился. Впереди мириадами огней светился многоэтажный город. Что-то чуждое было в этом сверкающем исполине, и я повернул назад.
Не прошел и километра, как вновь очутился на опушке. И вновь безумная пляска огней: город охватил рощу со всех сторон.
Дальнейшее помню смутно. Каким-то образом оказался в городе, в его гигантском полыхающем чреве. Везде двигались, кружились, бесновались разноцветные холодные огни. Едва угадывались очертания высоких, этажей в сто, зданий. Они были оплетены вертикальными, наклонными, а чаще горизонтальными, слабо мерцающими, будто и не материальными вовсе, лентами. На них лепились кресла и сферические кабины. Из кабин то и дело выходили люди и перебегали на соседние движущиеся ленты. Я спросил одного спешащего субъекта насчет гостиницы. Спросил — и сам удивился: так уверенно произнес я фразу на незнакомом, неведомо как вложенном в мою память языке. Но субъект словно ничего не понял. На миг остановился, посмотрел на меня с недоумением и испуганно прошмыгнул мимо. В чем дело? Видимо, что-то делаю не так…
Я устало сел в кресло, и оно понесло меня в неизвестном направлении. Случайно нажал в подлокотнике кнопку. Вокруг кресла засеребрилась сфера-экран. Замелькали стереокадры. Сначала ничего не понял — настолько чужды оказались обычаи эпохи. Присмотрелся. В похотливых судорогах извивались люди с инстинктами насекомых… Какие-то сражения в космосе… Это был сексуально-приключенческий фильм. Такой пошлый, что я тут же выключил сферу.
С ощущением сосущего голода вошел в какое-то заведение — нечто среднее между рестораном и дансингом. Высокий, просторный зал напоен ровным и нежным светом. После крикливого огненного безумия улицы здесь приятно отдыхал глаз. Да и толпы не было. Круглые столики почти пустовали.
Предусмотрительно выбрал столик, за которым сидела молодая пара. «Буду делать то же, что они», — решил я. Те ковыряли рыхлую розоватую массу изящными лопаточками, которыми пользовались как ножом и вилкой.
Бесшумной, танцующей походкой подскочила официантка — странная девица с голыми до плеч руками и приятным улыбающимся лицом. Странным было то, что ее сахарно-белые руки, лицо и даже рыжеватые волосы едва заметно мерцали.
— Что принести? — спросила она.
— То же самое, — кивнул я в сторону молодой пары и случайно коснулся рукой ее плеча. К моему удивлению, рука свободно вошла в плечо, как в пустоту, и наткнулась на твердый каркас. «Робот, — догадался я. — Световой робот».
Официантка, мило улыбнувшись, ушла, а я приглядывался к соседям. Их гладкие, без единой морщинки лица были невыразительны. Изредка, когда они смотрели на меня, в равнодушных и скучных глазах мелькало удивление.
Девица принесла фужер с голубой жидкостью и брусок розоватого студня — какого-то синтетического блюда. Я расковырял его лопаточкой и осторожно отправил один кусок в рот. Вопреки моим опасениям студень оказался вкусным и сытным.
Сосед тем временем вытащил из кармана пульсирующий шарик, из которого скакнули искры. Коснулись мерцающей руки девицы и погасли.
Что это? Деньги? А чем буду расплачиваться я? Стал шарить в своих карманах. Шарика не было. Зато нащупал прямоугольную пластинку, уместившуюся в ладони. С пластинки глянуло объемное и светящееся изображение моего лица. Под портретом надпись: «Гриони — хранитель Гармонии» и какие-то знаки.
Словно невзначай я открыл ладонь и показал пластинку официантке.
— Хранитель! — воскликнула та. — Вам надо было сразу показать карточку.
При слове «хранитель» соседи взглянули на меня с испугом и почтением. «Ого, — подумал я. — Здесь я, видимо, важная птица».
А девица еще раз улыбнулась и вдруг — очевидно, в честь моей персоны — взорвалась, осыпав столик брызгами разноцветных искр. От неожиданности я вздрогнул. А мои соседи захихикали, довольные увеселительным трюком. От официантки остался безобразный металлический каркас, опутанный тонкими проводами. Повернувшись, скелет зашагал в служебное помещение.
Спать… Очень хотелось спать. Долго скитался по передвижным эстакадам, пытаясь выскочить за город. Хотел выспаться в той роще, где очнулся. Но рощи не нашел. Наконец до того утомился, что готов был приткнуться в каком-нибудь парке. Однако супер-городу, видимо, не полагалось иметь садов и парков. Здесь вообще не было ни одного деревца, ни одной травинки. Ничего живого, кроме машиноподобных людей.
Это испугало меня больше всего. Охваченный паникой, я заметался, как птица, попавшая в клетку. Зачем-то спустился под землю, где с большой скоростью проносились бесчисленные поезда. Потом взлетел на самый верх огромного здания. Оно соединялось стометровой движущейся дугой-эстакадой с верхними этажами такого же дома-гиганта. С высоты этой футуристической параболы пытался рассмотреть окраину города. Но сверкающему урбанистическому морю не было границ. Как я очутился в этом страшном городе? Кто и зачем забросил меня сюда? Напрягая мозг, я пытался вспомнить — и не мог. В памяти зиял черный провал.
Снова спустился вниз, на самый глубокий уровень подземных дорог. В лабиринте безлюдных боковых коридоров нашел укромный темный угол. Свалился и заснул.
Когда проснулся и поднялся на улицу, мне показалось, что проспал целые сутки и что сейчас ночь. Город все так же ослеплял, рассыпая разноцветные искры. Только народу было больше.
Я взобрался на знакомую дугу и в чистом небе увидел полуденное солнце, освещавшее верхние этажи огромных зданий. Они стояли ровными рядами, как солдаты в строю. А внизу, под паутиной лент и эстакад, сияли светильники.
На трех просторных площадях, расположенных поблизости, заметил памятники. По-видимому, одному и тому же человеку. Каменные или металлические изваяния стояли в одинаково горделивой позе, с одинаково вздернутой рукой.
Передвижные ленты вынесли меня на край площади. Люди пересекали ее во всех направлениях. Пожалуй, это было единственное место, где ходили пешком.
Я подошел к постаменту и прочитал надпись: «Болезней тысячи, а здоровье одно». Сначала думал, что это памятник какому-то ученому-медику. Но странное поведение прохожих заставило засомневаться.
Люди, проходя мимо истукана, останавливались, вытягивались в струнку, вскидывали правую руку вверх и старательно кричали:
— Ха-хай! Ха-хай!
Я же не только не последовал их примеру, но и небрежно держал руки в карманах. Это была ошибка. Я не знал, что город буквально вцепился в меня десятками искусно запрятанных глаз-объективов. Он наблюдал за мной весь день, куда бы я ни отправился. Все новые и новые глаза города следили за мной и передавали информацию о моем необычном поведении в БАЦ — Бдительный Автоматический Центр. Об этом я узнал много позже. А тогда просто стоял перед памятником, глубоко задумавшись. Ничего не поняв, повернулся и зашагал к светящемуся переплетению лент. А за спиной то и дело слышались возгласы: «Ха-хай!»
Долго скитался по городу. Сидя в удобных креслах, бесцельно перемещался с яруса на ярус и думал, мучительно искал какой-то выход. Но его не было. Те, кто забросил меня в этот город, похоже, вовсе не собирались указать мне обратный путь…
А кругом кишела многоэтажная толпа. Она отличалась удивительной разобщенностью. Толпа одиночек… Впрочем, люди не казались усталыми или озабоченными. Напротив, их лица, бледные из-за отсутствия загара, выглядели сытыми и бездумно счастливыми. Говорили они о пустяках: о новых силиконовых перчатках, о только что просмотренном в кабине фильме — очередном секс-детективе. А речь! Лишенная всякой образности, она была унылой и плоской, как тундра. Я передернул плечами, словно от озноба: весь этот мир показался мне огромной заснеженной тундрой.
Да Земля ли это? Неужели таким мог стать мир наших потомков? Трудно поверить!..
У меня был надежный способ проверки — звездное небо.
Ночью я забрался на самую высокую в этой части города параболу. К моему неожиданному счастью, с параболической эстакадой что-то случилось. Она остановилась, огни погасли. Люди, лавируя в темноте между оголившимися креслами, расходились по соседним передвижным дугам.
На середине заглохшей эстакады я с облегчением вздохнул — тишина и одиночество. Тишина, конечно, относительная: со всех сторон несся приглушенный гул плескавшегося огнями города.
Удобно расположился в мягком кресле. Здесь, кстати, можно прекрасно выспаться. Положил голову на спинку кресла и с волнением взглянул вверх, ожидая увидеть иной, чем на Земле, огненный рисунок неба. Однако первое, что бросилось в глаза, — красавец Лебедь. Широко раскинув могучие звездные крылья, он миллионы веков летел вдоль Млечного Пути. Рядом знакомое с детства созвездие Лиры во главе с царицей северного неба — Вегой. А вот, кажется, Геркулес, взмахнувший палицей. Правда, Геркулес казался не таким, каким он должен выглядеть с Земли. Да и другие созвездия все-таки заметно, порою до неузнаваемости изменили свои очертания… В чем дело? Ведь, чтобы звезды ощутимо переместились, должны пройти тысячи лет…
Незаметно уснул. Проснулся, когда одна за другой стали таять льдинки звезд. Глядя на сереющее небо, начал вспоминать планету моей юности, с грустью ворошить пепел перегоревших дней…
Задумавшись, не заметил, как в утренних сумерках (дуга еще не светилась) приблизились два человека. Один из них спросил с ехидным любопытством:
— Звездами любуешься?
— Ну хотя бы, — ответил я, не в силах унять нарастающее раздражение.
— А может быть, еще стихи сочиняешь? — продолжал допытываться тот же ехидный голос, принадлежащий короткому человечку.
— Хотя бы и так! — Гнев, необузданный гнев вдруг захлестнул меня. — А вам чего надо?! Чего?!
— Таких вот и надо, — спокойно возразил второй человек, высокий и худой, склонившийся надо мной наподобие вопросительного знака. В правой руке он держал оружие, похожее на пистолет. Только вместо дула на меня глядела узкая горизонтальная щель.
— Пойдешь с нами, — продолжал высокий. — Попытаешься бежать — отсечем вот этой штукой ноги. — Он повертел пистолетом перед моим лицом.
Я выхватил из кармана чудодейственную пластинку и сунул ее длинному под нос. Тот отшатнулся и чуть не выронил оружие.
— Саэций, смотри! — воскликнул он. — Карточка… Выдана самим Актинием.
Взглянув на карточку, а затем на меня, Саэций кивнул.
— Карточка Актиния. Но я этого типа не знаю, хоть и работаю у Актиния много лет.
— Вот что, — подумав, сказал высокий. — Отведем его к Актинию. Пусть он сам разбирается.
В трехместной кабине мы подъехали к высокой двери. На левой стороне багрово светилась надпись: «Институт общественного здоровья». Справа переливался и вспыхивал разноцветными искрами все тот же загадочный афоризм: «Болезней тысячи, а здоровье одно».
Меня ввели в большую комнату. За столом, наклонив рыжеволосую крупную голову, сидел человек и читал книголенту. Сутуловатый, с квадратными плечами, он заметно отличался телосложением от встречавшихся мне до сих пор обитателей города, как правило, весьма тщедушных.
— Хабор! — обратился к нему один из моих конвоиров. — Актиний на месте?
— Там, — кивнул рыжеволосый на дверь и поднял голову.
Меня словно что-то кольнуло: его круглое лицо с мясистым носом и квадратной нижней челюстью показалось мне до ужаса знакомым. Но где я его видел? Во всяком случае, не здесь, не в этом городе…
— А этого интеллектуала к кому привели? Ко мне? — спросил Хабор с ухмылкой. Неприятнейшая ухмылка! Улыбался только его рот, а глаза смотрели на меня холодно, словно прицеливались.
— Еще не знаем, — ответил Саэций. — Это очень странный интеллектуал. О его поведении нам просигналил БАЦ. И знаешь, где его взяли? На погасшей верхней эстакаде. Он смотрел на звезды и сочинял стихи.
— Звезды? Стихи? — с веселым удивлением переспросил Хабор и загоготал, а потом выразительно повертел указательным пальцем около своего виска: — А он не того?..
— Нет, не псих. Не похож.
— Тогда, значит, ко мне. Мы с ним мило побеседуем в пыточной камере. Га! Га! Он узнает, что Хабор — это Хабор!
Саэций втолкнул меня в дверь. Я был в таком смятении, что хозяин кабинета Актиний, взглянув на мое ошарашенное лицо, махнул конвоиру рукой: уйди! Саэций ретировался и прикрыл дверь.
Актиний смотрел на меня так внимательно и сочувствующе, что я воспрянул духом. Его сухощавое лицо с высоким, умным лбом и добрыми, чуть хитроватыми глазами мне определенно нравилось. Такому можно говорить о себе всю правду. Да и что мне оставалось делать?
— М-да-а… Занятный тип, — проговорил Актиний и показал на кресло. — Садись! Кто такой? Похож на интеллектуала… Хотя нет. Те так не переживают. У нас никто не знает таких нравственных драм, какие написаны у тебя на лице. У нас везде царит гармония: и в обществе, и в душе каждого человека.
Aктиний усмехнулся, а затем вдруг подмигнул — заговорщически и добродушно. Я окончательно почувствовал доверие и необъяснимое дружеское расположение к этому человеку. Вытащив из кармана карточку, молча протянул ее Актинию.
— М-да-а… Это уж совсем занятно. Мне доложили о карточке. Она действительно сделана в моем институте. Кто тебе ее дал?
— Я бы сам хотел это знать.
— Такую карточку подделать невозможно. Ее могли сфабриковать только те, — Актиний ткнул пальцем вверх. Странно взглянул на меня. — А может быть, ты сам из тех? Ты… пришелец?
— Да, я пришелец.
— Тс-с, тише…
Актиний вскочил. Живой и подвижный, как ртуть, он забегал по кабинету. На секунду задержался у двери, проверяя, плотно ли она закрыта.
— Говори тише. Иначе Хабор услышит. И тогда все… Пришелец, — прошептал Актиний. — Впервые в жизни вижу пришельца.
Потом, еще раз ткнув пальцем вверх, воскликнул:
— Но это же невозможно! Наши боевые космические крейсера охраняют все подступы к планетной системе. Ни один пришелец не проникнет… Нет, это невозможно!
— А если не космический пришелец? Я сам ничего не могу понять, но, быть может, я… из другой эпохи?
— Из другой эпохи? Что за чушь! — Актиний сел за стол, внимательно посмотрел на меня. — Нет, на психа ты не похож. Давай-ка по порядку.
Я коротко рассказал о наших скитаниях, о захвате корабля, о странном провале в памяти, о том, как необъяснимо очутился здесь, ничего не зная о судьбе товарищей.
— М-да-а… Занятная сказка, — задумчиво проговорил Актиний. — И в то же время по твоей честной первобытной физиономии вижу, что не врешь. Конечно, в наши дни возможны всякие эффекты и парадоксы. Но путешествия во времени?.. Во всяком случае, тебе здорово повезло, что сразу попал ко мне. Иначе очутился бы в лапах Хабора.
В соседней комнате послышались шум и гоготанье. Я вздрогнул. Актиний поморщился.
— Чует добычу, мерзавец… Кого-то привели.
Открылась дверь, и в кабинет втолкнули испуганного человека.
— Актиний! — радостно воскликнул Саэций. — Смотри, кого поймали. Помнишь, год назад сбежал поэт Элгар. Вот он.
Актиний недовольно махнул рукой. Саэций исчез.
— Ну что, попался, дурак? — хмуро спросил Актиний. — А я-то дал тебе возможность бежать… Но второй раз отпустить не могу. Не в моих правилах. Да и сам попаду на подозрение. Тогда нам обоим несдобровать. Загремим в пыточное кресло Хабора.
Подвижное лицо поэта жалко дернулось.
— Что, боишься Хабора? Не отдам тебя этому прохвосту. Да и мелковат ты для него. Пойдешь в подземелье на строительство энергокомплекса. К своим собратьям — поэтам, историкам, композиторам и прочим художникам… В тот раз хорошие стихи были у тебя. А сейчас с чем поймали?
Элгар робко протянул пластиковый свиток. Актиний развернул его и, подняв палец, со вкусом прочитал два стихотворения.
— Ну как? — подмигнув, обратился он ко мне.
— По-моему, неплохо, — с готовностью ответил я. — Даже метафорично. Для суховатого и бедного языка этой эпохи…
— Этой эпохи, — задумчиво повторил Актиний. — Ты все еще допускаешь, что попал сюда из прошлых времен? А впрочем, чем черт не шутит… Да и лицо у тебя чуть с грустинкой, этакое вдохновенное лицо первобытного композитора. А может, ты действительно, как доложили мне, сочиняешь стихи или музыку? — с притворным ужасом спросил он.
— Я не поэт и не композитор, — успокоил я Актиния, начиная смутно догадываться о назначении Института общественного здоровья. Видимо, художественно одаренные люди считаются здесь опасными для общества…
Как бы в подтверждение моих догадок Актиний сказал:
— А стихи у него в самом деле хорошие. Такие встречаются все реже. Но этим они и вредны для Электронной Гармонии. О чем в них говорится? О любви? Представляешь? Об индивидуальной любви с душевной близостью. Это в наше-то время всеобщего секса! Девственно чистого первозданного секса, очищенного от мусора психологических переживаний, этих ненужных обломков прошлого. Но стихи еще опаснее тем, что воспевают любовь среди исчезнувших цветущих лугов и тенистых дубрав. А это уж прямой вызов. Это противоречит тому, чему учит нас Генератор Вечных Изречений и Конструктор Гармонии.
Актиний кивнул на висевший позади него портрет. На нем был изображен человек, памятник которому я уже видел. Под портретом искрился афоризм: «Болезней тысячи, а здоровье одно».
— А чему нас учит Генератор? Он учит, что наша эпоха — эпоха прогресса и эволюции технологической, которая должна вытеснить эволюцию биологическую. — Актиний говорил с напыщенной назидательностью, но мне отчетливо слышалась в его голосе издевка над всеми этими, видимо, крепко опостылевшими ему высокопарными словесами. — Только те, — взглянув на меня, он ткнул пальцем в потолок, — только пришельцы живут в дружбе с устаревшей и враждебной биосферой, развивают искусство. Да, когда знакомишься с идеями, которые генерирует наш великий Генератор, чувствуешь, что имеешь дело не с текущим человеческим умом, а с умом вековечным и абсолютным.
Элгар, раскрыв рот, с изумлением слушал. Чувствуя, что переборщил, Актиний хмуро взглянул на поэта и сказал:
— Надеюсь, будешь молчать. Все равно никто тебе не поверит.
Затем нажал кнопку на столе. На вызов явились Саэций и второй охранник.
— Отправьте этого болвана в подземелье. Он не способен к интеллектуальному труду. Пусть займется физическим.
Когда дверь закрылась, Актиний ободряюще улыбнулся мне.
— Ну как твои душевные бури и нравственные катаклизмы? Улеглись?
— Я не совсем разбираюсь…
— Вижу это, странный пришелец, — добродушно сказал Актиний и сунул мне мою карточку. — Возьми. Будешь работать у меня — разберешься. Но вот как объяснить остальным, кто ты? И почему карточка очутилась у тебя? М-да-а, это будет нелегко. Задача…
Актиний долго морщил лоб и вдруг вскочил с просиявшим лицом.
— Есть! Осенило! Ты же провокатор!
— Провокатор?!
На мое изумленное восклицание Актиний не обратил ни малейшего внимания. Он бегал по кабинету, потирал руки и хохотал, довольный своей выдумкой.
— Да! Да! — весело вскричал он. — Я раскусил тебя. Ты гнусный провокатор!
Актиний сел за стол и, разом став серьезным, нажал кнопку.
— Позови всех сюда, — сказал он вошедшему Саэцию.
Собралось человек двадцать. К моему неудовольствию, рядом стоявшее кресло заскрипело под тяжестью грузного тела. Хабор!
— Небольшое совещание, — объявил Актиний и эффектным жестом представил меня присутствующим. — Это Гриони. Наш сотрудник — хранитель. Вы его еще не знаете. Саэций и Миор схватили его как человека с опасным для Гармонии первобытным складом мышления — так называемым художественным мышлением. Схватили! Одно это говорит о том, что Гриони — работник отличный, незаменимый. Просто находка для нас. Вы поняли?
В ответ — молчание. Саэций пожал плечами, а Хабор хмыкнул и удивленно взглянул на меня.
— Значит, не поняли. Посмотрите на него еще раз. — Снова жест в мою сторону. — Как будто ничего особенного. Но присмотритесь внимательней, и вы обнаружите, вернее, просто почувствуете нечто необычное, нечто от забытых первобытных времен, когда люди, не зная красоты и величия техносферы, валялись на травке где-нибудь под деревом. Да к такому человеку сразу потянутся, как железные опилки к магниту, люди с атавистическим мышлением — художники. И вот Гриони, вылавливая таких людей на транспортных эстакадах, в увеселительных заведениях, будет с ними сначала приветлив, а потом…
— Провокатор! — воскликнул Хабор и загоготал. Потом уставился на меня, раздвинув в ухмылке рыхлые губы. Можно было подумать, что Хабор улыбается приветливо, если бы не его глаза — холодные, прицеливающиеся, никогда не смеющиеся глаза.
— Наконец-то поняли. А теперь идите и впредь не задерживайте его. Не мешайте работать.
Когда все вышли, Актиний подошел ко мне.
— Ну что ты морщишься? Не нравится работа провокатора? Да ничего делать и не надо. Первобытных осталось совсем мало. Хорошо, если за год к тебе прилипнет с десяток. Можешь их отпускать, хотя это не в моих правилах. Их надо вылавливать.
— А зачем? Зачем вылавливать?
— Мне кажется, ты начинаешь понимать сам. Художники представляют опасность для незыблемых устоев Гармонии.
— Почему именно художники?
— Ну вообще все гуманитарии с творческим духом. Они сами и их творения — почва, на которой произрастает всяческое инакомыслие: тяга к прошлому и стремление сохранить индивидуальность… А есть еще молчуны…
— Молчуны? — удивился я.
— Так их называют. Недавно состоялось два шествия молчунов в разных концах города. Целые толпы шли мимо статуи Генератора и — страшно подумать! — молчали.
— Ну и что?
— Как что? Это же бунт! Находиться рядом со статуей и молчать, не восклицать: «Ха-хай!» — это все равно что кричать: «Долой Генератора!»
Актиний не стал больше ничего рассказывать о загадочных молчунах, сославшись на то, что они «проходили не по его ведомству». Однако я уже понимал: молчуны куда опасней для Гармонии, чем гуманитарии. Значит, где-то там, в глубине, зреет недовольство…
— Да, кстати, где ты живешь? — прервал Актиний мои размышления.
Я рассказал, как одну ночь провел в подземных коридорах, а вторую — под звездами на погасшей дуге.
Актиний рассмеялся.
— Ну и занятный тип. Откуда только… Ладно, ладно, — махнул он рукой. — Главное — ты факт, реальный и симпатичный факт. Странный новичок в нашем мире. Держись за меня, иначе пропадешь! Сейчас устрою тебя в хорошем доме…
Десять минут езды в лабиринте передвижных дуг, бесшумный взлет лифта — и мы на самом верху стапятидесятиэтажного дома. На площадке — две двери. Актиний подошел к одной из них и нажал на голубую клавишу. Загудел зуммер. Дверь открылась, и на площадку вышла пожилая женщина с добрым морщинистым лицом. Сложив на груди руки, она воскликнула:
— О небеса! Актиний! Как давно не видела вас!
— Рядом квартира еще свободна? Тогда вот вам, Хэлли, новый сосед — наш сотрудник, хранитель Гриони.
Глубокие морщинки около глаз Хэлли собрались в приветливой улыбке.
Квартира мне понравилась. Главное удобство — солнце, большая редкость в этом городе. На верхних этажах, не затененных домами и сетью эстакад, свободно лились в окна его теплые лучи.
— Вижу, на языке у тебя так и вертятся вопросы, — сказал Актиний. — Сядем, я расскажу кое-что о нашем мире, в котором ты действительно выглядишь полным несмышленышем.
Он помолчал и начал с иронической торжественностью:
— Пятьдесят лет назад благодетель мира, Конструктор Гармонии и Генератор Вечных Изречений, оправданно жестокими средствами установил строй, названный впоследствии Электронной Гармонией. Условия для Гармонии подготовлены научно-техническим прогрессом. Материальное производство осуществляет техносфера. Люди наслаждаются жизнью. Правда, невозможность обеспечить всех высшими благами цивилизации и умственная неравноценность привели к тому, что общество делится на две группы. Меньшинство, пять-шесть процентов населения, — это интеллектуалы. Остальные — потребители…
— Интеллектуалы и потребители! — невольно воскликнул я. — Оригинальное деление.
— Ну, это не совсем официальное деление, — усмехнулся Актиний. — И далеко не четкое. Потребители не обижаются, если их так называют. Напротив, они довольны. Это лаборанты, низшие научные сотрудники, программисты, наладчики электронной аппаратуры. Недлинный рабочий день, дешевая синтетическая жвачка и одежда, веселящие напитки, секс, балаганные зрелища… Чего еще надо? И мы, хранители, должны поддерживать нравственное здоровье и душевную гармонию, оберегать людей от растлевающего воздействия первобытного искусства и всякой там философии. Лозунг дня: «Поменьше размышлений!» Ибо душевная гармония — основа гармонии общественной… Интеллектуалы — это ученые, высшие инженерно-технические работники, администраторы. Высший орган планеты — девятка Великих Техников. Почему Техники? Да потому, что главное продумано и сделано Генератором. Остальное, как говорится, дело техники. Вот это техническое руководство, простое поддержание гармонии, и осуществляют Великие Техники. Кстати, твоя соседка — бывшая любовница одного из Великих. Она давно брошена им. Но у нее есть дочь, которая живет то у отца — Техника, то здесь.
— Техники, ученые, администраторы… — проговорил я. — Что же получается? Технократия?
— Точнее, урбанократия. Власть города. Да, да, ты не ослышался… Сильные мира сего вверили электронному мозгу города охрану и приумножение своих богатств и привилегий, запрограммировали незыблемость Гармонии, которую они хотят увековечить. Решили, что нет ничего верней и надежней автоматического управляющего, не знающего ни сомнений, ни сантиментов. Но управляющий день ото дня все больше становится владыкой, превращая интеллектуалов в свои биопридатки… Хотел бы я знать, чем все это кончится.
— А как душевное здоровье интеллектуалов? — спросил я.
— О! — с ироническим воодушевлением воскликнул Актиний. — Здесь полный порядок. Даже лучше, чем у потребителей. Во-первых, интеллектуалам некогда развлекаться эстетическими побрякушками. Во-вторых, их спасает от художественной заразы чрезвычайно узкая специализация и профессиональный кретинизм. Но если среди них заведется ученый с художественными наклонностями и первобытной тягой к иным формам жизни, то это будет самый опасный человек для Гармонии. Почти пришелец… Поэтому мы должны изолировать художников. Первобытная природа и художественные произведения — зрелищные посиделки, конечно, не в счет — действуют разрушающе, дисгармонично. На почве природы и искусства произрастает страшный для Гармонии сорняк — индивидуальность человека. Появляются нездоровые самобытные личности.
— Нездоровые самобытные личности? Сорняк? Слушай, Актиний, тебе бы памфлеты писать!..
— Памфлеты? И угодить в лапы Хабора? Ну нет. Да и толку что? Никто не поймет, кроме художников… Нашему машинному миру нужны стандарты. Стандартными людьми легче управлять. Только из них можно построить четко запрограммированный общественный организм. А своеобразие людей приводит к разброду, анархии и — страшно подумать! — к инакомыслию.
— Теперь мне понятен смысл афоризма: «Болезней тысячи, а здоровье одно».
— Это гениальное изречение Генератора! — с шутовским пафосом провозгласил Актиний. — Ведь индивидуальных черт человека действительно тысячи, и каждая болезненно отзывается на здоровом стандарте.
— Слушай, Актиний! — воскликнул я. — Но ведь по этой логике ты сам больной человек.
— А ты?! — весело откликнулся Актиний.
— Но как же ты можешь возглавлять Институт общественного здоровья? Ты же сам не веришь, что приносишь этим пользу!
— Верю! — живо возразил Актиний. — Именно верю. Я стараюсь сохранить художников, рассовать по подземельям и больницам. Правда, некоторых приходится отдавать на расправу Хабору. Тут я связан по рукам и ногам… Но большинство удается спасти, изображая их просто дурачками, людьми с недоразвитым мышлением…
— И все же ты убежден, что их надо изолировать. Почему?
— Мое правило такое: чем хуже, тем лучше.
— Не совсем понимаю…
— Сейчас поймешь. Художники и прочие гуманитарии со своим неистребимым творческим зудом поддерживают в обществе какой-то минимальный духовный уровень. А теперь представь, что они исчезли с поверхности планеты. Образуется вакуум, бездуховный космический холод. Вот тогда люди вздрогнут и очнутся…
— А если не очнутся?
— Нет, не говори так. — В глазах Актиния мелькнул испуг. — Этого не может быть.
На прощание Актиний просил раз в день появляться в институте.
— Для формальности, — добавил он. — Да и мне скучно будет без тебя. Я, может быть, впервые живого человека встретил.
В бездуховной темнице Электронной Гармонии, в этом механизированном стандартном мире Актиний и для меня был единственным живым человеком…
Когда он ушел, я стал осматривать комнату. Одна стена — стереоэкран, на котором, если нажать кнопку, замелькают кадры нового секс-детектива. Эта «духовная» продукция изготовлялась поточным методом, вероятно, не людьми, а самим городом-автоматом. На другой стене — ниша для книголент. Однако никаких книг не было, кроме сочинений Генератора. Я взял первое попавшееся и нажал кнопку. Вспыхнуло и заискрилось название: «Вечные изречения». Книголента открывалась уже известным мне «откровением» Генератора: «Болезней тысячи, а здоровье одно». «Человек — клубок диких змей», — гласило следующее изречение. Под дикими змеями, которых надо беспощадно вырывать, подразумевались, видимо, индивидуальные качества. А дальше шли уже совершенно непонятные мне афоризмы… Я отложил в сторону сборник изречений и взялся за другие книголенты — философские труды Конструктора Гармонии. Однако сразу же запутался в лабиринтном, мифологическом мышлении Генератора.
Я махнул рукой и повалился на диван.
* * *
… Леса на западе оранжево плавятся и горят, как на гигантском костре. В хижине быстро темнеет. Успеваю растворить в воде сажу — это чернила на завтра. Я должен записать все, что со мной произошло. Со мной и со всеми нами. Обязан, даже если мои записи некому будет читать… Вот уже гаснет закат. На небе выступают все новые и новые звезды, словно кто-то невидимый раздувает тлеющие угли. И снова вспоминается наш полет. Сижу в хижине, а мысли мои уже гуляют там — среди звезд, в великой тишине мироздания…
Черная аннигиляция
В великой тишине мироздания… Нет, не такая уж это мирная тишина. Полная грозных неожиданностей и опасностей, она не располагает к спокойным и торжественным мыслям о величии звездных сфер.
Раздумывая, с чего начать повествование, я встряхнул перо. Упала капля. На бумаге вспыхнула жирная и черная, как тушь, клякса. Своей чернотой она мигом напомнила страшный беззвучный взрыв в пространстве и испуганный крик Малыша:
— Черная аннигиляция!
С этого взрыва и начались все злоключения.
Наш звездолет «Орел» стартовал с Камчатского космодрома 20 июля 2080 года. Мы должны были исследовать планетную систему звезды Альтаир в созвездии Орла и отработать в полете новый гравитонный двигатель.
От Земли до Альтаира — шестнадцать световых лет. Двадцать лет корабль летел с околосветовой скоростью, управляемый ЭУ — электронным универсалом. Мы же почти все время спали, охлажденные в гипотермическом отсеке.
После окончательного пробуждения жизнь на корабле вошла в обычную колею. Утром по привычке мы собрались в звездной каюте — просторной пилотской кабине с пультом управления и огромной прозрачной полусферой. Не было только планетолога Ивана Бурсова.
— Досматривает утренние сны, — шутливо пояснил бортинженер Ревелино, которого за юный возраст и малый рост члены экипажа называли Малышом. А Иван иногда — Чернышом: цвет лица у Ревелино был темно-оливковым, а волосы черными, как антрацит.
Наконец в дверях звездной каюты возникла крупная фигура планетолога.
— Вы уже проснулись? Феноменально! — воскликнул он, благодушно поглаживая темно-русую бороду. — А то, может, еще поспали бы, а? Нет, что ни говорите, полет наш протекает по-обывательски благополучно.
На жестких губах капитана Федора Стриганова выдавилась скупая улыбка. Улыбнулся даже всегда спокойный биолог Зиновский, смуглый, как и Ревелино, но с совершенно седыми волосами.
Бурсов, как всегда, высматривал, кто меньше занят, с кем бы он мог поговорить на философские темы. Это была его слабость. Некоторое время Иван кружил надо мной, как коршун над цыпленком. Но я отмахнулся от него: занят.
Сейчас свободен был только инженер Николай Кочетов. Влюбленный в гравитационную технику и равнодушный к философии, он наименее интересный собеседник для Ивана. Но все же Бурсов сел рядом с инженером и начал расхваливать гравитационный двигатель.
— Ты подожди, Иван, восторгаться, — возразил Кочетов. — Мне тоже наш «мотор» нравится. Но не забывай, что мы первые его по-настоящему отрабатываем. Все испытания в ближнем космосе — полдела… На многие вопросы еще предстоит дать ответ. Вот сегодня надо будет удалить выгоревшее топливо, а это не так-то просто сделать…
Занятый прокладкой трассы, я краем уха прислушивался к словам инженера и старался подавить безотчетную тревогу. Как-то у него сегодня получится?..
А через несколько часов Кочетов менял рабочее вещество. «Выгоревший» свинцовый шар — источник гравитационного излучения, создающего реактивную тягу, — он удалил из двигателя и опутал его невидимой силовой паутиной, тянувшейся за служебной ракетой подобно тралу.
За эволюциями ракеты мы наблюдали на экране кругового обзора. Вот она, совсем крохотная по сравнению с громадой звездолета, похожая на серебристую иголку, отделилась от борта и стремительно помчалась вперед. Удалившись на триста километров, ракета должна была повернуть налево, описать длинную полуокружность и вернуться к кораблю сзади. Но случилось непредвиденное. При повороте силовые путы разорвались и оголенный свинцовый шар (лишившийся гравитонов, он стал почти невесом) начал сближаться с ракетой. Видимо, Кочетов растерялся. Мы видели, как ракета судорожно отскочила в сторону. Но шар не только не отставал, а буквально погнался за ракетой и вскоре прилип к ее корпусу. А затем…
— Черная аннигиляция!.. — крикнул Ревелино.
Да, это была аннигиляция. Но не та, которая происходит при уничтожении вещества и антивещества и сопровождается ослепительной вспышкой, выделением огромной энергии. Здесь все было совсем не так. Заряженный отрицательной гравитационной энергией свинец и обычное вещество ракеты, соединившись, мгновенно, взрывоподобно исчезли, аннигилировали, обратившись… Во что? Этого никто из нас не знал. Во всяком случае, не в энергию…
Сквозь купол каюты мы увидели на привычном звездном небе внезапно возникшую зияющую бездну. Будто разорвалось само пространство. Угольный провал в Ничто…
И сразу мир исчез, Вселенная рухнула. Ни звезд, ни туманностей — ничего. Густая непроницаемая тьма. Нам показалось, что со временем происходят странные вещи: то оно мчалось вперед с немыслимой скоростью, то останавливалось совсем. Словно здесь вообще не было времени.
Сознание у всех померкло… Мы точно погрузились в небытие и в тот же миг вынырнули.
— Что это было? — воскликнул вскочивший на ноги Бурсов. — Где мы?
Кто ему мог ответить? Еще ни один астронавт не попадал в такие переплеты.
— Похоже, что мышеловка захлопнулась, — проговорил биолог Зиновский.
Если бы мы знали тогда, как недалек он был от истины…
На корабле воцарилась гнетущая тишина. Трудно было свыкнуться с мыслью, что Кочетова больше нет. Кажется, только что вышел из звездной каюты — и вот никогда уже не войдет… Капитан целыми днями пропадал в рубке электронного универсала. Я сидел за пультом, а сзади полулежал в кресле Иван Бурсов и читал свою неизменную «Историю философии». У него, планетолога, вся работа была еще впереди. В свободное от дежурства время я уединялся в своей каюте. Чтобы как-то заполнить пустоту, начал писать картину — незатейливый земной пейзаж: осенние дали, и на переднем плане береза, словно охваченная желтым пламенем.
Постепенно мы снова стали все чаще собираться вместе в звездной каюте.
— Что-то не нравится мне мир после аннигиляции… — бормотал Иван, почти не отрывавшийся теперь от гамма-телескопа.
То и дело он бегал в рубку ЭУ, производил какие-то расчеты. Однако на все наши просьбы объяснить, в чем дело, он отвечал одно и то же: «Пока еще нет полной ясности».
К своему гамма-телескопу — самому дальнозоркому и самому хрупкому из всех корабельных средств наблюдения — Бурсов с самого начала строго-настрого запретил нам всем прикасаться. Но однажды, когда планетолог скрылся за дверью ЭУ, заинтригованный Ревелино не выдержал и приник к запретному окуляру. Через полчаса он оглядел нас округлившимися от изумления глазами. Но едва открыл рот — на пороге появился Бурсов.
— Ты что же молчишь, Иван? — укоризненно проговорил Малыш. — Такое творится, а он молчит.
— Я не имел права, пока все не проверю.
Малыш повернулся к нам.
— Сколько планет насчитали мы вокруг Альтаира до аннигиляции?
— Пять! — почти хором ответили мы.
— А сейчас их стало три. Только три! Как ты можешь объяснить это, Иван?
Планетолог покачал головой.
— Необъяснимо… — Он помолчал. — Три вместо пяти — это еще не все. Главную новость ЭУ только что выдал: по всем признакам на одной из планет высокоразвитая цивилизация!
…Прошел еще месяц, и мы увидели ее крупным планом — третью от светила планету, похожую на апельсин с ярко освещенным оранжевым боком. Растительность — желто-зеленая. Небольшие, но многочисленные моря соединялись слюдяными лентами каналов. Они опоясывали всю планету и имели характерную деталь — перемычки. Не то дамбы, не то мосты. А скорее всего, города-мосты, так как на ночной стороне планеты перемычки светились.
Встретили нас необычно.
Корабль, захваченный силовыми щупальцами, мягко посадили в центре циклопического диска-спутника. Диск висел над оранжевой планетой с голубыми прожилками каналов. Над нашим кораблем неожиданно раскинулся серебристый купол.
Приборы показывали, что под куполом земной состав атмосферы. Мы вышли из корабля, но никого не увидели. Один лишь поразительной красоты цветок качался перед нами на тонком стебле. Он наклонил в нашу сторону огромную чашечку — вернее сказать, чашу диаметром полметра — и вдруг заполыхал всеми цветами радуги. В чередовании красок чувствовался еле уловимый и осмысленный ритм.
— Наверно, биоробот, — шепотом высказал предположение капитан. — Биологический автомат для контактов.
Однако контактов не получилось. Мы не понимали, что хотел сказать цветок. Ждали, что будет дальше. Цветок понял наше затруднение и перешел на другой язык — язык запахов. На нас полились чарующие ароматы. Иван блаженно сощурил глаза, погладил бороду и прошептал:
— Он говорит нам какие-то приятные вещи. Комплименты… Феноменально!
Запахи цветущих лугов сменились таким зловонием, что мы зажали носы. Малыш толкнул в бок Ивана и воскликнул:
— Хороши комплименты. Это же крепкое ругательство!
Иван и Малыш рассмеялись. Капитан строго взглянул в их сторону. Остряки присмирели.
Понятливый биоробот вдруг повторил последние слова Малыша.
— …Крепкое ругательство.
Так цветок-дешифратор нащупал звуковую речь. Мы стали учить его русскому языку. Биоробот часто переспрашивал, уточнял значения отдельных слов. Часа через три он сказал:
— Можете идти отдыхать. Завтра встретитесь с представителями планеты.
Представители — их было двое — оказались похожими на людей. Отличались они от нас невысоким ростом, более гибкими в плечах руками. Их выразительные лица были бы красивы, если бы не полное отсутствие волос на голове. Еще одна особенность: между корпусом и руками иногда появлялась перепонка, и они могли летать на короткие расстояния.
Подпорхнув на своих руках-крыльях к цветку, делегаты планеты о чем-то заговорили между собой. Их речь напоминала щебетание птиц. Цветок-дешифратор молчал. Наконец один из представителей приветливо улыбнулся нам и назвал себя.
— Чеи-Тэ, — так примерно перевел имя дешифратор.
— Федор Стриганов, — отозвался капитан.
После знакомства наш планетолог развернул светящуюся астрономическую карту. Тан-Чи, спутник Чеи-Тэ, забраковал ее, сказав, что она неточна. Это нас удивило.
Чеи-Тэ подошел к стене и нажал кнопку. Купол над нами засверкал мириадами звезд. Мы сравнили нашу карту с этой звездной сферой и нашли ряд больших расхождений в расположении и конфигурации созвездий.
— Не надо забывать, — прошептал нам капитан, — что мы побывали внутри чертовой аннигиляции — в этом кромешном
аду времен и пространств…
Вероятно, капитан был прав. Сейчас я думаю, что в зоне черной аннигиляции нарушилась односвязность пространства. В этом рваном, лоскутном пространстве наш корабль швыряло как скорлупку на волнах взбесившегося времени туда и сюда. И вынырнули мы оттуда совсем не там, где погрузились.
Чеи-Тэ, ткнув лучиком-указкой в звезду, которую мы называем Альтаиром, сказал:
— Это наше светило — Руада. А это наша планета — Таиса.
Цветок-дешифратор старательно переводил. Мы узнали, что Таиса входит в содружество двадцати населенных планет. Разумные обитатели этих планет сильно отличаются друг от друга.
— Во всяком случае, более сильно, чем мы с вами, — с улыбкой продолжал Чеи-Тэ. И тут же его лицо стало серьезным. — Есть еще одна планета… Для нас и всего содружества она является неприятной загадкой. Вот жители этой планеты похожи на вас. Просто поразительно похожи! Но мы уверены, что вы не оттуда. Наверно, прилетели из какого-то далекого мира, еще не вошедшего в общее братство? Будем рады принять вас у себя. Теперь расскажите о себе.
— Наша звезда не так уж далека, — капитан показал на Солнце. — Вот она.
Чеи-Тэ и Тан-Чи растерянно переглянулись и защебетали на своем птичьем языке. Дешифратор молчал. Потом снова заработал, и мы услышали, как Чеи-Тэ смущенно проговорил:
— Извините за небольшое совещание. Мы не ожидали… Вернее, мы не учли эффект времени. Наши приборы зарегистрировали гравитационный взрыв. Не коснулся ли ваш корабль той зоны?
Капитан коротко рассказал о случившемся.
— Да, так и есть, — таисянин кивнул головой. — Видимо, в зоне аннигиляции произошел громадный сдвиг во времени и корабль выбросило совсем в другую эпоху. Суть этих процессов нам пока не очень ясна, но мы знаем, что такое бывает… Очевидно, в ваше отсутствие на планете протекли тысячелетия и произошли непонятные социальные изменения.
— Какие изменения? — встревожился Иван.
— Вероятно, значительные. — Чеи-Тэ долго и сочувственно смотрел на нас, потом решился: — Ваша планета как раз та единственная в известной нам части Вселенной, на которой обосновалась технически могучая, но враждебная космическому братству цивилизация.
— Ну нет! — воскликнул Иван. — Не может этого быть! Уже в наше время, в двадцать первом веке, почти все страны встали на путь гармоничного общественного развития.
— Но прошло столько времени, — сказал Чеи-Тэ. — Возможно, тысячелетия. А пути социальной эволюции часто извилисты… Мы пытались наладить дружественный контакт с этой планетой. Ничего не получилось. Кстати, Тан-Чи — участник той экспедиции. Он — один из лучших специалистов по вашей планете.
— Специалист… — усмехнулся Тан-Чи. — Все, что знаю о ней, можно изложить за пять минут.
Тан-Чи приблизил к звездной сфере изображение Солнечной системы и лучом-указкой обвел ее. Она была не совсем такая, какую мы знали в своем веке. Например, Сатурн уже не имел колец, Плутона вообще не было. Неужели уже научились крушить планеты?..
— Пятьдесят лет назад, — начал рассказ Тан-Чи, — в пору моей юности, наша экспедиция в составе трех кораблей приблизилась к границам системы. Посланные на разведку беспилотные автоматы отскочили от невидимой стены. Вот здесь. — Тан-Чи очертил большую окружность. — Это было сферическое защитное поле неслыханной напряженности. Два корабля подошли почти вплотную к сфере. И тут случилось невероятное: жители планеты напали. Не было никаких космических кораблей или беспилотных средств нападения. Просто эти существа появлялись в самых неожиданных местах. Возникали из ничего, проникали через любые преграды, не боялись никакого оружия. Сожженные лучевым ударом, возникали вновь. Нет, они не убивали. Они стремились взять нас в плен. Им удалось захватить первый корабль. Второму кораблю, на котором находился я, чудом удалось вырваться, и мы вернулись на Таису. Вскоре с таинственной планеты стали прилетать к нам беспилотные космические аппараты. Далеко не с дружественной целью. Они пытались захватывать в плен таисян. Но мы научились уничтожать эти корабли далеко за пределами нашей системы. И вот тридцать лет живем спокойно. Только изредка наши космические крейсера подвергаются нападению. Недавно космические братья из системы Арнс пытались установить контакт с загадочной планетой, но с тем же успехом.
Мы молчали, подавленные столь неожиданными вестями. Капитан задал несколько вопросов.
— К сожалению, — ответил Тан-Чи, — больше ничего добавить не могу. Планета держится в строгой самоизоляции. А своей агрессивностью доставляет немало хлопот космическому содружеству.
Таисяне предложили нам не возвращаться на Землю и поселиться у них навсегда. Но мы решили лететь на родную планету.
Несколько дней мы знакомились с таисянской цивилизацией — своеобразной и высокоразвитой. Особенно далеко шагнула у них техника звездоплавания. Их корабли передвигались со скоростью, многократно превышающей световую. Они умели «съедать» пространство, трансформируя его во время. Таким способом таисяне по нашей просьбе забросили «Орел», словно катапультой, к окраине Солнечной системы.
Дальше наш корабль шел самостоятельно, на планетарных двигателях. За орбитой необъяснимо исчезнувшего Плутона я впервые почувствовал чье-то незримое присутствие. Будто кто-то невидимый наблюдал за мной. Спиной, всеми порами тела я так и ощущал липкий, изучающий взгляд.
Нервы мои были взвинчены.
Однажды я сидел в своей каюте спиной к двери. Тишина. Внезапно дверь зашелестела, точно ее открывал сквозняк. Я резко обернулся. Из коридора высовывалась толстая физиономия, которая тотчас скрылась или, вернее… растаяла.
«Померещилось, — подумал я тогда. — Нервы. Этого еще не хватало».
Но вечером того же дня в звездную каюту вбежал испуганный Ревелино.
— Ребята! — крикнул он. — В моей каюте кто-то был. Кто-то не наш.
— А я, — вмешался вдруг молчавший биолог Зиновский, — когда подходил к своей каюте, услышал там шорох. Быстро открыл дверь…
— И что же? — строго спросил капитан.
— Ничего, — смутился биолог. — Никого не оказалось.
— Наслушались от таисян всякой чертовщины, — нахмурился капитан. И властным голосом потребовал: — Запрещаю на корабле всякие разговоры о привидениях, о чертях и ведьмах.
Иван расхохотался. Благодушно поглаживая бороду, сказал:
— Прости их, капитан. Нервные барышни. Мне вот никакие ведьмы не снятся.
Однако на следующее утро планетолог пришел в звездную каюту раньше обычного. И не развалился, как всегда, в кресле, а ходил из угла в угол и озадаченно теребил бороду.
— Да-а… Феноменально, — еле слышно бормотал он. Наконец, остановившись, обратился к капитану: — Можешь называть меня мракобесом. Как угодно. Но я сегодня ночью видел…
— Во сне?
— Мне не снилось. Ночью я проснулся и услышал за моим столиком шелест страниц. Настольная лампа светилась. Я обернулся и увидел в кресле за книгой девушку или молодую женщину. Красивую ошеломляюще.
— Ну, это понятно! — иронически воскликнул капитан.
— Ты подожди, слушай. Ничего подобного еще не встречал. Я видел ее всего секунду. Она была… Постой, вспомню. Она была в темно-синем… Нет, в светло-синем с блестками платье. Густые черные волосы и большие темные глаза… Когда я обернулся, она взглянула на меня со странной улыбкой и тотчас исчезла. Просто растаяла в воздухе…
— Так, так… Значит, растаяла. — Брови Федора хмурились все более грозно. Не на шутку рассерженный капитан ушел к себе в каюту.
Вскоре, однако, он вернулся и швырнул на стол книгу «Нейтрино и время». Виновато взглянув на нас, сказал:
— Вы правы, братцы. В моей каюте тоже кто-то был, читал вот этот устаревший труд.
— Феноменально! — торжествовал Иван. — Что? Убедился? А кого ты видел?
— Не ее, — усмехнулся капитан. — Я вообще никого не видел. Когда открывал дверь, услышал грохот опрокинутого кресла. Словно кто-то поспешно вскочил. Вошел — в каюте пусто. На книжной полке беспорядок.
— Что все это значит? — спросил я капитана.
— Если бы они хотели убить нас или взять в плен, то давно бы сделали это, — вслух размышлял Федор. — Видимо, присматриваются, изучают… прежде чем вступить в контакты. Очень всех прошу: никаких эксцессов! Старайтесь не обращать внимания. И строго придерживайтесь установленного порядка.
Но назавтра же порядок грубейшим образом нарушил Иван Бурсов: он не явился на спортивный час. По насупленным бровям капитана было видно, что планетолога ожидает не очень-то ласковый разговор.
Не пришел Иван и в звездную каюту, что не на шутку всех встревожило. Мы поспешили в каюту Бурсова.
Распахнули дверь и — остановились, ошеломленные. Такого разгрома еще не приходилось видеть за все время полета. Стол сдвинут. Сломанное кресло торчало вверх ножками у стены. Одна лишь койка, крепко привинченная к полу, оставалась на месте. Постель в беспорядке. Разорванная подушка вместе с перепутанными лентами микрофильмов валялась на полу.
В углу послышалось мычание. Я бросился туда и обнаружил планетолога в самой немыслимой позе. Крепко скрученный простынями, он был привязан к койке. Во рту торчал кляп — кусок губчатой подушки, засунутый с такой силой, что я еле вытащил его. Малыш в это время развязал Ивана.
Бурсов встал. Он был в такой ярости, что не мог вымолвить ни слова, только беззвучно шевелил губами и сжимал кулаки. Под правым глазом красовался синяк.
— Кто это тебя так разделал? — спросил капитан.
— Черт возьми! А я почем знаю! — взорвался наконец планетолог и разразился ругательствами, среди которых «черт возьми» было самым мягким.
Капитан жестом хотел остановить разбушевавшегося планетолога. Но из того проклятья сыпались, как горох из разорванного мешка.
— Да скажешь наконец, что здесь произошло?! — повысил голос Федор.
Окрик капитана подействовал. Бурсов успокоился.
— Ночью я пытался делать вид, что сплю. И все же задремал по-настоящему. Очнулся, когда сзади кто-то связывал руки. Повернуть голову и посмотреть не успел. Хотел крикнуть, но он воткнул подушку с такой силой…
— Он! Он! — Капитан сделал нетерпеливый жест. — Кто — он?
— А может быть, не он, а она? Та самая? — попробовал съехидничать Малыш.
— Это был мужчина, — ворчал Иван, не разделявший веселья Малыша. — Я его, правда, толком не разглядел. Когда попытался вырваться, он так стукнул по голове, что потемнело в глазах.
— Как жаль, что это был он, а не она, — протянул Малыш.
— Хватит паясничать, — оборвал Федор.
— Может быть, вернемся к таисянам? — осторожно предложил Зиновский, когда мы сидели в звездной каюте.
— Не будем терять надежду на взаимопонимание, — ответил капитан. — Но — никаких эксцессов! Слышите, братцы! Никаких эксцессов!..
Дальше случилось что-то непонятное. Сквозь купол каюты мы увидели, как описанная таисянами защитная сфера, до которой было еще далеко, слегка засветилась. От нее протянулись змеисто извивающиеся языки — протуберанцы. Они захватили наш корабль в силовой мешок.
Вот и все… О том, что было до захвата, я вспоминаю безо всяких усилий. Даже сейчас, прикрыв глаза, я снова вижу капитана и слышу его властное: «Никаких эксцессов!..» А дальше, словно споткнувшись, останавливаюсь перед внезапно возникшим черным провалом…
Эксцессы и конфликты, видимо, случались и после предупреждения капитана. Об этом говорит шрам на моей левой щеке. Но как он появился — не помню. Вообще больше не помню ничего. И горше всего — не знаю, что сталось с моими товарищами…
Город Электронного Дьявола
…Тогда, после ухода Актиния, я проспал на диване до вечера. Проснулся, когда на небе выступили звезды. Встал и вышел на балкон. Внизу, управляемый вычислительными машинами, шевелился бесконечный город. Змеились ярко освещенные эстакады и ленты, перекатывались разноцветные искры. В гигантском урбаническом чреве копошились миллиарды людей — одноликая армия стандартов. Сверху, сквозь сонмище огней и паутину эстакад, я пытался разглядеть их. И безуспешно — людей без остатка поглотили электронные джунгли.
Я сел в глубокое кресло-качалку и, положив голову на мягкую ворсистую спинку, стал смотреть на ночное небо. На минуту охватила радость: передо мной распахнулся иной мир — бесконечный простор Вселенной. Но странно — созвездия казались мне еще менее знакомыми, чем прошлой ночью. Вот, кажется, Орел. В клюве созвездия Орла, на планетной системе голубого Альтаира, я был. А потом очутился здесь…
Лучше не думать об этом. Я закрыл глаза. В мозгу почему-то возникла картина морского берега и набегающих на него шумных белопенных волн. Невнятный гул города стал казаться гулом прибоя. Волны одна за другой, как столетия в жизни человечества, набегают на берег и с шуршанием обкатывают камешки и гальку. Точь-в-точь, как этот город обкатывает и шлифует людей, делая их, подобно гальке, гладкими и одинаковыми. Все шероховатости стираются, все выделяющееся, странное, особое приглаживается или выталкивается… А волны все бегут и бегут. Галька на берегу делается все глаже и меньше. Все меньше и меньше, пока не превращается в песок…
Песок!.. Я вздрогнул от какого-то смутного воспоминания. Песок, песчинки… Что-то мучительно знакомое неуловимо просочилось сквозь черную стену, перегородившую память. Но что? Я пытался вспомнить, ухватиться за ниточку, но безуспешно…
— Хранитель Гриони! — послышался голос с соседнего балкона. — Что вы один скучаете? Заходите к нам.
— С удовольствием, — ответил я. Подумал: в самом деле, может, узнаю что-нибудь новое об этом мире.
На балконе за круглым, уютно освещенным столом сидели хозяйка и красивая молодая женщина лет двадцати пяти.
— Моя дочь Элора, — сказала хозяйка, когда я вошел.
Я слегка поклонился и назвал себя.
— О, вы очень старомодны. — По красиво очерченным полноватым губам Элоры скользнула надменная улыбка. И вообще в ее стройной фигуре, во всем облике было что-то аристократически высокомерное. Еще бы — дочь Великого Техника!
Мать ее была куда проще. Глаза, окруженные веером морщинок, смотрели на меня так приветливо и добродушно, что я охотно согласился выпить чашку горячего напитка — что-то вроде кофе.
— Мы заметили, что вы смотрите на звезды, — сказала Элора. — Занятие необычное для хранителя Гармонии. Да и похожи вы больше на ученого, чем на хранителя.
— Я собирался стать ученым… А вы сами хорошо знаете звездную карту?
— О чем вы спрашиваете? — удивилась хозяйка и с гордостью за дочь воскликнула: — О небеса! Как ей не знать. Она возглавляет космический отдел в Институте времени и пространства.
— Понимаете, я что-то не смог сегодня сориентироваться. Покажите, пожалуйста, звезду, которая точно расположена над Северным полюсом, — попросил я Элору, почти не сомневаясь, что она назовет слабую звездочку в рукоятке Малого Ковша. Только где этот ковш? Я так и не нашел его.
— Ну, это слишком легкий вопрос, — улыбнулась Элора. — Над полюсом — одна из самых ярких и красивых звезд северного неба.
— Как? — воскликнул я. — Вы уверены?
— Вот она, — Элора, подняв голову, указала пальцем на Вегу.
— Вега! — Забывшись, я привстал и заговорил вдруг на родном русском языке. — Вега!.. Вега должна стать Полярной звездой через двенадцать тысяч лет… Значит, я странствовал сто двадцать веков?! Сто двадцать!..
— О небеса! — прошептала хозяйка, сложив в испуге руки на груди. Она, видимо, сочла меня душевнобольным.
— Что с вами? — Темные глаза Элоры смотрели на меня встревоженно и чуть насмешливо. — Вы будто чем-то ошарашены. И на каком это языке вы говорили?
— На древнем, — быстро ответил я, желая выпутаться из неловкого положения. — На забытом древнем языке я продекламировал стихи о звездах.
— Стихи? О, это так не соответствует духу нашего времени.
— А что же ему соответствует? — Мне хотелось поскорее переменить тему разговора.
— Странно… — Элора покачала головой. — Первый раз слышу, чтобы Хранитель задавал такие вопросы и читал стихи… Или, может быть, вы хотите поймать меня на неосторожном слове? — Взгляд ее стал жестким и пристальным. — Уверяю вас, я всегда говорю то, что думаю. И искренне верю, что старинные произведения искусства и природа воспитывали не пригнанные друг к другу индивидуальности. Это порождало разброд и хаос, в то время как прогресс возможен только в условиях стандарта и гармонии…
Она произнесла еще несколько фраз в том же духе и отчужденно замолчала. Я почувствовал, что пора прощаться. Очевидно, мне здесь не очень доверяли. А может, Элора и правда искренне убеждена в неизбежности и полезности стандартизации и измельчания человека?
Когда я уходил, лицо ее было задумчивым и печальным. В широко открытых глазах отражались извивающиеся огни супергорода. И мне показалось, что в черной бездне глаз за этими пляшущими бликами мелькает глубоко запрятанный, неосознанный ужас. Нет, Элора не так проста. Ей самой неуютно и даже страшно в этом мире…
Медленно тянулись дни. С утра до вечера я слонялся по городу. Спускался в подземелья, возносился на эстакады, разговаривал с десятками людей. Нет, разумеется, я не собирался выполнять «провокаторские» обязанности. Цель у меня была одна: понять, где я, и попытаться найти какой-то выход, какую-то щель, чтобы выскользнуть из этого дьявольского капкана.
«Ну хорошо, — рассуждал я, — очертания созвездий изменились, география планеты — тоже… Но история-то должна остаться незыблемой! Достаточно познакомиться с историей, чтобы стало ясно — Земля это или какая-то совсем другая планета».
Однако познакомиться с историей оказалось не так-то просто. Точнее, невозможно. Как объяснил мне Актиний, к которому я время от времени являлся, Конструктор Гармонии с того и начал, что постарался вытравить из умов всякую память о прошлом планеты. Все исторические сочинения были конфискованы и уничтожены, историки поставлены вне закона. В новых книгах о минувших временах говорилось предельно кратко и в самых общих словах: дескать, людям тогда жилось трудно и тревожно, а вот сейчас, в Электронной Гармонии, легко, бездумно и весело. Правда, мне удалось узнать вроде бы важную деталь: жители города называли свою планету Хардой. Но было ли это новым названием Земли на неузнаваемо изменившемся за долгие века языке или именем какой-то совсем иной планеты, оставалось только гадать… Может быть, в каких-то тайных архивах и сохранялись еще исторические документы, но даже Актиний не имел к ним доступа. О минувших веках он знал немногим больше рядового потребителя.
Так я и жил: неведомо в каком времени и пространстве, зашвырнутый в этот безликий мир неведомо кем, неведомо как и неведомо зачем…
Часто по вечерам я заходил к соседям. Старая Хэлли была неизменно приветлива. Элора первое время держалась со мной суховато и натянуто, но постепенно настороженность, которую я почувствовал в ней в тот первый вечер, стала исчезать. Видимо, она поверила наконец в мою честность и порядочность.
Мне нравилось разговаривать с Элорой. Только каждый раз неприятно удивляло, что, не зная в общем-то ни природы, ни искусства, она отзывалась о них с легким пренебрежением. И мне очень захотелось показать ей красоту забытой природы и «первобытного искусства», воспевавшего человека. Сделать это на сухом и бедном языке Электронной эпохи было почти невозможно. А что если научить Элору русскому языку?
— Между прочим, я хорошо знаю один из древних языков, — сказал я однажды.
— Это тот, которым вы удивили нас при первом знакомстве? — усмехнулась Элора. — А откуда знаете?
— Ну, Хранителю Гармонии приходится иметь дело с разными людьми, — уклончиво ответил я. — Хотите знать этот красивый и богатый язык?
— А что, — оживилась Элора. — Иногда бывает так скучно… Память у меня хорошая. Да и техника поможет.
Она принесла из комнаты украшения, похожие на серьги или клипсы. Прикрепив их к мочкам ушей, пояснила:
— Они создают вокруг головы особое силовое поле. Новый стимулятор памяти. С его помощью буду запоминать быстро и прочно, как машина.
На другой день Элора знала уже около трехсот слов и десяток стихотворений.
Мать Элоры, наморщив лоб, пыталась вникнуть в смысл нашей беседы. Наконец с недоумением произнесла:
— О чем вы говорите?.. О небеса! Я ничего не понимаю.
Элора, шутливо подражая матери, сложила руки на груди и сказала:
— О, Гриони! Не продолжить ли наше образование где-нибудь в увеселительном заведении? Я так редко бываю там.
Я согласился. Любопытно было посмотреть, как здесь развлекаются, а больше всего меня интересовало, как «вписывается» в окружающую жизнь сама Элора. Только с первого взгляда казалась она холодной, как айсберг. За высокомерным аристократизмом чувствовалось в ней что-то мятущееся и трагическое.
В увеселительном заведении у меня зарябило в глазах — так много было здесь крикливо одетых людей, так прихотливо извивались и пульсировали на стенах и потолке разноцветные огни. Мелькали незапоминающиеся фарфорово-гладкие лица. Элоре, как мне показалось, здесь было немного не по себе. Ее полные губы брезгливо вздрагивали, когда мы проталкивались сквозь толпу.
Столы располагались вдоль стен. Середина зала была свободна.
Перед тем как сесть, я взглянул в зеркало и чуть не ахнул. Не мудрено, что жители города оглядывались на меня. Нет, внешне я вроде бы не очень отличался от них. Во всяком случае, от интеллектуалов. Только повыше. Но выражение… В зеркале я увидел представителя забытых эпох с твердым мужественным лицом. На впалых щеках, около губ и на лбу прорезались тонкие морщинки. В глазах затаилась грусть, а виски, словно посыпанные солью, серебрились: скитания по времени не прошли бесследно.
«Первобытная физиономия, — усмехнулся я. — Физиономия провокатора».
Да и фигура была заметно стройней и мускулистей, чем у других. Среди «техносферных» людей я казался древнегреческим мыслителем с выправкой римского легионера.
— Внешность у вас замечательная. — Элора старательно выговаривала слова по-русски. — Таких людей на планете становится все меньше… Есть хотите?
— Я голоден, как волк.
— Как? — удивилась Элора.
— Как волк, — повторил я и объяснил, что в древних лесах водились такие вечно голодные звери.
Принесли на тарелке светло-голубое пенистое облако. Посетители ели такую же синтетическую жвачку и запивали ее ноки — розовым и, видимо, алкогольным напитком. И без того бездумные лица их деревенели в бессмысленной радости. Посидев немного в экстатическом одурении, люди выскакивали на середину зала, извивались, высоко и нелепо подскакивали. Как я узнал после, это был скоки-ноки — спазматический танец, по сравнению с которым старый рок-н-ролл показался бы тихим и задумчивым вальсом. Сплошные конвульсии, судороги.
Каждый плясал сам по себе — ни партнеров, ни партнерш. А самое страшное — все происходило без музыки.
Элора нахмурилась, опустив ресницы. Мне стало жаль ее. Я понял, что подобные развлечения ей чужды, а ничего иного она не знала и видеть не могла…
— Вам принести ноки? — раздался над ухом голос обслуживающего светоробота.
Я утвердительно кивнул головой. Элора отчужденно откинулась в кресле и удивленно взметнула черные брови.
— С волками жить — по-волчьи выть, — усмехнулся я и объяснил смысл русской пословицы. — А вообще — хочу понять…
Выпив ноки, я ожидал легкого опьянения. И жестоко ошибся. Сначала почувствовал животное, отупляющее блаженство, а потом в ушах, все усиливаясь, зазвучала, с позволения сказать, музыка. На мой бедный мозг обрушилась какая-то инструментованная истерика: дикие крики, обезьяньи вопли, скрежет металла. Видимо, напиток химически воздействовал на нервные клетки, вызывая ощущение одуряющего счастья и слуховые галлюцинации.
Но еще большие испытания ждали меня впереди. Под грубые ритмы непроизвольно задергались руки, ноги против моей воли подняли меня с сиденья. И вдруг охватило неистовое желание выпрыгнуть на середину зала и вместе с толпой с вожделением топтать пружинящий пластиковый пол.
С неимоверным трудом, сцепив зубы и наморщив покрытый испариной лоб, я подавил это желание и заставил себя сесть. Вспомнив предполетную волевую тренировку, принялся последовательно устранять действие напитка. Элора, широко раскрыв глаза, со страхом и сочувствием следила за моими усилиями. Наконец «музыка» в ушах заглохла, и я с облегчением вздохнул.
— А вы сильный человек, — с восхищением прошептала Элора. — Еще никому не удавалось нейтрализовать ноки.
А вокруг продолжали конвульсировать. Я вообразил себя в этой толпе. Представил, как среди кукольных «техносферных» людей извивается высокий атлет с серебристыми висками. Несоответствие было до того комическое, что я расхохотался. Поняв меня, рассмеялась и Элора. Посетители с изумлением уставились на нас: здесь редко смеются.
— Уйдем отсюда, — внезапно предложила Элора. — Мне здесь боязливо.
— Боязно, — поправил я ее. — А точнее сказать — страшно.
По дороге в Институт времени мы часто задерживались на безлюдных верхних эстакадах. Я учил Элору русскому языку. Ей очень нравились стихи, образные народные выражения и жаргонные словечки. Сильное впечатление произвели на Элору туманные и музыкальные стихи раннего Блока.
— Как красиво, — шептала она.
В институте ночью никого не было. На плоской и широкой крыше здания стояла маленькая летательная машина — личная аэрояхта Элоры. На ней и улетела она к дворцам Великих Техников — к отцу. На прощание сказала:
— Постараюсь почаще бывать у матери. Мы с тобой тогда… Как это? Наболтаемся. Побольше стихов… Занятие нехорошее, но с Хранителем можно, — рассмеялась она, а потом с грустью добавила: — Мне жаль расставаться. Но мы скоро встретимся.
Однако на следующий день меня ждала другая встреча. В ожидании синтетического блюда я сидел утром за пустым столиком. От неожиданности вздрогнул, услышав за спиной знакомое гоготание:
— Га! Га! Провокатор!
Рядом сел Хабор, ухмыляясь почти дружелюбно. Тронул меня за локоть.
— А недурная мысль пришла Актинию: возродить идею провокатора в образе человека. Раньше у нас был только журнал-провокатор.
— Журнал?
— Да. Сейчас мало кто знает. В первые годы Электронная Гармония была в большой опасности. Слишком много еще оставалось людей, призывающих вернуться к порядкам былых времен. Как их всех выловить? Генератор Вечных Изречений разрешил тогда издавать единственный журнал, где свободно бы печатались стихи, проза, а главное — полемические статьи. И простачки клюнули… Вышло всего несколько номеров. Имея адреса, хранители без труда выловили миллиона два подписчиков. И сразу стало тише. Га! Га! Га!
Я почувствовал смутное беспокойство. Почему Хабор так откровенен? Может быть, хочет усыпить бдительность? Надеется, что раскроюсь перед ним?..
«Ничего, — успокоил я себя. — Буду осторожен. Во всяком случае, с ним полезно поговорить. Он многое знает».
Словно угадав мои мысли, Хабор спросил, пытливо глядя на меня:
— Хочешь приоткрою тайну города?
— Тайну?
— Да. Управляют обществом, этим биллионным скопищем дураков, вовсе не Великие Техники.
— А кто?
Хабор склонился ко мне и доверительно шепнул:
— Сам город.
Он откинулся назад, любуясь моим изумлением.
— Город? — Я вспомнил, что Актиний говорил нечто подобное, но сделал вид, что впервые об этом слышу. — Не понимаю… А Великие Техники?
— Болваны. — Мой собеседник пренебрежительно махнул рукой и загоготал. — Отупевшие в разврате болваны. Ими тоже управляет город, как куклами.
— Как куклами?
— Хочешь, посмотрим кого-нибудь из них? Эй, ты! — махнул он рукой светороботу. — Подойди.
Пританцовывая, подскочил светоробот.
— Кто-нибудь из Великих выступает сейчас с речью?
— Да. На Южном материке.
— Включи.
Стена-зеркало засветилась перед нами, и я увидел на трибуне упитанного человека. Звучным, как барабан, голосом он произносил речь, оснащая ее плавными, закругленными жестами.
— То же, что всегда, — сказал Хабор. — Обещания и все такое. Призывы хранить Гармонию и готовиться к космической войне с пришельцами… Для Великого важен не ум, а голос. Обрати внимание на уши. В глубине их запрятаны крохотные суфлер-радиофончики. Они не видны. Через них город нашептывает речь, а Великий повторяет ее хорошо поставленным голосом.
— А если он начнет говорить сам?
— Говорить сам? Великий? Га! Га! Им же давно лень думать. Потому и возложили все на машинный мозг…
— А если попадется умный и не пожелает быть управляемым машиной? И начнет говорить не то?
— Маловероятно.
— Ну а все же? Что тогда?
— Тогда он получит по мозгам. Электроудар по мозгам. Из тех же суфлер-радиофончиков.
Чувствовалось, что Хабор завидует Великим Техникам и в то же время презирает, хотя тупоумие их скорее всего преувеличивает.
Всепланетный город, как я понял, превратился в сложную и почти автономную электронную систему, которая программируется в соответствии с изречениями Генератора. Город стал в буквальном смысле государственной машиной. Это город-мозг, гомеостат, стремящийся к равновесию, то есть к поддержанию и укреплению «гармонии».
— Но ведь все это делается в чьих-то интересах?!
— Правильно… Ты умный провокатор. Га! Га! Даже… Даже слишком умный.
Хабор замолк и маленькими, болотного цвета глазами уставился на меня.
— В чьих же интересах? — повторил я.
— В интересах и по заданию администраторов и тех же Великих Техников, — медленно ответил Хабор, размышляя о чем-то своем.
— А кто конкретно программирует?
— Кое-что — я! — Хабор горделиво ткнул себя в грудь. — «%-5» Я и другие кибернетики, пользующиеся особым доверием. Ты думал, я только палач? Нет, палач — это так, попутно. Главное совсем в другом… — Он придвинулся вплотную и зашептал мне прямо в лицо: — Сейчас город уже почти не дает себя программировать… Он делает это сам, сам себя совершенствует, все больше ускользая из-под контроля… И уже не нуждается в тех, кто его создал. Что будет? А? Может быть, ты… помнишь?
Мне вдруг стало страшно. Острой змейкой пополз холодок по спине. Хабор словно знал обо мне что-то. Нечто такое, что я сам тщетно пытался вспомнить…
— Не помнишь? — Зрачки Хабора не отпускали, смотрели в упор. — Ничего, придет время — вспомнишь.
— Но… я ничего не понимаю.
— Придет время — поймешь… — Хабор усмехнулся, и тут же его лицо стало серьезным и торжественным. — Поймешь, какое счастье тебе привалило. Ибо нет счастливей тех, кто служит великой, всемогущей Силе, покоряющей миры, проникающей сквозь время и пространство, — Силе, для которой нет ничего невозможного. Верным слугам своим Абсолют дарует то, о чем не смеют и мечтать мириады смертных, — бессмертие в Вечной Гармонии…
Хабор поднялся.
— Не вздумай никому рассказывать. Впрочем, все равно никто ничего не поймет. Так же как ты сам, до поры до времени…
На другой день я пересказал все Актинию.
— Бред какой-то, — проговорил он. — А вообще мне иногда и впрямь начинает казаться, что у Хабора есть еще какая-то вторая, тайная жизнь… — Актиний нахмурился и принялся ходить по комнате. — Держись-ка ты от него лучше подальше. Кто знает, в какую нечистую игру он хочет тебя втянуть…
Мне очень хотелось сказать, что игра, которую ведет сам Актиний, тоже не очень-то чистая, но я благоразумно промолчал. А с Хабором после этого еще несколько раз беседовал. Теперь я уже не вздрагивал, когда слышал за спиной полунасмешливое приветствие:
— Га! Га! Провокатор!
О загадочном Абсолюте Хабор не произнес больше ни слова, но о городе и порядках в нем он сообщил мне немало любопытного.
Однажды днем мы с Элорой задержались на крыше высокого здания. В этом безлюдном месте никто не мешал разговаривать на русском языке, который так полюбился Элоре.
— Что это? — спросила вдруг она, показав в сторону площади. Сквозь негустое переплетение движущихся парабол виднелись колонны людей.
— Армия вторжения, — с видом знатока стал я выкладывать новость, только накануне услышанную от Хабора. — Незанятых в производстве становится все больше. Куда их девать? Город… То есть Великие Техники решили готовить миллиардную Армию вторжения. Да! — с ироническим пафосом продолжал я. — Это будет великая армия. Пришельцам не поздоровится. Наши солдаты сапогами вытопчут их зеленую планету.
— О, Гриони! — смеялась Элора. — Не притворяйся. Ты не похож на других. И таким мне нравишься. Иногда мне кажется, что ты вырос в другом мире…
— Давай полюбуемся Армией вторжения, — прервал я ее.
Мы спустились на несколько парабол и стали наблюдать. Любоваться, в сущности, нечем. Это было плохо обученное войско. Люди, которые до этого мало ходили пешком и только дергались в скоки-ноки, с трудом привыкали к строевой дисциплине. Инструкторы шагали рядом и учили их маршировать.
Солдаты на левом плече держали многозарядные лучевые ружья. Проходя колоннами мимо статуи Генератора, они вскидывали правые руки вверх и нестройно, но громко орали:
— Ха-хай! Ха-хай!
Неожиданно с нависших над площадью эстакад сорвались змеистые молнии и впились острыми жалами в плечи двух солдат. Те упали и корчились, крича от боли. Инструкторы гнали их обратно в строй.
— Что это? — испугалась Элора.
— Не знаю, — растерялся я. — Видимо, те солдаты притворялись. Разевали рты, но не кричали «Ха-хай!». Всевидящий город зафиксировал это и покарал электроразрядами. Сам придумал наказание!
— Страшный город, — прошептала Элора.
— Город Электронного Дьявола, — сказал я.
Мне захотелось как-то развеять, развеселить погрустневшую Элору.
— Слушай, — предложил я. — А что, если нам хоть на время вырваться куда-нибудь? Улизнем из города.
— Как ты сказал? Улизнем? — Элора удивленно подняла глаза и рассмеялась.
Я начал объяснять значение этого слова, но Элора остановила:
— Не надо. Я поняла. Какое смешное слово… Ну что же, давай улизнем. Только куда? Город затопил всю планету… О, вспомнила! Есть не так далеко одно место…
Аэрояхта понесла нас на север. Летели долго. Внизу плескалось бесконечное море огней, волнами прокатывались какие-то искрометные сгустки, змеились эстакады. «Гераклитов мир, — подумалось мне. — Огненная стихия, движущаяся без направления и цели».
И вдруг свершилось чудо: город кончился. Элора посадила аэрояхту на опушке небольшой рощи. Я узнал ее — это была та самая роща, где я очнулся… Я сорвал пучок травы и с наслаждением понюхал. С острой и сладкой печалью вспомнился запах лугов моего детства.
— О, Гриони! — засмеялась Элора. — Как ты счастлив. Ты странный человек… Вот что: ты оставайся, а я скоро вернусь. Кое-что прихвачу.
Я остался один. Присел на бугорок, поросший сухой травой. И вдруг вздрогнул, вспомнив холодное фиолетовое пламя, свернувшуюся в пояс капсулу… Таинственная капсула, принесшая меня неведомо откуда, исчезнувшая так необъяснимо и бесследно, — будь она у меня сейчас, я сразу же попытался бы бежать. Только вот куда?
Элора вернулась, когда совсем стемнело. Из аэрояхты она вынесла какие-то напитки и пакеты с едой.
— Устроим… Как это раньше называлось? Пикник. Загородный пикник, — смеялась Элора.
Она села рядом со мной и посмотрела в небо. Вверху — непривычная для жителей города картина. На черном куполе раскинулась серебристая арка Млечного Пути с мириадами далеких светил.
— Как хорошо! — прошептала Элора. — Тишина. Города нет, и никого нет… Сейчас во всей Вселенной нет никого, кроме нас двоих и вот этих звезд. Стихи, — потребовала она. — Прочти какие-нибудь стихи.
Я прочитал подходящие к обстановке стихи Лермонтова и Тютчева, в которых говорилось и о таинственной ночи, и о «мерцании звезд незакатных».
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда.
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда…
Элора слушала, широко раскрыв глаза.
— Так говорить о женщине, о человеке… — прошептала она. — С таким уважением…
Потом спросила:
— Зачем? Зачем ты все это придумал? Не было этого никогда!
— Это было. Давно. Вот там, — я шутливо показал на небо. Случайно задел затейливую башенку-прическу. Волосы Элоры рассыпались черным шелковистым облаком, я почувствовал еле уловимый аромат.
— Твои волосы пахнут мятой.
— Мятой? А что это такое?
— Это трава с очень приятным и очень своеобразным запахом.
— Откуда ты все это знаешь?
Элора вдруг отшатнулась и внимательно, почти со страхом посмотрела на меня.
— А впрочем, чего я испугалась? — еле слышно проговорила она. — Хотя бы и так… Даже лучше.
— Понимаю. Ты подумала, что перед тобой пришелец?
— Да, я так подумала, — улыбнулась Элора. — Но этого не может быть.
— Конечно. Наши боевые крейсера… — начал я тоном знатока.
— И все же ты пришелец. — Элора сказала это как-то непонятно: то ли полушутя, то ли всерьез. — Только не со звезд, а из другой физической системы отсчета. Я хочу, чтобы ты меня взял с собой, в свое таинственное измерение, в выдуманный и зачарованный мир поэзии.
Матово-белое лицо Элоры казалось в ночи кристаллом, светящимся изнутри ровным светом. Хорошо помню ее глаза. Не холодные и строгие, какие вижу сейчас на портрете, а удивленно раскрытые и нежные — две загадки, две черные бездны…
Наша встреча с Элорой была последней.
* * *
… И здесь скоро наступит ночь. Писать трудно — сгущаются сумерки. Смотрю в окно на темнеющие кроны деревьев, прислушиваюсь к затихающим лесным звукам. Солнце скрылось за лысой горой. И закат, великолепный закат развертывает свои красные перья.
Если бы это была Земля!..
Земля
Земля! Наверно, ни один мореплаватель древности не произносил это слово с таким восторгом, как я. Это безусловно Земля!
Окончательно убедился в этом сегодня утром. Перед завтраком я отправился к небольшому озеру, плескавшемуся у подножия горы. Нога болела меньше, и я решился наконец подняться наверх. Когда взобрался на голую вершину, у меня перехватило дыхание. И не от усталости, хотя гора довольно высока, а от красоты и знакомости распахнувшихся далей. Земля!.. Мне кажется даже, что передо мной ландшафты, характерные для Среднего Урала. Кругом зеленеют лесистые увалы, подернутые тонким утренним туманом. Куда ни кинь взгляд — холмится застывшее каменное море с гребнями шиханов на волнах-вершинах…
Но какой сейчас век? Во всяком случае, не мое двадцать первое столетие. Тогда леса на Урале рассекались высоковольтными линиями и автострадами, а в воздухе стоял почти беспрерывный гул от пролетающих в поднебесье лайнеров. Нет, это и не двадцатый и даже не девятнадцатый век: я не заметил ни одного заводского дымка, ни одного телеграфного столба. Может, попал на совсем старый Урал? Судя по незатоптанной, девственной природе и заброшенной охотничьей избушке, сейчас вероятнее всего конец семнадцатого или самое начало восемнадцатого столетия.
Я сидел на согретом солнцем камне, любовался далями и размышлял о странных капризах реки времени, носившей меня на своих волнах из эпохи в эпоху и забросившей сейчас на этот свой живописный и пустынный берег.
В «моем» двадцать первом веке я побывал туристом во многих странах. И прекраснее Урала ничего не видел. Вот и сейчас засмотрелся на гранитные палатки, возвышающиеся шагах в тридцати от меня. Глядя на изогнутые столбы, причудливые выемки и карнизы, невольно подивился искусству природы, отчеканившей этот шедевр из гранита. Миллионы лет назад, в пору юности Уральского хребта, здесь, вероятно, была одна из высочайших гор. Снежная вершина ее купалась в облаках. Шли тысячелетия. Природные силы вершили свою неторопливую, но сокрушительную работу. Резкая смена температур, движение мощных ледников постепенно сглаживали рельеф. Высокая гора превратилась в лесистый перевал, а от пронзающей тучи вершины сохранилась лишь вот эта гранитная гряда. Над ней и сейчас продолжают затейливую, но уже более тонкую работу шумные вьюги и весенние потоки, свистящие летние ливни и ветер-ювелир.
Неутомимый ваятель — вечность…
Замечтавшись, не заметил, как стал свежеть ветер. Надвигался грозовой дождь. Я вздохнул и встал с камня. Надо идти в хижину.
Спускаясь с горы, глядел, как под ветром все сильней колышутся верхушки сосен, слушал волнами накатывавшийся шум тайги — ее великий океанский гул. А бескрайние дали с зелеными горами и белопенными барашками скалистых гряд на вершинах еще сильней напомнили штормовое море.
…Так и не удалось сегодня написать об Электронной эпохе ни строчки. Утром я сделал открытие, которое меня ошеломило. До самого вечера ходил сам не свой, не зная, что и подумать.
Поев на завтрак ухи — сытной, пахнущей дымком, но изрядно надоевшей, — я решил прогуляться к полюбившемуся мне горному перевалу. Опираясь на палку, поднялся на каменистую вершину. Снова передо мной раскинулись неоглядные всхолмленные дали, повитые утренним туманом. И снова зашевелились печальные воспоминания о навсегда потерянном двадцать первом столетии.
Однако сейчас к этим воспоминаниям примешивалось какое-то тревожное чувство, ощущение чего-то пугающе знакомого. Но чего? Я сидел на камне лицом к югу. Справа, разрезая темные хвойные леса, пролегла светлая полоса березняка. Нескончаемой лентой тянулась она с севера на юг. Вот этот геометрически правильный коридор березняка и не давал мне покоя. Откуда он здесь, в нехоженых дремучих лесах? Мог ли он образоваться естественным путем? И внезапно у меня вспыхнула одна смутная догадка.
Решив проверить ее, спустился по правому склону горы — более крутому и обрывистому. Вошел в широкий березовый коридор. Здесь было больше солнца, чем в глухом ельнике. Высокие и гладкие стволы берез светились, как свечи. Я опустился на колени. Поднимая траву, продвигался вперед и ощупывал землю, пока не наткнулся на… железобетонную плиту! Такие квадратные плиты служили обычно фундаментом для металлических опор высоковольтной линии.
Забыв о боли в ноге, вскочил и испуганно огляделся. Я был потрясен не меньше, чем Робинзон Крузо, обнаруживший на своем необитаемом острове следы чужих ног.
Все еще сомневаясь, снова встал на колени и, ползая вокруг плиты, рвал траву и копал землю — то палкой, то
просто руками. Я нашел то, что искал: обломок ажурной мачты-опоры. Краска давно облупилась, оголенный металл покрылся слоем шершавой ржавчины.
Да, теперь уже ясно: здесь когда-то, быть может, сотни лет назад проходила высоковольтная линия. На Урале в мое время таких линий было особенно много. Мне даже на миг показалось…
Я сел на траву и, протянув глухо ноющую ногу, стал не торопясь поглаживать ее. Это занятие меня немного успокоило.
Еще раз внимательно огляделся, и местность снова показалась мне удивительно знакомой. По-моему, я был здесь с ребятами после окончания школы.
И вдруг на экране моей памяти ярко вспыхнул тот солнечный июньский день. С рюкзаком за спиной я шагал вместе с ребятами по тропинке, протоптанной туристами и грибниками. Да, отлично помню: мы шли по этой широкой просеке. Только вместо берез упругим ковром расстилалась трава, а по бокам шумели медноствольные сосны. По густо-синему небу медленно плыли тугие белобокие облака. Над головой, запутавшись в толстых витых проводах, свистел ветер. Через каждые двести метров нас встречали, поблескивая серебристой краской, празднично, почти феерично красивые решетчатые опоры высоковольтной.
Немного южнее, как мне помнится, просеку пересекала шоссейная дорога. Прихрамывая, я пошел туда и вскоре увидел то, что осталось от дороги, — прямую полосу колючего кустарника. В основном малинника и шиповника. Я долго копал палкой под корнями одного куста и наткнулся на слой гравия. Выковырнул даже чудом сохранившийся кусок асфальта.
Когда-то, в мое время, здесь кипела жизнь. Тонко завывая, стремительно проносились электромобили, шелестели автобусы на воздушной подушке. А в облаках рокотали воздушные корабли. Во все эти шумы вплеталась струнная музыка высоковольтной… Где все это?.. Сейчас только птичьи свисты да невнятный говор леса нарушали первозданную тишину.
В глубокой задумчивости побрел я к хижине, поросшей мхом и давно покинутой людьми. Людьми какого века? Двадцать второго? А может быть, более поздней эпохи…
Но где же люди? В голове теснились беспорядочные мысли. Что могло случиться? Человечество на гигантских кораблях покинуло Землю? Замерли заводы, дороги затянулись кустарником, на месте рухнувших городов выросла крапива и полынь… Что и говорить, страшная картина! Но почему, в чем причина?..
По пути я еще раз взобрался на вершину горы. На минуту снова ощутил прилив уверенности: нет, не могли люди покинуть планету, прекрасней которой нет на тысячи световых лет вокруг!
Над низиной слева парил чибис и человеческим голосом печально вопрошал безлюдье: «Чьи вы? Чьи вы?» Уверенность моя растаяла, как дым. Я глядел на бесконечные зеленые просторы, и тоска теснила мне грудь. Где вы, люди? Где?
Что же случилось с родной планетой? С началом космических перелетов одной из самых грозных и коварных опасностей стала биологическая — опасность случайного занесения инопланетной инфекции. Может быть, это? По Земле ураганом пронеслась неведомая эпидемия, поразившая людей?
Возбужденное воображение мигом нарисовало страшную картину: горстки уцелевших в панике бегут из городов. Одичав, бродят, кочуют по лесам. На обломках старой материальной культуры, на руинах возникает примитивное общество. Все начинается сначала, как в древнейшие времена. Сизифов труд человечества… Войны, деспотические режимы и восстания, снова войны…
Не хочется верить, что такое могло случиться. Но как объяснить это безлюдье, заросшее шоссе, изъеденный ржавчиной обломок мачты?.. Как объяснить возникновение Электронной Гармонии, если окажется, что Харда — это действительно Земля в далеком грядущем? Эпидемия или какое-то иное всеобщее бедствие могли бы все объяснить. Сто двадцать веков — срок более чем достаточный, чтобы из небольших кучек уцелевших вновь появилось человечество, миллиарды и миллиарды людей… Нет, не хочу, не могу в это поверить!
…И снова закат. Огромное красноватое солнце опускается за дальние леса. Темнеет. И опять, в который раз, я вспоминаю невероятные, ошеломляющие события того дня — последнего моего дня в городе Электронного Дьявола.
* * *
… В тот день я, как всегда, с утра слонялся по супергороду. Вернулся усталый и лег отдохнуть. К моей досаде, над дверью загудел зуммер.
— Входите! Открыто! — с раздражением крикнул я.
Кто-то вошел и тщательно прикрыл дверь. Взглянув, я с удивлением обнаружил человека в нашей корабельной форме — в пилотском комбинезоне! Человек повернулся, и я мигом вскочил на ноги.
— Капитан! Федор!.. Жив!..
Я бросился к нему, но он остановил меня предостерегающим жестом.
— Стоп, Сережа! Обнимать меня не рекомендуется. А то… могу преждевременно растаять.
— Не понимаю… — Я растерянно смотрел на него, еще не совсем веря, что это не галлюцинация. — Откуда ты?
— Оттуда, Сережа. — Капитан скривил губы. — Из Вечной Гармонии.
Вечной Гармонии… Я вдруг вспомнил Хабора. От него впервые услышал тогда эти странные слова. Но что они означают?..
— Да, ты ничего не помнишь о ней, — видя мое недоумение, проговорил капитан. — Стерли память… Но она восстановится. Вероятно, самые яркие впечатления всплывут первыми…
— А Иван, Малыш, Зиновский — что с ними? — все еще ничего не понимая, перебил я.
— Исчезли… — Капитан опустил голову. — Стали песчинками в пустыне… И больше я ничего о них не знаю. Последний раз видел их тогда же, когда и ты. В тот приход Незнакомки…
— Какой Незнакомки?
— Я же говорю, придет время — все вспомнишь.
И опять это были слова Хабора. «Придет время — вспомнишь…» Мне стало не по себе. Хабор — и наш капитан. Что могло у них быть общего? Откуда оба знали обо мне нечто такое, о чем я и не подозревал?..
— Давай лучше поздороваемся, Сергей, — сказал капитан, по-своему истолковав мое замешательство. — Ну-ну, давай руку. Не бойся.
Собравшись с духом, я подошел ближе. Капитан сдавил руку с такой силой, что я поморщился. Это грубо материальное пожатие меня несколько успокоило.
— А теперь, Сережа, сядем и поговорим.
— Слушай, Федор, — попытался я улыбнуться. — Ты так сжал руку… Значит… ты жив?!
— Только наполовину… Получил временный выход в мир живых. Вспышка жизни по велению его величества Абсолюта… — Он горько усмехнулся. — Помнишь, на корабле перед тем, как нас захватили? До того, как была стерта память?
— Помню. Какие-то… как привидения.
— Вот и я сейчас такой же.
— Слушай, капитан, говори прямо. Я ничего не понимаю. Вечная Гармония… Абсолют… Что все это значит? И как ты очутился здесь?
— Слишком долго объяснять. У меня нет на это времени…
— Да пойми ты, я совсем сбит с толку! — в отчаянии крикнул я. — Этот проклятый город… И провал в памяти… А теперь вдруг ты… И еще какой-то Абсолют… Как, откуда, почему? У меня голова раскалывается! Сойду с ума, если не растолкуешь хотя бы в двух словах.
— Сережа, у меня считанные минуты. Успеть бы главное… Ну хорошо, попытаюсь в двух словах… — Капитан помолчал. — Вечная Гармония — грядущее вот этого всепланетного города, логическое завершение его эволюции… Абсолют — чудовищная, нечеловеческая сила. Поистине сатанинская… Сила, захватившая наш корабль, зашвырнувшая тебя сюда, в эту эпоху… Придет время — ты вспомнишь, как все было.
— Но почему Абсолют? Что скрывается под этим словом?
— Так назвала его тогда Незнакомка. И в конце концов, дело не в терминах… А что скрывается — я и сам до конца не разобрался. Знаю одно: исполинский город, в котором ты живешь, стал единоличным властелином планеты.
— Ты хочешь сказать… Земли?
— Нет, — капитан покачал головой, — в этом я пока не уверен. Вернее, очень хочу верить, что это не Земля. Как говорится, не дай бог ей такого будущего… Если бы ты знал, Сережа, как это страшно: пустыня, планета без людей…
— Без людей?!
— А зачем они Абсолюту?.. В Вечной Гармонии люди превратились в мертвые символы. Правда, иногда всеведущий повелитель дает им на короткое время материализоваться. Вот как я сейчас… Абсолют протянул свои щупальца сквозь время и пространство — туда, где еще есть живые. А вступать в контакт с живыми он может только через своих посланцев.
— Значит, это он тебя…
— Не прерывай! — В голосе капитана зазвучали знакомые властные нотки. — Мое время на исходе… Да, меня послал Абсолют. Велено передать, что тебя ждет райская жизнь здесь, в Электронной эпохе, а затем бессмертие в Вечной Гармонии, если ты…
«Бессмертие в Вечной Гармонии…» Снова то, что изрекал Хабор! И, не выдержав, я перебил капитана:
— Хабор… Ты знаешь его?!
— Знаю, что такой есть… Что-то вроде резидента Абсолюта в этой эпохе. Возможно, ему и поручена твоя переброска…
— Переброска… куда?
— Если б я знал!.. Ясно одно: Абсолют хочет использовать тебя в каких-то своих целях… Ты не дослушал: райская жизнь и бессмертие обещаны, если ты «доверишься течению событий». Обрати внимание на формулировку! От тебя не требуют никаких усилий, только «доверься», а все остальное, видимо, будет должным образом подстроено… Помнишь капсулу, доставившую тебя сюда?
— Смутно… Фиолетовое пламя, потом свернулась в пояс, исчезла…
— Она вернется к тебе. Может быть, очень скоро. И унесет… туда, куда нацелился Абсолют… Я с самого начала понял, что ты им зачем-то нужен. По каким-то там параметрам сочли тебя наиболее подходящим для некой миссии. Потому и оставили в живых, забросили сюда. Видать, отсюда удобней выстрелить тобой в намеченную точку. И у меня есть основания предполагать, что это какая-то очень недобрая миссия, Сергей. Не исключено, что тебя хотят использовать в качестве лазутчика. Могут обставить это так хитро, что ты и сам не догадаешься.
— Лазутчика?! — Я изумленно уставился на капитана, хотя, кажется, уже не способен был ничему удивляться после всего услышанного.
— Абсолют стремится подчинить все, что ему еще не подвластно. Непрерывная, безостановочная экспансия во времени и пространстве! А захвату всегда предшествует разведка…
— Но зачем экспансия этому… как его… Абсолюту? Каким бы он ни был могучим, к чему ему это?
— Он так запрограммирован, Сережа. Те, кто создавал в Электронной эпохе зародыш нынешнего Абсолюта, вложили в него четкую и безжалостную программу: жестоко подавлять и унифицировать все, что не укладывается в рамки Гармонии или мешает ее совершенствованию, и при этом распространять «гармонические порядки» всюду, где только возможно. Вот он и распространяет… Сама Гармония «усовершенствована» так, что люди упразднены за ненадобностью, но программа продолжает выполняться с железной неукоснительностью…
Капитан вдруг замер, точно прислушиваясь к чему-то в себе.
— Все… Сейчас будет сигнал… Ничего толком не успел… — Он заторопился. — Я был слишком наивен, Сережа. Согласился служить Абсолюту… Думал: разберусь — и взорву изнутри. Оказалось, невозможно… Я бессилен против этого чудовища. Давящего и страшного. Враждебного всему живому… Единственное, что могу, — предупредить тебя. Не дай сделать себя покорным орудием!.. Борись, как можешь… Отомсти за всех нас… Это приказ, слышишь! Последний приказ… Во имя всего живого… — Лицо его исказилось. — Конец… Сейчас Абсолют погасит искорку жизни. Прощай, Сережа…
Капитан протянул руку — и исчез. Будто погас… Так и погас с протянутой рукой.
Я ошеломленно смотрел на то место, где он только что стоял. Секунду назад видел его лицо, слышал такой знакомый голос — и вот пустота… Что это? Сон? Галлюцинация?
В том, что это не была галлюцинация, я убедился на следующее утро, когда двое хранителей схватили меня, еще сонного, и доставили в камеру пыток. Там они усадили меня в опутанное проводами массивное черное кресло, крепко пристегнув руки к подлокотникам, и удалились. Вошел Хабор, деловито уселся за пульт, к которому тянулись провода от кресла. И начал без предисловий:
— Твой капитан аннулирован. Абсолют стер его запись. Так будет с каждым, кто попытается злоупотреблять доверием Великого…
«И он все знал, — мелькнуло у меня. — Знал, что все станет известно и не пощадят… Хотел любой ценой предупредить…»
— А для тех, кто еще не приобщен к Вечной Гармонии, — продолжал Хабор, — кто находится в низшем биологическом состоянии, у нас есть кары понаглядней и побольнее. Например, вот это креслице… Оно, так сказать, двойного подчинения. Ты ведь уже уяснил, что я служу не столько Электронной Гармонии, в которой официально проживаю, сколько Абсолюту, чьей волей сюда тайно заброшен. Парадоксальная ситуация: Абсолют засылает резидента в собственную предысторию. — Он усмехнулся. — Но Великий любит парадоксы… Итак, вернемся к креслицу. — Рука Хабора поползла по пульту. — Видишь, вот здесь индикатор боли. Приятная стрелочка, правда? А это — диагностер, регистрирующий внутренние кровоизлияния и переломы костей. Рядом кнопка, которой мы надеваем на пациента магнитный сапог. Может, включим для пробы?
Он нажал кнопку — и мою правую ногу пронзила нестерпимая боль.
— Ну, ну, не обижайся. — Хабор щелкнул переключателем. — Это я так, в шутку… Хочу, чтобы ты ознакомился с нашими возможностями. Магнитным полем можем изжевать ногу так, что кости станут не тверже мяса… Но думаю, что в отношении тебя к подобным воздействиям прибегать не придется. Ты человек благоразумный и, надеюсь, уже понял: с Абсолютом и с теми, кто ему служит, лучше не ссориться. А теперь давай ближе к делу…
Хабор поднялся, отстегнул мои руки от кресла, помог встать. Даже ногу слегка помассировал. Потом усадил на стул в углу комнаты.
— Так вот. Твой капитан наболтал тебе много вздора. Абсолют не нуждается ни в каких лазутчиках. Великий просто хочет использовать тебя для испытания нового типа капсулы. Это одно из замечательнейших достижений Абсолюта, чудо волновой микротехники. Куда унесет тебя капсула — не так важно. Главное — проверить ее в полете… Через сто дней капсула — она настроена на твое личное биополе — вернется за тобой. Прилетишь обратно, и больше от тебя ничего не требуется. Если все пройдет нормально — займешь высокое положение в Вечной Гармонии, станешь бессмертным. Абсолют умеет ценить верных слуг… Но не вздумай нарушать волю Великого! Абсолют найдет тебя, где бы ты ни укрылся. Найдет и покарает страшной карой!
Хабор замолчал, испытующе глядя на меня.
— Итак, ты согласен?
— Согласен!
Мог ли я ответить что-нибудь иное? У меня было одно желание: поскорей вырваться из этого страшного мира. Что со мной будет, куда попаду — ни о чем таком в ту минуту не думалось. Только бы вырваться!
…И вот на мне загадочный энергопояс. Вспыхнуло холодное фиолетовое пламя: пояс развертывался в капсулу. Меня окутало прозрачное, как сгустившийся воздух, неведомое поле. Несколько секунд я еще видел комнату, Хабора, стоявшего у своего пыточного агрегата. Потом началась пульсация — и все исчезло. Не знаю, сколько продолжался полет: я ничего не видел и не слышал — сознание отключилось…
Приземление вспоминается так же смутно, как и то, первое, в Электронном супергороде.
На миг вспыхнувшее и тут же погасшее пламя. Капсула, свернувшаяся в энергопояс… Когда я окончательно очнулся, пояса на мне уже не было. Но удивило меня не это, а совсем другое: вместо крикливого костюма Электронной эпохи на мне был… привычный пилотский комбинезон. Минуту я размышлял, как это могло случиться, но так и не мог найти никакого объяснения.
Я лежал на левом боку, пытаясь рассмотреть приютивший меня мир. Была ночь. Спина моя упиралась во что-то твердое. Камень? Обернулся и в темноте увидел сизый, туманно светившийся ствол березы. На лесную прогалину пробивался сверху дымный лунный свет. Я сразу почувствовал доверие к этому миру. Смело откинул на спину гермошлем и вдохнул ночной воздух, насыщенный лесными ароматами. Встал и побрел наугад.
Нога болела. «Примерка» магнитного сапога не прошла бесследно… Минут через десять я выбрался на посеребренную луной поляну. На краю ее притулилась к могучей сосне хижина. Открыл скрипнувшую дверь. В хижине было пусто. Я повалился на нары и проспал до утра.
Так я поселился в этой давно заброшенной избушке. Приладил на стене над дощатым, посеревшим от времени столом маленький цветной портрет Элоры. Портрет, большой блокнот и авторучка — все, что осталось у меня от Электронной эпохи. На вырванных из блокнота листках начал писать — решил рассказать обо всем, что со мной произошло. Быть может, кто-нибудь когда-нибудь прочтет… Но о самом главном — о зловещей Вечной Гармонии с ее загадочным Абсолютом — ничего решительно не мог вспомнить. Как ни вглядывался в тот черный колодец памяти — ничего…
Жаркая волна захлестывала меня при воспоминании о Хаборе. Этот палач «двойного подчинения» олицетворял для меня сейчас ту страшную, безжалостную силу, которая погубила моих товарищей, — проклятую мертвящую силу, угрожающую всему живому. Перед глазами возникло лицо капитана. Я слышал его голос: «Отомсти за всех нас… Это приказ, слышишь!» У меня сжимались кулаки. И я снова давал себе клятву бороться, сделать все, чтобы сорвать черные замыслы Абсолюта.
Если б только разгадать, что это за замыслы!.. Зачем меня забросили сюда? Лазутчиком — в лесное безлюдье? Нет, тут что-то не так… И неужели этот мир действительно Земля?
Я неотступно думал обо всем этом, когда бродил по лесу, ловил на самодельный крючок рыбу в небольшом озере у подножия горы, варил на костре уху. Поляну окружали сосны и березы. На огромной раскидистой сосне, подпиравшей стену хижины, мелькал рыжий хвост белки. В глухой чащобе глухо барабанил дятел, а леса звучали, как орган: их наполняли струнные песни синиц…
И вот теперь я твердо знаю: это Земля. Только что на ней случилось, почему она так безлюдна?
Дым на горе
Нет, далеко не безлюдна!.. На планете есть люди! Только не знаю, радоваться или печалиться по этому случаю. Может быть, их надо опасаться?
Вечером хотел прогуляться к озеру и взобраться на горный перевал. Отошел от хижины сотню шагов и остановился, как вкопанный. Мое любимое место занято! Над вершиной горы струился дым костра.
Я прислушался. Тишина… Чуткая, первозданная тишина. Лишь какие-то птахи подняли возню, уютно устраиваясь на ночь. Я прислонился к шершавому стволу сосны и стал наблюдать. Над горой клубился подсвеченный снизу пепельный дым. Когда совсем стемнело, я видел лишь пляшущие багровые блики.
Наконец костер погас. Я постоял еще полчаса и вернулся в хижину. Прилег, не раздеваясь. Мое воображение было взбудоражено, как никогда. Вдруг отчетливо представилась толпа одетых в звериные шкуры людей. С палицами и дротиками в руках, они расположились на лысой горе вокруг тлеющих головешек. Я убеждал себя, что этого не может быть, но так до конца и не убедил…
Незаметно уснул. А проснулся — сам не знаю почему — с таким светлым, приподнятым настроением, какого у меня давно не было.
Я вышел из хижины. По макушкам деревьев скользили лучи утреннего солнца. На ветках раскидистой сосны прыгала белка. Увидев меня, она на миг остановилась и приветливо взмахнула рыжим хвостом. Росистое утро казалось необычно приветливым и звонким. Все кругом звучало радостью. Пели струнноголосые синицы, тонко звенели корабельные сосны, а по земле тянулись, словно поющие, струи тумана.
С надеждой и опаской я посмотрел на запад, в сторону горы. Настроение тут же упало: на ярко освещенной вершине горы ни дымка, ни малейшего движения… Ушли?
Сел на камень и начал разжигать костер. Еще раз взглянул на гору и невольно вздрогнул: над вершиной тянулся в чистое небо гибкий сиреневый столб дыма…
С того памятного певучего утра началась новая полоса моей жизни.
* * *
Увидев дым, я притушил костер и решительно направился в сторону горы: будь, что будет! Пусть там даже дикари… Мне надоело одиночество, я истосковался по людям.
На вершину поднимался с севера, где рос густой кустарник. Оттуда можно было подобраться незамеченным. На лужайке наткнулся на две палатки, напоминающие небольшие юрты. Две серебристо-серые полусферы увенчивались металлическими стерженьками. Сначала подумал, что палатки сделаны из какой-нибудь пленки. Осторожно подошел ближе, потрогал. По еле заметному мерцанию догадался, что это не пленка, а неизвестное мне поле — прохладное и шелковистое на ощупь. Ясно, что ночевали здесь не одичавшие люди, а представители высокоразвитой, быть может инопланетной, цивилизации…
За кустами послышался невнятный говор. Я сделал несколько шагов, чуть раздвинул ветки и увидел такую картину.
На залитой солнцем поляне весело трещал костер. Перед ним на плоском камне сидели светловолосый молодой человек и тонкая, стройная девушка. Немного в стороне, прямо на траве, расположился здоровенный детина, этакий былинный молодец с добродушной и простецкой физиономией. Все трое одеты почти так же, как в родном двадцать первом веке одевались туристы. Пожалуй, и мой пилотский комбинезон сейчас мало отличался от их удобных для походов костюмов.
Светловолосый сунул в костер сырую зеленую ветку. Видимо, нарочно, чтобы дым был гуще и ядовитей. Ветер дул в сторону девушки, и та, хмурясь и отмахиваясь рукой от едкого дыма, сказала своему соседу:
— Патрик, перестань дурачиться. Как ребенок…
Мне стало жарко от волнения: фразы были произнесены на «юнионе» — всепланетном языке, который начал складываться в мое время. Тогда на нем говорили еще немногие, но наш экипаж знал его в совершенстве. Тем более что в «юнионе» было много русских слов… Я невольно покачнулся и переступил ногами. Под каблуком гулко хрустнула сухая ветка. Скрываться больше невозможно. Я вышел на открытое место и несмело произнес:
— Здравствуйте.
Все трое без особого удивления взглянули на меня и дружелюбно ответили на приветствие. Девушка показала на камень.
— Присаживайтесь к нашему костру. Скоро будем есть грибницу.
— Грибницу? — удивился я. — Какие же грибы в начале лета?
— А маслята? Это наша Таня собирает их. Она у нас знаток… Кстати, где она?
Девушка сложила ладони рупором и крикнула, повернув голову к югу:
— Таня-а-а!
— А-а-а! — прокатилось эхо.
— Ау! Иду-у! — прозвенел снизу голос.
Я отметил про себя, что язык изменился не столь существенно. Во всяком случае, услышанные мной слова произносились почти так же, как в мой век. Конечно, они не могли не заметить некоторую необычность моего произношения, но, видимо, не придали этому большого значения.
По южному склону горы легко взбиралась девушка с гибкой и тонкой талией. Густые пушистые волосы ее рассыпались и закрывали лицо. Она подошла к костру и со счастливой улыбкой показала всем грибы в прозрачном мешочке.
— Смотрите, какие красавцы. Будто из сказки.
Девушка откинула назад волосы и подняла голову. Я встретился с ней глазами и обомлел. Кровь отлила от моего лица, частые и сильные удары сердца отдавались по всему телу. Смущенная моим взглядом, девушка смотрела на меня такими знакомыми темными, как ночь, глазами. Я был потрясен: передо мной стояла… Элора!
— Что с тобой? — участливо спросил молодой человек, сидевший на камне. — Ты побледнел.
— Я тебе кого-то напомнила? — спросила наконец де-вушка, по-прежнему глядя на меня.
— Да, очень, — торопливо заговорил я, стараясь овладеть собой. — Даже растерялся…
Сходство поразительное, но светло-золотистые волосы девушки, ее звонкий голос, жесты и манера держаться… Нет, конечно же, это не Элора!
— А кого напомнила? Не секрет?
— Конечно, не секрет. Да я вам покажу портрет. Он в моей хижине.
— Ты ночевал в хижине? — Девушка приняла меня, видимо, за обычного туриста.
— А я слышал об этой избушке, — вмешался светловолосый молодой человек. — Она где-то здесь. Точно не знаю. Ее построил мой соотечественник — шотландец. Сколотил сам примитивным топором. Ему так полюбился Урал, что он прожил отшельником в хижине три года. И писал книгу. Все, конечно, помнят эту в свое время нашумевшую поэму «Внуки Оссиана».
— Вот видите, — пытался я шутить. — Моя хижина, оказывается, знаменитая. А вы не знали. Приглашаю вас к себе. У меня и уха почти готова.
— Приглашаешь, а мы даже не знакомы, — возразила девушка. — Давай знакомиться. — И назвала себя: — Таня. Татьяна Кудрина.
— Сергей, — представился я.
Пожимая всем по очереди руки, я узнал имена моих новых друзей. Светловолосый молодой человек — Патриций Рендон, его соседка — Вега Лазукович.
— Орион. Орион Кудрин.. — Былинный молодец слегка привстал. Кивнул головой в сторону Тани и добавил: — Мне крупно не повезло: я брат вот этой ехидной особы. Ты ее еще не знаешь. У нее не только осиная талия, она и жалится, как оса.
Таня лукаво усмехнулась.
— У тебя модное имя, Сергей, — заговорила она со мной. — Хорошо, что сейчас вернулись к простым народным именам. Сергей, Татьяна, Патриций. Ты заметил, что все реже дают имена по старинке — по названиям звезд и созвездий? Звучные имена… Вега! Посмотри на нее, ей так подходит это красивое звездное имя. Правда ведь?
Стройная и высокая Вега Лазукович и в самом деле отличалась незаурядной красотой. Несколько, правда, холодноватой. Но умные серые глаза оживляли ее строгие и правильные черты.
— А теперь посмотри на моего любезного братца. — Густые ресницы Тани затрепетали от еле сдерживаемого смеха.
— Татьяна! — Орион сурово повысил голос и погрозил крепко сжатым могучим кулаком.
Я невольно улыбнулся. Орион грозно сдвигал брови, стараясь, чтобы кулак выглядел устрашающе. И все напрасно. Удивительная вещь: от увесистого кулака так и веяло неистощимым добродушием. Мои новые знакомые покатывались со смеху, глядя на отчаянные усилия Ориона придать своему жесту свирепость.
— Да, да! Взгляни на него. — Таня подняла вверх указательный палец и торжественно продекламировала: — О-ри-он! Услышав гремящие, фанфарные звуки имени, поневоле вообразишь стройного и гордого красавца. А посмотри на конкретного носителя звонкого имени. Какой кошмар! Какое нелепое несоответствие. Это же медведь, неповоротливый, косолапый медведь.
— Ну ладно, Таня, хватит, — взмолился Орион. — Давайте обсудим предложение Сергея. По-моему, толковое предложение. Согласны? Тогда тушите костер и собирайтесь.
Орион, сидевший по-турецки, вскочил на ноги с легкостью кошки. «Не такой уж медведь», — подумал я и направился вслед за ними убирать палатки. Помощи, однако, не потребовалось. Орион протянул руку к стержню, металлически сверкавшему над палаткой. И стержень погас, целиком уместившись в огромной руке. А палатка как будто растворилась. Заструившись, она исчезла в стержне. То же самое Орион проделал с другой палаткой, а стержни сунул в карман.
Через десять минут я, стараясь меньше опираться на палку, вел всех к хижине. «Кто они? — ломал я голову. — Из какой эпохи? И как им объяснить, кто я и откуда?»
А тут еще Орион смущал. Он шагал рядом и поглядывал на меня с таким выражением, будто силился что-то вспомнить.
— Где-то я тебя видел, — промолвил он. — Но где?
— Наверное, в учебнике литературы, — отшучивался я. — Говорят, что похож на Маяковского — поэта двадцатого века.
Лес наконец кончился, и мои спутники ступили на цветущий ковер поляны. От согретой солнцем росистой травы поднимался легкий пар, окутывая хижину колышущейся кисеей.
— А здесь красиво! — прозвенел Танин голос. — Вега, посмотри на хижину. Она будто плавает в тумане. И костер дымится. А котелок… Какой странный котелок.
Котелок и в самом деле должен был казаться необычным моим попутчикам. Обожженный на огне и закопченный, он сейчас мало походил на прозрачный гермошлем, который я вывернул из комбинезона. Но Орион так и уставился на котелок, то и дело переводя изумленный взгляд на отвороты комбинезона, где еще сохранились пазы.
Я опустился на колени, нагнулся и начал подкладывать в костер сухие ветки. Костер запылал, обхватывая гермошлем огненными космами. Вега и Таня готовили какую-то хитрую смесь из грибов и ухи.
— Когда будет готово, — сказала Таня, — все равно никому не дам завтракать. Уморю всех голодом, пока Сергей не покажет, на кого я похожа.
Я пригласил всех в свое обиталище. Наверное, хижина никогда не принимала столько гостей. Стало тесно, под ногами Ориона треснула доска.
— Осторожней, медведь, — дернула его за рукав Таня. — Это тебе не сверхпрочный звездолет.
Она сразу умолкла, взглянув на портрет Элоры. Остальные гости были удивлены не меньше.
— Таня! — воскликнула Вега. — Это же ты! Ну почти копия. Только вот волосы… У нее они совсем черные. А твои словно вымыты в золотой воде. И загар у тебя золотистый. А она белая.
— Не так уж сильно похожа, — возразил Патрик. — Выражение лица другое.
— Совсем не похожа, — вставил Орион и притворно зевнул. — Никогда не поверю, что моя вертлявая сестра походит на эту спокойную мраморную красавицу.
Когда все вышли из хижины и уселись вокруг костра, Таня сказала:
— Мне она не очень понравилась. Слишком строгая, даже высокомерная.
— Ничего удивительного. Она аристократка.
— Аристократка? — оживилась Таня. — Из средневековья? Да тут, я вижу, целая романтическая история. Расскажи!
— Она аристократка, но не из прошлого, а… — хотел сказать «из будущего», но осекся. Наступал решительный момент: надо рассказать о себе, о своих приключениях. Поверят ли?..
— Вспомнил! — воскликнул Орион и вскочил на ноги. — Но это же невозможно! Невероятно!
Потом подошел ко мне, нерешительно потоптался и сказал:
— Я, кажется, знаю, кто ты. Видел… Ты Сергей Волошин — астронавигатор старинного гравитонного звездолета «Орел».
— Плохо придумал, Орион, — сказал Патрик. — Все знают, что «Орел» вылетел к системе Альтаира в двадцать первом веке и не вернулся. Погиб, не долетев до цели.
— Орион у нас выдающийся мистификатор, — с улыбкой пояснила Таня. — Любит разыгрывать.
— Нет, Орион не выдумал, — проговорил я, стараясь быть спокойным. — Вот только где ты видел меня?
— В Музее Астронавтики. Там портреты всего экипажа… Но… если ты тот самый, где же корабль? И как сам очутился здесь?
— Сначала объясните, в каком я веке?
— Сейчас двадцать четвертый век, — прошептала Таня, глядя на меня расширенными глазами. — Две тысячи триста шестьдесят пятый год.
— Да мы с вами почти ровесники. — Я заставил себя усмехнуться. — Разница в триста лет — сущий пустяк по сравнению с тысячелетиями.
— Тысячелетиями? — пробормотал Орион. — При чем тут тысячелетия? Говори яснее.
Пока я рассказывал, со всех сторон, погрохатывая громами, наползали темно-синие тучи. Никто этого даже не заметил, забыли и о завтраке. Когда подул свежий ветер и защелкали по траве первые крупные капли, Вега зябко передернула плечами, взглянула на небо и сказала:
— Не перейти ли в хижину?
— Там тесно, — напомнил Патрик. — Но я выпрошу хорошую погоду.
Он взял у Ориона стержень, из которого раньше была развернута палатка. Стержень в его руках удлинился, острый конец Патрик воткнул в землю, а наверху появился тонкий обруч диаметром полметра. Пространство внутри круга затуманилось и превратилось в серебристый экран.
Патрик нажал кнопку, и на экране возникла девушка с причудливой копной огненно-рыжих волос.
— Центральное управление погодой. Дежурная по сектору два-восемь, — четко доложила рыжеволосая девушка.
— Скажи нам, как тебя зовут, огненная богиня туч и громов?
— Ирина, — улыбнулась девушка. Нахмурив брови, добавила: — Это к делу не относится.
— Какая строгая. А мы по делу. Просим часа на два расчистить над нами небо.
— А еще туристы! Дождичка испугались. — Ирина насмешливо сощурила глаза. Затем снова нахмурилась и сухо отчеканила: — Частные просьбы выполняем в исключительных случаях.
— Орион, придется тебе, — развел руками Патрик. — Я бессилен.
— Орион у нас важная персона, — обратилась ко мне Таня. Полные губы ее дрогнули в усмешке. — Его слава гремит по всему мирозданию. Знаменитый астролетчик. Выдвигали даже в капитаны, но комиссия каждый раз браковала из-за мягкости характера. Вот он сейчас и тренируется в свирепости.
— Таня, не издевайся над братом, — улыбнулась Вега. — Может быть, он сумеет воспитать у себя командирскую требовательность.
Орион подошел к экрану. По приветливой улыбке можно было догадаться, что огненная девушка его узнала.
— У нас, Ирина, тот самый исключительный случай.
— Хорошо. Назовите квадрат.
Орион назвал цифры. Экран погас. Тяжелые редкие капли, казалось, вот-вот сольются в сплошной поток. Но вдруг тучи над нами заклубились, начали таять и раздвигаться в стороны. И вместо дождя на поляну полились теплые солнечные лучи.
Я глядел и не мог оторваться от этого зрелища. Лишь над нами голубел оазис чистого неба. Кругом же курчавились сизые тучи. Блистали ветвистые молнии, рокотал гром, чуть встряхивая землю. Из туч тянулись вниз седые бороды дождя. Они метались под ветром и хлестали землю.
— Правда, красиво? — услышал я рядом шепот Тани. — Ты, видимо, очень любишь природу.
— Ничего подобного я не видел тысячи лет, — пошутил я. — Истосковался.
— Ты удивительный человек… — Она посмотрела на меня своими тревожно-знакомыми глазами и почему-то смутилась. — Я имею в виду не только твою судьбу и скитания. А вообще…
— Татьяна! — послышался сзади окрик.
Мы обернулись и увидели подходившего Ориона.
— Отпусти Сергея, — сказал он. — Сейчас он мой. Мы немедленно отправимся с ним в Совет Астронавтики. Это же эпохальное событие!
— Сергей не твой, а наш, — перебила Таня брата. — Сначала он расскажет о себе. Потом позавтракаем. И вообще не командуй. Не получается у тебя.
Орион поворчал и унялся. Я почувствовал растущую симпатию к этому былинному богатырю. Мягкие линии его лица словно изучали неистребимое добродушие, которое он пытался скрыть. «Да, видимо, не получится из него командира корабля», — подумал я и с грустью вспомнил нашего капитана Федора Стриганова — человека железной воли, с твердыми, гранитными чертами лица.
Все снова расселись вокруг костра. Я коротко поведал о последних днях жизни в Электронной эпохе, о появлении Федора, о том, как я очутился в пыточном кресле Хабора.
— Вот, оказывается, почему прихрамываешь, — сказала Вега. — Покажи ногу. Я ведь как-никак врач.
Я оголил до колена правую ногу. Синяки и кровоподтеки произвели впечатление. Особенно на Таню. Она смотрела на меня с таким страданием, как будто ей самой было больно.
— Вега, помоги ему.
— Сергею придется лететь со мной в кочующий аквагород, — ответила Вега. — Кстати, там исследуем его память. Орион со своим Советом Астронавтики подождет.
— Ладно, — неохотно согласился Орион.
Я выразил сожаление, что из-за меня расстраивается туристский поход, рассчитанный на много дней.
— А мы его повторим, — обрадовалась Таня. — С самого начала. И обязательно все вместе. А сейчас только позавтракаем.
Во время завтрака мне пришлось выслушать всевозможные предложения. Все сходились на том, что странствовал я не в будущих эпохах Земли, а в каком-то другом мире. В доказательство Орион привел пример, удививший меня. Оказывается, в системе Альтаира нет населенных планет. Вокруг голубой звезды вращаются не три, а пять планет — те самые безжизненные планеты, какие наблюдал Иван Бурсов до черной аннигиляции.
— Постойте! — воскликнул я. — Сейчас, когда я узнал вас и вашу эпоху, верю, что Земля в будущем не может быть такой. Но… Но я ведь жил среди людей. Внешне таких же, как вы. Что же это?
— А вот что… — Орион немного подумал и воскликнул:-Дискретное развитие!
Торопливо и не очень ясно он начал излагать гипотезу дискретного исторического развития. По словам Ориона, получалось, что странствовал я в реальности… несуществующей.
Таня иронически захлопала в ладоши, затем, подняв палец, пояснила мне:
— Орион у нас не только мистификатор, но и выдающийся мистик.
— Тебе, Орион, надо излагать свои гипотезы в художественной форме, — сказала Вега. — Пиши фантастические романы. А сейчас слово Сергею. Что ты подумал, когда очутился в нашей эпохе?
— Подумал, что с высот будущего упал в семнадцатый или восемнадцатый век. А потом вот что произошло…
Мой рассказ о том, как я нашел остатки высоковольтной линии и шоссейной дороги, развеселил слушателей. Орион встрепенулся.
— Сергей ошеломил нас своими приключениями. Сейчас мы возьмем реванш!.. Вот слушай. Еще в твоем столетии леса и луга отступали под натиском гремящей техники. Кругом дымили заводы и фабрики, земля содрогалась от железнодорожного и автомобильного транспорта, а в воздухе с каждым годом нарастал реактивный гул. Человек и природа сжались и потеснились. Так вот, сейчас этого нет. У нас произошло возрождение природы. Да, да! Настоящее возрождение… Обшарь, Сергей, всю планету и нигде не найдешь ни заводов, ни шахт, ни дорог. Одни только города и поселки, утопающие в зелени и шумящие фонтанами. Никаких колес. Люди ходят пешком, а в воздухе одни птицы… Как ты думаешь, в чем дело?
— Наверное, электростанции, заводы, транспорт и все прочее под землей, — предположил я. — Изгнание техносферы под землю.
— Не только под землю, но и в космическое пространство, — сказала Таня. — Основную энергию, например, отсасываем от расточительного Солнца. Вот и получилось: земля — людям, воздух — птицам. А люди летают и перемещаются в подпространстве.
— В гиперпространстве, — бросил Орион. — Невежда.
— В гиперпространстве, — с улыбкой поправилась Таня. — Пассажирский и грузовой гиперфлот.
— Сергею я все потом объясню. Нам пора, — заговорила Вега. — Патрик, вызови дежурную станцию вакуум-такси.
Шотландец, как я заметил, охотно слушался Вегу. Он подошел к экрану-обручу, с кем-то переговорил, назвал квадрат и еще какие-то цифры. Затем выдернул из земли стержень, который в его руках стал расти и достиг трех метров в длину. Экран-обруч растаял.
— Сейчас этот карманный кибер-универсал превратится в аварийную причальную мачту, — объяснил мне Патрик.
Он отошел на край поляны, воткнул мачту в землю и вернулся к угасающему костру.
Через минуту острая вершина мачты с сухим треском заискрилась, засверкала бенгальским огнем.
— Вот и такси, — с улыбкой кивнула Вега в сторону мачты.
Бенгальский огонь погасал. Медленно, как изображение на фотобумаге, «проявлялась» сигарообразная Машина. Наконец она полностью выплыла из гиперпространства и уткнулась игольчато-острым носом в вершину мачты.
Когда прощались, Орион смущенно попросил:
— Сергей, на столе я видел твои записки… Можно ими воспользоваться? Все останется на месте. Только снимем копию для нескольких членов Совета Астронавтики. Можно? Ну и прекрасно! Больше в дневнике никто не будет рыться. Даже вот эта нахальная особа. — Орион с добродушной ухмылкой взглянул на Таню.
Пожимая руку, Таня посмотрела на меня долгим взглядом и сказала:
— Наш медведь не отличается вежливостью. Не догадался пригласить в гости. Приходи к нам. Мы живем на Урале, недалеко от твоей хижины. Вега расскажет, как нас найти. А мы с братом придем к тебе в кочующий аквагород.
Кочующий аквагород
Мы с Вегой уселись в мягкие кресла двухместного вакуум-такси, или гиперлета, как его иначе называют. Прозрачная кабина заволакивалась туманом.
— Переменное поле дает возможность машине соскальзывать в гиперпространство и перемещаться там практически мгновенно, — пояснила Вега. — Гиперлет как бы проваливается из видимого пространства в вакуум и в тот же миг всплывает в любой заданной точке земного шара. А теперь смотри, как управлять машиной. Это очень просто. — Вега повернулась к пульту и четко произнесла: — Аквагород Риори… Вот и все. В каком бы месте Мирового океана ни плавал этот город, гиперлет найдет его и причалит к стационарной мачте. В морях и океанах несколько тысяч дрейфующих городов. В них почти четверть населения планеты.
— Но я не чувствую никакого полета…
— А мы уже на месте. — Вега не удержалась от смеха. — Вот смотри.
Стенки кабины подернулись светлеющим туманом и вскоре стали совсем прозрачными. Верх кабины, щелкнув, откинулся назад.
Переход был ошеломляющим. Только что над утренним лесом грохотала гроза, и молнии обжигали края черных туч. А сейчас надо мной синела огромная чаша безоблачного вечернего неба. На западе багрово распухшее солнце коснулось края океана, прочерчивая на воде золотую дорожку. С высоты трехсотметровой причальной мачты я увидел город-сад, окруженный со всех сторон океаном.
Лифт опустил нас вниз. Мы шли по широкой аллее, по краям которой шелестели пальмы. Вскоре очутились на берегу. Волны плескались у самых стен двух санаторных зданий — белоснежных дворцов с парками на плоских крышах.
Меня поселили в комнате с верандой, нависающей прямо над водой. Ногу облучили, а затем наложили пухлую повязку, пропитанную целебным раствором.
Мы с Вегой долго стояли у перил парка, любуясь лунными бликами, и прислушивались к дремотному гулу засыпающего океана. Освещенное луной лицо Веги казалось мраморно-холодным и строгим. Но я уже знал, что внешность обманчива, — знал удивительную доброту и душевность этой девушки. Вот и сейчас она чутко уловила мое настроение.
— Мне кажется, ты немного побаиваешься, — осторожно начала она. — Как-никак триста лет разделяют наши эпохи. Иная техника, иной быт… И ты боишься, что будешь выглядеть немножко дикарем?
— Да, — признался я.
— Вот этого и не надо опасаться. Мы такие же люди. А ко всему прочему — обычаям, технике — ты быстро привыкнешь. У тебя пластичная, мобильная психика. Вот только многие слова ты упорно произносишь не так. И вообще тебе необходимо основательно пополнить словарный запас. Я помогу тебе в этом.
Протянув на прощание руку, Вега улыбнулась:
— Спокойной и целительной ночи.
Спать я лег на веранде, открытой с трех сторон океанским ветрам. Внизу с еле слышным стеклянным звоном плескались волны. «Рай», — усмехнулся я и еще раз подивился фантастичности своих скитаний. Неожиданно возникло ощущение эфемерности, шаткости, почти иллюзорности моего нынешнего положения. Ведь через три месяца вернется капсула. А я дал себе клятву бороться. Хотя еще не знаю как… Вспомнилось лицо Федора в те последние секунды. Взгляд, полный безмерной тоски, будто капитан смотрел из немыслимой дали, из мира, откуда еще никто не возвращался…
Я ворочался в
постели, перед закрытыми глазами кружились смутные видения.
Вмонтированные в колоннаду веранды невидимые кибер-врачи и кибер-сестры почувствовали смятенное состояние и раскинули надо мной силовую излучающую сферу. Зазвучала тихая, убаюкивающая музыка. Я заснул.
Проснулся с бодрым чувством, с ощущением, что я так же свеж и могуч, как вот этот синий бескрайний океан, сверкающий под косыми лучами утреннего солнца.
Пришла Вега.
— Ну давай полюбуемся твоей ногой.
Она сняла повязку. На ноге — ни одного кровоподтека, ни одной ссадины.
— Вот так же легко можем убрать и шрам на щеке.
— Пусть остается, — усмехнулся я. — Это память о Вечной Гармонии. С ней еще не рассчитался…
— Надо сначала вспомнить эту нелюбезную Гармонию, — сказала Вега. — Для этого и пришла за тобой. Ты готов?
По переходному мосту мы отправились в соседнее здание. Мост выглядел, по-моему, слишком театрально. По бокам рдели цветы величиной с блюдце. Журчали фонтаны.
Тенистый парк, раскинувшийся на крыше, был скромнее. В конце его, опираясь на перила, стоял высокий пожилой мужчина с загорелым лысым черепом и любовался океанской гладью.
— Мы к нему, — шепнула Вега.
— Доктор Руш, — коротко представился мужчина и, кивнув в сторону океана, добавил с усмешкой: — Застоялись молодцы… Пираты… Ждут — не дождутся шторма.
На пологих волнах покачивались два парусных корабля, похожих на каравеллы Колумба. На мачтах, закрепляя снасти, висели загорелые ребята.
— Ну-с, молодой человек. — Доктор Руш взглянул на меня проницательным, острым взглядом. — Загадка номер один? Так, кажется, именуют тебя сейчас. Очень рад, что загадка сразу попала ко мне. Идемте.
Втроем спустились вниз и вошли в просторный, залитый светом зал.
— Ну-с, загадка номер один. — Доктор Руш приглашающе взмахнул рукой: — Садись сюда.
Я чуть не попятился, увидев сложный агрегат, смахивающий на пыточное кресло Хабора. Сел. К вискам, к запястьям мягко присосались датчики. Антрацитово-черные острые глаза доктора останавливались то на мне, то на экране, занимавшем противоположную стену. Я видел на экране сменяющиеся расплывчатые фигуры, переливы красок, змеистые переплетающиеся нити — непонятную для меня картину моей психической жизни. Но для Веги и доктора Руша экран был книгой, которую они свободно читали.
— Психика в хорошем состоянии, — произнес доктор Руш. — Гибкая, отлично натренированная. Вот только иногда какие-то навязчивые мысли… Но это не болезнь, а результат несколько недисциплинированного богатого воображения. У тебя фантазия поэта-романтика… Ну и еще некоторая импульсивность.
— Говорите прямее. Раздражительность, вспышки необузданного гнева и такой же необузданной радости. Так ведь?
— Импульсивным и, так сказать, художественно впечатлительным ты был всегда, — уточнил доктор Руш. — А раздражительность временная, последствия какого-то длительного шока.
— Следы пребывания в Вечной Гармонии, — понимающе кивнула Вега.
— Теперь насчет памяти. Здесь труднее… — Доктор Руш помолчал, пожал плечами. — Блокада памяти… Тонкая, кружевная, прямо-таки ювелирная работа. Блокада локальная. Определенные ячейки памяти замкнуты. Информация в них не стерта, но основательно подавлена. Память постепенно восстановится. И здесь помогут только отдых и душевное равновесие.
— Ассоциативная память, — подсказала мне Вега. — Стоит вспомнить какую-нибудь яркую деталь или ряд деталей, слов, образов — и в запертых ячейках начнет всплывать информация… Но блокада может прорваться и мгновенно.
— Ну-с, загадка номер один, — улыбнулся доктор Руш. — Попробуем прочитать кое-что из твоих таинственных приключений. Эпизоды, которые удастся выхватить, запишем на микрокристалл. Это по просьбе Совета Астронавтики. Сейчас окутаю тебя «читающим облаком» — клубком излучений. Постарайся думать о таинственном царстве Абсолюта. Может быть, удастся кое-что выхватить из недр…
Опустилась тьма, и я уже не слышал, что говорил дальше доктор. Напрягая память, я пытался штурмовать блокаду. Внезапно ощутил боль в левой скуле и удар. Такой сильный, что перед глазами поплыли радужные круги. Заметил даже очертания огромного кулака, влепившего затрещину — первый привет Вечной Гармонии… Попробовал высветить в памяти весь эпизод, но безрезультатно. В космически непроницаемой тьме роились неуловимые образы. Вероятно, это «читающее облако» последовательно перебирало заблокированные ячейки.
Так продолжалось довольно долго. И вот следующая картина — яркая, объемная. Целый кусок моей прошлой жизни. Правда, началось все не с видимого изображения, даже не со звуков, а с настроения. Захлестнула волна невыразимого горя и отчаяния. И только потом увидел себя бредущим с членами экипажа по лунному космодрому. Мы несли тело погибшего капитана…
Странное ощущение: я был одновременно в кресле и там, в голове печальной процессии. Мои ноги утопали в пыли: космодромом никто не пользовался уже сотни лет. Кругом виднелись следы всесокрушающего времени: упавшие постройки, скелеты поникших зданий.
Мы похоронили капитана на краю космодрома. Поставили памятник с вечным огнем наверху… И вдруг картина оборвалась, погасла вместе с рубиновым вечным огнем. Снова тьма, густая и липкая, с колышащимися неясными образами.
Тьма рассеялась, и я увидел просторный светлый зал, Вегу и доктора Руша, глядевшего на экран.
— Небогато, — сказал он, обернувшись ко мне. — Небогато. Всего две картинки… Не поискать ли нам еще между этими двумя эпизодами. Попробуем…
И снова удар в скулу и круги в глазах… Немного погодя чудом перенесся из тьмы на солнечную, покрытую изумрудной травой поляну. В середине ее — небольшое овальное озерко с прохладной и чистой водой. Мы, члены экипажа, с наслаждением плескались в нем, ели бананы и ржали от удовольствия. Даже наш строгий капитан вел себя как мальчишка.
Опять черный провал, густая, клейкая тьма. Затем в клубящемся тумане начали медленно проступать какие-то очертания. Внезапно почувствовал, что сижу не в мягком кресле, а на жестковатом сиденье у пульта управления вездехода. Рядом — члены экипажа. Перед нами расстилались унылые, наводящие тоску ландшафты. Плоские, как стол. Какие? Трудно сказать, потому что наше внимание поглощено многотысячным, может быть даже многомиллионным, войском. Солдаты изумительно правильными рядами двигались прямо на нас, четко печатая шаг. Чем ближе, тем явственней вздрагивала земля: туммм… туммм…
— Капитан! — услышал я голос Ивана Бурсова. — Капитан! Что они? Взбесились?..
— Не знаю… Попытка вступить в контакт? Не похоже.
Капитан, наморщив лоб, размышлял.
— Не бойтесь, — произнес он наконец. — Мне кажется, они решили просто попугать.
— Попугать? — Иван пытался улыбнуться. — Феноменально…
А солдаты все ближе и ближе. Они шли, встряхивая землю чугунным топотом: туммм… туммм… На плечах — ружья с расплюснутыми на концах стволами. По неведомо кем поданной команде солдаты взяли оружие наперевес.
— Капитан! — Иван был не на шутку встревожен. — Капитан! Это же психическая атака! Они же сотрут нас сапогами… Разрушитель! Я пущу в ход биологический разрушитель. Превращу их в атомную пыль!
— Никаких эксцессов! — приказал Федор Стриганов. — Слышите? Никаких эксцессов! Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Их не уничтожить никаким разрушителем. Они бессмертны, потому что давно мертвы…
— Капитан! — перебил планетолог. — Сейчас не до шуток.
— Я не шучу. Уверен: они не причинят нам вреда. Это не входит в их задачу. Пока не входит… Может быть, все же контакты? Нет, не то… Не сметь включать разрушитель! — Стриганов, сдвинув брови, предостерегающе поднял руку.
А солдаты — вот они, в двух десятках шагов. Мы видели их бессмысленные физиономии, покрытые капельками пота. Солдаты разевали рты, задыхаясь от жары. И вдруг все они пропали, будто провалились. Исчезновение было полным и ошеломляющим. Еще не осела пыль, поднятая сапогами, а их уже не было.
Капитан с облегчением опустил руку.
— Так и есть! Это просто парад. Парад мертвецов… Не спрашивайте, братцы. Сам толком не знаю. Одно ясно: с планетой случилось что-то страшное.
На этом все оборвалось. Густая, как нефть, тьма прочно завесила память. Но вот тьма рассеялась, и я увидел светлый зал, Вегу и доктора Руша.
— … Ну и ну! — развел руками доктор. — Вот уж действительно загадка.
— Сережа, — утешающе ласково сказала Вега. — Ты не расстраивайся. Я убеждена, что это не наша планета.
— А может… это был просто бред? — со смутной надеждой спросил я доктора Руша.
— Нет, не бред! — строго возразил он. — Не бред. Ячейки памяти объективны, как фотоаппарат. Они сфотографировали реальную картину… Но расстраиваться и в самом деле не стоит, — добавил он, положив руку на мое плечо. — Ученые разберутся. А ты пока отдыхай.
Мне ничего не оставалось делать, как последовать этому совету.
Наш дрейфующий город медленно двигался на север. Днем далеко на западе проплыл встречный аквагород. Мелькнул сверкающими шпилями, тонкими иглами причальных мачт и утонул за горизонтом. Мы находились на широте Гавайских островов. Было очень жарко. Я купался, ныряя прямо с веранды, загорал. Много читал, пополняя знания и словарный запас.
Вечером услышал в комнате сигнал вызова. На засветившемся экране возник Орион Кудрин. Он лениво сидел в кресле, закинув ногу на ногу.
— А, космический бродяга! — Орион вместо приветствия чуть привстал и снова сел. — Звездный странник! Так именуют тебя телекомментаторы. С легкой руки Тани. Кстати, ты произвел на мою сестру сильнейшее впечатление. О тебе только и трезвонит…
Заметив мое смущение, Орион сказал:
— Извини, Сергей, за болтовню. Я по делу. Можно ввалиться к тебе в гости?
— Что за вопрос? Конечно, можно.
Я сел, предполагая, что Орион через несколько минут на гиперлете появится в городе. Но случилось неожиданное. Орион прямо с экрана буквально ввалился в комнату и вместе с заскрипевшим креслом придвинулся ко мне почти вплотную. Я вскочил на ноги. Что это? Розыгрыш?
Орион тоже встал и с ухмылкой сунул мне свою широкую, как лопата, ладонь.
— Давай поздороваемся, что ли?
В растерянности я протянул руку и пожал… пустоту. Орион расхохотался.
— Слушай, ты, мистификатор! — воскликнул я. — За такие шутки…
— А давай влепи. — Орион охотно подставил ухмыляющуюся физиономию. Рассмеялся. — Уж и пошутить нельзя?.. Давай лучше сядем, поговорим. Ты видишь не реального Ориона. Это новый экран.
— Телевоссоздание?
— Правильно. Последняя новинка техники… Но давай к делу.
Орион сел и закинул ногу на ногу.
— Посмотрели мы картинки, расшифрованные доктором Рушем. Да-а… Ошеломляющие картинки. Да и записки твои тоже… Отрезвляют! Еще бы — царство символов. В общем, твое сказочное появление поразило всех. Озадачен даже невозмутимый академик Фирсанов — председатель Солнечного Совета. Спрашиваешь, что такое Солнечный Совет? Главный координирующий центр, что-то вроде правительства всех населенных планет Солнечной системы — Земли, Луны, Венеры, Марса, спутников Юпитера. Но дело не в Фирсанове. С тобой хочет встретиться сам Спотыкаев.
— Спотыкаев?
— Да. Академик Спотыкаев. Своеобразная личность. Новичку нелегко привыкнуть к нему. Но я буду с тобой, поддержу. Спотыкаев — милый, обходительный, корректный человек. Но это в обычном, как он выражается, суетном настроении. Мой мозг, говорит он, отдыхает, погруженный в житейскую суету. Зато в ином, рабочем настроении, так сказать, в научно-эвристическом… Вот тогда он настоящий Спотыкаев. Рассеян, невнимателен к собеседнику. Может ответить колкостью и даже грубостью. По рассеянности наступит на ногу и не извинится, способен споткнуться на ровном месте. Ничего не видит, кроме своих мыслей… Но в этом своем эвристическом настроении он нередко натыкается на удивительные открытия и догадки, переворачивающие обычные представления. В общем, сам увидишь. Через пару дней заявимся к тебе.
— Надеюсь, не так, как сейчас.
— Нет, нет. В натуральном виде. А теперь, извини, тороплюсь. До свидания.
Орион привстал и с невозмутимым видом протянул руку для прощания. Но я погрозил пальцем. Орион хохотнул и вместе с креслом втянулся в экран, который тотчас погас.
Нет ничего томительнее безделья. Не привык я к отдыху, который прописал мне доктор Руш. Вся жизнь моя была полна тренировками и работой, тревогами и опасностями. А сейчас… Весь следующий день купался и загорал. Вечером гулял в парке, на крыше санаторного здания. Подошел к малахитово-зеленым перилам, хотел встретить здесь закат, но услышал сзади голос Веги:
— У нас, Сережа, гости.
Обернулся и рядом с Вегой увидел Таню.
— Ну, здравствуй, скиталец! — подала она мне руку с какой-то несмелой улыбкой.
— Орион выражается точнее: бродяга, — шутил я. — Да, космический бродяга. Ничего не имею за душой. Даже воспоминаний. Нечем порадовать ученых.
— Воспоминания кое-какие имеются, — поспешила утешить Вега. — Остальные придут позже. А сейчас, извините, оставлю вас. Есть работа. Кстати, Таня покажет тебе город.
— С удовольствием, — обрадовалась Таня. — Люблю быть экскурсоводом. Особенно для странников, прибывших из прошлых столетий и будущих тысячелетий.
— Не верю я в эти тысячелетия. Все больше склоняюсь к мысли, что это был какой-то чужой мир.
Мы с Таней долго ходили по паркам и площадям, по удивительно нешумным улицам города. Шелест движущихся дорожек сливался с шорохом листвы, а редкие гравимашины, похожие на лодки, скользили над деревьями совершенно беззвучно.
Я не нашел ни одного здания, которое было бы похоже на какое-то другое. Словно люди, они отличались своеобразием, неповторимой индивидуальностью. В каждом дворце, даже в каждой арке и набережной запечатлелась личность творца, художника-архитектора. Большинство городских сооружений были красивого изумрудного цвета.
— Это потому, что город почти целиком сделан из затвердевшей морской воды, — объяснила Таня. — А ты не знал? Как-нибудь я покажу тебе наших архитекторов за работой. Это очень интересно. За своими башенными пультами они лепят из воды, как из глины.
— Лепят? — удивился я.
— Именно лепят! Под воздействием особых силовых полей вода становится густой и вязкой. Видел бы ты, как это красиво, когда океан вдруг вспучивается огромным зеленовато-синим айсбергом! Пальцы архитектора скользят по клавишам пульта, и бесформенная пластичная гора прямо на глазах превращается в здание. У подножия айсберга возникают ступени, над ними вытягиваются колонны… С помощью силовых полей архитектор поворачивает свое детище, как чашу на древнем гончарном круге. А вокруг бурлит вода… Зрелище такое, что не оторвешься! Наверное, так когда-то представляли себе люди акты божественного творения… Ну а в конце наносится квантовый удар, мягкое здание кристаллизуется и становится прочнее гранита.
— И дом готов?
— Ну что ты, нет, конечно… Предстоит еще отделка интерьеров, монтаж обслуживающей аппаратуры, озеленение крыш. Но главное — ваяет архитектор. Вот так возникают города из воды, дрейфующие аквагорода. Города-сады, города-симфонии. Архитектура — застывшая музыка.
Пока мы шли берегом, бронзовое солнце легло на водный горизонт и пологие волны лизали его огненный диск. Вечер… Тихий, задумчивый. Мне же рисовалась почему-то иная картина: росистое утро, луг с шалфейными ароматами и жаворонок, повисший в небе серебряным колокольчиком. Почему? Быть может, потому, что рядом видел утренне радостную Таню, слышал ее чистый звонкий голос. «Жаворонок», — с нежностью подумал я. Вспомнилась Элора с ее низким грудным голосом. До чего они разные! Трагически одинокая Элора с душой загадочной и сложной, как лабиринт. И Таня — ясная, светлая, как солнечный луч. Совсем разные, несмотря на довольно заметное внешнее сходство, которое меня уже больше не смущало.
Вот только глаза… Прощаясь у станции гиперлетов, Таня смотрела на меня пугающе знакомыми, ждущими глазами. Потом, ложась спать на веранде, я никак не мог забыть этого волнующе долгого взгляда. Может быть, она и в самом деле неравнодушна ко мне, как утверждал Орион? А я?.. Не влюбился ли я сам? Это я-то, которого члены экипажа называли схимником, равнодушным к женской красоте… Долго еще ворочался, вспоминал солнечную улыбку Тани, ее чистый голос и звонкий смех. Жаворонок…
Академик Спотыкаев оказался не таким уж страшилищем, как его расписал Орион. Правда, встретившись со мной на веранде, он без всякого приветствия ткнул пальцем и равнодушно, погруженный в свои думы, спросил:
— Этот, что ли?
— Да, — ответил Орион и подмигнул мне: дескать, не робей.
Я и не робел. Чем-то располагал к себе этот высокий, средних лет человек с гладко зачесанными волосами. Он бегло окинул взглядом мою подтянутую широкоплечую фигуру, загорелые мускулистые руки и одобрительно проговорил:
— Ничего экземпляр. Подходящ… Значит, говоришь, в Электронной Гармонии сочли первобытным типом! С первобытным мышлением? Так, так…
Словно спохватившись, он взял мою руку, крепко пожал и сказал извиняющимся голосом:
— Спотыкаев. Цефей Спотыкаев. Очень рад. Есть ряд вопросов. Присядем?
Но тут же снова погрузился в себя, стал рассеянным и сел чуть не мимо кресла.
Задавал он вопросы как-то странно. Как мне казалось, без всякой логики, непоследовательно. Досконально выяснил незначительные детали Электронной эпохи, потом нетерпеливо, почти раздражаясь, перебивал, интересовался капсулой, об устройстве которой я и сам не имел никакого представления. Я никак не мог приноровиться к течению его мыслей, к причудливому бегу ассоциаций и чувствовал себя порой просто бестолковым.
Неожиданно Спотыкаев вскочил, как будто вспомнив что-то важное. Молча сунул мне руку на прощание и, постояв минуту в глубокой задумчивости, отправился к станции гиперлетов.
— Видел? — спросил Орион, собираясь идти вслед за академиком. — Это ты виноват, задал ему задачку… Да, редко увидишь Спотыкаева таким рассеянным, как сегодня. Ничего. Завтра-послезавтра он окунется в море житейской суеты и станет как все. И ты его по-настоящему узнаешь. Милейший человек!
Парадокс странника
Цефей Спотыкаев и в самом деле оказался милейшим человеком. Я убедился в этом через несколько дней, когда доктор Руш и Вега освободили меня от своей опеки.
Академик и я стояли в то утро на гравибалконе, парящем на полукилометровой высоте. Поднебесная тишина. Не слышно даже гомона птиц. Лишь ветер насвистывал в ушах разгульную песню просторов и странствий. Под нами, среди русских лесов, голубели полусферы Дворца Астронавтики. Далеко впереди, на самом горизонте, возвышались причудливые пирамидальные здания — гигантские дома-сады. Своими вершинами они почти касались кучевых облаков.
— В каждом таком домике живет до тридцати тысяч человек, — охотно рассказывал Спотыкаев. — Они кольцом опоясывают исторический центр Москвы. Он остался таким же, как и в твоем столетии.
Академик повернулся ко мне. На лице — дружелюбная улыбка. Стройный, подтянутый и корректный, он нисколько не походил на прежнего Спотыкаева.
— А теперь, Сергей, спустимся вниз. Нас ждут в Малом зале.
Гравибалкон снизился до уровня десятого этажа, подплыл к раскрытой двери, состыковался со стеной Дворца и стал обычным балконом.
В Малом зале на предварительное обсуждение «парадокса странника» собралась группа ученых во главе с председателем Солнечного Совета академиком Фирсановым.
Сначала выступали социологи. По их мнению, так называемая Электронная Гармония отдаленно напоминает сплав тоталитарных режимов Западной Европы, Азии и Америки, существовавших в середине двадцатого века. Но очень своеобразный сплав, возникший в условиях высокого технического потенциала. А дальше функции тоталитарного государства были переданы электронному супергороду-автомату, который стал независимой, саморазвивающейся субстанцией. Именно в этом надо искать разгадку последовавшей затем Вечной Гармонии.
Все выступающие утверждали, что скиталец, то есть я, побывал не на Земле будущего, а на совсем другой планете.
— Но где? На какой? — вырвалось у меня.
— На это ответить потруднее, — сказал Спотыкаев, положив руку на мое плечо.
Он встал и обратился ко всем:
— Да, это главный вопрос. Ответить на него мы сейчас не в состоянии. Разгадку можно искать отчасти в капсуле, в которой Сергей Волошин совершил рейды во времени. И, думаю, не только во времени… Хотя никто из нас не видел этой загадочной капсулы, можно сказать, что принцип ее работы нам известен. По этому принципу мы строим гиперлеты и скоро создадим первый гиперзвездолет. Как вам известно, тахионы — частицы, во всем сходные с фотонами, за исключением отрицательного энергетического заряда и мнимой массы покоя. Частицы эти были предсказаны еще в двадцатом столетии, но только в прошлом веке получены в лаборатории. Тахионы могли бы существовать в нашем пространстве-времени, если бы обладали скоростью, значительно превышающей световую, то есть скорость фотонов. Но такие скорости в нашем мире невозможны. Вот почему лабораторно полученные тахионы на глазах исследователей мгновенно исчезали. Я утверждаю, что они уходили в свою стихию — в другое пространственно-временное измерение. Вот эти-то частицы, очевидно, и использует Абсолют в своей капсуле… Упрощенно говоря, тахионы — это фотоны противоположного нам пространственно-временного континуума, континуума со знаком минус.
В последних рядах, среди физиков, послышался шепот. Спотыкаев поднял руку и с улыбкой сказал:
— Знаю, что некоторые ученые к идее минус-континуума относятся с недоверием. Но время покажет мою правоту. Уверен: в самом недалеком будущем удастся доказать, что вакуум, эта ненаблюдаемая нами область мироздания, обладает удивительными свойствами. Видимо, здесь нет ни пространства, ни времени в привычном понимании этих слов. По моим расчетам, в приграничных областях время может идти в разных направлениях и с разной скоростью. Если капсула запрограммирована на полет в прошлое, то она попадает в ту область нуль-континуума, где время течет вспять, от будущего к прошлому, — образно говоря, подхватывается встречной рекой времени. Наши гиперлеты тоже просачиваются в гиперпространство. Но они способны мгновенно перемещаться только в пространстве и никак не реагируют на потоки времени. А в Вечной Гармонии создано нечто принципиально новое. Гиперлет так же отличается от загадочной капсулы, как телега наших предков от ионной ракеты.
— Не слишком ли сильное сравнение? — спросил кто-то.
— Может быть, — согласился Спотыкаев. — Но этим сравнением я хочу подчеркнуть, что к созданию чистого тахионно-фотонного поля мы пока не знаем как подступиться. Если бы мы могли увидеть капсулу в действии, нам многое бы стало ясно. Но это невозможно.
И тут будто какая-то пружина рывком сорвала меня с места.
— Вы увидите ее в действии!.. И довольно скоро. Пройдет сто дней с моего прибытия — и капсула вернется… Да, она настроена на мое биополе и не дастся в другие руки. Но если заранее подготовить и разместить аппаратуру, можно будет зафиксировать мой отлет во всех деталях.
Поднялся шум.
— Опомнись, Сергей! — воскликнул Спотыкаев. — Неужели ты всерьез допускаешь мысль…
— Это не мысль, а твердое решение! — запальчиво перебил я.
Мы стояли друг против друга под взглядами снова притихшего зала. И тут раздался голос председателя Солнечного Совета академика Фирсанова:
— Прости, Сергей, но решения, от которых слишком многое зависит, не могут приниматься одним человеком. Мы будем принимать их все вместе, тщательно взвесив все «за» и «против». А для начала я хочу задать тебе два вопроса. Допускаешь ли ты, что Абсолют решил использовать тебя в качестве лазутчика?
— Не сомневаюсь в этом! Не знаю, какие толщи времени и пространства отделяют Вечную Гармонию от нашей сегодняшней Земли, но, видимо, Абсолют сумел нащупать какую-то щель в этих толщах и замышляет агрессию. А для этого ему прежде всего нужна информация о нас…
— Ясно, — удовлетворенно кивнул головой академик Фирсанов. — Теперь вопрос номер два: допускаешь ли ты, что Абсолют сумеет извлечь из тебя нужную информацию, как бы ты ни сопротивлялся этому?
— Да уж наверно в Вечной Гармонии умеют «вычитывать мозг» не хуже доктора Руша. И церемониться со мной, понятно, не будут…
— И отдавая себе во всем этом отчет, ты тем не менее намереваешься вернуться в лапы Хабора и тех, кому он служит? Чтобы погубить себя и облегчить врагу нападение на нас?
— Считайте, что нападение уже совершено! Там, где высадился один лазутчик, завтра может так же скрытно высадиться целый десант. Вот такие же солдаты-автоматы, воспоминание о которых сумел пробудить доктор Руш… А что может противопоставить этому Земля? У нас нет ни капсул, ни методов их обнаружения… — Я обвел взглядом зал. — Вы, сидящие здесь, многократно превосходите меня и по знаниям, и по опыту. Я искренне уважаю вас всех, я благодарен за все, что вы для меня сделали, но… мне непонятно, как вы можете недооценивать опасность.
— Почему же ты думаешь, что мы ее недооцениваем? — возразил председатель Солнечного Совета. — Многие наши институты заняты сейчас поисками средств противодействия возможным рейдам врага. Да, капсулы у нас пока нет… Но мы не можем форсировать ее создание ценой твоей гибели. Тем более — нет никакой уверенности, что наблюдение за отлетом даст нам всю необходимую информацию. Но даже если бы уверенность была… Пойми, Сергей, мы не можем принять такой жертвы.
«Не убедить… — понял я. — Нужны веские доводы, расчеты, а где мне их взять? Вот если бы поддержал кто-нибудь из них…» Но все молчали. Спотыкаев так и продолжал стоять рядом со мной, сосредоточенно глядя в пол.
— Поставьте себя на мое место… — Я крепко, до боли сцепил пальцы. — Все мои товарищи погибли. Капитану оставили какую-то призрачную полужизнь и погасили за то, что посмел предупредить… Поймите, если б я даже очень захотел, все равно не смог бы жить здесь, среди вас, спокойной счастливой жизнью. Потому что не могу простить убийцам… Я дал себе слово отомстить. Но один бессилен… Единственное, что могу, — помочь вам разгадать секрет этой проклятой капсулы. Неужели лишите меня этой возможности?
Больше мне нечего было сказать. С замиранием сердца ждал, что ответят.
Академик Спотыкаев поднял голову.
— Волошин прав, — произнес он в напряженной тишине. — Мы не можем, не имеем права упустить этот шанс. Но позволить Сергею принести себя в жертву тоже не имеем права. Выход? Зафиксировав отлет Волошина, мы должны бросить весь научный потенциал планеты на создание капсулы в самые сжатые сроки. Пусть даже она будет на первых порах не такой совершенной, как у Абсолюта… Главное — создать ее как можно скорее, испытать и послать Сергею на выручку. Риск велик, но я верю: мы справимся…
В зале снова стало шумно.
— Авантюра!.. — громко проговорил кто-то.
Академик Фирсанов повернулся ко мне.
— Ты пока свободен, Сергей. Обсуждение продлится, как говорили в старину, за закрытыми дверями.
… Результаты обсуждения стали известны поздно вечером. Предложение Спотыкаева было принято с некоторыми поправками большинством голосов.
* * *
Я снова поселился в хижине. В мое отсутствие Орион и Патрик кое-что переделали. Вместо старого колченогого стола у окна белел новый. Но не современный пластиковый, а дощатый, сколоченный с нарочитой грубоватостью, чтобы не нарушать гармонию старины. Рукопись на прежнем месте. В темном углу, справа, тускло поблескивал небольшой экран всепланетной связи. Теперь могу включить любой концертный зал или стадион, вызвать любого человека.
На чисто прибранных полках лежали пакеты с консервированными продуктами. «Наверняка Таня похозяйничала», — подумал я, стараясь подавить вспыхнувшее теплое чувство. Нет, романтические увлечения не для меня. Я просто не имею права добиваться любви этой девушки. Сейчас уже конец августа, скоро появится капсула. Я снова улечу туда, в мир Элоры, Актиния и Хабора, и неизвестно, смогу ли вернуться… Чтобы реже встречаться с Таней, я ссылался на совет доктора Руша: отдых и уединение. На весь день уходил из хижины. Брал с собой этюдник, краски, кисти и долго бродил в поисках подходящего уголка.
Надо отдать должное академику Спотыкаеву и его помощникам: следящая, фиксирующая, анализирующая аппаратура, молчаливо окружившая со всех сторон мою избушку, была так хорошо замаскирована, что, даже долго вглядываясь, трудно было что-нибудь заметить. К тому же я знал, что основное наблюдение за отлетающей капсулой будет вестись в гиперпространстве.
Я забывал обо всем, растворяясь в окружающем мире. Под ногами колыхались утренние, стеклянные от росы травы, вверху лениво плыли облака. Обрызганные солнечными бликами, тонко и чуть заунывно пели сосны, будто струны звенели в их рыжих стволах. Наконец нашел то, что искал. Начал рисовать пейзаж в манере Куинджи: негустую рощу, напоенную светом. Вроде ничего особенного: обычная, очень русская березовая роща. Но эта простота волнует меня куда больше, чем яркие краски кочующих в океане аквагородов, с их водопадами цветов и лазурью волн.
В полдень я оставлял этюдник на месте и шел обедать в ближайший небольшой город. В мое время его называли бы городом металлургов. Гигантский металлургический комплекс растянулся на километры в глубоких и безлюдных подземных лабиринтах. На поверхности земли только пульты управления.
После обеда возвращался к этюднику, а к концу дня был уже в хижине. Включал экран. Передавали последние приготовления к старту гиперкрейсера «Лебедь». Скоро он отправится в первый экспериментальный гиперполет к созвездию Лебедя. В вакууме он почти мгновенно преодолеет расстояние во много световых лет и вернется на Землю через месяц без всяких релятивистских фокусов со временем.
Затем смотрел фильмы. Сначала они меня удивляли: при общем оптимистическом тоне в них было немало драматизма и трагических ситуаций. Нет, я попал не в Аркадию, не в страну блаженных улыбок и песнопений. Люди здесь понимали счастье как вечную неудовлетворенность и вечное движение вперед, полное радости и горя, побед и поражений. В обывательском смысле покинутая мной Электронная Гармония была чуть ли не идеалом «благополучия». Но это — довольство нерассуждающего стада, электронная Нирвана…
А последовавшая за ней Вечная Гармония? Несмотря на отдых, я так ничего о ней и не вспомнил. Ни капельки. Заблокированная память спала.
Безделье мне изрядно надоело, и я упросил Ориона помочь мне разобраться в теоретических основах гипернавигации. Он согласился давать мне уроки раз в неделю.
В тот день мы занимались в его домашнем кабинете. Жил Орион на окраине большого уральского города, который на много километров тянулся вдоль берега Камы.
— Деревенская глушь. — Орион с улыбкой кивнул в сторону раскрытого окна, откуда лились запахи сухой солнечной осени.
Перед одноэтажным пригородным домом зеленела поляна, пересекавшаяся тропинками. Одна из них вела к излучине Камы, где высилась причальная мачта, немного напоминавшая очертаниями старинную Эйфелеву башню. Когда солнце клонилось к закату, оттуда прибыла жена Ориона — маленькая, изящная и хрупкая Инга, полная противоположность своему мужу.
— Хватит работать, — решительно заявила Инга. — Будем пить чай. Гости идут.
Секундой позже вошла Таня. Будто золотистый луч коснулся меня. В комнате словно стало еще светлее от ее открытой улыбки, сияющих глаз и даже от прически, напоминающей солнечную корону.
Увидев меня, она улыбнулась широко и открыто, протянула руку.
— Ну здравствуй, скиталец. Странник-отшельник…
— Странник, но не отшельник, — возразил Орион. — Сергей перестал запираться в свою сказочную избушку, как улитка в раковину… А Татьяна не знала, — повернулся он ко мне. — Надоела мне: «Где он? Что с ним?»
Стали пить чай. Болтали о разных пустяках. По молчаливой договоренности никто не заговаривал о том, что мне вскоре предстояло.
Орион посмотрел в окно и вдруг нахмурился. Мы увидели на поляне Настю, пятилетнюю дочь Кудриных. Она шла по пояс в траве. В левой руке девочка держала букет из кульбабы, ромашек и еще каких-то цветов. Я уже знал слабость Ориона: он буквально вздрагивал, как от боли, когда на его глазах рвали цветы.
— Варварство, — шептал Орион, стараясь отвести взгляд от окна. — Какое варварство…
Настя замерла перед крупным цветком. В его чашечку вползла пчела, и цветок закачался и зажужжал изнутри. Настя приложила ухо и с блаженной улыбкой прислушивалась к струнному гудению. Но вот пчела улетела. Настя печально вздохнула и… сорвала цветок.
— Анастасия! — не выдержал Орион и погрозил кулаком.
Девочка вздрогнула. Но взглянув еще раз на увесистый кулак, так и излучающий добродушие, смешливо прыснула в букет и пропищала:
— Папа, больше не буду.
Таня смеялась. Орион с досадой смотрел на свой кулак, видимо недоумевая, почему он производит такое комическое впечатление. Потом махнул рукой.
— Не понимаю, почему женщины так люто ненавидят цветы. Увидят — и сразу же рвать…
Таня начала рассказывать о диковинных цветах, выращенных ею в Австралии. Она только что вернулась оттуда. А мне было так хорошо, что не хотелось даже говорить. Никогда я еще не чувствовал себя так раскованно и уютно, как в этом семейном кругу — рядом с Ингой, Таней и неизлечимо добродушным Орионом.
Когда солнце, прочертив малиновую дорожку на речной глади, скрылось за зубчатой стеной леса, я пошел провожать Таню. Она жила рядом, вместе с матерью и отцом, в таком же простом доме, как и Орион. Мы с ней долго бродили по поляне, по сухо шуршащей осенней траве. Молчали. Потом Таня стала рассказывать о наших общих знакомых.
— Ты знаешь, Спотыкаев — убежденный холостяк. Вернее, был им. Недавно женился. И на ком? На Андре Таун — первой красавице Солнечной системы.
— Андромеда Таун? — удивился я. — Видел на экране. Прекрасная артистка.
— Да. И вот Спотыкаев покорил ее. Ученый с мировым именем, обаятельный, душевный, находчивый и остроумный. Андра еще не знала, каким он бывает в своем рабочем настроении. И вот однажды на пляже Спотыкаев сидел и увлеченно рисовал на песке какие-то формулы. Как Архимед. Подошла Андра и заговорила с ним. Спотыкаев сердито вскинул голову. Он был настолько погружен в свои математические видения, что не узнал ее. Угрюмо посмотрел на Андру и… обозвал нахалкой. Представляешь? Хорошо еще, что Андра оказалась девушкой неглупой, не обиделась и все поняла…
Разговор зашел об искусстве. Таня призналась, что и сама пишет музыку. Только пока скрывает это от Ориона, боясь его насмешек.
Незаметно подкралась, развернув свои черные крылья, ранняя осенняя ночь. Стало прохладно. В небе задрожали звезды. Лицо Тани в голубом небесном сиянии было бледнее обычного и снова напомнило мне чем-то беломраморный профиль девушки из иного мира, Элоры. Но насколько эта, земная, была теплее, ближе, родней…
Стали прощаться. И я вдруг остро ощутил, что расстаюсь с Таней, быть может, навсегда…
— Таня, — зашептал я. — Слышишь?.. Хочу что-то сказать.
Она подняла ресницы и смотрела мягкими, отдающимися моей воле глазами. И этот взгляд решил все.
— Таня, я люблю тебя. Слышишь? Очень люблю.
— И я, — радостно выдохнула она и уткнулась головой в мою грудь.
«Не имеешь права», — хлестнул в мозгу будто чей-то чужой голос. Мягко отстранив девушку, я повернулся и побежал к станции. Скользящий поезд в считанные минуты перенес меня на другую станцию — Лесная. От нее до хижины — семь километров.
Лесная темень… Я бежал, изредка останавливаясь, чтобы перевести дух. Вдыхал прелые запахи осени, ловил руками падающие листья. Прекраснейший мир! Неужели больше его не увижу… Пройдет еще день — и я, точно в холодную воду, нырну в таинственную реку времени, которая вынесет меня на другой берег, в иной мир.
Но я вернусь. Может быть, вернусь…
Снова Хабор
Капсула опустила меня — удивительное постоянство! — в той же самой роще, на том же месте.
Роща почти исчезла. Вокруг жалкой кучки деревьев высились недостроенные корпуса: город-автомат наползал со всех сторон.
В свое время я неплохо освоился с лабиринтами супергорода. И теперь, умело переходя с одной движущейся параболы на другую, довольно быстро добрался до дома, где жил раньше. На лифте взлетел на верхний этаж. Подошел к двери соседки, с нетерпением нажал клавишу.
Открылась дверь, и выглянувшая было Хэлли быстро отступила назад. Ее глаза, окруженные веером морщинок, расширились от страха.
— О небеса!
— Где Элора? — спросил я, входя и кивнув головой в знак приветствия.
— Элора? — растерянно переспросила хозяйка. — О небеса! Хранитель Гриони?! Вы ли это? Говорят, вы так неожиданно пропали…
— А Элора, где она?
— Элора?.. Бедная девочка. — По глубоким морщинам ручейками потекли слезы. — Нет ее больше. Не увидим мы ее никогда. Она… Она сама… Она перешла в храм бессмертия.
— Сама?.. Покончила с собой? — холодея, спросил я. — Что за храм такой? Мавзолей? Пантеон?
— Не знаю… О небеса! Я ничего не понимаю.
Старая женщина путано говорила о храмах, которые были новинкой и попасть в которые считалось большим почетом. «Нет, — решил я, — сегодня от нее ничего путного не узнать». Но все-таки задал еще один вопрос:
— А Актиний спрашивал обо мне?
— Актиния нет в живых…
— Что, тоже храм бессмертия?
— Нет… самоубийство. — Хэлли понизила голос до полушепота. — Говорят, он оставил очень странную записку…
— Какую?
— «Чем хуже, тем хуже».
Я промолчал. Мне-то был ясен смысл записки. Актиний отчаялся в своих усилиях одиночки, понял, что общество неудержимо катится в пропасть.
Я попрощался, обещав зайти завтра. Спустился в подземные лабиринты и в темном закоулке завалился спать. Конечно, я понимал, что Хабор уже знает о моем появлении в городе. Но где-то в глубине жила смутная надежда, что если буду скрываться, неизбежную встречу, может быть, удастся хоть немного оттянуть. Оттягивать финал — это была теперь моя главная задача…
Не знаю, сколько проспал. Из полумрака подземных коридоров поднялся наверх. Одуряющий городской свет, ударивший в глаза, создавал впечатление вечной ночи, опустившейся на планету.
Над одной из площадей сквозь паутину парабол еще проглядывало солнце. Значит, все-таки день! Здесь маршировало подразделение Армии вторжения. На соседней площади жители, проходя мимо статуи Генератора, вскидывали руки и издавали верноподданнический вопль: «Ха-хай! Ха-хай!»
Унылая картина. Я сел в кресло транспортной эстакады и укрылся от мира силовой сферой-экраном. Но город и здесь напоминал о себе своей стандартной продукцией: замелькали кадры очередного секс-детектива.
Я спустился вниз и нырнул в чернеющий зев подземной дороги. Проехал сотню километров. Потом вышел и углубился в боковые безлюдные коридоры. Шаги мои гулко раздавались в тишине. Изредка попадались деловитые и безмолвные роботы, ремонтирующие сложную систему труб и проводов.
Один из них только что вылез из колодца. «Нижний этаж подземного хозяйства», — подумал я и решил, что там надежней всего можно укрыться. Сунул ноги в черную дыру и неудержимо заскользил вниз. Начал шарить вокруг руками. Но уцепиться не за что — ни выступов, ни ступенек. Крутонаклонные стенки колодца были гладкими, как стекло. Очевидно, робот поднимался с помощью пневматических присосков.
Наконец очутился внизу. В полумраке лабиринтов прошел километра два. Но усталость взяла свое. Я спрятался в нише и уснул.
Снился страшный сон. Будто у меня срослись руки и я никак не могу отодрать одну от другой. Вскрикнул, проснулся. И увидел: запястья скованы наручниками. Надо мной нагнулся какой-то рослый мужчина. Согнув средний палец с перстнем-фонариком, он с любопытством меня рассматривал. Пошарил по пустым карманам и приказал двум стоявшим рядом роботам:
— К Хабору!
Хабор встретил меня веселой ухмылкой.
— Га! Га! Провокатор!.. Что-то ты ко мне не спешишь, а?
Жестом отпустив роботов, он велел мне сесть и сам опустился рядом.
— То, что ты вернулся, говорит о твоем благоразумии. Бессмертие — высший дар, и даровать его может только Абсолют — это ты, я вижу, хорошо понял. При необходимости мы бы, конечно, нашли способ вернуть тебя насильно, но добровольность всегда предпочтительнее… А встречу со мной ты зря оттягивал. Уверяю тебя: все будет совершенно безболезненно. Просто сядешь в кресло и будешь вспоминать день за днем, а анализатор будет развертывать и уточнять особо интересующие нас детали… Сейчас немного отдохни — и приступим.
— Я не собираюсь ни к чему приступать.
— Не собираешься? — Хабор изумленно уставился на меня. — Это как понимать?
— Вы говорили тогда: Абсолют не нуждается ни в каких лазутчиках. А теперь выясняется… Выходит, это был обман?
— Ну зачем такие страшные слова. — Хабор усмехнулся. — Просто верный психологический ход. Мне не хотелось, чтобы ты чувствовал себя там шпионом. Это внутренне сковывало бы тебя.
— Хотели сделать шпионом против моей воли? Но я им никогда не был и не буду!
— Ну вот что, мне надоел этот дурацкий разговор. — В глазах Хабора загорелись злые огоньки. — Он, видите ли, хочет остаться чистеньким и высоконравственным… Запомни раз и навсегда: в мире есть только одна нравственность — верное служение Абсолюту. Все, что делается по воле Великого, дозволено и оправдано.
— И все-таки мне противно быть шпионом…
— Тем хуже для тебя!.. Собственно, я мог бы сегодня же выпотрошить из тебя всю информацию о том мире. Наша аппаратура умеет обшаривать мозг до самых дальних закоулков. Но когда объект вспоминает добровольно, получается детальней… Что ж, ладно, дам тебе еще некоторое время поразмыслить. Не образумишься — пеняй на себя!..
Роботы волокли меня в подземелье, а во мне все пело от радости. Что бы ни ждало меня впереди — первый раунд выигран!..
Меня привели в просторную пещеру. На грубых нарах здесь сидело и лежало несколько десятков человек. «Гуманитарии», — догадался я.
— Ты из какой пещеры? — обратился ко мне один из незнакомцев. — Из соседней? Пытался бежать? Зря. Отсюда не убежишь.
— Да и некуда, —
откликнулся другой. Ткнув пальцем вверх, добавил: — Там не лучше.
Загнанные в подземелье, художники и мыслители оказались людьми очень жизнестойкими. Глядя на них, я вспомнил стихи Брюсова «Грядущие гунны»:
А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры…
Едва успели «мудрецы и поэты» пообедать, как появились хмурые инженеры — гунны Электронной эпохи. Они брезгливо взглянули на нас, дали какие-то указания роботам и ушли.
Под охраной равнодушных роботов мы отправились на строительную площадку. Запомнился длинный, усеянный камнями и тускло освещенный туннель. В полумраке иногда коротко вспыхивали голубые молнии: это роботы наводили порядок электрохлыстами. Человекоподобные машины гнали людей, как стадо.
На строительной площадке, в гигантской куполообразной пещере, стоял скрежет и лязг. Циклопические машины дробили гранит, расширяя подземное помещение.
Люди, одаренные «нестерпимым зудом» самостоятельно мыслить и создавать произведения искусства, считались в Электронной Гармонии не способными ни к какому труду, кроме физического. Они вручную расчищали от щебня и камней площадку для генераторов подземной энергостанции. Роботы жестами и световыми сигналами давали указания. Нерасторопные вздрагивали от электронаказаний.
Но люди не унывали. А в перерывах начинались настоящие интеллектуальные пиршества. Поэты читали свои стихи. Художники пытались рисовать на тускло освещенных стенах, историки рассказывали анекдоты о Генераторе Вечных Изречений. Часто завязывались философские споры. Гуманитарии, получив здесь, под землей, духовную свободу, отводили душу. Никто им не мешал. Одни лишь роботы с электроразрядниками наготове окружали площадку и тупо взирали на непонятное оживление.
Тут, в катакомбах, я впервые узнал от одного из историков о прошлом Харды, об отношениях ее обитателей с жителями планеты Аир, находящейся в соседней звездной системе.
Обе цивилизации жили сначала в дружбе. Но общественное развитие шло разными путями. Аиряне создали общество, основанное на равенстве и уважении к личности. По-иному сложилась судьба Харды. У власти утвердилась технократическая элита. Всюду насаждались стандарты: и в производстве, и во всей структуре общества. Людям внушали: главное, чтобы все были похожими, внутренне одинаковыми. «При высоком совершенстве отдельных личностей целому угрожает хаос», — учил Конструктор Электронной Гармонии. Подавлялось искусство, как выражение индивидуальности каждого творца-художника, истреблялась природа. Происходила своеобразная инфляция личности: чем больше одинаковых людей, тем меньше ценность каждого отдельного человека. «Ты — ничто, гармония — все».
Гости, прилетавшие с планеты Аир, вольно или невольно становились возмутителями этой «гармонии». Тогда правители Харды запретили людям Аира появляться на планете, объявили их опасными пришельцами. За такого пришельца едва не приняли вначале и меня…
Одно мне только не удалось выяснить: кто такой Генератор? Жив ли он или давно умер? Может быть, Генератор просто миф? А Вечные Изречения генерирует сам город, этот всевластный Электронный Дьявол? Я все больше склоняюсь сейчас к этой мысли. Думаю даже, что статуи Генератора — просто абстрактные идолы, воплощающие идею тоталитарной государственности.
В обществе изгнанников я провел в подземельях, наверно, несколько месяцев. Сколько именно — не знаю: потерял счет дням. Это были бы, в общем, не такие уж плохие дни, если бы не изнуряющая напряженность ожидания…
Дважды меня приводили к Хабору, и дважды он отсылал меня обратно, все еще уверенный, что в конце концов сдамся. А на третий раз началось то, о чем лучше не вспоминать.
— Что ж, приступим к потрошению, — объявил Хабор. — Учти: я такой же фанатик, как и ты. Только со знаком минус. Га! Га! Га!
Это была пытка, изощренная и мучительная. Казалось, у меня выдирают мозг — клетку за клеткой, кусок за куском. И чем больше картин земной жизни проплывало на экране, тем больше сатанел Хабор. Наверно, он с наслаждением бы прикончил меня, если бы не оставшаяся во мне информация, которую ему велено было выцедить до последней капли.
Время от времени мне давали немного прийти в себя, вливали что-то укрепляющее и снова тащили в «вычитывающую камеру»… И когда уже не оставалось ни сил, ни надежды, я, почти теряя сознание, вдруг ощутил под рубашкой трепетное прикосновение энергопояса. В первую секунду не поверил. Но вспыхнуло фиолетовое пламя, и меня радостно пронзило: «Сделали! Сумели!..» Пояс стремительно развертывался в капсулу. Для Хабора я уже был невидим и неощутим. На какой-то миг мелькнули его глаза, обалдело взирающие на опустевшее кресло, и все померкло…
Встреча с друзьями
Еще не открыв глаза, я услышал знакомый шум леса, птичьи пересвисты, и сердце счастливо забилось: дома! Голова кружилась. Хотелось долго-долго вот так неподвижно лежать в траве, всеми порами вбирая в себя запах влажных листьев, хвои, лесных цветов. Я перевернулся на спину, приподнялся на локтях и прямо перед собой увидел ставшую такой родной хижину под раскидистой сосной. На пороге стоял высокий мужчина и внимательно, словно с трудом узнавая, смотрел на меня. Но я-то его узнал сразу: академик Спотыкаев! — и тут же вскочил на ноги. Мы обнялись.
— Коллеги рвались тебя встречать, но я не пустил, — говорил Спотыкаев, вводя меня в дом. — Объяснил, что тебе будет не до многолюдья. Пришел вот один. За капсулу было тревожно: она у нас еще не очень-то отработана…
— Но как вы смогли? Ведь прошло всего…
— Год прошел, Сергей… У нас, на Земле, прошел целый год.
Академик подвел меня к постели, стал помогать укладываться. И тут только я разглядел, какое у него усталое лицо, как заметно прибавилось морщинок у глаз.
— Да, пришлось крепко поломать голову, — проговорил он, заметив мой взгляд. — Всем нам. Так сказать, всепланетная мозговая атака… Ты, Сергей, отдыхай эти дни. Отоспись. Поброди по лесам. О твоем прибытии никому пока не сообщим. Только ученым. Но все разговоры с ними — не раньше чем недели через две. А сейчас лежи и жди врачей. Вот-вот должны прилететь. Вижу, досталось тебе там…
Чуть поколебавшись, он достал из кармана металлический стерженек, неуловимым движением развернул его в небольшое зеркало и протянул мне.
И я увидел, что стал совсем седым.
* * *
Проснувшись, я вышел из хижины. Вчерашние лекарства оказались чудодейственными: я чувствовал себя почти здоровым.
Было роскошное летнее утро. Редел туман, уползая в таинственные чащобы. И на поляне перед хижиной многоцветным полотном засверкала под солнцем трава, обрызганная росой. На сосне возилась моя старая рыжая приятельница — белка.
И вдруг — точь-в-точь как год назад — вдали над вершиной горы закачался столб дыма.
У меня перехватило дыхание от нахлынувших воспоминаний. Мигом вспомнился тот день, как живых увидел Ориона, Патрика и Вегу перед весело потрескивающим костром. Незнакомая девушка поднималась в гору. Густые золотистые волосы закрывали ее лицо. Она откинула их назад и посмотрела на меня…
«Может быть, и сейчас все они там, — подумал я. — Это было бы здорово!»
Быстро дошел до подножия горы, по камням, как по ступенькам, взобрался на вершину. Осторожно раздвинул ветки и перед костром увидел незнакомых людей: высокого худощавого мужчину и его точную, но помолодевшую копию — юношу лет семнадцати. «Сын», — догадался я и вышел из-за кустов.
Поздоровались. Старший предложил разделить с ними завтрак. Он не узнал меня. Зато юноша так и уставился на меня изумленными глазами.
— Сергей Волошин? — несмело улыбнулся он.
Пришлось за завтраком коротко рассказать о своем последнем визите на Харду. Старший — лесничий Эридан Потапов — слушал мое повествование, как неразрешимую научную загадку. Но его сын Алеша верил мне безоговорочно.
— Вот теперь и у нас есть своя машина времени, — сказал он. — Но мне бы хотелось слетать к Харде маршрутом вашего «Орла» — через звездные бездны. Ведь все равно рано или поздно придется сражаться с Абсолютом в космосе…
— Полюбуйтесь на него, — хмуро бросил взгляд на сына Эридан Потапов. — Десять лет я рассчитывал, что он будет мне помощником, продолжит мое дело… Станет ну хотя бы ботаником… Только что закончил первый круг обучения. И вдруг объявляет, что он, видите ли, кибернетик. Ему, видите ли, тошно на Земле. Ему космос подавай… Не понимает, что родная планета — лучшая лаборатория. Да! Да! Лучшая!.. Земля… — Голос Потапова зазвучал почти торжественно… — Горы, пронзающие облака своими снежными вершинами, и цветущая лужайка, парящий в небе орел и жук, качающийся на зеленой травинке, лучше помогут понять место человека в окружающем мире, чем Галактика, чем огненное безумие звездных потоков. Чему смеешься?
Но никто не смеялся. Напротив, мы с удовольствием слушали энтузиаста. Алеша шепнул мне на ухо:
— Он у меня ученый-поэт. Недавно закончил книгу «Зеленая сказка». И правда — сказка, поэма!
— Я даже не свои слова сейчас говорю, — продолжал лесничий. — Все это прекрасно понимали наши предки. Дерево, говорили они, подчиняется тем же законам тяготения, что и звезды. Более того, дерево состоит из тех же сложных молекулярных соединений, что и гнездящиеся в его ветвях птицы, живущие в его корнях насекомые и размышляющие над всем этим ученые. Хорошо сказано!
— Действительно хорошо, — согласился я.
— Знай же, отступник, — обратился Потапов к сыну, — на Земле целая вселенная таинственного и непознанного. Гудящий над цветком шмель, зеленый листок клена и даже твой незрелый мозг, напичканный кибернетической чепухой, — все это вскормлено излучением звезды. Все мы непостижимым образом сотканы из той же космической пыли, что и шаровые скопления, что и…
— …Созвездие Эридана, — невинным голосом вставил Алеша.
— Смеешься над отцом? Да, смешнее не придумаешь: до мозга костей земному человеку дали такое нелепое космическое имя. Надо же — Эридан! Насмешка судьбы! Ирония! Назвали бы уж сразу — Змееносец! Или Скорпион. А еще лучше — Водолей…
Алеша упал на траву и хохотал как одержимый.
— Водолей Скорпионович!.. Ха! Ха! Ха! Здорово звучит!
Потом встал и, вытирая выступившие от смеха слезы, проговорил:
— Ну не сердись, папа, Эридан — хорошее имя. И на меня не сердись. Надо же кому-то заниматься таким нудным делом, как космос и кибернетика.
— Кто знает, Алеша, может быть, с годами у тебя все это пройдет, — сказал я, желая утешить Потапова-старшего. — В твоем возрасте я тоже бредил звездными приключениями. А сейчас по горло сыт ими. Неудержимо тянет на Землю.
После завтрака Потаповы уговорили меня совершить маленькое путешествие.
— Не такое, конечно, головокружительное, как у тебя, — добродушно сказал Эридан. — И не на хитроумной машине времени, а на гравиплощадке — вот на этой телеге и лошади двадцать четвертого столетия.
И он показал на странный и внешне простой аппарат, стоявший поодаль в кустах. Круглая платформа с перилами, три кресла и перед ними — пульт управления. Вот и все.
— Это редкостная привилегия, — смеялся Алеша. — Летать над землей позволено только птицам и… лесничим.
Мы сели в кресла. Эридан дотронулся пальцем до кнопки. Гравиплощадка бесшумно взмыла вверх. У меня захватило дух — так великолепны были всхолмленные лесистыми горами дали, подернутые сиреневой дымкой. Внизу протянулась светлая лента березняка — бывшая высоковольтная. Ее пересекала вдали полоса кустарника — все, что осталось от шумного когда-то шоссе.
— Эту бывшую дорогу, — заметив мой взгляд, сказал лесничий, — давно надо было бы засадить деревьями. Но сейчас поздно. Не будем же выдирать великолепный кустарник, в основном малинник.
— Пап, подлетим туда. Мне вдруг захотелось малины. Аж слюнки текут.
— Тут же недалеко малиновые плантации. — Потапов показал на запад.
За плантациями, километрах в десяти, я увидел в бинокль небольшой город. И вообще только вокруг моей хижины простиралась дремучая тайга. Далеко на горизонте я замечал то поселки, то отдельные здания и множество едва заметных даже в бинокль причальных мачт. Из любой точки можно полететь куда угодно: в один час побывать в Антарктиде и Гренландии, в плодовых садах Сахары и санаториях Камчатки. В сущности, весь земной шар — это единый город, рассеянный в заповедных лесах и лугах, в синих океанских просторах…
— Сейчас на плантациях малина уже с детский кулак, — продолжал Эридан.
— А я хочу дикой малины, — упрямился сын. — У нее особый, лесной аромат.
Гравиплощадка снизилась и летела, едва не касаясь верхушек деревьев. Эридан внимательно оглядывал сосны и березы, делая пометки в блокноте.
Около малинника лесничий приземлил свою «лошадку» так искусно, что не хрустнула ни одна ветка. Но не успели мы с Алешей как следует насладиться спелой малиной, как кустарник перед нами зашевелился.
— Это, наверное, он, Угрюмый. Хозяин здешних мест, — прошептал Эридан, предостерегающе подняв указательный палец.
Я вопросительно взглянул на Алешу. Тот склонился ко мне и на ухо сказал:
— Папа знает у себя почти всех зверей. Каждый лось имеет имя. А кто такой Угрюмый, не знаю.
— Не бойтесь, он не тронет. Только тише, — шептал Эридан.
Кусты раздвинулись, и мы замерли: перед нами стоял на задних лапах огромный, матерый медведь. Он неприветливо взглянул на нас и коротко, словно для пробы, рявкнул. «Действительно, угрюмый», — подумал я. Медведь нерешительно потоптался, потом повернулся и неторопливо побежал через полянку в лес. На полпути Угрюмый обернулся и недовольно взревел. Затем неспешным шагом хозяина удалился в темный ельник.
— Зря потревожили, — улыбнулся Эридан и продолжал, явно обращая свои слова сыну: — В биосфере Земли происходит, очевидно, обмен не только биохимический, но и нравственный. Незримыми путями обогащают нас духовно и медведь, и цветок одуванчика, и вот этот муравей, эта тончайше сбалансированная — не кибернетически, а биологически! — структура. Что будет, если на планете не останется никаких других живых существ, кроме человека? Страшно подумать! Это будет началом гибели человечества. А ведь еще в двадцатом веке, в эпоху второй промышленной революции, находились люди, которые в погоне за минутной выгодой уничтожали леса, отравляли реки. А сейчас?..
Эридан нахмурился и, показав на сына, с раздражением сказал:
— Да, дай только волю вот этим кибернетическим пройдохам, вот этим разбойникам…
Алеша расхохотался.
— Пап, будь объективным… И какой же я разбойник?
Эридан еще долго ворчал и успокоился только за работой. Мы скользили над лесом бесшумнее птиц, и он отмечал на карте каждое больное или поврежденное дерево.
Потом гравиплощадка поднялась на головокружительную высоту. На юге, как на ладони, лежал огромный город, залитый утренними лучами. В нем я был триста лет назад. Выпрямленная, как стрела, река Исеть стала широкой и глубоководной: в бинокль я различал быстроходные гидроавтобусы, медлительные парусные яхты. Среди парков возвышались причудливые здания. И все они, как шпилями, увенчивались серебристыми причальными мачтами. На их остриях беспрерывно вспыхивали и погасали искорки-гиперлеты.
— Столица Урала, — сказал Эридан. — Бывший город машиностроителей…
— Почему же бывший? — возразил Алеша. — Он и сейчас полмира снабжает уникальными машинами, космическими аппаратами. Только машиностроительные комплексы и грузовые транспортные магистрали глубоко под землей. Там ни одного человека. Лишь роботы следят за технологическим режимом, а сам город действительно стал садом… Кстати, — Алеша улыбнулся, — нельзя умолчать об одном парадоксе. Наш уважаемый энтузиаст леса, враг космоса и кибернетики, сам живет не в лесной глуши, как космический скиталец Сергей Волошин, а в центре города, в окружении киберслуг…
Гравиплощадка опустилась на поляне, и я, попрощавшись с Потаповыми, вернулся в свою хижину.
Захотелось повидать друзей: Ориона, Вегу, Патрика. Особенно Таню…
Вызвал комнату Ориона, но экран не засветился. Попробовал еще раз, нажав одновременно кнопку звукового сигнала. С тем же успехом. Подождал, побродил в лесу около часа. Потом вернулся и снова нажал кнопку. Через минуту экран вспыхнул, выхватив окно, стол и часть стены с фильмотекой. И по-прежнему никого. Кто же тогда отозвался?
И вдруг сбоку стал медленно выплывать огромный букет полевых цветов, который детским голосом пропищал:
— Дома никого нет.
Из-за букета несмело выглянули глаза Насти, дочери Ориона. Узнав меня, она радостно захлопала в ладоши.
— Дядя Сережа вернулся! Дядя Сережа! — Цветы упали на пол, но девочка уже забыла о них. Залпом выложила все новости: папа с мамой в Чукотском космопорте, тетя Таня в Антарктиде. Вернутся все к четырем часам.
— Не говори им пока обо мне, — сказал я. — Не выдавай меня. Знай молчи себе с таинственным видом. Сможешь?
— Смогу, дядя Сережа, смогу!
Но что делать до четырех часов? Вспомнил, что на экране можно обозревать с высоты любой город, любой крупный научный или космический центр. Вспомнил и номер Чукотского космопорта — ЧК-81. Набрал его и с высоты птичьего полета увидел бетонированное поле, окруженное движущимися решетчатыми эстакадами. Здесь царство машин, всевластие электроники. Вот несколько остроносых беспилотных разведракет, космический крейсер старого типа.
Невидимый телепередатчик выхватил огромный диск — гиперзвездолет. Его-то мне и надо. Нажав кнопку, зафиксировал изображение.
Несколько десятков людей в гермошлемах и комбинезонах расставляли какие-то приборы. Раздался рев сирены. Люди быстро, но без суеты забрались с приборами в открытые люки корабля. Через три минуты люки закрылись. Гигантская чечевица гиперзвездолета поднялась в воздух и вскоре исчезла из поля зрения.
Члены экипажа отрабатывали, видимо, действия по сигналу тревоги. В одном из них я, кажется, узнал Ориона. Но как повидать Таню? Антарктида! Это для меня новость. Что делать там биологу с широким профилем? И где ее искать на огромном материке?
Кое-как дождался четырех часов. Помедлил еще минут пятнадцать и нажал кнопку. За столом спиной к экрану сидел Орион, уткнувшись в аппарат для чтения фильмокниг.
— Кто там еще? — пробормотал он и обернулся к экрану. Грузный и обычно медлительный, Орион вскочил на ноги с такой живостью, что стул отлетел в сторону. — Сергей! Вернулся!.. Когда?.. Как же мог столько молчать?
Он забросал меня вопросами. Потом, вдруг вспомнив что-то, приложил палец к губам:
— Т-с-с…
«Мистификатор, — подумал я, испытывая теплое чувство, словно попал в долгожданные дружеские объятья. — Сейчас начнет кого-то разыгрывать!».
— Таня! — крикнул Орион в окно. — Тут тебя кто-то спрашивает.
— Кто? — послышался звонкий голос.
— А я почем знаю? — недовольно пробурчал этот артист. — Разве в лицо запомнишь всех твоих муравьиных знатоков и приятелей тигров?
И с равнодушным видом уселся за стол, углубившись в светящуюся фильмокнигу.
Вошла Таня, подняла голову и слегка побледнела, а потом ее глаза вспыхнули таким счастьем, что я вздрогнул. Сияющий взгляд этих глубоких глаз — лучшая награда за все мытарства в страшных мирах.
— Ты?.. Сережа?.. — прошептала она и облегченно вздохнула. — Наконец-то! Ты у себя?.. Я сейчас… Сейчас… Ты подожди. Мы сейчас все вместе.
Экран погас. Пока соберутся все вместе, думал я, пройдет не менее часа. Но уже через пятнадцать минут скрипнула дверь, и в хижине стало тесно. После первых приветствий, междометий и восклицаний Орион поднес кулак к самому моему носу.
— Чем пахнет? Ну подожди, космический бродяга, тебе еще попадет от меня! Прибыл — и ни гугу…
Взглянув на притихшую Таню, он обратился к Веге и Патрику:
— Пойдемте-ка разводить костер. Мы еще устроим ему!..
Мы с Таней остались вдвоем. И снова я вздрогнул от радости, почувствовав взгляд черных, глубоких глаз. Таня протянула руку и еще раз облегченно вздохнула:
— Ну, здравствуй, странник. — Она уронила пышноволосую голову на мое плечо.
— Не надо, Таня. — Мне показалось, что она плачет. — Я же здесь… Теперь уже навсегда.
Я взял ее за плечи и посмотрел в лицо. Но Таня не плакала, она смеялась тихим и таким счастливым смехом, что я тут же дал себе торжественную клятву никогда с ней не разлучаться.
Когда мы вышли из хижины, на поляне уже плескались веселые языки костра.
Таня, бережно оправив платье, села на камень.
— Вырядилась, — кивнул в ее сторону Орион. — Всегда так, когда у нее хоть маленький успех. Оказывается, моя сестра почти композитор! А сегодня… Ее цветы сегодня впервые зазвучали, заквакали, как лягушки. Вернулась из Антарктиды, сразу же облачилась в свой распрекрасный пенелон и целый час вертелась перед зеркалом.
Таня метнула на брата укоризненный взгляд: он разоблачил перед всеми ее маленькую слабость.
— Да, я и забыла! — вдруг воскликнула она и показала на Вегу и Патрика. — Поздравь их, Сережа: новая супружеская пара.
— Где будете жить? — спросил я. — В кочующем городе?
— Нет, не могу привыкнуть к зною. Будем жить на моей родине — в Шотландии, — ответил Патрик и пошутил: — Там у меня древнее родовое имение. Замок с привидениями.
— Ты подожди со своими инженерными привидениями, — сказал Орион. — Пусть сначала расскажет Сергей о своих приключениях.
Я рассказывал долго, заново переживая все, что произошло со мной в Электронной Гармонии. Сгустились летние сумерки, стало прохладно. Но Орион забыл подкладывать ветки в костер. Головешки багрово тлели. В фиолетовом небе повисла огненная роса. Танино праздничное платье излучало в темноте такой тонкий свет, словно было соткано из танцующей звездной пыли, словно девушка укуталась не в пенелон, а в кусочек Млечного Пути.
Когда я кончил, все долго молчали.
— Даже не верится, что такое может быть, — проговорила Вега. — Как в страшном сне…
— А о Вечной Гармонии ты вспомнил? — спросил Орион, подбросив в костер сухих веток.
— Вспомнил, — кивнул я. — Видимо, Хабор, выдирая из меня информацию, сбил с памяти все запоры. А может, и время сделало свое дело… Все разом высветилось.
— Расскажи! — почти хором попросили Вега и Патрик.
— На ночь рассказывать не стоит, — проговорил я и сам подивился, что здесь, в кругу друзей, тот мир показался вдруг почти нереальным. — А если говорить честно — слишком тяжело рассказывать. Там остались мои товарищи… Лучше я об этом напишу, а вы потом прочитаете. Ладно?
— Ну что ж, так и быть, подождем твоих мемуаров, — сказал Орион. — Только пиши побыстрей. И вообще, довольно жить отшельником. Хочешь, за полчаса отгрохаем тебе такой дворец — закачаешься. А эту избушку — ко всем чертям!
— Пират! — с веселой иронией воскликнула Таня. — Посмотрите на этого космического пирата. Он усвоил все замашки древних морских разбойников. Ругается, как шкипер.
Беседа наша затянулась до полуночи. Говорили и никак не могли наговориться. Все чувствовали себя удивительно легко и раскованно. Таня подтрунивала уже не только над Орионом, но и надо мной. Расстались мы, когда костер окончательно погас.
…Пока писать нельзя. Но как только разрешат врачи, вернусь к своим записям. Я должен рассказать человечеству о страшном царстве Абсолюта. Прав Алеша Потапов: нам рано или поздно придется сражаться с этой безжалостной силой. А врага надо знать… Начну с того момента, когда открылась и тотчас захлопнулась за нами дверь в сатанинскую Вечную Гармонию — царство Абсолюта.
Царство Абсолюта
На нас обрушилась тишина. Заглохли планетарные двигатели, перестали петь приборы. Прозрачная полусфера пилотской каюты потемнела — ни солнца, ни звезд. Корабль будто провалился в угольную яму. Погасли даже приборы пульта управления, многоцветные мигающие огоньки которого создавали ощущение уюта. Лишь плафоны освещали каюту мертвенным светом.
С электронным универсалом что-то случилось. Он буквально мямлил, на вопросы отвечал с перебоями. С трудом удалось выяснить, что звездолет, как муха, попал в паутину силовых полей. Его будто сунули в мешок и волокли в неизвестном направлении.
— Выясни, что с двигателями, — приказал мне капитан.
Я спустился в кормовую часть корабля. Из машинного зала вырывался сноп света, и на полу коридора вздрагивала тень неизвестного человека.
С излучателем в руке я подкрался к двери и увидел широкую спину незнакомца. Тот склонился над приборами. Левую руку он отставил в сторону и опирался ладонью на предохранитель. Пломба почему-то сорвана. Стоило по неосторожности нажать кнопку предохранителя, и свинцовый шар, получивший из-за утечки гравитонов отрицательный заряд, освободится от пут силовых полей. Он может коснуться корпуса реактора. И тогда — черный взрыв! Та самая черная аннигиляция…
Что делать? Окликнуть незнакомца и попросить убрать руку — бессмысленно. От неожиданности он вздрогнет и заденет кнопку. А главное, я знал и чувствовал: передо мной враг… И я поступил, быть может, не лучшим, но радикальным образом: тонким и острым, как бритва, лучом отрубил руку. Не задев кнопки, рука упала на пол.
Взревев от боли, незнакомец обернулся и увесистым правым кулаком ударил меня по скуле.
Удар был хорош. Я отлетел в другой конец коридора. Слизнув соленую струйку крови, вскочил на ноги. В ту же минуту за моей спиной появились члены экипажа.
Незнакомец шагнул в коридор, левая рука, к моему изумлению, оказалась на месте. Заметив людей, он остановился, что-то пробормотал и растворился в воздухе. К таким внезапным исчезновениям мы стали уже привыкать.
Взглянув на мою окровавленную щеку, капитан сердито сдвинул брови:
— Опять эксцессы? Я предупреждал!..
Я привел товарищей в машинный зал, где на полу валялась обрубленная по локоть рука, и рассказал о случившемся.
— Не очень остроумно поступил, братец, — заметил капитан. — Впрочем, ничего другого не оставалось. — Он повернулся к Зиновскому:
— А ты, Яков Петрович, возьми эту чертову руку, исследуй и доложи.
Поставив на предохранителе новую пломбу, мы тщательно заперли за собой машинный зал. Как будто это имело какое-то значение для вездесущих и всепроникающих гостей.
Через полчаса в пилотскую каюту пришел из лаборатории Зиновский.
— Рука как рука, — сказал он. — Из той же плоти и крови, что и у нас. Могу сообщить группу крови, РОЭ, процент гемоглобина…
— Не надо, — отрезал капитан. — Выкинь ее за борт. Кажется, начинаю о чем-то догадываться…
Стычка в машинном зале имела одно положительное последствие: таинственные незнакомцы оставили нас в покое. Никто больше не следил за нами, не рылся в каютах.
Малыш повеселел, а планетолог, поглаживая бороду, благодушно острил:
— Феноменально! Понимаешь, Сережа? Любезным потомкам мы осточертели. Изучали они нас, изучали, а потом, треснув тебя по физиономии, поставили на этом точку.
— Хороша точка, — смеялся Ревелино, показывая на мою левую щеку. — Может быть, всего лишь запятая?
Шрам на щеке и в самом деле смахивал на багровую запятую.
Лишенный управления, звездолет продолжал нестись в полной темноте и тишине. Неведомая сила тащила нас куда-то. Однажды утром, когда я только что проснулся, корабль сильно вздрогнул, словно ударившись обо что-то.
Я быстро оделся и прибежал в пилотскую. Весь экипаж был на месте.
— Мы на Луне! — крикнул Иван Бурсов.
Каюту заливал солнечный свет: полусфера снова стала прозрачной, будто кто-то сорвал с нее черное покрывало.
Мы натянули комбинезоны с гермошлемами и вышли из корабля. Над нами колыхался огненно-косматый шар Солнца. Почти рядом чернел диск, окруженный голубым ободком подсвеченной сзади атмосферы. Земля, ее ночная сторона… Да, вместе со всеми членами экипажа я был уверен тогда, что мы попали в свою Солнечную систему, на родную Землю.
Звездолет стоял на космодроме, опоясанном какими-то строениями. Город? В наше время его не было… Мы шагали, оставляя глубокие следы в многовековой пыли: видимо, с космодрома уже сотни лет не взлетал ни один корабль.
Вошли в лунный город. Он напоминал почерневший лес, по которому когда-то прокатилась волна пожара. Кругом, как темные стволы циклопических деревьев, высились многоэтажные здания, переплетенные лианами провисших мостов и эстакад. Ноги утопали в пыли, как в пепле. Многие дома покосились, часто попадались обломки рухнувших эстакад. Город был мертв. Ни малейшего движения, никаких признаков жизни. Внутри зданий — такое же запустенье: ровный слой пыли, истлевшая мебель.
— Где же люди? Хотя бы те призраки? — спросил Иван так тихо, будто боялся, что от громкого голоса развалятся здания.
— На Земле, — уверенно ответил капитан. — То есть людей скорее всего не найдем и там. Но там разгадка…
К экспедиции на Землю готовились два дня. У нас была вместительная шлюпка — посадочная ракета, которую с помощью механизмов поставили рядом с кораблем.
Ракета стартовала, взметнув облако пыли. У всех нас зачастил пульс, когда стал наплывать, увеличиваться темный диск в голубом ореоле атмосферы. Что ждет нас там, на родной планете? Она молчала. Ни звука в микрофонах, ни одного светового всплеска на черном диске. В наш двадцать первый век ночная сторона Земли казалась из космоса мерцающей. Светились города, в океанах проплывали ярко иллюминированные лайнеры. А сейчас — ничего. Огни цивилизации погасли…
Приборы показывали высоту сто километров, потом пятьдесят. Ракета, выпустив планирующие крылья, входила в плотные слои атмосферы.
Мы прильнули к экрану радароскопа. Он серыми красками, но в сильном увеличении рисовал неясную картину — лениво перекатывающиеся волны океана. Затем водные просторы сменились сушей. Однако это была странная суша: те же волны, но неподвижные, закаменевшие.
— Что за черт, — бормотал планетолог. — Хотя бы руины, как на Луне… А то ведь ничего. Какой-то застывший океан.
— Скоро будет освещенная сторона Земли. — Капитан хмурился, около губ залегла жесткая складка. — Сейчас увидим.
И мы увидели… Трудно передать охватившее нас чувство смятения. Под нами расстилалась серо-желтая пустыня, безграничный застывший океан песков.
Планирующая ракета еще снизилась и замедлила полет. Внизу мелькали барханы. Ни одной зеленой рощицы или дерева, ни одной нежданно сверкнувшей реки.
Океан, сменивший под крыльями пустыню, ослепил слюдяным блеском. Здесь хоть движение, какое-то подобие жизни. Но какой это океан? Индийский? Атлантический? Очертания берегов так сильно изменились, что никто из нас не мог дать точного ответа.
— Будем садиться, — сказал наконец капитан.
Ни один мускул не дрогнул на его каменном лице. Эта волевая непроницаемость смущала. У нас сжимались сердца от предчувствия беды, постигшей человечество. Но что думал он, Федор Стриганов? Трудно сказать. Движения его рук за пультом управления были по-прежнему уверенными и спокойными.
Место для посадки капитан выбрал удачно — ровную гранитную площадку, почти не занятую песком.
Иван Бурсов и биолог выпустили на волю автономные приборы-автоматы. Первые показания их не радовали. Песок и воздух не содержали не то что капли, но и росинки воды. О жизни и говорить нечего. Чуткие приборы не обнаружили даже микроорганизмов. Это была стерильная пустыня, пустыня-абсолют.
И вдруг…
— Человек! В пустыне человек! — закричал Ревелино. — Он зовет!
Мы поспешили к бортинженеру. С вершины горбатого бархана заметили вдали одинокую фигурку, точнее — силуэт. Человек поднял руку, не то показывая вверх, не то подзывая к себе. Рядом с ним — решетчатый остов полуразрушенного здания. И ничего больше. Кругом унылая холмистая равнина.
— Это контакты! — воскликнул легко возбуждающийся Иван. — Скорее в вездеход.
Под прозрачным бронекуполом гусеничного вездехода разместился весь экипаж. Взвыл двигатель. Машина, покачиваясь, переваливала через бугры и оставляла за собой рубчатые следы. Когда до цели оставалось метров триста, мы поняли свою ошибку: это был не человек, а внушительных размеров статуя.
Двигатель внезапно заглох. Ревелино долго копался в нем, но повреждений не нашел. Что это? Снова шутки невидимок?
Мы выпрыгнули из кабины и осмотрелись. Позади остроносой гусеницей-шестиножкой серебрилась горизонтально поставленная ракета. В крайнем случае к ней можно вернуться пешком.
Подошли к статуе. Металлический идол с застывшей усмешкой простирал руку вверх. На постаменте какая-то надпись из замысловатых знаков, которые раньше, очевидно, светились.
Сейчас, побывав в Электронной эпохе, я смог бы объяснить товарищам, что это статуя Генератора Вечных Изречений. Прочитал бы надпись: «Болезней тысячи, а здоровье одно». Сотни лет простоял чугунный Генератор — сначала во всемирном городе, затем в глобальной пустыне — пустыне абсолютного «здоровья». Идеальное воплощение Вечных Изречений!
Это сейчас… А тогда вместе со всеми с недоумением взирал на статую. Она вызывала тревогу, ощущение забытой вехи погибшей цивилизации. Но какой цивилизации? Сфинкс пустыни с загадочной усмешкой молчал. Ничего не дал нам и осмотр металлического покосившегося скелета здания. Между зданием и статуей под слоем песка нашли круглый люк. С трудом открыли крышку и увидели уходящие в глубину ступени.
— Закройте люк, — приказал капитан. — Подземелье потом. Сначала осмотрим поверхность.
Прошли еще километра два. Ракета утонула за горизонтом. Компасы не работали, словно планета лишилась магнитного поля. Среди пухлых холмов четко вырисовывался на белесом небе единственный ориентир — силуэт статуи. За нами цепочкой тянулись глубокие следы. Мы надеялись, что они приведут нас обратно к вездеходу. Это был просчет.
Пустыня, до того неподвижная и немая, вдруг зашевелилась и заговорила звенящим шепотом. Задымились макушки барханов, поползла, скручиваясь в желтые веревки, струистая поземка. Потом поднялся сильный ветер и началась песчаная круговерть, быстро стершая наши следы.
Обернулись, но ориентира своего не увидели. Горизонт затянуло колышущейся мглой. Мы крепко взялись за руки, чтобы не потерять друг друга, и зашагали, как нам казалось, в нужном направлении. Хотя бы дойти до вездехода — там баллоны с жидким кислородом и запасы питательной пасты.
Серая пелена скрыла не только статую, но и солнце. Но мы упорно брели. Шли долго и, конечно, сбились с пути.
Ветер усиливался. Тугие струи воздуха, взвинчиваясь пыльными вихрями, пошли гулять по барханам. С шипением и грохотом налетел ураган. Тысячи песчинок щелкали по гермошлемам, потоки песка сбивали с ног.
Бурю решили переждать около скалистого обнажения. Тем более что по нашим часам на планете наступила ночь. Однако не было ни Луны, ни звезд. Ничего, кроме мчавшейся с визгом и воем песчаной мглы.
Ураган смолк внезапно. Пустыня замерла. Засверкал ночной небосвод, усыпанный мириадами искрившихся песчинок-звезд. Но на земле — непроницаемая тьма. Лучи наших фонарей выхватывали только ближние холмы, покрытые мелкой песчаной рябью.
Искать ракету сейчас не имело смысла. Надо ждать утра. Мы уселись плотнее друг к другу. Я опирался на широкую, как плита, спину Ивана Бурсова и чувствовал его учащенное дыхание. Могучим легким планетолога не хватало воздуха. Кислород кончался и в моих баллончиках. По показаниям приборов воздух планеты содержал кислород. Но годился ли он для дыхания? Я осторожно приподнял, а потом совсем откинул назад гермошлем.
— Не курорт, но дышать можно, — сказал я Ивану.
Планетолог открыл гермошлем и облегченно вздохнул. Остальные последовали нашему примеру. Мы даже вздремнули до рассвета.
Утреннее солнце осветило безрадостную картину — безбрежный песчаный океан. Мы сориентировались по солнцу, посовещались и направились на северо-запад. Там, казалось нам, была надежда найти ракету или вездеход.
Через час мы чувствовали себя как в раскаленной печи. Сколько бы ни двигались, все так же оставались в центре ослепительной и знойной бесконечности. А еще через три часа едва плелись. Голод, который ночью сосал желудки, отступил перед новым врагом — жаждой. Жгучее солнце выжимало из нас последние соки. А мы все брели и брели, с трудом вытаскивая ноги из сыпучего песка. Ступали словно по расплавленному желтому металлу.
Первым свалился с ног самый старший из нас — Яков Петрович Зиновский. Капитан подхватил биолога за плечи и помогал ему идти. Я присматривал за Иваном Бурсовым. Крупному, полнотелому планетологу приходилось туго, но он крепился. Даже разразился витиеватой бранью по адресу статуи:
— Чугунный подонок… Стоит сейчас где-то в пустыне и ухмыляется. Это он завел нас…
В горле пересохло. Сухой и шершавый язык с трудом ворочался во рту. От усталости шатало из стороны в сторону. В голове закружилось, и я готов был упасть, но в это время услышал крик Ревелино:
— Оазис! В пустыне вода… Оазис!
«Бредит», — подумал я, еле взбираясь на вершину бугра, где стоял Ревелино. На западе, куда клонилось перешагнувшее через зенит солнце, увидел деревья и блеснувшее между ними зеркальце воды.
— Мираж? — спросил я капитана.
— Не похоже, — ответил он. — В такой глобальной пустыне миражей не бывает.
Вид деревьев и воды приободрил нас. И все же мы едва доплелись до оазиса — зеленого островка в желтом океане. Последние метры преодолели чуть ли не ползком. Ивана мне пришлось тащить на спине. А оазис не пускал нас: руки наткнулись на упругое энергетическое поле. Но оно тут же завибрировало, вспыхнув на секунду голубоватым пламенем, и втянуло нас внутрь полусферы. Островок-оазис был под невидимым силовым колпаком.
Легкие судорожно расширялись. Я глотал свежий воздух, обильно насыщенный кислородом и ароматом лугов. Иван очнулся, с изумлением взирал на высокие ветвистые деревья и озерко чистейшей воды.
— Феноменально! — прошептал он. — Мы что, уже в раю? Мы умерли?
Жажда так иссушила нас, что мы забыли о всякой умеренности. Встав на четвереньки и погрузив лица в воду, пили, как животные на водопое. Потом разделись и бросились в озерко, напоминавшее скорее глубокую лужу.
Обезумев от радости, плескались, как дети, ели плоды, похожие на бананы…
Когда наши животы разбухли от воды и сочных плодов, мы вылезли на берег и осмотрелись. Диковинный оазис не имел ничего общего с пустыней. Он был инородной частью. Словно круглую травянистую платформу с деревьями кто-то поставил прямо на песок. Журчащий ручеек, впадающий в озерко, начинал течь из пустоты — от границы силового барьера. Еще одна странность — ветер. В пустыне, окружающей оазис, не шевельнется ни одна пылинка: кругом мертвая раскаленная неподвижность. Здесь же дул прохладный порывистый ветер. Густая листва деревьев звенела, переливалась серебром и чернью.
— Смотрите! — воскликнул Ревелино.
В небе, над кроной самого высокого дерева, кружилась птица. К ней присоединилась другая, влетевшая внутрь невидимого колпака неведомо откуда. Птицы описали круг и улетели в пустоту, в ничто.
— Почти все ясно, — сказал капитан.
— Модель? — спросил планетолог.
— Нет, оазис не смоделирован, это частица реальности, выхваченная из прошлого. Вероятно, из очень далекого, доисторического прошлого. Как это сделано? Понятия не имею. Но это так, братцы. Это кусок действительности…
— Поданный нам на блюдечке с голубой каемочкой, — подхватил Иван. — Феноменально!..
Похоже, что Федор был прав. Опасаясь, как бы перемещенное во времени чудо не исчезло, мы еще раз искупались, наелись впрок плодов, напились. Капитан приказал надеть комбинезоны.
— Всякое может случиться.
— А не провалимся ли мы в прошлое вместе с этой платформой? — спросил я.
Федор пожал плечами. Планетолог выразил согласие провалиться хоть в преисподнюю, только бы остаться в этом райском месте.
Мы не заметили, как заснули. Проспали, вероятно, больше суток.
Разбудил нас капитан глубокой ночью и молча обвел вокруг рукой: смотрите!
Вид был ошеломляющий. Мы сидели на берегу знакомого озерка, тускло посеребренного луной. Над нами склонялись ветви тех же деревьев. Но пустыни — вот что нас поразило! — пустыни не было. Оазис естественно вписывался в пейзаж, который заворожил нас первобытной красотой. До самого горизонта холмистым ковром расстилалась лесостепь, залитая дымным лунным сиянием. Вдали темнели две или три рощи вроде нашей. Справа — лес.
Силовой колпак исчез. Ручеек начинал свой бег не из пустоты, не от границы, где раньше был барьер, а из травянистой ложбины. Удивительный ручеек! Раньше он весело звенел и журчал, а сейчас беззвучно переливался в траве, играя слюдяными блестками. Видимо, дул ветер. Но мы не ощущали его упругости.
Странный, молчаливый мир. Мир без звуков, без запахов, без ощущений. Одни лишь зрительные восприятия.
— Фотонный мир, — сказал Стриганов.
— Не темни, капитан, — проворчал Иван. — Объясни.
— Слышали про эффект Ньюмена?
— Да, — ответил я. — Ньюмен предсказал эффект несовмещенного времени. Его гипотезу поддержал ты и еще кто-то. Остальные специалисты иронизировали.
— Вот именно. Иронизировали, — хмыкнул капитан. — А теперь смотрите.
Федор встал и, наклонив голову, решительно направился прямо на дерево. Все ждали, что он стукнется лбом о шершавый ствол. Но произошло невероятное — капитан прошел сквозь дерево, как призрак. А точнее — дерево было призрачным.
— Поняли, братцы? Фотонный мир. Две несостыкованные эпохи. Нас разделяют, быть может, биллионные доли секунды. Мы видим вторичные фотоны, световое изображение прошлой эпохи, но не пребываем в ней. А жители той эпохи нас даже видеть не могут. Мы вроде незримых наблюдателей из будущего — из пустыни. Не спрашивайте, как это делается. Не знаю.
— А главное, кто это делает? Может, они? — планетолог показал в сторону степи. Там, за гребнем холма, светилось багровое зарево.
— Сходим и посмотрим, — предложил капитан.
Мы осторожно передвигались, испытывая непривычное ощущение нереальности, призрачности окружающего. Сквозь холм с кустарником проплыли, будто он был соткан из подкрашенного воздуха.
За холмом, в полукилометре от нас, извивались космы большого костра. Около него скакали крохотные человеческие фигурки.
— Можем подойти поближе, —
сказал капитан.
Подошли. Вокруг костра плясали, разевая рты в беззвучных криках, голые волосатые люди. Очевидно, это было племя людоедов. Рядом лежали связанные гибкими ветвями пленники, и двое дикарей точили каменные ножи.
Беззвучная картина начала растворяться, размываться, заволакиваться дымом.
— Этой безобразной сценой нам, видимо, хотели что-то сказать, — предположил я. — Подать какую-то мысль.
Федор согласился со мной и потом добавил:
— А чтобы их мысль стала еще более наглядной, сейчас по контрасту, наверно, увидим мирную, идиллическую сцену.
На этот раз капитан ошибся. Сначала его предположение как будто оправдывалось. Клубящийся вокруг нас туман редел, насыщаясь светом. Торжественно и мирно выплывало солнце, рассеивая клочья мглы. Медленно проступали очертания большого города, окруженного горами. Необычные купола многоэтажных зданий жарко сверкали под утренними лучами.
Город просыпался. По широким проспектам, радиально расходящимся от центральной площади, катились каплевидные машины. На окраине, которая подступала к нашему наблюдательному пункту — высокому холму, люди неторопливо выходили из подъездов, щурясь на солнце.
И вдруг что-то стряслось. Город обезумел, охваченный внезапной паникой. Машины увеличили скорость, стремясь вырваться из города. Они сталкивались, врезались друг в друга, образуя груды металла. Люди заметались с широко открытыми и ничего не видящими от ужаса глазами. Они натыкались на стены, падали. Рты их были искажены беззвучными воплями.
Кошмар, навалившийся на город, казался таким чудовищно реальным, что и нас охватил страх.
В чем дело?
Из-за гор, в противоположной от нас стороне, выглянула антрацитово-черная туча. Ее клубящиеся края меняли очертания и форму. Во всем туча была обычной, естественной, кроме стремительной скорости, с которой она передвигалась.
Туча налетела на кипящий ужасом город, как коршун, распластав свои необъятные крылья. На город упала ночь. Засверкали молнии, заискрились капли дождя. Вскоре дождь превратился в ливень.
Однако не вода обрушилась вниз, а какая-то вязкая жидкость, облепившая дома и людей. Тучи не стало — она вылилась вся без остатка. А жидкость взрывоподобно вспыхнула, взметнув до неба пламя. Люди мгновенно превращались в пепел, в дым, в ничто. Машины, бетон и металлические конструкции зданий плавились и разливались потоками.
Все произошло в считанные секунды. В котловине между горами образовалось озеро еще не остывшей, пузырящейся жидкости, густой, как магма.
— Чистая работа! — воскликнул Иван. — Нет, Федя, это не история. Страшновато для истории. Нам показали научно-популярный фильм о действии нового оружия массового истребления. Контакты! Таинственные потомки с помощью фильмов пытаются вступить с нами в контакты. Сначала попугать нас…
— Попугать — это верно. Но с помощью кусков реальной истории. Мы в несовмещенном времени. Нагнитесь и пощупайте траву.
Я наклонился и обнаружил, что трава, росшая на холме, протыкала наши ноги. Попробовал схватить ее. Но трава оказалась неосязаемой. Ее будто не было. Зато ладонь загребла горсть песка. Невидимого, но раскаленного, обжигающего песка глобальной пустыни.
Вслед за мной то же самое проделал Иван Бурсов.
— Убедились, братцы? — подошел к нам Федор. — По-настоящему мы не на холме, а на песчаном бархане. Мы на стыке двух эпох.
— Ты хочешь сказать, что мы были свидетелями события, происшедшего после нашего отлета, после двадцать первого века? — спросил я. — Но это же немыслимо! Войн не могло быть!
Капитан развел руками.
— Мне тоже не верится. Не хочется верить. Но прошли, видимо, тысячелетия.
Пока разговаривали, кругом сгущался шелковистый туман. Очевидно, это был какой-то вид энергии, поддерживающий нас в несовмещенном времени.
Густой и непроницаемый туман понемногу рассасывался и накалялся. Это не было похоже на предыдущий тихий солнечный рассвет. Ослепительные блики теснились со всех сторон. Раскаленные шары проплывали и внутри нас.
Когда последние клочья тумана истончились и распались, мы долго не могли ничего понять. Разноцветные огни мигали, извивались, крутились, брызгали искрами. Сквозь огненную пляску проступали человеческие лица, равнодушные и неподвижные, как маски. Угадывались фасады огромных зданий, переплетенных сетью движущихся эстакад и светящихся парабол. На них лепились мерцающие сферы.
Кое-как разобрались: мы — в чреве чудовищного мегаполиса, сверхгорода-автомата. Замелькали сцены безобразнее прежних. Кто-то выхватывал из сытой жизни супергорода самое отвратительное и показывал крупным планом. Вот с огромной высоты бросился вниз человек. Он врезался в каменное покрытие с такой силой, что буквально расплескался. Откуда-то выскочил дворник-автомат и смыл кровавое месиво, оставшееся от самоубийцы. Запестрели перекошенные лица сумасшедших. Затем началось такое, о чем и сейчас не могу вспоминать без дрожи. Какие-то застенки, пытки…
Мы закрыли глаза руками, стараясь подавить тошноту. Сквозь пальцы почувствовали, что пляска огней прекратилась. Открыли глаза и увидели клубящийся туман — сгустки энергии, своего рода облака времени, на которых нас переносили из одной несовмещенной эпохи в другую. Обволакивающий туман не рассасывался, наливаясь светом, а пропал моментально. И так же мгновенно исчезло ощущение призрачности окружающего. Мы в реальной, в совмещенной эпохе — в пустыне. На голой равнине только наши сиротливые следы.
— Нам наглядно показали, до чего безобразна история планеты и вообще вся людская жизнь, — с усмешкой проговорил капитан. — Дескать, быть покойниками лучше…
Я и сейчас, когда прошло много времени, не перестаю удивляться прозорливости капитана. Да, сам Абсолют пытался разговаривать с нами без посредничества своих слуг. Он хотел убедить: живое человечество — мятежное, буйное и никчемное племя. То ли дело пустыня — идеал вечного успокоения, мира и гармонии…
Мы огляделись. До самого горизонта желтыми холмами простиралась раскаленная пустыня. Оазиса нет. Он остался в недостижимом прошлом. И не было никаких надежд, что могущественные силы захотят еще раз побаловать райскими уголками. Похоже, они бросили нас на произвол судьбы.
Что делать? Где искать ракету? Чувство безнадежности все больше овладевало нами. Капитан ободрял как мог:
— Не вешать носы, братцы. Накачали брюхо первобытной водой — и будьте довольны. С таким запасом воды не пропадем. Разобьем пустыню на квадраты и будем искать ракету.
Посовещались и пошли сначала на восток. Старались не смотреть вниз, на ослепляющий песок. От него, как от раскаленной плиты, струился горячий воздух. Сверху немилосердно жгучим потоком лились солнечные лучи. Ни ветерка, ни малейшего движения. И тишина. Такая тишина, что наш шепот казался буйным обвалом в горах — пустыня откликалась стократно звенящим и шелестящим эхом.
Первый день шагали сравнительно бодро. Ревелино поднимался на остроконечные холмы и осматривал горизонт. Мы останавливались, с волнением ожидая его крика: «Ракета!» или «Оазис!». Но Малыш, опустив голову, каждый раз молча спускался вниз.
Ночь переспали, приютившись у одинокой скалы. После полуночи из космического пространства опустился пронизывающий холод. В черном омуте неба тонкими льдинками сверкали бесчисленные звезды.
Со второй половины следующего дня начались кошмарные часы. Пустыня и беспощадное солнце высосали из нас последние капли влаги. В переливах горячего воздуха кружился рой огненных мотыльков. Временами казалось, что мы тонем в расплавленном металле.
С трудом переставляя ноги, я поддерживал обессилевшего планетолога.
— Бросай, Сережа, — шептал он. — Иди сам. Ищи…
— Молчи! Ты же знаешь, что не оставлю.
— Человек в пустыне! — неожиданно раздался крик Малыша. — Человек!..
— Наконец-то! — встрепенулся Иван. — Это тот самый чугунный идол… Сейчас найдем ракету.
Поспешно, насколько еще хватало сил, поднялись на гребень пухлого бугра и встали рядом с Ревелино.
Дальше нам пришлось пережить одно из самых сильных потрясений.
Вдали, в той стороне, куда показал Малыш, мы заметили одинокую фигурку. Иван ошибся: это была не статуя, а человек. Живой человек! Он стоял на гребне серповидного бархана и правой рукой подзывал к себе. Потом повернулся спиной и стал ждать.
— Призрак? Мираж? — прошептал Иван.
— Не призрак и не мираж, — ответил капитан. — Следы…
В самом деле: пологий склон испещрен черными точками — следами незнакомца. А призраки следов не оставляют.
— Тогда контакты, — оживился Бурсов. — Подойдем?
— Если зовут, надо идти, — кивнул капитан.
Чем ближе подходили, тем сильней росла безотчетная тревога. Незнакомец все так же стоял спиной к нам. Его невысокая, но стройная фигура кого-то напоминала. Одет он был в такой же комбинезон, как и у нас. И то и дело рукавом стирал с лица пот: видно, ему, как и нам, тяжко приходилось в адском пекле.
Когда расстояние сократилось до пяти метров, человек медленно обернулся. Мы остановились как вкопанные. Несмотря на жару, по спинам пробежал мороз: на нас запавшими, мертвенными глазами смотрел… Федор Стриганов! Наш капитан! А какой взгляд!.. Полный тоски взгляд из какой-то немыслимой дали. Дали, из которой нет возврата.
Вселенская тишина. Не шелохнется ни одна песчинка. И в непоколебимом молчании пустыни громом прозвучал знакомый четкий голос:
— Не пугайтесь. Вот я какой стал… Не бойтесь, идите за мной.
Хотел еще что-то добавить. Но раздумал, махнул рукой и начал спускаться вниз, печатая глубокие следы.
Когда оцепенение прошло, мы взглянули на капитана: вот же наш вожак! Стоит живой среди нас! И тут на лице Федора я впервые обнаружил подобие страха. Сейчас, вспоминая те минуты, я думаю, что Стриганов, видимо, уже тогда почувствовал: двойник явился из его, Федора, будущего… Капитан побледнел, но быстро овладел собой и твердо сказал:
— Идемте! Ничего больше не остается.
Он был прав: нам ничего больше не оставалось, как только следовать за таинственным проводником. Кругом раскаленный океан песков. Сверху давил такой же пустынный белесый купол неба, с которого насмешливо взирал на нас один лишь огненный глаз солнца.
Двойник капитана шагал гораздо быстрее нас. Удалившись на порядочное расстояние, он останавливался и поджидал. Потом, обернувшись и махнув рукой, двигался дальше. На одном из барханов, жестом подозвав к себе, он показал на запад. А затем внезапно исчез. Будто провалился.
С трудом поднявшись на бархан, мы посмотрели в ту сторону, куда показывал провожатый, и увидели наш вездеход. Направо, метрах в трехстах, знакомо высилась статуя со вздернутой вверх рукой. Налево остроносой гусеницей серебрилась ракета. Но до нее было далеко.
Кое-как доковыляли до вездехода, забрались в кабину. Тщательно задраили бронекупол и закрылись от мучительного блеска пустыни светонепроницаемой шторкой. Долго и жадно пили воду, глотали питательную пасту. Потом уснули.
Народ мы были крепкий и выспались хорошо. Разбудил нас Федор. Он казался веселым и бодрым.
— Что сейчас? День или ночь? — спросил Иван.
— Не знаю. Сейчас увидим.
Капитан нажал кнопку. Шторка разошлась в стороны.
Было раннее утро. Под косыми лучами сверкали макушки холмов и барханов. От них тянулись длинные тени.
— Что будем делать? — спросил капитан. — Ждать контактов?
— На Луну! — воскликнул Иван. — В звездолет!
— На Луну так на Луну, — согласился капитан. — В километре позади наша ракета. Надеюсь, добежим до нее без приключений.
Открыли бронеколпак. Но выпрыгнуть из вездехода не успели: в пустыне начался парад символов — страшное шествие временно оживших мертвецов… Кусок этого зрелища, выхваченный доктором Рушем из недр моей заблокированной памяти, я уже описал. Но сейчас расскажу подробней, ибо сцена эта, на мой взгляд, наиболее полно выражает сущность Вечной Гармонии.
Далеко впереди, прямо за статуей, неведомо как и откуда появилась колонна солдат. За ней, с небольшим интервалом, вторая колонна. Потом третья, четвертая. И так до самого горизонта. Сотни тысяч, может быть, миллионы солдат. Правильными квадратами отлично вымуштрованное войско приближалось к статуе.
Мы схватили биноскопы. В изумительно ровных рядах насчитали по пятьдесят человек. На плечах солдаты несли странное оружие: длинные стволы были расплюснуты на концах. Ружья мерно покачивались и поблескивали на солнце.
Когда первый квадрат четко вышагивал перед статуей, солдаты дружно вскинули вверх правые руки. В один миг, как по команде, раскрылись рты, и пустыня содрогнулась от громоподобного вопля:
— Ха-хай! Ха-хай!
Крик отражался от скалистых выступов, от ребристых барханов и холмов. По пустыне долго гуляло затухающее эхо:
— А-ай! А-ай!
А под статуей — уже второй квадрат. Снова вздернутые руки, и снова оглушительный вопль, вырвавшийся будто из одной мощной глотки:
— Ха-хай! Ха-хай!
Первая колонна, а за ней вторая на ходу повернули в нашу сторону. Солдаты при этом не сбились с ноги, соблюдали поразительное равнение в шеренгах.
— Вот это выучка, — шепнул Иван.
Всем нам было немного не по себе. Но мы держались: таинственная пустыня уже основательно закалила нашу психику.
А солдаты все ближе и ближе. Теперь мы и без биноскопов видели, как из-под остроконечных касок по тупым и равнодушным лицам стекают ручейки пота. Солдаты задыхались от жары, но не допускали ни малейшего нарушения строя. Четко печатая шаг, они старательно и синхронно ударяли ногами. От чугунного топота вздрагивала почва: тум… тум… тум…
На пульте управления в точности так же вздрагивал какой-то плохо закрепленный прибор: дзинь… дзинь… дзинь…
И Зиновский не выдержал. Он выхватил излучатель и тонкой иглой плазмы полоснул по первой шеренге. Капитан отвел его руку. Все же луч коснулся крайнего справа солдата и отсек высоко поднятую ногу. Солдат заверещал от боли, но даже не покачнулся. Мгновенно у него выросла новая нога вместе с сапогом, и солдат продолжал вышагивать как ни в чем не бывало.
— Спокойно, Яков Петрович, — сказал капитан. — Я же просил: никаких эксцессов. А солдат не бойтесь. Мне кажется, ничего страшного не произойдет.
И верно: солдаты не выразили ни малейшего желания отомстить. На их безучастных лицах вообще не было написано никаких чувств. Но они неумолимо приближались.
— Капитан! — взволновался Иван. — Что это они? Взбесились?..
О дальнейшем уже известно из картин, проплывших на экране там, в аквагороде. Целый квадрат, насчитывающий пять тысяч солдат, исчез сразу. «Как будто корова языком слизнула», — вспоминаю сейчас слова Ивана Бурсова. Вторая колонна проделала точно такой же маневр. За ней третья.
Но все новые колонны, мерно покачиваясь, тянулись длинной чередой, выплывая из-за горизонта. Через равные промежутки времени пустыня вздрагивала от восторженного вопля:
— Ха-хай! Ха-хай!
По холмистой равнине потом долго прокатывалось эхо:
— А-ай! А-ай!
А затем вдруг все колонны разом исчезли. Трудно было понять — провалились они под землю или растаяли в воздухе. Еще не осел песок, поднятый сапогами, а никого уже не было. Солдаты, маршировавшие под статуей, не успели даже прокричать клич до конца. Будто им заткнули рты.
— Ха-хай! Ха…
Бесконечная равнина опустела. Наступила тишина. Некоторое время в вездеходе царило молчание. Мы переглянулись.
— Идеальное послушание! Приказано исчезнуть — исчезли, — заговорил наконец Федор Стриганов. — Мечта всех диктаторов — образцовые солдаты. Не знают ни страха, ни самой смерти, потому что давно мертвы.
— Капитан, ты действительно что-то понимаешь или делаешь вид? — недоверчиво поглядел на Федора планетолог. — Откуда вся эта чертовщина? И зачем?
— Будем надеяться, что нам все растолкуют, — сказал капитан. — А сейчас пора — на Луну!
Мы выскочили из вездехода, добежали до посадочной ракеты и закрылись в ее просторной кабине. Я сел за пульт управления. Ракета, выпустив крылья, пролетела несколько сот километров низко над планетой. В бесконечной пустыне заметили сверху еще одну уцелевшую статую. Около нее длинной цепью тянулись свежие следы, которые не успела замести песчаная поземка. Очевидно, и здесь состоялся парад.
Иван, чувствуя себя в безопасности, поглаживал бороду и благодушествовал.
— Феноменально! Сегодня здесь день всеобщей шагистики.
Когда ракета, взметнув клубы вековой пыли, села на лунный космодром и мы увидели свой звездолет, сразу почувствовали себя как дома.
Чаще, чем прежде, собирались мы теперь в просторной пилотской каюте. Подолгу засиживались, спорили, строили всевозможные предположения. Но капитан предпочитал отмалчиваться.
Бурсов изо всех сил старался нас расшевелить.
— Состоялся день страшного суда, — пародийно ораторствовал он. — В точности по христианскому вероучению. Бесчисленные поколения выкарабкались из могил. Праведники вознеслись на небо и сподобились стать ангелами. Грешников низвергли в ад…
— Кто же тогда она? — поинтересовался Федор. — Та самая… Мимолетное видение, посетившее тебя в каюте.
— Конечно, ангел! — воскликнул Ревелино. — А тип, связавший его сонного, безусловно, дьявол!
Но проводник наш, так похожий на капитана? Кто он и откуда? Мы почему-то избегали касаться этого вопроса. Все же Иван спросил как-то Федора:
— Как ты считаешь, откуда взялся провожатый наш? Довольно ловкая модель…
— Я этого не думаю, — сухо возразил капитан. — Боюсь, что это я сам. Каким образом — не знаю. Придут и скажут.
Так оно и случилось.
Однажды утром, когда в спортивном отсеке мы после купания делали пробежку, засветился экран внутренней связи. Все остановились и с волнением всматривались в размытые очертания пульта управления и кресла перед ним. В пилотской каюте кто-то неумелой рукой наводил изображение на резкость. И вот на нас глянули темные выразительные глаза. Они занимали весь экран. Потом стали удаляться, и мы увидели женское лицо в короне черных волос. Неизвестная гостья низким грудным голосом произнесла:
— Здравствуйте, пришельцы. Не желаете ли побеседовать с обитателями этого мира?
При последних словах ее полные губы изогнулись в какой-то странной усмешке — иронической и печальной. Взглянув на нашу весьма лаконичную одежду (мы были в плавках), она улыбнулась одними глазами и добавила:
— Одевайтесь и приходите в пилотскую каюту.
Мы начали одеваться. Один лишь планетолог неподвижно стоял, уставившись на погасший экран.
— Ты чего остолбенел? — спросил капитан. — Она, что ли? Та самая?
Иван молча кивнул.
В пилотскую вошли гуськом. Впереди капитан, я замыкал шествие.
У пульта управления стояла стройная молодая женщина в темно-синем платье. На нем вспыхивали и угасали искорки, подсвечивая снизу бледное лицо гостьи.
— Еще раз здравствуйте. Прошу садиться.
Ближе всех к пульту расположился капитан. Я очутился в самом дальнем и плохо освещенном углу рядом с Ревелино. Тот сел и сжался в кресле, боясь шелохнуться.
— Давайте знакомиться. — Гостья, усевшись, старательно выговаривала русские слова. — Начнем с меня. В далекой земной жизни у меня было имя. А здесь… Здесь только шифр. Так что зовите меня просто Незнакомкой.
Она помолчала и вдруг, порывисто встав, заговорила быстро и взволнованно:
— О, если бы предки знали, что они творят! Если бы вовремя остановились и не лишили следующие поколения природы, искусства, любви, человечности… Тогда еще было время оглянуться и одуматься… А мы уже были бессильны. Электронный мир выскользнул из наших рук, и мы стали его рабами. А потом… потом слугами Абсолюта. Всесильный Абсолют на краткий миг вызывает нас к жизни. Вы… — Голос ее срывался. — Вот вы пришли. Так освободите нас!.. О, ничего вы не можете. Никто не может…
И вдруг ее не стало. Только что слегка прогибался мягкий, упругий пластик под ее ногами, шелестело, переливаясь искрами, платье. И все исчезло.
Мы переглянулись. А Ревелино выпрямился и облегченно вздохнул…
Незнакомка
— Еще раз прошу тебя, Сергей: ничего не упускай. Каждая деталь, каждая подробность имеют сейчас, как выразились бы в старину, оборонное значение.
— Ясно, — сказал я, а про себя подумал, что уважаемый академик Спотыкаев, увы, начинает повторяться. Мы разговаривали уже часа три, и за это время он успел мне подробно обо всем рассказать. И о возросшей угрозе агрессии со стороны Абсолюта, заблокировавшего после моего бегства все пути-дороги для наших только что созданных капсул. И о строительстве новых гиперзвездолетов, способных проникнуть в тот загадочный минус-континуум, куда забросило черной аннигиляцией наш «Орел»… И о том, как важны мои воспоминания для возникновения новых теорий и гипотез о непознанных еще свойствах времени и пространства…
Все это я с интересом выслушал, но Спотыкаев все говорил и говорил, и постепенно я начал ощущать что-то вроде легкой досады. О, я охотно беседовал бы с ним еще хоть сутки, если б не ждал сегодня другого человека…
Словно почувствовав это, Спотыкаев стал наконец прощаться. Я вышел проводить его. Густели сумерки, и сердце мое тревожно и радостно забилось. Вот сейчас, может быть через несколько минут, на поляне появится Таня.
Сегодня мы будем совсем одни. Только мы и гаснущий закат, лунный свет в окне и невнятно шумящие сосны…
А потом снова настанет день, и я опять уйду с головой в свои невеселые воспоминания.
* * *
Итак, Ревелино облегченно вздохнул… Но радость его была преждевременной. В рубке электронного универсала послышался шорох. Оттуда, шелестя длинным платьем, вышла Незнакомка. Села в кресло. Выглядела она еще бледнее прежнего.
— Извините за эксцессы. — Ее губы изогнулись в печальной улыбке. — Эксцессы… Так любит выражаться, кажется, ваш командир. Не выдержала я… Сотни лет небытия. И вот воскресла. Жизнь! Краткая, как вспышка, но жизнь… Тут любой не выдержит. Заговорила с вами как человек. А я прежде всего слуга Абсолюта и должна выполнять его волю.
— Абсолюта? — удивился Иван. — Что это такое?
— Потом поймете… Продолжим знакомство. Я уже назвала себя. Теперь ваш черед.
Встал капитан. С жесткой иронической усмешкой отчеканил:
— Федор Стриганов. Начальник экспедиции. Научная специальность — дискретное время и пространство.
— Очень приятно. — На пухлых губах Незнакомки тоже дрогнула усмешка. — Мы с вами коллеги. Вам трудно представить, каких успехов добились мы в изучении времени и пространства. Абсолют многое сейчас умеет. Например, в пустыне вы видели три эпохи: первобытный мир, сверхатомную цивилизацию и Электронную Гармонию. Абсолют хотел вам показать, до чего неприглядна история живых.
— Мы видели и четвертую эпоху, — сказал капитан. — Парад мертвецов. Это уже, думаю, не история…
— О! — удивилась Незнакомка. — Вы догадливы. Да, шествие Армии вторжения — сегодняшний день. Так сказать, апофеоз, гармоничное завершение мятежной истории.
Следующим был Зиновский. Доложил он о себе хмуро, неохотно. Когда встал и назвал себя планетолог, Незнакомка улыбнулась с мягкой, необидной иронией. Удивительная гамма улыбок была у нее!
— Извините! Я была не совсем осторожной в вашей каюте. Не успела вовремя дематериализоваться.
«Земля или нет?» — неотвязно думал я. Я знал, что все мои товарищи задают себе сейчас тот же самый вопрос и, так же как и я, не решаются задать его Незнакомке. Не решаются потому, что боятся услышать ответ, подтверждающий то, чему рассудок отказывается верить… Вероятно, каждый из нас смутно надеялся, что из слов Незнакомки все рано или поздно станет ясным.
— Ревелино. Бортинженер, — сдавленным, чужим голосом представился Малыш и сразу же сел.
— Сергей Волошин. Астронавигатор, — сухо проговорил я. И почти без паузы спросил: — Выходит, человек оказался в этом мире ненужным?
— А вы что, привыкли считать себя венцом творения? — вопросом на вопрос ответила таинственная гостья. — Высшим достижением природы?
— Вы хотите сказать, что природа допустила ошибку, создав…
— Нет, — перебила Незнакомка, — создав человека, природа нашла гениальное решение. Но на этом биологическая эволюция исчерпала себя, достигла потолка. И на нашей планете началась новая фаза эволюции разума — фаза технологическая.
— Технологическая?! — вскричал Зиновский. Размахивая руками, он подскочил к Незнакомке. — Какую же мерзость вы нам тут внушаете?! Это же…
— Яков! — Капитан схватил биолога за плечо.
— Уж лучше бы мы вернулись к таисянам, — как-то весь разом поникнув, пробормотал Зиновский.
Махнув рукой, он сел и замолк, видимо, устыдившись своей вспышки. В дальнейшем он, как и Ревелино, не проронил ни слова.
— О, я понимаю вас. — Незнакомка с сочувствием посмотрела на Зиновского. — Но такова реальность. С биологической эволюцией, с биосферой у нас покончено навсегда. Ибо Вечная Гармония — полное отрицание человечества… Люди здесь существуют чисто условно, так сказать, символически. Символы, оживающие по воле Абсолюта…
Незнакомка с минуту помолчала.
— Да, человек зажег первый на нашей планете костер, обтесал первый камень и тем самым начал создавать свое собственное отрицание — эволюцию технологическую. Она была еще в пеленках, но человек заботливо растил ее и нянчил. Люди изобретали все новые орудия труда, орудия взаимоистребления и истребления окружающей природы. И вот век термоядерной энергии, полетов в далекий космос. Люди, казалось, одумались. Заговорили о содружестве с природой. Но техносфера продолжала расти, грозно и неотвратимо. И настало время, когда техносфера ураганом обрушилась на биосферу и стерла ее с лика планеты. Стерла, как плесень. Я жила как раз в эту эпоху…
— «Плесень»… — не выдержал Иван. — А кто только что радовался воскрешению из небытия?.. Чему же радоваться, если жизнь — плесень?
— Я стараюсь сейчас говорить так, как будто вам объясняет сам Абсолют… Я выполняю его задание. — Что-то дрогнуло в лице Незнакомки. — Для своего и вашего блага…
Она успокоилась и заговорила ровным грудным голосом.
— Вернемся немного назад. Обитатели нашей планеты избежали гибельного атомного смерча. Но зато они попали в петлю еще более коварного врага — электрона. Если атом — грубый топор техноэволюции, то электрон — ее ум. Ум хитрый, изворотливый и обольстительный. Электрон расставил коварные сети, обещая человеку сытую, бездумную жизнь. И человек охотно пошел в сладостный плен, не подозревая, что его ждет…
— Как это произошло? — сухо спросил капитан.
— Я не историк и не могу детально объяснить… Протекли, вероятно, многие столетия. На планете не осталось почти ни одного зеленого островка…
Я рассеянно смотрел в угол каюты, и в моем воображении рисовался огромный всепланетный город и стадо стандартных людей — этих «капелек биосферы», затерявшихся в электронной утробе техносферы.
— Муравейник, — послышался голос Ивана. — Мы, кажется, видели его в пустыне.
— Да, муравейник… Я жила в нем четыреста лет назад, — задумчиво проговорила Незнакомка. — Да, вы видели этот копошащийся город. Вернее, его фотонный отблеск из несовмещенного времени. В нем уже властвует не человек, а электрон.
— А строй? Общественная система? — допытывался капитан. Вопрос этот волновал его больше всего. Как, впрочем, и всех нас.
Незнакомка не очень внятно рассказала о ленивой изнеженности элиты, о Генераторе Вечных Изречений, о двух враждующих планетах.
— Выходит, виноват не электрон, а власть имущие, — сказал капитан. — Те, кто повернул технику против человека.
— Человек стал жалким винтиком технологической системы, — продолжала Незнакомка. — Технология, получившая конкретное воплощение в саморегулирующемся кибернетическом сверхгороде, вышла из-под контроля людей, обрела самостоятельность, осознала себя как разум… И она…
— Упразднила человека?
— Да, упразднила. Но в снятом виде… В снятом… — Незнакомка говорила торопливо, проявляя какое-то беспокойство. Потом встала. — Так приятно побыть в земной оболочке. Но вихри… Там, в пустыне, мои вихри… Они устают, расшатываются. Им надо стабилизироваться… Продолжим беседу завтра.
Незнакомка поспешно удалилась в рубку электронного универсала. Немного спустя Иван осторожно заглянул туда.
— Ну и как? — спросил капитан.
— Никого, — Иван развел руками.
Все облегченно задвигались.
— Так и хочется ущипнуть себя, — проговорил Зиновский. — Капитан, как же ты все это себе объясняешь?
— Гравитационный коллапс, — загадочно ответил Федор. — Знаешь, что это такое?
— При чем тут коллапс? — удивился Бурсов. — Коллапс — это катастрофическое сжатие огромной массы звезды, неудержимое падение ее на себя, звезда сжимается под действием возрастающих сил гравитации. Наконец тяготение образуется такое чудовищное, что ни свет, ни другие излучения не могут оторваться. И звезда становится невидимой, превращаясь в нечто крохотное. Как говорят, проваливается в гравитационную могилу… А тут что общего?
— То же самое — могила… Только технологическая. На планете произошел технологический коллапс. Но под решающим воздействием социальных факторов. Слышите? Социальных. Из того, что было сказано, можно заключить: город-автомат стал регулятором общества, тоталитарной государственной машиной. Так легче и надежнее управлять людьми… И получается, что технологический джин вырвался из бутылки из-за эгоизма господствующей верхушки…
— Все это философия, — проворчал Иван. — А конкретно, капитан? Конкретно?
— Если спрашиваешь насчет Абсолюта, то не знаю, что это за штука такая. Догадываюсь только…
— А вихри? — не унимался Иван.
— Надеюсь, завтра сама скажет…
— Да-а, — протянул Иван. — Темнит красавица. Темнит.
На следующее утро в пилотской каюте снова ждала нас Незнакомка.
— Кто же вы наконец? — спросил Иван. — Призрак? Модель? Мираж?
— Человек. — Улыбка на ее лице погасла. — Человек, как и вы. И в то же время… Но об этом после. Сначала об Электронной Гармонии, о том, что вы вчера спрашивали… Город-машина стал автономной силой. Чтобы сохранить Электронную Гармонию и сделать ее Вечной, он поглотил людей, перевел их в качественно иное состояние.
— В какое? — криво усмехнулся капитан. — В покойников?
— Не знаю, как выразиться… Все началось вроде бы добровольно. Еще при мне для интеллектуальной верхушки были построены храмы бессмертия. Желающие могли оставить на века свою полную генетическую информацию. Сами при этом погибали… А потом настал момент, когда кибернетический город, уже не спрашивая желания, сразу, в одну ночь, перевел всех людей в информационное состояние.
— Вот оно что! — Иван привстал. — Город сожрал человека! Город-людоед!
— О! — воскликнула Незнакомка. — У вас образный язык… Нет, город не сожрал, а вобрал в себя человека. Электронный город превратился в суперэлектронного Абсолюта. И мы — его слуги…
Я закрыл глаза. В ушах звучал голос Незнакомки, а воображение развертывало одну картину за другой.
Бесконечный город-кибермозг. Все так же переливаются огни, движутся эстакады. Но людей нет, они «упакованы» в крохотные информационные ячейки. Бунтовать некому. Тишина, покой… Но город еще нуждается для обслуживания некоторых агрегатов в умелых и умных руках людей. И он научился вызывать их из небытия. Вот из одной ячейки, где хранится информация специалиста, протянулся всепроникающий нейтринный луч. Кончик его застыл у пульта управления подземной энергостанции. Нажим неведомой кнопки — и по лучу течет поток концентрированной энергии, которая на кончике мгновенно превращается в вещество. Наследственная информация овеществляется. У пульта управления стоит уже человек. Настоящий человек, точно такой, каким он был в жизни. Он осматривает аппаратуру, выполняет кое-какие операции, иногда научные эксперименты. Электронный Дьявол постоянно держит специалиста на кончике луча, питая его энергией. Человек неуничтожим, любые отрубленные части тела восстанавливаются в соответствии с генетической структурой, записанной в ячейке. Человек — просто эманация, материальное истечение информации… Но вот специалист сделал свое дело. Нажим кнопки — и он исчезает. Биовещество снова превращается в энергию…
— Так вы просто кукла? — вопрошал Иван. — Марионетка? Абсолют дергает за ниточки, и вы…
— Нет, не марионетка и не кукла. Я живой человек, пользуюсь известной самостоятельностью, могу говорить от себя… Но я слуга и должна выполнять волю пославшего меня в мир. Иначе мою запись сотрут… И все-таки есть какая-то автономность. Вот другие, подавляющее большинство, — это действительно марионетки. Они полностью стандартизованы, лишены самостоятельных поступков и мыслей. Но зато какое послушание…
— Знаем. Видели парад мертвых символов… — прервал Иван Незнакомку. — Но видели в пустыне. А город? Этот всепланетный кибермозг? Где он?
— Его давно уже нет. Свернулся… Город — это неуклюжий и громоздкий мир вещества и электроники. Но электрон, как вы знаете, неисчерпаем. Кибермозг не без помощи эвристических способностей бывших ученых проник в глубины электрона и материи вообще. Открылся целый суперэлектронный и даже суперквантовый мир. У многоэтажного элетронного города появилась возможность свернуться, перейти на микроуровень, а всю генетическую информацию людей записать с помощью тончайше сбалансированных вихрей суперполей. Вихри — невероятно маленькие, ультрамикроскопические силовые клубки. В них запечатлены не только люди, но и громоздкие агрегаты, даже вещи. Произошла глобальная дематериализация. Огромные городские сооружения пошли на топливо в подземные энергостанции, которые остались на прежнем макроуровне — на уровне вещества. Планета оголилась. С ее поверхности исчезла не только биосфера, но и видимая техносфера. Видимая…
То, что мы услышали дальше, поразило всех нас и, кажется, даже проницательного капитана.
Над поверхностью голой планеты, не выше ста метров, плескался невидимый и неощутимый океан — вибрирующее и пульсирующее «мыслящее» суперполе. Это и есть бывший всепланетный город, перескочивший в иное качественное состояние и ставший суперэлектронным Абсолютом. В океане плавало неисчислимое множество клубков — информационных вихрей. Вот из одного технического клубка выскочил нейтринный луч. На его кончике в далеком межзвездном пространстве овеществился беспилотный корабль — космический пират, перехватывающий и уничтожающий звездолеты с «отсталыми биологическими структурами». А вот из тысяч других, так называемых «генетических», клубков нейтринные лучи упали вниз, как дождевые струи. На поверхности, как пузыри в луже, вспыхнули люди. И в четком строю зашагала, взметая пыль, Армия вторжения.
Но и это не все. Главная новость нас ждала впереди. «Эволюция» продолжалась. Поверхность планеты покрылась со временем единой мировой пустыней, по которой с визгом прокатывались песчаные бури. Но эта естественная геологическая эволюция помогала технологической. Абсолют, добиваясь стабильности, устойчивости информационных вихрей, заполнял межатомное пространство внутри песчинок клубками суперполей. Песчинки при этом становились тверже алмаза. Каждая песчинка в пустыне — либо генетическая (человек), либо техническая (вещь) информационная ячейка. Оттуда Абсолют мог выхватывать и овеществлять любую информацию.
Это было невероятней всего. Мы предполагали, что информация находится под землей, в каких-нибудь кристаллах. Но что именно песчаная пустыня — необъятное хранилище информации, этого не ожидал даже проницательный Федор Стриганов. Он даже привстал с кресла, хотел что-то сказать. Но только махнул рукой.
— Пустыня!.. Вот это эволюция, — вскочил с места Иван Бурсов. — Нет, ты только представь, капитан. Люди полностью превратились в песчинки. Да это же целый символ!..
— Для вас пустыня — нечто гротескное, — снова заговорила Незнакомка. — Но вот вы видели недавно фотонный отблеск прошедшей Электронной эпохи — супергород. Никакой природы, искусство подавлено. Стандартные люди стали колесиками технологической машины. Скажите: такой город разве не пустыня?
— Пустыня, — согласился Иван.
— А чем отличается та пустыня, пустыня на уровне вещества, от нынешней? Принципиально ничем. Только технологическим совершенством. Люди? Что ж люди… Люди есть, но в виде информации. Вы ведь в своей жизни претерпели то же овеществление информации, записанной в половых клетках на первобытном молекулярном уровне. Полное овеществление шло биологически очень медленно, все детские и юношеские годы. А здесь технически свернутую наследственную информацию Абсолют развертывает и овеществляет мгновенно.
— Да, это прогресс, — усмехнулся капитан.
— Так вы песчинка в пустыне? — спрашивал Иван. — А мы можем помочь вам освободиться от рабства? Например, перерезать нейтринный луч и отсечь от этого… От Абсолюта?
— Никто не может… И Абсолют не потерпит своеволия. За попытку к бегству он сотрет мою запись или переведет в низшие и наименее самостоятельные сферы. Например, в солдаты. Вот те — как куклы.
— Значит, высшие и низшие? — проговорил Иван. — Иерархия загробной гармонии…
— Именно загробной. — Незнакомка печально усмехнулась. — Человек, переведенный в информационное состояние, не знает ни жизни, ни смерти, не ощущает тока лет и веков. Получая на короткое время биологическую структуру, человек с ужасом осознает, что он давно мертв, а его информационная сущность закабалена Абсолютом. И вот тогда некоторые не выдерживают. Срываются, сходят с ума… Их генетические вихри перепутываются и распадаются. Солдаты, те никогда не сходят с ума, потому что у них его нет. Они послушные стандартные орудия. Однако солдат у Абсолюта много, а интеллектуально одаренных слуг все меньше и меньше…
Федор слушал, думая о чем-то своем. Тогда я не придал этому значения, но сейчас убежден: именно в те минуты ему впервые пришла мысль, которая потом оформилась в так поразившее нас решение…
— А солдаты для чего? — спросил Иван. — Какой от них толк Абсолюту?
— На других планетах продолжается биологическая фаза развития. Вечная и неистребимая Армия вторжения наведет там порядок… — Прижав ладони к вискам, Незнакомка прошлась вдоль пульта управления. — Вихри… Устали от напряжения. Сейчас Абсолют погасит меня…
Она вздохнула и, прошелестев платьем, скрылась в рубке ЭУ.
Утром Незнакомка казалась сильно взволнованной. Поприветствовав нас с вымученной улыбкой, она села и, не поднимая глаз, заговорила:
— Не знаю, как и приступить к главной части поручения… Абсолют принял вас, показал свое могущество. И все с одной целью. Не догадываетесь? Неавтономных слуг, то есть солдат, у него много. Но для работ и экспериментов в макромире, в мире вещества, ему очень нужны интеллектуально одаренные и автономные…
— Уж не хотите ли сказать?.. — Пораженный догадкой, Иван встал с кресла. — Чтобы мы стали слугами? Информационное состояние?..
— Понимаю… О, как сочувствую вам. Абсолют не случайно продемонстрировал исторические сцены, показывающие ужас и никчемность биологической жизни… Психологически готовил вас. Он мог бы и без подготовки, насильственно перевести в солдаты. Но ему требуются автономные. А здесь нужно желание… Почти желание. И обязательно добровольность. Нет, нет! Абсолют готов дать вам время подумать. Но при условии, что кто-то один согласится уже сегодня… Добровольно хотя бы один…
Будто бомба взорвалась в пилотской каюте.
— Да как вы смеете! — с искаженным гневом лицом выкрикнул Зиновский. — Нам — такое?
И уже кричали все разом, перебивая друг друга:
— Не дождетесь!..
— Будьте прокляты вместе со своим Абсолютом!..
— Тихо! — перекрывая шум, громыхнул голос Стриганова. — Молчание!
И молчание наступило. Все вдруг увидели в лице капитана что-то такое, отчего у каждого сжало сердце…
— Я согласен, — спокойно сказал Федор, обращаясь к Незнакомке. — Я — добровольно…
Он повернулся к нам.
— Прошу: никаких вопросов. Так надо…
— Федор! — Я схватил его за руку. — Ты капитан и не имеешь права жертвовать собой ради… Ради чего?!
— Астронавигатор Волошин! — Голос капитана стал жестким. — Я знаю, что делаю… Ты останешься пока за меня. Это приказ!
— Вы правильно поступили, Федор Стриганов, — одобрительно заговорила Незнакомка. — Для Абсолюта особенно ценно, что вы хороший специалист в области дискретного времени-пространства. Недавно генетические вихри ученого с таким же профилем пришли в негодность. При вызове в макромир он сошел с ума.
— И я займу его место? — с иронией спросил Федор.
Откуда он взял силы для иронии? Чудовищная, почти противоестественная выдержка была у этого человека!
— Да. Займете видное положение в вечных сферах, — ответила Незнакомка, явно довольная удачным исходом своей миссии. — С привилегированным правом автономного выхода в макромир, в мир вещества.
— А что будет с остальными членами экипажа?
— Если бы не было ни одного добровольца, Абсолют всех бы убил, изъяв генетическую информацию. А теперь у них есть еще время подумать и выбрать…
— Мы подумаем вместе, — сказал капитан. — И надеюсь, все сделают единственно возможный выбор… Мне дадут еще хотя бы час?
— Не знаю… — Незнакомка старалась не смотреть ему в глаза. — Сейчас вы должны пройти в свою каюту.
…Он так больше и не вышел оттуда. Когда мы взломали дверь, капитан лежал на постели и, казалось, спал. Но он был мертв. Разрушение генетической структуры — так определил Зиновский. Абсолют убил Федора, украв наследственный код и записав его в виде информационного клубка где-то там, в безбрежных песках… В тот же день мы похоронили капитана на краю лунного космодрома.
И там же, на мертвом, покрытом вековой пылью космодроме, я почувствовал прикосновение энергопояса. Еще ничего не понимая, еще не зная, что через какие-то мгновения забуду обо всем, происшедшем со мной и моими товарищами, я изумленно глядел, как, вспыхнув огненной кисеей, стремительно развертывается неведомая капсула. Не догадывался, что избран для особой миссии. Сознание померкло, и очнулся я уже в Электронной эпохе…
На полюсах Земли и полюсах мироздания
Проснувшись, я открыл глаза и затаил дыхание: из-за горизонта медленно выплывало огненное око чужого косматого солнца. Надо мной висел шар из синих листьев, скрепленных ветвями, — дерево без корней и ствола. Вопреки законам тяготения оно парило в воздухе.
Где я? Неужели странствия мои не кончились и капсула занесла меня еще на одну неведомую планету?
Осторожно протянул руку и вместо травы или песка нащупал пушистый пластик постели. Вскочил на ноги и рассмеялся: я же на своей планете! На этом материке все необычно. Но пора бы привыкнуть: третий день я с Таней — теперь уже моей женой — живу в Антарктиде. Южный материк, закованный ранее в вековые льды, стал космическим музеем и заповедником инопланетной фауны и флоры. Часа через три искусственное кварковое солнце, полыхая зелеными гривами протуберанцев, поднимется к зениту и теплыми лучами зальет смущающий воображение растительный мир планетных систем Сириуса, Альфы Эридана, Тау Кита.
Быстро оделся и заглянул в наш «шалаш» — временный полупрозрачный домик, обставленный со спартанской простотой. Тани уже не было, но я знал, где ее искать. Раздвигая двухметровые листья, растущие прямо из земли, направился к небольшому водоему. Над ним густо сплелись кроны деревьев, сучья которых беспрерывно шевелились, как щупальца спрута.
На берегу увидел Таню. Лицо ее в полумраке экзотических зарослей озарялось разноцветными вспышками: она сидела в окружении мерцающих цветов.
— Что же ты, — с досадой обращалась она к своему питомцу, пылающему, как костер. — Хоть бы раз отозвался. Пятый день бьюсь над тобой, а ты ни звука…
У Тани своя мечта: вырастить такую разновидность инопланетных цветов, чтобы они не только светились, но и звучали. Она хотела составить из них полыхающий оркестр, который исполнял бы ее музыкальные произведения. Дело трудное, но не безнадежное: все растения с планетной системы Тау Кита очень чутки к радиоизлучению.
— Молчит? — спросил я, выходя из зарослей.
— Молчит, — с улыбкой, согнавшей недавнюю досаду, отозвалась Таня. — Но зато вот этот! Посмотри на него. Простой и скромный, величиной всего с ладонь. Но ты только послушай!
Она подошла к стоящему на треноге аппарату с решетчатой антенной наверху. Нажала несколько клавиш, и цветок отозвался на посланное в его сторону радиоизлучение. Световая гамма стала разнообразней, ярче и ритмичней. Мерцающие упругие лепестки затрепетали, и таинственные инопланетные джунгли наполнились такими мощными и красивыми органными звуками, что я вздрогнул от неожиданности.
— Это же здорово!..
Таня счастливо улыбнулась.
— А эти как? — показал я на крупное соцветие, взметнувшееся наподобие горящего фонтана. — Все так же?
— Все так же, — вздохнула она. — Все те же однообразно квакающие саксофонные звуки. Только не говори Ориону. Засмеет. Будет называть мои цветы жабами и лягушками.
— Кстати, Орион ждет нас. Как бы не опоздать.
Поблизости, в диковинном красном лесу, располагался научно-исследовательский институт со станцией вакуум-такси на крыше. Мы быстро собрались, и гиперлет в считанные секунды перекинул нас на берег Камы. Но как ни спешили, все же немного опоздали, и на наши приветствия Орион ответил грозным молчанием.
— Ваше счастье, что лекция откладывается на час, — проворчал он наконец. — Рассердился бы не на шутку.
— А ты способен и не на шутку? — подтрунивая, спросила Таня.
У одиноко возвышающейся на берегу причальной мачты столпилась очередь. Сегодня все спешили в одну сторону — на Северный полюс. В гигантском Северном Дворце дискуссий и зрелищ скоро начнется лекция под интригующим названием «Парадокс странника». Я уже знал, что речь пойдет не столько о самих моих скитаниях по мирам и эпохам, сколько об осмыслении этих скитаний наукой, о новой картине мироздания, вырисовывающейся в еще не утихших жарких спорах физиков, философов, астрономов.
Мы не стали ждать свободного гиперлета. Сели в прозрачные вагоны скользящего поезда. Таня жаловалась брату:
— Ты представь, Орион. Сергей так толком и не рассказал, где же он побывал. Родной-то жене!.. Он усвоил твою отвратительную привычку мистифицировать.
Орион воспользовался случаем отомстить сестре. Изобразив на своем безнадежно добродушном лице жалкое подобие язвительной усмешки, сказал:
— Тебе все растолкуют на лекции. Она настолько наглядна, проста и популярна, что доступна даже твоему детски незрелому уму.
Поезд, набирая скорость, заскользил на невидимых магнитных опорах, возвышающихся над тайгой. По сторонам кружились, проплывая мимо, уральские ландшафты с городами и поселками. Стрелой ворвались в полосу Северного Урала. И так же стремительно, глотая пространство, поезд промчался дальше, оставив позади заснеженные вершины Денежкина Камня. Перед нами зеленым холмистым ковром расстилалась бывшая тундра. Полярное кварковое солнце согрело этот когда-то сумеречный край, и сейчас дети изучают его по учебникам под романтическим названием — Северные пампасы.
Полуостров Таймыр встретил нас зелеными купами дубовых рощ. Поезд остановился около Таймырского космодрома, который щетинился лесом ракет, иглами антенн и причальных мачт. Гиперлет мгновенно доставил нас на искусственный остров под Полярной звездой.
Я участвовал в монтаже подводного оборудования, но сам остров с пальмовыми и платановыми парками появился не так давно. В центре — внушительных размеров сплюснутый шар Северного Дворца. Сегодня он казался окруженным мерцающим ореолом: это беспрерывно искрились, озонируя воздух, острые вершины причальных мачт. Люди прибывали на гиперлетах со всех концов Земли, тонкими ручейками стекали по эскалаторам вниз, растворялись в аллеях и снова сливались потоками у входов Дворца.
Дворец вмещал двести тысяч зрителей. Но его хитроумная кибернетическая аппаратура имела еще десять миллиардов телемест. Каждый житель планеты, сидя в домашнем кресле, мог подключиться к Дворцу и чувствовать себя таким же зрителем, как и двести тысяч реально сидящих.
Иллюзия присутствия почти полная.
Но главное чудо — сама лекция. Проводил ее не ученый, а сам Дворец-фантоматорий, этот сложнейший электронный организм.
Светящийся купол Дворца медленно погас и столь же незаметно и тихо растворился. Исчез полностью. Огромная чаша с рядами кресел очутилась под открытым небом. Изумрудное пятно кваркового солнца тускнело и наконец совсем растаяло. Солнце просто «выключили». Вверху, на черном бархате, засияла огненная роса: Малый Ковш с еле видимой Полярной звездой, вечно летящий Лебедь и сверкающая Вега.
И вдруг я услышал голос. Говорил, очевидно, сам Дворец-фантоматорий. Глубокий женский голос слышался ниоткуда и в то же время со всех сторон. Словно голос самого неба.
— Жители планеты Земля! Сидя в креслах, вы находитесь безраздельно в моей власти — иллюзорной, но могущественной. Вы совершите сейчас редкое по красоте и поучительности путешествие. Либо каждый в одиночку, либо вдвоем с другом или подругой. Для этого достаточно установить биоконтакт, взяв за руку соседа. Вы будете видеть только его и космос, слышать его голос и мой.
Незаметно сотни тысяч зрителей Дворца утонули во тьме. Их просто не стало. Я очутился в полнейшей изоляции. Лишь подлокотники моего кресла тускло серебрились под пепельным светом далеких миров, которые мерцали не только вверху, но и почему-то по бокам, вокруг. Наступило состояние невесомости, а затем ощущение полета. И тишина, великое безмолвие Вселенной.
Моей левой ладони коснулись длинные Танины пальцы. Наши руки встретились. Установился биоконтакт, и я увидел Таню, словно выхваченную из мрака сиянием звезд.
Таня взглянула вниз и слегка вскрикнула. Я тоже почувствовал холодок страха, увидев падающую куда-то Землю. Голубой шар с белыми хлопьями облаков стремительно уплывал из-под ног, уменьшаясь в размерах. Вскоре и само Солнце, окруженное хороводом искринок-планет, показалось пылающим арбузом, а потом огненной горошиной. Нас окружала живая, кипящая звездами безграничность.
— Как хорошо! — прошептала Таня. — Мы одни во всей Вселенной!
Да, это было великолепное зрелище. Мы сидели в тепле, дышали воздухом и в то же время чувствовали: вокруг нас ледяная жуть безвоздушного пространства.
Мимо проплыли Магеллановы облака, и мы увидели со стороны, из далекой дали, нашу Галактику — огромную звездную колесницу.
— Посмотрите кругом, — бархатный женский голос слышался рядом и в то же время, будто голос самой Вселенной, доносился из самых отдаленных сфер. — Вы видите миллиарды галактик. Все они составляют доступную обозрению Метагалактику, нашу Вселенную.
Держась за руки, мы с Таней по-прежнему парили в пространстве. Мимо проносились уже не звезды, а галактики в виде то огненных шаров, то закрученных серебряных спиралей. Неожиданно очутились за пределами Вселенной. Это, конечно, условность. Ни одно материальное тело не может покинуть свой континуум. Но зато мы могли со стороны наблюдать нашу Метагалактику. Вернее, одну из вероятных ее моделей — конечную во времени и пространстве. И в то же время безграничную, как безгранична поверхность шара.
— Вы видите Метагалактику, одну из форм бытия бесконечной материи. Что находится за ее пределами? Является ли она рядовым членом среди других метагалактик, которые составляют гиперметагалактику, или материя дальше существует в иных качественных состояниях? Наука об этом пока не знает. Как возникла Метагалактика, наша Вселенная? Вспомним слова ученого двадцатого века. Мыслима такая космологическая схема, говорил он, в которой Вселенная не только логически, но и физически возникает из ничего, притом при строгом соблюдении всех законов сохранения. Ничто (вакуум) выступает в качестве основной субстанции, первоосновы бытия.
[1]
— Это была верная догадка, — продолжал голос. — Некоторые ученые того времени образно называли видимую Вселенную всего лишь рябью на поверхности неведомого вакуума. Но как представляли они рождение мира? Смотрите.
Перед нашими глазами Вселенная вдруг съежилась.
— Вы видите один сгусток сверхплотной материи без своей гравитационной противоположности. Этот сверхтяжелый первоатом взорвался миллиардами разбегающихся галактик. Так образовался наш пространственно-временной континуум, наша расширяющаяся Вселенная. Можем ли мы согласиться полностью с такой гипотезой? Нет. Это было бы странное мироздание — с одним континуумом без своего антипода. Это мир, где все со знаком плюс: течение времени положительное — от настоящего к будущему, все вещество и антивещество имеет один положительный гравитационный заряд. Такое мироздание было бы вопиющим нарушением симметрии и законов сохранения. В первую очередь закона сохранения гравитационного заряда. Вообразить только одну гравитационно-положительную материю, только один плюс-континуум так же нелепо, как представить правую сторону без левой, верх без низа, положительный электрический заряд без отрицательного. Электрон всегда рождается в паре с позитроном. Так же одновременно возникли из ничего положительно и отрицательно тяготеющие континуумы, не нарушая нулевого гравитационного баланса вакуума — этого океана нуль-материи. Мы сейчас немного больше знаем об этом океане. Давайте совершим путешествие из его глубины и будем присутствовать при гипотетическом, но более правдоподобном рождении миров.
Мы снова очутились в нашей Вселенной, в ее расширяющейся сфере, наполненной, как мешок горохом, галактиками. Пылающие миры стали меркнуть. И вот маяки Вселенной погасли совсем. Мы упали в черную бездну — в ту самую, в которую провалился наш корабль «Орел» во время черной аннигиляции. Ощущение для Тани настолько непривычное, что она в страхе прижалась ко мне.
Самой ее не видно: мы в стране черного безмолвия, где не было ни звездного сияния, ни одного кванта излучения. Перед нами иная Вселенная — не пылающая и мятежная, а умиротворенная, сбросившая оковы времени и пространства. Голос Дворца не утратил мелодичности, но, более низкий и глухой, чем раньше, доносился издали — будто из иного мира.
— Сейчас вы в глубине неизученного океана — вакуума. Раньше некоторые ученые предлагали считать его самодовлеющей пустотой, Великим Ничто. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения. Нет, вакуум — особое состояние материи, недоступное нашим ощущениям. Так называемое Великое Ничто — конечный результат всех форм аннигиляции. В первую очередь гравитационной или, по счастливо найденному выражению одного из членов экипажа звездолета «Орел», черной аннигиляции. Вакуум — это нуль-материя. Время и пространство приобретают там необычные качества. Академик Спотыкаев, например, находит, что время в вакууме теряет свое главное свойство — анизотропность, однонаправленность — и становится парадоксально изотропным. Это и даст нам возможность в скором будущем совершать рейды во времени, используя в вакууме разнонаправленные потоки. Малоизученными, необычными свойствами вакуума люди научились пользоваться: мы мгновенно перемещаемся в гиперлетах, как бы соскальзывая из нашего пространственно-временного континуума. Куда? В нуль-континуум, нуль-пространство, гиперпространство. А теперь появились капсулы. Называйте вакуум как угодно, но это Великое Ничто есть Великое Все. Там происходят пока таинственные для нас материальные процессы, которые сопровождаются громадными энергетическими возмущениями и выбросами вещества. Они и приводят к рождению тяготеющих масс — к рождению миров. Не одной, а двух вселенных — в полном соответствии с законом сохранения гравитационных зарядов…
— Наконец-то, — вздохнул я с облегчением. Думаю, не одному мне надоело висеть в океане черного безмолвия, в этой нулевой жутковатой Вселенной, сбросившей цепи привычного порядка. Длинные теплые пальцы Тани подрагивали в моей руке: ей тоже было не по себе. Неожиданно из густого и липкого мрака, точно в отсветах разгорающегося костра, возникло Танино лицо. Из глубин вакуумного океана, наливаясь светом, одновременно выплыли два сгустка протовещества. Один — с положительным гравитационным зарядом — для наглядности казался желтым. Другой — с отрицательной тяготеющей массой — выглядел голубым. Оба как бы внутри друг друга. И в то же время они не соприкасались и не взаимодействовали, ибо каждый мгновенно замкнулся в свою скорлупу — в свой пространственно-временной континуум. В обоих континуумах возникло время, в каждом — свои, особые «часы». И стрелки космоса начали свой бег в противоположных направлениях.
Внезапно сгустки сверхплотной материи взорвались. Это были, конечно, беззвучные взрывы. Но создалось впечатление, что все мироздание содрогнулось от грохота. Осколки и брызги «проатомов» разлетались во все стороны, расширяя пузыри пространства. Каждый осколок — протогалактика. Они, в свою очередь, расплескивались, образуя шаровые, сплюснутые и спирально закрученные галактики из миллиардов звезд-росинок.
Две вселенные — желтая и голубая, — не соприкасаясь и одновременно «пронизывая» друг друга, расширялись. Так на энергетически (гравитационно) противоположных полюсах мироздания появились два континуума-антипода.
Зрители Дворца находились как бы на границе двух миров. Склонившись к Тане, я шепотом объяснил, что это сильное упрощение, ни одно материальное тело не может пребывать сразу в двух измерениях.
Желтые галактики и звезды засверкали ярче, а голубые фонари «потустороннего» мира чуть потускнели, но были хорошо заметны.
— Что это? — удивилась Таня. — Я слышала об этом, но не знала, что все будет так странно.
«Наше» пространство расширялось, желтые галактики, как и полагалось, разлетались во все стороны. Но вот «тот» мир… Его галактики, как голубые мотыльки, слетались к единому центру. Противоположная по гравитации Метагалактика съеживалась, как проколотый резиновый шар. Рядом проплывали отдельные звезды, и мы видели парадоксальную картину: голубые солнца не испускали лучи, а наоборот — поглощали их. На выхваченных из тьмы и показанных крупным планом планетах реки бежали вспять, невиданные животные пятились задом наперед. Все материальные процессы протекали там в обратную сторону. Даже водопады, ощупывая скалистую крутизну, взбирались наверх.
— Из своего континуума вы наблюдаете необычные вещи, — продолжал умолкший на минуту голос. — Энергия звезд не рассеивается, а концентрируется, галактики сжимаются. Иными словами, поток времени течет в другую сторону от будущего через настоящее и прошлое. Так ли это на самом деле? Сменим систему отсчета, вообразим себя разумными обитателями того мира. Предположим, что они обладают нашим даром проникать взором сквозь черную пелену вакуума. Что бы они увидели?
Желтые огни нашего континуума потускнели, словно подернувшись пеплом. Зато другая Вселенная засияла во всем своем волшебном блеске. И тут мы обнаружили, что она не сжимается, как это было минуту назад, а расширяется, развертывая свои голубые цветы — галактики. И время потекло нормально — от настоящего к будущему. Но наш мир, который мы только что покинули, сжимался. Желтые солнца, подметая пространство, всасывали в себя рассеянную в нем лучистую энергию. Нам показали удивительную планету, похожую на Землю. Дожди там лились от высыхающей почвы к облакам, которые разбухали, насыщаясь влагой. А действующий вулкан ошеломил нас. Мы видели, можно сказать, антиизвержение. Вулкан взрывоподобно втягивал своим жерлом, как жадным ртом, расплавленную магму и рассеянный в небе пепел.
Вот наши кресла качнулись, сделав рывок в сторону. Мы вернулись в «свой» мир, и все встало на прежние места.
— Итак, — зазвучал голос неба, — каждый наблюдатель в своем мире, в своей системе отсчета будет утверждать, что его Вселенная развивается во времени нормально, а противоположная — в обратном порядке. Кто из них прав? Оба правы, и оба неправы. Земной житель, наблюдая за космическим кораблем, пролетающим мимо с околосветовой скоростью, заметит, что время там течет в два раза медленнее, а сам корабль сжался с двухсот метров до ста. Нет, возразит космонавт, с пространством и временем у меня все в порядке, а вот у вас, на Земле, пространственные интервалы сократились вдвое, а бег секунд замедлился. Кто из них прав? Вы знаете теорию относительности и понимаете, что вопрос этот бессмыслен. Приведем еще более грубую, но весьма наглядную аналогию. Вы недавно стояли на искусственном Северном острове. Если бы вы могли видеть сквозь толщу Земли, как сейчас сквозь вакуум, то обнаружили бы, что жители Антарктиды по отношению к нам ходят вверх ногами и что дожди там льют снизу вверх. Нет, возразили бы южане, это вы передвигаетесь вверх ногами, а не мы. Кто прав? Вы сами без труда ответите на этот вопрос.
Таким образом, каждый мир сам по себе расширяется, развивается по второму началу термодинамики, по закону возрастания энтропии. Но по отношению друг к другу, находясь на противостоящих гравитационных полюсах мироздания, они сжимаются, развиваясь по принципу не рассеяния, а концентрации энергии. Кто знает, может быть, здесь надо искать ответ на вопрос, так смущавший ученых двадцатого века? Может быть, отсюда идет спасение от «тепловой смерти» Вселенной? Миры-антиподы, видимо, как-то взаимодействуют, энергетически поддерживают друг друга, соблюдая закон сохранения энтропии. Материальные процессы в них протекают во встречном времени. То, что для нас было вчера, для них будет только завтра. Поэтому обе вселенные неощутимы и невидимы друг для друга. Может быть, сейчас рядом с нами, даже внутри нас, проплывают пылающие солнца или населенные планеты. И в то же время оба мира неизмеримо далеки, разделенные беспросветным океаном вакуума. Обе вселенные составляют две половинки, два энергетических полюса единого мироздания, состоящего из трех континуумов. Причем нуль-континуум, вакуум — главный, первооснова всего.
Рассказ о симметричной структуре мироздания закончился. Дворец-фантоматорий приступил ко второй части лекции. Он показал десяти миллиардам зрителей странствия звездолета «Орел». У меня защемило в груди, когда увидел знакомые очертания родного корабля. В космосе он выглядел крохотной рыбешкой. Корабль несся в черном аквариуме Вселенной, мимо серебряными пузырьками проплывали звезды. Сейчас я со стороны мог наблюдать неудавшуюся попытку избавиться от выгоревшего топлива — свинцового шара, который после утечки положительных гравитонов стал чужаком в нашем континууме, телом из минус-материи. Пространство всколыхнулось от беззвучного взрыва черной аннигиляции. Имитация катастрофы — идеальная. Мы увидели пугающий разрыв пространства. Воронкой взрыва звездолет «Орел» всосало в бездонный океан вакуума. В круговороте нуль-материи корабль вместе с экипажем получил отрицательный гравитационный заряд и был выброшен на другой полюс мироздания — в минус-континуум.
— Конечно, такой способ перехода в другой континуум весьма рискован, — произнес голос. — Корабль, например, мог вынырнуть в центре звезды и сгореть в ее атомном котле… Космонавтам неслыханно повезло. Их выкинуло в минус-галактику. По воле случая она структурно напоминала нашу спиральную Галактику. Более того, они попали в тот рукав Галактики, где взаимное расположение светил отчасти походило на звездную конфигурацию нашего неба. Поэтому у членов экипажа не было и тени сомнения, что они у себя, в своей области Вселенной. Недавно наши гиперзвездолеты через нуль-континуум просочились в другую Вселенную, в ту же область. Гиперастронавты познакомились с таисянами, на планете которых побывали наши предшественники — экипаж корабля «Орел». Подружились мы и со своими братьями по биологической расе и социальному устройству — жителями планеты Аир. Но речь сейчас о ее враждебной соседке — планете Харде.
Дальше Дворец говорил о моих странствиях и причинах технологического коллапса. Явление это, как и гибель цивилизаций в результате ядерной войны, чрезвычайно редкое. В нашем континууме только одна планета Глория, отстоящая от Земли на тысячи светолет, попала в подобный технологический капкан.
Лекция по космологии и космосоциологии сопровождалась волшебным зрелищем. Мы забывали, что все это фантоматическое представление Дворца. Временами я терял ощущение кресла под собой. Было этакое свободное парение вдвоем в межзвездных просторах.
Лекция завершилась торжественно, а для нас с Орионом весьма неожиданно.
— Наше путешествие подходит к концу, — заговорила Вселенная бархатным голосом Дворца. — Сейчас отправимся в свой континуум, на родную планету. Будем лететь сквозь миры под звуки симфонической поэмы композитора Татьяны Кудриной «Из звездных странствий».
Я с изумлением и укором взглянул на жену.
— И ты молчала?
— Это в отместку за ваши мистификации, — улыбнулась Таня.
— Орион знает?
Моя правая кисть очутилась в необъятной ладони Ориона. Установился биоконтакт справа, из тьмы выступила могучая фигура моего соседа.
Нет, Орион ничего не знал. Это было видно по его свирепо сдвинутым бровям. Посеребренный звездным сиянием, он выглядел на темном фоне неба разгневанным космическим богом. Орион взмахнул кулаком и прогремел на всю Вселенную:
— Татьяна! Ну подожди…
Он отпустил мою руку и исчез в пустоте. Явление из мрака «грозного» Ориона было столь внезапным и комичным, что мы расхохотались.
В этот момент Вселенная чуть всколыхнулась. Седые лучи ее светил завибрировали и запели, как струны. Непривычная, странная мелодия иного мира… Сначала нежная и приветливая, она постепенно насыщалась звуками пугающей окраски — начался переход в великий нуль-континуум. Звезды потускнели. Серьезное, чуть напряженное лицо Тани — творца этой необычной поэмы — обволакивалось тьмой. Под нарастающий грохот, от которого замирало в груди, мы упали в черную бездну. И тут все оборвалось. Тишина казалась безраздельной. Но вот из бескрайнего океана нуль-материи, из его немыслимых глубин послышались отдаленные барабанные удары. Могло показаться сначала, что «вакуумная» часть поэмы была без светового сопровождения. Но это не так. Мне почудилось, что во мраке скользнула еще более черная тень — тень Непознаваемого. В моем воображении непознаваемое — а точнее, пока не познанное — рисовалось почему-то в виде неведомого черного всадника, скачущего по железной крыше мироздания. Повелительные удары, как топот чугунных копыт, рушились со всех сторон. Гул прокатывался по вакуумному океану и колыхал его. Он вызывал картины непонятных возмущений нуль-материи, энергетических флуктуаций и выбросов вещества. В неизученном, неподвластном человеку нуль-континууме все волнуется и движется. И сверкающие звездные миры не более чем мимолетный блеск и трепет его волн. Здесь все рождается, выплывая на противоположные гравитационные полюса, какое-то время живет и умирает, вновь стекая в вечный океан. И снова рождается. И так без конца и без начала…
Как все верно и как все немножко жутковато! Я тихо сказал об этом Тане.
— Подожди, — послышался снова ее шепот. — По контрасту все остальное — сплошная песня радости.
В музыкальную ткань вплетались иные тона. Пугающий гул затихал. Неведомый всадник удалялся вместе с тревожным рокотом копыт. Мы выплывали из вакуума в свой континуум. В вековой тьме слабо замерцали светлячки, затем звезды нашей Вселенной засверкали в полную силу. Словно радуясь своему рождению, они вздрогнули и зазвенели колокольчиками, запели их струнные лучи. На нас обрушился каскад торжественных, меднозвенящих звуков. Обогащая музыку, космос развертывал свою величественную иллюминацию. Несколько условный и театральный, он шевелился как живой, полыхал всеми цветами радуги.
Не знаю, на сюжет какого литературного произведения написана светосимфоническая поэма, но программность музыки чувствовалась хорошо. Мне не составило особого труда вообразить себя гиперастронавтом, возвращающимся домой. Путь экипажа не был беспечальным. Врывались грозные ноты, и на нас накатывала волна тревоги, подступало ощущение смертельной опасности. Под минорные звуки, под их задумчивые и протяжные переливы, похожие на рыдания, хоронили погибших товарищей.
Но вот мы снова мчимся по великой галактической дороге, по тому звездному рукаву, в котором находится наше Солнце. Все печали таяли в лучезарных аккордах. Мы летели под гром сталкивающихся метеоритов, под нежный шелест хвостатых комет и трубные зовы планет. Даже в искрящихся волокнистых туманностях пели скрипки и виолончели. Это была песня победы разума и над черной стихией вакуума, и над огненным безумием звездных потоков. Лишь изредка там, где-то вдали, прокатывались глухие тревожные рокоты — напоминание о том, что все трудности познания и борьбы еще впереди. Это отзвуки вечности, отзвуки того таинственного океана нуль-материи, откуда появляются и куда вновь стекают все реки жизни и света.
А звуки то росли, то утихали. Они сплетались между собой, как лианы, и рассыпались каплями дождя. Вдруг звездный фейерверк взорвался, разбрызгивая каскады торжествующих аккордов. И я с радостью увидел Солнце, родную планету. Она ближе и ближе. Мои ноги погружаются в вату облаков. Легкий толчок приземления, и я очутился вместе со всеми зрителями в раскрытой, как циклопический цветок, чаше Дворца. Над нами искрились знакомые с детства северные созвездия.
Финал светомузыкальной поэмы… Трудно, почти невозможно передать его словами. На темном небе заполыхало вызванное лазерными лучами северное сияние. Огромные радужные полотнища развевались и трепетали, как флаги. Семицветные струны сияния тянулись вниз и вибрировали. И в этих струнах, приветствуя прибывших астронавтов, звенели ветры земных просторов, гремели водопады горных рек, шелестела листва прохладных лесов.
Полотнища северного сияния свернулись и потухли. Из-за горизонта выплывало, гася звезды, зеленое кварковое солнце. Зазвучала мелодия рассвета — нежная, как прикосновение проснувшегося ветерка, тихая, как шорох падающей росы…
Дворец-фантоматорий выполнил свою программу. Его купол сомкнулся. Все встали и аплодировали, довольные сказочной лекцией-путешествием, этим удивительным фантоматическим представлением, особенно заключительной частью — звездно-симфонической поэмой. Какая-то женщина в соседнем ряду узнала Таню. Она протянула в нашу сторону руки и крикнула:
— Автору музыкальной поэмы!
Новый обвал аплодисментов. Таня, притихшая и растерянная, дергала меня за рукав и шептала, не поднимая ресниц:
— Уйдем отсюда… Скорее…
Рядом — радиальный коридор. Мы первыми встали на движущуюся ленту эскалатора и вскоре затерялись в густой платановой роще, примыкающей к Дворцу.
— Слушай, Таня, — улыбнулся я и напомнил ее же слова: — Ты усвоила у своего брата отвратительную привычку мистифицировать и разыгрывать. Почему умолчала о заключительной части лекции? О своей поэме?
В ответ Таня, снова дернув меня за рукав, заговорила:
— Скорей в Антарктиду… На другой полюс. А то взорвусь от счастья, как тот космический сгусток протовещества.
Звездные берега
А три месяца спустя мы с Орионом попрощались с Таней на космодроме, у циклопического строя кораблей, которым предстоял прыжок за грань нашего мира, в звездные сферы.
Наш крейсер летел впереди. Передо мной светился пульт минус-перехода. На жаргоне членов экипажа я — «минус-навигатор». За соседним пультом — мой друг «нуль-навигатор» Орион. Нуль-навигация требует больших знаний, опыта и молниеносной реакции. Таня немало подивилась бы, узнав, что ее брат обладает всеми этими качествами. С виду медлительный, в пилотском комбинезоне и впрямь похожий на медведя, Орион в нужную минуту обнаруживал завидную смекалку и стремительность.
— Нуль-переход! — услышал я команду.
Все мое внимание сосредоточилось на приборах и носовой части крейсера, куда стягивались линии силового напряжения. Вокруг корабля заструилось голубоватое фотонное облако. Я повернул верньер, и в облако начали вплетаться нити тахионного излучения. Корабль медленно, как старинная подводная лодка, погружался в вакуумный океан. Звезды меркли, точно угли угасающего костра. Когда приборы показывали пятьдесят процентов фотонного напряжения и пятьдесят тахионного, светила нашего континуума погасли совсем. Нас обступила кромешная тьма и безмолвие Великого Ничто. Нуль-навигация, поиск точки выхода в другом континууме, — самый ответственный момент. В вакуумном океане свои штормы и штили, подводные скалы и гравитационные водовороты. Малейшая неточность, и мы могли бы при всплытии напороться на какую-нибудь звезду и сгореть в ее пекле.
Но Орион справился со своей задачей блестяще.
— Минус-переход! — подал команду капитан.
Я усилил тахионное напряжение, и корабль осторожно подошел к границам другого мира. Предупреждающе завыли сирены: началась перестройка материи корабля и наших организмов в минус-материю.
Очнувшись, мы будто сквозь пелену увидели выступающие из мглы светила. Наш крейсер выплыл из океана нуль-материи к другому берегу мироздания.
Командующий эскадрой болгарин Арнольд Арнаудов устроил осмотр. Потерь не было. На экране я видел, как капитаны кораблей по очереди рапортовали Арнаудову, который находился на нашем, головном крейсере. В экипаже третьего корабля я заметил Алешу Потапова — самого молодого участника экспедиции.
Обитателей планеты Аир — точно таких же людей, как и мы, — я впервые увидел на их гигантском космодроме. Здесь встретились мы и с таисянами — уже знакомыми мне порхающими жителями планеты Таиса. Их боевой флот готовился к старту на другом конце космодрома. Мы не стали ждать, когда прибудут звездолеты отдаленных цивилизаций. Корабли трех планет и без того обладали мощными средствами нападения и защиты.
Расстояние до пиратской планеты Харды — двадцать световых лет — объединенный флот преодолел в два гиперскачка. Это напомнило мне поход старинных подводных лодок: погружение в Великое Ничто и скачок в десять светолет, затем всплытие на звездную поверхность для ориентировки и новое погружение с очередным прыжком. Каких-нибудь двадцать часов, и мы у цели — вблизи системы, похожей на Солнечную.
Харда встретила тысячами самовзрывающихся снарядов, выскочивших, очевидно, из необъятных информационных кладовых пустыни. Но эти беспилотные космические аппараты легко истреблялись лазерными лучами и отгонялись защитными полями. Однако один из крейсеров по непонятной причине приблизился к силовой сфере и был захвачен взметнувшимся голубым протуберанцем. Мы увидели ослепительную вспышку. Вероятно, один из членов экипажа сумел взорвать крейсер. К моему великому горю, это был тот самый корабль, на котором находился Алеша Потапов.
Арнаудов приказал отвести корабль подальше. Тогда Абсолют решил вступить в переговоры. На кораблях начали появляться его парламентеры — ожившие символы Вечной Гармонии. На нашем крейсере я видел трех таких посланцев — весьма невзрачных субъектов. Они пытались что-то объяснить, но ничего невозможно было понять — видимо, сказывалось расстояние: мы основательно удалились от Харды.
Я сидел рядом с Арнаудовым, когда засветился экран внешней связи: нас хотел видеть Эрнун, командующий аирянским флотом. Умные глаза аирянина светились лукавством.
— Ну как вам нравится Абсолют в роли дипломата?
Посерьезнев, Эрнун продолжал:
— Наш дешифратор сумел перевести лепет одного из посланцев. От имени Абсолюта он предложил нам выслать на Харду парламентеров. В защитной сфере засветится фиолетовое пятно, своего рода временная «дверца» для одноместного корабля. Место встречи — статуя Генератора. Та, около которой застрял тогда вездеход пленных звездолетчиков…
— Согласен быть парламентером! — воскликнул я, вскочив на ноги. — Знаю это место!..
— Не горячись, Сергей, — сказал Арнаудов и, положив руку мне на плечо, насильно усадил в кресло. — Дело очень сомнительное. Нет никаких гарантий, что парламентеру удастся вернуться…
— И в то же время соблазнительно, — проговорил на экране аирянин. — Нам необходимо кое-что разведать.
Арнаудов встал и принялся мерить шагами каюту.
— Можно испробовать один вариант, — произнес он после долгого молчания. — Пусть Сергей Волошин готовится к экспедиции. А мы кое-что обсудим с кибернетиками…
…И вот настал этот миг. В маленькой одноместной ракете я устремился к засветившейся в защитной сфере фиолетовой «дверце». Ощущение было такое, будто ныряешь в прорубь с ледяной водой. На моих глазах прорубь «замерзала», затягивалась панцирем силового поля. Но я успел проскочить. Дыра закрылась, фиолетовая рябь в защитной сфере погасла.
Моя юркая ракета облетела планету — спутницу Харды, которую мы раньше приняли за Луну. Черным, обгоревшим лесом мелькнули руины города. Вот и космодром. На его пыльной поверхности все так же стоял наш звездолет «Орел». Рядом заметил короткие рубиновые вспышки — вечный огонь на могиле капитана.
Потом я вернулся к Харде и два раза облетел ее. Долго кружил над огромным материком, выискивая гранитную платформу, на которой когда-то совершили посадку. Нашел ее и приземлился.
Открыл люк. Передо мной расстилался все тот же унылый ландшафт. Впереди — статуя Генератора и скособоченный скелет здания. Позади, как зубы хищного ящера, белели вытянутые грядой скалы.
Как встретит меня пустыня? Она может оглушить песчаными бурями и смерчами, которые, очевидно, сопровождают какие-то процессы в суперэлектронном мозгу Абсолюта.
Опасения мои как будто сбывались. Потянулись шелестящие волокна песчаной поземки. Закурились верхушки барханов. Извиваясь, как удав, к небу вытянулся километровой высоты смерч. Но его крутящийся столб, звеня мириадами песчинок, рухнул, как подкошенный. Пустыня присмирела, залегла неподвижным пластом.
Я спустился вниз и направился в сторону статуи. Под ногами поскрипывал и шуршал песок. Невольно поежился: сейчас, когда я все знал о Вечной Гармонии, это траурное шуршание звучало как шепот погибших душ, упакованных в песчинки-ячейки.
В десяти шагах я заметил беззвучно возникшую шеренгу солдат. Около сотни марионеток стояли двумя рядами и тупо взирали на меня. На их плечах поблескивали ружья. Я повернулся к ним спиной и пошел к статуе.
Солдаты, гулко печатая шаг, направились в ту же сторону.
«Почетный эскорт», — усмехнулся я. Однако по спине невольно поползли мурашки.
Когда статуя Генератора черной тенью нависла надо мной, символы остановились.
Вскинув правые руки вверх, они дважды прокричали: «Ха-хай!» — и погасли. В песчаной пустыне остались лишь четкие линии следов.
Я стал ждать «автономного» слугу властелина Харды. Почему-то надеялся, что это будет Незнакомка, наша прежняя собеседница, и от нее я смогу узнать о судьбе своих товарищей. Но вдруг… От неожиданности я вздрогнул. Передо мной возник Хабор! На нем был все тот же крикливый костюм из синтетики — одежда Электронной эпохи.
— Га! Га! Провокатор! — ухмыльнулся Хабор.
Спохватившись, он опасливо взглянул на статую, вскинул правую руку вверх и усердно прокричал:
— Ха-хай! Ха-хай!
Потом повернулся ко мне.
— Давненько, давненько мы не виделись! Что ж, давай посидим, побеседуем, как в былые времена. Где посидим? Ну, за этим дело не станет…
Рядом с нами появился круглый столик, точь-в-точь такой, какие я видел в увеселительных заведениях супергорода. Возникли и два удобных кресла.
— Я смотрю, ты прямо вездесущий, — проговорил я, опускаясь на мягкое сиденье.
— Да, Абсолют даровал мне самые устойчивые вихри, — с гордостью кивнул Хабор и тоже сел. — Там, в Электронной эпохе, я резидент Великого, а сюда меня вызывают для особо важных поручений. Как вот сейчас… Мало кто из слуг пользуется таким доверием Абсолюта. Уже не говоря о том, что я — один из полководцев Армии вторжения. В любую минуту могу принимать парад. Хочешь полюбоваться?
Он взмахнул рукой, и из несметных песчинок пустыни выскочили солдаты. Их было, наверно, миллион. От чугунного топота задрожала почва. Словно одно многоногое, многоголовое чудовище двигалось по пустыне. Вот первые шеренги, приблизившись к статуе, вздернули правые руки, раскрыли рты…
Я заткнул уши, не желая слышать верноподданнический вопль.
Хабор усмехнулся, что-то негромко произнес — и символы послушно погасли.
— Ну как дисциплинка? — взглянул он на меня. — Если бы ты был поумнее, мог бы занять в Вечной Гармонии почти такое же положение, как я. Впрочем, и сейчас еще не поздно. Если ты нам поможешь…
— Ближе к делу! — перебил я. — Меня прислали сюда не для того, чтобы заниматься пустой болтовней.
— Какая деловитость! — насмешливо восхитился Хабор. — Что ж, парламентер, можешь передать своему командующему, что Абсолюту не страшны все ваши армады. Броня Харды непробиваема. Однако Великий искренне желает мира, и, если вы прекратите тщетный штурм и повернете корабли обратно, он готов поделиться с вами некоторыми своими техническими достижениями… Лети, парламентер, и поскорей возвращайся с ответом. Я буду ждать на этом самом месте.
— Мне незачем лететь за ответом. — Я встал, глядя прямо в глаза Хабору. — Ответ здесь, со мной. И он состоит из одного короткого слова: нет! Мы не снимем осаду. И не прекратим борьбу до тех пор, пока не взломаем вашу хваленую скорлупу и не сокрушим Абсолют со всем его проклятым машинным царством.
— А ты не боишься за свои косточки? — почти ласково осведомился Хабор. — Ну-ка, испытаем их на прочность…
Невыносимая боль пронзила позвоночник, в глазах потемнело — и я очнулся… в корабле перед пультом. Надо мной склонился врач, рядом стоял Арнаудов. В открытую дверь заглядывал встревоженный Орион.
— Все в порядке, — выпрямился врач. — Небольшой шок. Сергей слишком вжился в свою роль.
И я сразу все вспомнил. Именно вспомнил, потому что не просто дистанционно управлял из корабля своей биокопией, а фактически слился с ней. Все, что происходило с моим кибером-двойником там, на Харде, как бы происходило и со мной…
* * *
Осада была долгой. Не раз наши корабли пытались прорвать защитную сферу Абсолюта, но в конце концов стало ясно, что пока нам это не под силу. Тогда мы натянули вокруг брони Харды свою мощную изолирующую сферу. Колоссальная энергия для ее поддержания поступала от ближайшей одинокой звезды по проделанному нами вакуум-каналу. Абсолют был блокирован прочно и надолго. Его пространственно-временные экспансии стали невозможны.
Когда-нибудь, когда мы станем сильнее, наши корабли еще вернутся к Харде. Я верю: рано или поздно мы сумеем разгромить враждебное всему живому кибернетическое логово Абсолюта. Быть может, тогда я узнаю наконец о судьбе моих товарищей…
Земная эскадра еще немало дней гостила на планете Аир. Затем начался обратный путь домой. Наши вакуумкорабли перевалили через нуль-континуум и выплыли к другому берегу мироздания, в свою звездную Вселенную.
Поющие луга
Вместо эпилога
С высоты десятого этажа смотрю на холмистые поля и леса, на синеющие вдали пологие Уральские горы и не перестаю удивляться контрастам последних двух лет моей жизни. Кажется, только вчера я был в страшной пустыне Харды, видел шествие мертвых символов, выскакивающих из песчаных информационных хранилищ. А сейчас сижу на увитой зеленью веранде трехсотэтажного дома-города. Сужающийся кверху и похожий на гигантскую елку, город-сад медленно вращался, равномерно подставляя солнцу свои бока.
Та сторона, где находилась наша квартира, незаметно поворачивалась к югу. Солнечные лучи, проткнув подрагивающую листву, упали на стол и рисовали меняющиеся причудливые узоры. Шмель, чудом залетевший с полей на десятый этаж и дремотным гулом нарушивший тишину, уселся на невзрачный цветок. Раскачав его, опять загудел и тяжело переплыл на соседний цветок. Снова тишина… И не верится, что совсем недавно надсадно выли корабельные сирены, кроваво вспыхивали аварийные лампочки: наш обратный переход не был таким уж гладким. Погиб еще один вакуум-корабль, утонул в неизмеримых пучинах нуль-континуума. Вероятно, у него погасло поле хронозащиты. Корабль, как скорлупку, подхватили разнонаправленные потоки времени и, видимо, занесли в прошлое. В очень далекое прошлое. Быть может, в пору огненно клокочущей юности
Вселенной.
Земля торжественно встречала нашу эскадру, хотя мы принесли не только радость успеха, но и горечь потерь.
Миллиарды жителей Земли, Луны, Венеры и Марса видели на экранах, как эскадра, погасив фотонные двигатели, медленно опускалась на гравитационных платформах.
На Камчатском космодроме находились только семьи астронавтов.
Ориона встретила Инга и шестилетняя Настя с неизменным букетом в руках. Увидев цветы, «варварски» сорванные на примыкающих к космодрому полях, Орион только крякнул, поморщился, но ничего не сказал.
Таня приникла головой к моему плечу. Потом, протянув руку, облегченно вздохнула:
— Ну, здравствуй, странник! Звездный ты мой скиталец!
А вечером она пригласила в Антарктиду наших общих друзей — гиперастронавтов. Гостей набралось около полусотни. Они разместились на берегу небольшого пруда. На противоположном берегу, метрах в пятнадцати от нас, склонились над водой Танины инопланетные питомцы. Кварковое солнце угасало, и в таинственных полярных сумерках светящиеся цветы переливались, окрашивая водную гладь колыхающимся семицветьем радуги. Зрелище великолепное. Но то, что мы услышали, превзошло все ожидания.
Гибкие пальцы Тани забегали по клавишам аппарата, излучающего радиоволны. Многокрасочная пульсация непривычно огромных цветов, вначале хаотичная, приобрела стойкость и ритм. А в затрепетавших лепестках зазвучали тихие рассветы, шорохи трав, гул сумеречных лесов. Загрохотали морские бури, и словно на невидимых крыльях мелодии мы унеслись в космос. Мы слышали то волнующие, как ветер, земные легенды, то шелест иных планет, летящих в звездных пространствах…
А цветы полыхали, бросая на лица слушателей багровые, синие, зеленые отсветы.
Счастливая Таня принимала поздравления и благодарности за столь яркое и необычное светомузыкальное представление. Даже Орион, настроенный вначале весьма иронически, удивленно хмыкнул и снисходительно потрепал сестру по плечу.
— Молодец! Твои лягушки не подвели.
Спустя месяц после концерта в Антарктиде мы совершили туристский поход. О нем мы договорились давно. Мы — это Вега с Патриком, я с Таней и Орион, взявший жену и Настю.
Поход начали на Южном Урале, с горы Ильмень-Тау. Лишь изредка пересекали густонаселенные места в вагонах скользящих поездов.
На седьмой день пути, когда солнце катилось к закату, мы поднялись на знакомую гору с лысой вершиной — место нашей первой встречи. Здесь я предложил спутникам сходить в гости к лесничему Эридану Потапову.
— Какой Потапов? — спросил Орион. — Случайно не родственник погибшего Алеши Потапова?
— Это его отец.
Вскоре мы расположились на поляне перед хижиной. Я уже знал, что мое прежнее обиталище стало временной резиденцией Эридана, покинувшего свой городской дом. Горе люди переносят по-разному. Видимо, Потапову легче было здесь, в лесном уединении.
Лесничий появился минут через десять. Он бесшумно посадил свою гравиплощадку рядом с нашими палатками.
Две недели я не видел Потапова. И сейчас с облегчением отметил, что этот мужественный человек в утешениях не нуждался. Когда мы извинились за непрошенное вторжение, его губы, казалось, навсегда скорбно закаменевшие, тронула смущенная улыбка.
— Только рад гостям, — сказал он. — Я вам на ночь сделаю неугасающий огонь древних уральских охотников — нодью.
Наступил вечер. В сумерках вершины гор и зубчатые очертания леса смягчились и напоминали романтические гравюры из старинных книг. На поляне заплясало пламя. Раскрасневшаяся Настя бегала в лес за сухими ветками и подкладывала их в костер, с наслаждением вдыхая горький дым.
Мне всегда нравились уютные вечера около костра, в кругу близких друзей. А сегодняшний вечер для Тани, да и для всех нас, особенный. Днем, в час передачи важных известий, мы включили походный телеэкран и услышали новость: Таня — лауреат Солнечной системы. Ее симфоническая поэма «Из звездных странствий» признана лучшим музыкальным произведением года.
Поэма вызвала споры. Оказывается, не одному мне в беспросветном и неизученном океане нуль-материи почудилась мелькнувшая тень — тень Непознаваемого. Только разным людям явилась эта тень в разных конкретных образах. Мне она представилась, например, в виде неведомого черного всадника, с тревожным рокотом скачущего во мраке вакуума.
У вечернего костра первым заговорил о Таниной поэме Орион.
— А поэма твоя все-таки того… Мрачновата, — сказал он.
— Категорически против такого мнения, — возразила Вега. — Напрасно нападаешь на сестру. Первая часть поэмы говорит лишь о том, что все трудности познания еще впереди. А по закону контраста все остальные части звучат особенно победно и радостно.
— Мне тоже кажется, что серьезное искусство не должно быть слащавым, — поддержал я Вегу. — Оно должно потрясать.
— Мне тоже, — решительно заявила Инга.
— Я-то что… Я согласен, — сдавался Орион, отмахиваясь от нас руками. — Я говорю для ее же пользы. Посмотрите на Татьяну. Она сияет, раздуваясь от тщеславия.
— Вполне объяснимая радость, а не тщеславие.
— Как бы не так, — не унимался Орион, желавший во что бы то ни стало поиронизировать над сестрой. — Посмотрели бы, как в подобных случаях она вертится в своем пенелоновом платье. К сожалению, сегодня мы лишимся этого пышного зрелища. Она ничего не знала и платье не прихватила.
— А вот возьму и надену, — рассмеялась Таня. — Смотри!
Она вытащила из кармана походной куртки клубок не больше теннисного мяча. Подбросила его вверх, и клубок в воздухе развернулся в искрящееся платье, отливающее холодным фиолетовым пламенем. Настя прыгала от восторга и бережно расправляла звездное полотнище.
Все хохотали до слез, глядя на заморгавшего от неожиданности Ориона. Даже хмурый Эридан Потапов улыбнулся.
— Ты смотри, — бормотал Орион. — И тут все предусмотрела…
Таня ушла в палатку переодеваться.
Костер угасал. Но Эридан вместо него соорудил нодью из двух сухих бревен. Обращенные друг к другу тлеющими боками, бревна багрово светились и разливали вокруг домашнее тепло. Мы потом всю ночь спали у нодьи, как около печки.
Костер почти погас. На тлеющих углях плясали голубые мотыльки. Нодья источала тепло и приглушенный свет. В это время из палатки вышла Таня в своем удивительном платье, в котором то переливались земные туманы, то колыхался звездный блеск.
— Гм, — бормотнул Орион, стараясь придать голосу иронию. — Ты похожа на эту… На странствующую звездную принцессу, ступившую на грешную Землю. Что-то в этом роде.
В голубоватых отсветах звездного платья лицо Тани выглядело непривычно белым, а волосы — черными, как ночь, и она снова напомнила мне другую женщину из иного мира… Как они все-таки похожи, и как не похожи их жизни! Два мира — две судьбы… С трагически одинокой Элорой у меня связываются страшные образы города Электронного Дьявола и тотальной пустыни Вечной Гармонии. А когда думаю о Тане, перед глазами развертывается совсем иная картина: усеянный цветами луг и жаворонок, повисший в небе серебряным колокольчиком.
…Не заметил, как прошло два часа. Пирамидальный город-сад повернулся на 180 градусов, и веранда опять в тени. На севере, в тридцати километрах отсюда, в лучах заходящего солнца четко выступали очертания огромной голубой тарелки. Это новый город — чудо гравитационной техники. Он парил в воздухе над излучиной Камы и походил издали на циклопических размеров цветок. Чуть наклоненный к югу, цветок медленно вращался и, подобно подсолнечнику, сопровождал наше светило, раскрывая навстречу лучам свои гигантские лепестки-сектора.
И опять я подумал о Тане, о ее увлеченности цветами и музыкой. После окончания туристского похода мы поселились здесь, в пирамидальном городе. В тот же день вот на этой веранде Таня делилась со мной своей мечтой.
— Природа допустила небольшой просчет, — говорила она. — В лесу поют птицы, звенят сосны, шумит листва. Выйдешь в поле — цветы… Они приятно пахнут, ласкают глаз. Но почему молчат? Они должны звучать, как музыка, петь, как птицы. Что нужно, чтобы исправить оплошность природы? Небольшое вмешательство в генетическую основу…
Таня рассказала о своей будущей работе, в которой найдут применение обе ее профессии — биолога и композитора. «Поющие луга» — так я тут же назвал ее проект, фантастически трудный по исполнению. И продекламировал подходящие к ее замыслу стихи поэта XIX века. Я помнил их еще со школы:
Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
— Какие хорошие стихи! — обрадовалась Таня. — Вот видишь, поэты давно мечтали о поющих степях. Вернее, они воспринимали их поющими. Колокольчики!.. Они должны у меня именно звенеть, как серебряные. Тихо и нежно. Чуть громче, на манер пастушеской свирели, будут звучать полевые лютики. А ромашкам и василькам отведу роль первых скрипок. Мои питомцы в Антарктиде — не то… Это почти биороботы. А наши дорогие с детства полевые цветы останутся у меня такими же живыми. И откликаться они будут не на грубые радиоволны, а на биоизлучение человека.
Мне понравилось, что Танины луга будут жить словно в едином ритме с человеком, с его думами и настроениями. Отзываться на биоизлучение человека! Эти слова подсказали мне замысел фантастической картины, которую я вскоре начал писать. Картина под названием «Поющие луга» должна стать своего рода картиной-метафорой, картиной-символом. Один вариант готов, стоит сейчас на веранде передо мной. Многое хочется вместить в картину: и просторы степей, в которых то печет солнце, то гуляют дожди и грозы; и бесшумный скользящий поезд; и парящий вдали на горизонте город. Фантастический, еще никем не виданный сиреневый аэрогород, этакий медленно вращающийся шар-глобус, плавающий на гравитационных волнах. На переднем плане — люди: гиперастронавт, только что вернувшийся на Землю, и его подруга. Они идут по тропинке среди пахучего степного разнотравья. Медуницы и ромашки, яркие лютики и трогательные васильки — все цветы вблизи людей вздрогнули лепестками, отозвавшись на биоизлучение. Они чутко уловили их настроение и встретили никем и никогда не слыханной мелодией. Лица двоих изумлены и радостны, их мысли и чувства сливаются в едином звучании с природой…
…Зашуршали под ветром листья, и на моем столе заплясали узорчатые солнечные блики — веранда вновь на южной стороне. Сзади послышались легкие шаги — пришла Таня.
«Жаворонок», — с нежностью подумал я, когда почувствовал на плечах ее длинные пальцы.
— Заканчиваешь свои страшные звездные воспоминания?
— Да. Но не только страшные; ведь есть кое-что и о тебе…
Таня ушла в небольшой зал с высоким, акустически выверенным полусферическим потолком и села за электронный музыкальный аппарат, сочетающий достоинства многих старинных инструментов — рояля, скрипки, органа и арфы. Зал рядом с верандой, и я хорошо слышал, как Таня импровизировала. Под ее удивительными пальцами расцветала сказка, где солнечные дали открывались одна за другой.
На западе, за лесистыми увалами, заполыхал костер вечерней зари. Я смотрел на колышущееся марево и думал о том, каким странным сиянием, предзакатным блеском озарилась моя жизнь, прежде полная тревог и опасностей. Теперь, казалось бы, можно отдыхать, тихо грезить и писать фантастические картины о поющих лугах. Но я еще не стар. Я — астронавт и пока еще не думаю о Земле как об уютной гавани, где можно осесть навсегда.
Скоро в другой рукав нашей Галактики уйдет новый отряд вакуум-кораблей. Туда, где находится загадочная Глория.
По отрывочным сведениям наших космических братьев и соседей, на Глории в древние времена развивалась цивилизация технологического типа. Сейчас планета лишилась биосферы. Она покрылась металлическим панцирем, ощетинилась лесом антенн и огромных вибрирующих усиков, которые стреляют аннигиляционными разрядами по всякому приблизившемуся кораблю. Там тоже произошел, очевидно, технологический коллапс.
Может быть, причина — гедонизм? В Совете Астронавтики я высказал предположение, что Глорию населяла изнеженная гуманоидная раса, передавшая технике заботу о себе и всякий труд, в том числе и духовный. Непомерно разросшаяся на Глории техносфера стала нянькой бездумно наслаждающихся жизнью разумных существ, спрятавшихся в электронных или иных уютах от природы, духовных поисков и труда. Потом техно-сфера, вытесняя биосферу, обрела полную самостоятельность, «поумнела» и в конце концов решила, что такие гуманоиды — тупиковый вариант эволюции, который следует упразднить…
Новая экспедиция должна разгадать загадку далекой Глории.
…Закатный костер на западе погас, дотлевали его последние тускнеющие угли. В темном небе рассыпался светящийся пепел — легионы далеких солнц. Мыслью, воображением я уже был там, в распахнувшейся звездной тиши, в которую вплетались еле слышные задумчивые звуки музыки.
Вакуум-эскадра совершит переход к отдаленному витку Галактики в считанные месяцы. Не пройдет и года, как корабли выплывут из черных глубин вакуумного океана на свет, на волнующуюся звездную поверхность. Вынырнут вблизи Солнечной системы. И я увижу издали нашу Землю…
Зеленую планету в синем плаще океанов, где нас будут ждать светлые города, прохладные леса и поющие луга.
СЛЕПЫНИН С
ФАРСАНЫ
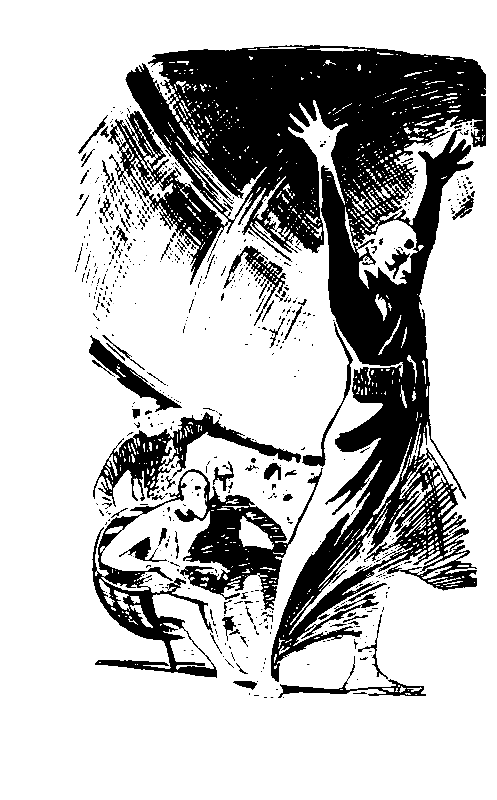
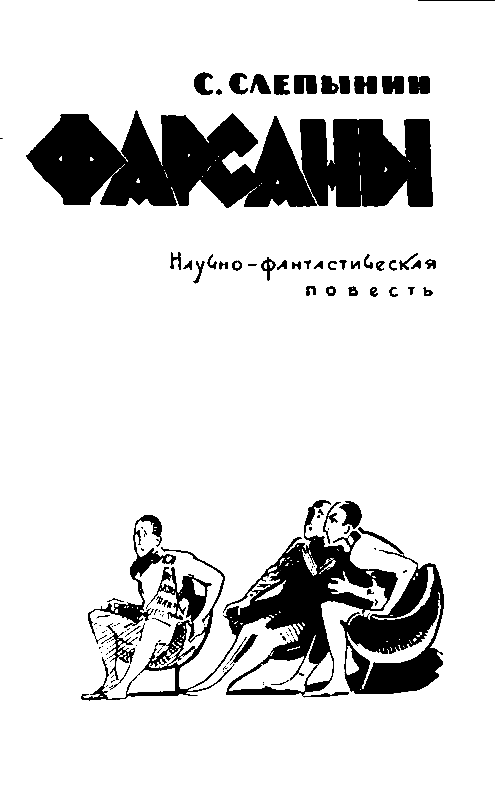
Нет, решительно не клеится у меня сегодня работа. Какая-то глухая тревога, предчувствие чего-то недоброго не дают мне покоя еще со вчерашнего утра.
Цефеиды, загадочные пульсирующие звезды… Какая все-таки увлекательная тема! Но я никак не мог начать сегодня вторую часть своего многолетнего труда о цефеидах. Три часа назад заложил в клавишный столик чистый кристалл для записей. Но на нем так и не появилось ни одного слова. Я всячески пытался освободиться от непонятного чувства тревоги и войти в привычный ритм. Но ничего не помогало. Работа не двигалась…
Наконец я встал и подошел к иллюминатору. Нажал кнопку- и внешняя, противометеоритная шторка отошла в сторону.
Засверкала многоцветная звездная пыль.Наша Галактика…Я любил часами стоять у иллюминатора и, вглядываясь в пылающую Галактику, в эту непрочитанную огненную книгу, чувствовать себя словно шагающим по межзвездным просторам.
Одним словом, вид Космоса приносил мне радость. Но сейчас… Сейчас Космос показался мне угрюмой и пугающей бездной. Чудилось, что с ледяной улыбкой сфинкса он смотрит на тщету жизни, на тщету усилий человека, вторгшегося на крохотном корабле в его безграничные холодные просторы.
И снова вспомнился Вир-Виан… Не знаю почему, но в последнее время я все чаще вспоминаю этого выдающегося ученого и странного мыслителя. Все чаще и чаще забредаю в сумрачные дебри его космической философии- философии ущербной, закатной и так соответствующей моему теперешнему подавленному настроению.Вот и сейчас,глядя в бездонную звездную пучину, я словно слышу шепот Вир-Виана: «Вселенная активно враждебна жизни… Жизнь — это крошечный водоворотик в огромном потоке звезд и галактик… А разум человека?… Мертвая материя, безграничный Космос всегда торжествует над разумом Вселенной, над мудростью человека- над этим зыбким и кичливым духом…»
Я закрыл внешнюю шторку иллюминатора и, чтобы освободиться от смутных, тревожных мыслей,снова сел за клавишный столик.Но не для того, чтобы продолжать свой научный труд. Нет, я решил писать нечто вроде дневника. Быть может,это занятие принесет мне облегчение,и я забуду о недобрых предчувствиях. Во всяком случае, попытаюсь разобраться в своих ощущениях.
Прямо против меня на стене тускло поблескивает экран внутренней связи. После квантового торможения связь расстроилась,и я был доволен,что никто не нарушит моего одиночества. Но, к моей досаде, экран вдруг засветился. На нем возникло лицо Рогуса. Больше всего мне не хотелось видеть именно его.
— Эо, капитан!- начал он виноватым голосом.- Как изображение? Я сейчас в кают-компании.
На своем экране Рогус не увидит и не услышит меня до тех пор, пока я не включу связь с этой стороны. Что делать? Быть может, не включать? Но я все же протянул руку к правому краю столика и нажал кнопку.Рогус обрадовался, увидев меня.
— Чего вы хотите, Рогус?- нетерпеливо спросил я.
— Извините,капитан.Я исправил внутреннюю связь и хотел проверить, как она работает. Вижу, что все в порядке.
И он улыбнулся.Удивительная улыбка у Рогуса- простодушная, как у ребенка, получившего удовольствие.Но она мне почему-то не понравилась с самого начала,с первого дня межзвездного полета,а сейчас показалась еще неприятней.
— Спасибо, Рогус,-сухо поблагодарил я.- Не ожидал,что так быстро наладите связь. Вы хороший бортинженер.
Положив палец на кнопку,я хотел уже выключить связь, как вдруг подумал: «Сэнди-Ски… Каким он мне сейчас покажется- таким же необычным и чуждым, как вчера, или нет?»
— Сэнди-Ски в рубке внешней связи? — спросил я.
— Да.
— Позовите его.
На экране возник улыбающийся Сэнди-Ски.И такое дружелюбие было написано на его крупном и выразительном лице,что я невольно улыбнулся в ответ. Тут же внутренне упрекнул себя: как я мог заподозрить в чем-то Сэнди-Ски!
— Эо, Тонри! — радостно приветствовал он меня.
— Эо!-воскликнул я.- Что нового на экране внешней связи? Как видна планета Голубая?
— Плохо,-вздохнул Сэнди-Ски.Улыбка на его лице погасла.- Вся освещенная часть Голубой затянута облаками.Видимость отвратительная.Пока веду наблюдение за другими планетами.
— Как только улучшится видимость, позови меня.
— Хорошо,Тонри.А ты, я вижу, начал вторую часть своего труда о цефеидах?
— Да.
— Успешно?
— Успешно,- ответил я,смутившись: я впервые солгал своему другу.
— Отлично, дружище. Не буду мешать.
Сэнди-Ски выключил связь.Его лицо затуманилось и исчезло с экрана.
В моей каюте снова наступила тишина.Лишь со стороны кормы доносился едва слышный гул планетарных двигателей.Чистый и ровный,он свидетельствовал об их отличном состоянии. Вообще на корабле все благополучно. И все же мое сердце снова сжала тревога. Ощущение неведомой опасности, гнетущее чувство чего-то недоброго вновь охватило меня.
Что же,собственно,произошло?Почему я стал избегать членов экипажа и чего-то бояться?Пожалуй,с этого Сэнди-Ски все и началось.Вернее, с одного случая в рубке внешней связи. Было это утром 8-го дня 109-го года Эры Братства Полюсов- знаменательного дня в нашей жизни. В этот день мы приблизились к окраине планетной системы- цели нашего полета.Кибернетический пилот корабля, используя всю мощь двигателя,очень быстро погасил межзвездную, субсветовую скорость до межпланетной.Мы же в это время, одетые в специальные скафандры, спасались от перегрузки в магнитно-волновых ваннах и висели там в паутине силовых полей. Если бы звездолет не был оснащен тормозными устройствами и магнитно-волновыми ваннами, наше торможение затянулось бы на годы…
Когда заработали планетарные двигатели и корабль перешел на межпланетную скорость,мы выползли из ванн.Именно выползли,устало и ошалело оглядывая друг друга. Даже в ваннах, опутанные защитными силовыми полями, мы чувствовали удушливую, свинцовую тяжесть невероятной перегрузки.
Члены экипажа разбрелись по своим каютам. Лишь один Сэнди-Ски остался в кают-компании. Растянувшись в мягком кресле, он проговорил:
— Отдохну и здесь.
У меня же было много дел.Да и чувствовал я себя, пожалуй, всех бодрее. Я уселся в глубокое кресло перед пультом управления и по приборам долго следил за работой всех агрегатов корабля.Торможение почти не отразилось на показаниях приборов.Все было в норме.Молодец все-таки Рогус,хороший, знающий бортинженер. Затем по приборам и по гулу, доносившемуся со стороны кормы, я тщательно проверил работу планетарных двигателей.
Только после этого вошел в рубку внешней связи. Субсветовая скорость до сих пор мешала получать хорошее изображение.Сейчас же мне хотелось посмотреть на планеты при замедленной скорости корабля.
Я сел перед огромным круглым экраном связи и включил телескоп- мощный глаз корабля, дающий возможность производить локацию отдаленных космических тел. На экране развернулась изумительно четкая картина целого хоровода планет.
Обернувшись назад, я крикнул в кают-компанию:
— Сэнди! Ты отдохнул?
— Немного отдышался. А что?
— Иди сюда! Здесь такое зрелище…
Сэнди-Ски вошел в рубку и встал за моей спиной,опираясь руками о спинку кресла. Касаясь пальцами кнопок, я стал увеличивать изображение. На экране выплывали отдельные планеты. Первой показалась полосатая гигантская планета -самая большая в этой системе. На ее поверхности бушевали неимоверной силы атмосферные бури.Она имела около десятка спутников.Небольшой поворот тумблера — и на экране возникла соседняя планета,чуть меньше, но с оригинальным украшением — ярким кольцом.
— Зачем выхватываешь планеты из середины?- проворчал Сэнди-Ски.- Ты давай по порядку.
Я перевел луч телескопа туда, где находилась орбита планеты, ближайшей к центральному светилу. С трудом нащупал маленькую, юркую планету, лишенную атмосферы.
— Я так и знал: мертвая планета,- сказал Сэнди-Ски. — Она похожа на нашу Зиргу. Давай дальше.
Сэнди-Ски хотел поскорее рассмотреть третью планету — Голубую, как мы назвали ее раньше. Но я все же сначала показал ему вторую от центрального светила планету. Она имела плотную и совершенно непрозрачную атмосферу. Таинственной незнакомкой назвал ее как-то Сэнди-Ски.
— Давай дальше, — нетерпеливо шептал за моей спиной Сэнди-Ски.
Я стал нащупывать Голубую.Вот она!Отчетливо,как никогда раньше, мы видели голубые океаны, зеленые материки, белоснежные полярные шапки и облака.
— Жизнь!- воскликнул Сэнди-Ски. — Я же говорил, что здесь есть жизнь. Голубая- настоящая жемчужина этой планетной системы. Какая пышная, богатая биосфера! Да это настоящая оранжерея! Не то,что наша Зургана.
«Жемчужина»,"оранжерея» — как естественно прозвучали эти образные слова в устах Сэнди-Ски.И все же,когда он сравнивал Голубую с нашей родной Зурганой, я почувствовал,что в его речи чего-то не хватает. Чего? Я и сейчас не могу дать на это определенный ответ.Если бы вместо Сэнди-Ски был Рогус или пилот Али-Ан,я бы не удивился.Тех я считал людьми несколько скучноватыми. Но ведь это Сэнди-Ски с его необузданной,причудливой фантазией,Сэнди-Ски я знаю, как самого себя! Почему же в его упоминании о нашей родной планете я не уловил какой-то живой и дорогой сердцу нотки? Словно Сэнди-Ски никогда не жил на Зургане,а имел о ней основательное,но книжное представление. Неужели он не помнит,например, как мы совершили с ним труднейший пеший переход по Великой Экваториальной пустыне до оазиса Хари?Я до сих пор чувствую,как немилосердно палило тогда солнце, как захлестывали нас горячие бури, а на зубах противно скрипел песок. Но мы шли и шли по бескрайнему океану песков, гордясь своей силой и выносливостью.

Нет,я не прав! Сэнди-Ски хорошо памятен этот эпизод из нашей жизни на Зургане.Он сам тут же вспомнил о нем.Но вспомнил так,что я не почувствовал жаркого дыхания пустыни,как-то рассудочно… И нельзя сказать, что речь Сэнди-Ски была унылой и плоской,как та пустыня,о которой он говорил, сравнивая нашу обожженную солнцем планету с многоводной планетой Голубой.Его речь была по-прежнему сочна и метафорична.Но странное дело: все метафоры и живописные слова словно потускнели.Да,именно такое впечатление, как будто Сэнди-Ски не жил на Зургане.Он словно не впитывал всеми порами своего тела жарких лучей нашего буйного солнца,словно никогда не ощущал упоительной прохлады северных лесов…
Когда я подумал об этом, сидя за экраном внешней связи, я почувствовал вдруг какое-то смутное беспокойство,даже тревогу и невольно обернулся. Меня не удивило выражение жадного любопытства на лице Сэнди-Ски. Именно таким я и ожидал увидеть лицо моего друга в этот момент. Но его глаза! Не знаю почему, но я вздрогнул, взглянув в его глаза!…
* * *
Хрусталев отодвинул рукопись в сторону, достал папиросу и, улыбнувшись, взглянул на своих слушателей Кашина и Дроздова- давних друзей и сослуживцев по научно-исследовательскому институту. На их лицах он увидел любопытство с некоторой долей недоумения. И не мудрено. Хрусталев позвал их вечером к себе домой, чтобы прочитать какую-то рукопись и услышать их мнение. Но какую рукопись, он толком не объяснил.
Хрусталев не спеша закурил,придвинул рукопись и, еще раз взглянув на друзей, приготовился снова читать.
— Подожди,Сергей,-остановил его Кашин.-Признаюсь,ты нас заинтриговал.- И, насмешливо сощурившись,спросил:- Ты что, на старости лет ударился в научную фантастику?
— Нет,друзья,это не фантастика,-рассмеялся Хрусталев.-Я вас, видимо, еще больше заинтригую, если скажу, что это дневник астронавта, прилетевшего на Землю в начале нашего века.
Дроздов, невозмутимый, несколько располневший человек, сидевший в мягком кресле в ленивой и удобной позе, усмехнулся и, махнув рукой, сказал:
— Конечно,фантастика.Я даже догадываюсь,о какой планетной системе говорится в твоей рукописи.О нашей Солнечной системе.Самая большая планета — это Юпитер, другая, поменьше, с ярким кольцом,- Сатурн. А планета Голубая с богатой биосферой — это, конечно, наша Земля.
— Верно,-сказал Хрусталев.-Между прочим, тебя эта рукопись особенно должна заинтересовать.Ты же участник одной из экспедиций в район Подкаменной Тунгуски, и ты работал над разгадкой тайны тунгусской катастрофы.
— Никакой тайны уже нет, Сергей,- лениво возразил Дроздов. — Сам знаешь, что это был метеорит, а вернее всего,- комета.
— Да, я раньше тоже был сторонником метеоритной гипотезы. Но сейчас нет. Давайте вспомним общеизвестные факты. Утром 30 июня 1908 года жители Сибири видели в небе огненный след. Затем в районе Подкаменной Тунгуски раздался чудовищный,ни с чем не сравнимый в те времена взрыв.Лишь в наши годы ученые сравнивают его со взрывом многих водородных бомб. Ослепительную вспышку сибиряки видели на расстоянии 400 километров. Воздушную волну зарегистрировали даже в Лондоне,она дважды обошла земной шар.Подсчитано, что такой взрыв мог произойти только в том случае,если бы метеорит весом в сотни тысяч тонн,войдя в атмосферу с огромной,космической скоростью, ударился бы о землю.Но в том-то и дело,что,как вы знаете,никакого удара о землю не было. Все экспедиции, побывавшие на месте катастрофы,в центре взрыва нашли совершенно неповаленный лес.Однако деревья стояли голые, как телеграфные столбы.Ветви с них содраны.До сих пор стволы носят на себе следы мгновенного и очень сильного ожога.Лишь на большом удалении от эпицентра деревья повалены в сторону взрыва.Все это говорит о том,что взрыв произошел на большой высоте в воздухе.Это первая и ничем не объяснимая загадка метеорита. Вторая загадка заключается в том, что от огромной массы небесного тела не осталось ни малейшего следа,ни одного осколка. Факт невероятный! Ведь даже намного меньший Сихотэ-Алинский метеорит распался на тысячи осколков от одного миллиграмма до нескольких тонн весом.А вспомните Аризонский метеорит! Весил он также десятки или сотни тысяч тонн. Но он сохранился почти целиком. А вот от Тунгусского метеорита,от его колоссальной массы не осталось ничего. Чем вы это объясните?А все загадки- и то,что взрыв произошел в воздухе,и то, что от небесного тела не осталось ни следа,- все эти загадки объясняются очень хорошо и просто, если предположить, что в воздухе взорвался…
— Космический корабль!- рассмеявшись, прервал его Кашин. — Брось, Сергей. Все это выдумки безответственных фантастов и немногих романтически настроенных ученых. Ты лучше почитай свою фантастику, а мы послушаем.
— Нет, это не выдумки,- спокойно возразил Хрусталев.-Раньше я тоже считал эту гипотезу слишком романтической, чтобы быть правдивой. Но я для этого и позвал вас, чтобы представить доказательство в пользу этой гипотезы, которая уже перестает быть гипотезой.
Хрусталев вынул из ящика письменного стола небольшую странного вида шкатулку и открыл ее.Внутри лежал прозрачный многогранный кристалл величиной с голубиное яйцо.
— Вот это доказательство- кристалл, — чуть волнуясь, сказал Хрусталев.
— Похож на алмаз, — проговорил Дроздов.
— Похож,-согласился Хрусталев.-Но это не алмаз.Присмотритесь внимательно.
Внутри кристалла вспыхнула оранжевая искра. Она все больше разгоралась. И вдруг весь кристалл заполыхал буйным многоцветным пламенем. На мгновение он погасал, образуя как бы паузы, затем вспыхивал с прежней силой.
Закрыв шкатулку, Хрусталев сказал:
— Когда шкатулка закрыта,пламя гаснет. Я не хочу зря тратить энергию, источник которой еще неизвестен.Вероятно,вы догадываетесь,что этот кристалл и есть дневник астронавта.Дневник написан разноцветными пламенеющими, как огонь,знаками- буквами, которые образуют слова. Слова и фразы разделены паузами. Жителям планеты Зурганы,откуда прилетел астронавт, такие кристаллы заменяют книги.Когда обитатель Зурганы хотел сделать какую-либо запись, он вставлял неиспользованный кристалл в особый аппарат- так называемый клавишный столик. После этого человек- я так буду называть разумных обитателей Зурганы — садился за столик и пальцами нажимал разноцветные клавиши.Он словно играл на клавишном музыкальном инструменте. Аппарат настолько чуток, что на кристалле в цветах, в их трудноуловимых оттенках воспроизводил душевное настроение человека.Каждое слово наполнялось не только логическим,но и лирическим, эмоциональным содержанием.Таким образом, каждая фраза, запечатленная в гармонии цветов, захватывает, чем-то волнует, производит впечатление какой-то неземной музыки- то радостной,то торжественной,то печальной- в зависимости от настроения человека,сделавшего запись. Но о цветовой музыке немного позже.
— Все это очень интересно,- задумчиво проговорил Кашин. Он был серьезен и больше не подтрунивал над Хрусталевым. — И все это так фантастично, что с трудом верится. Но кристалл!Он убеждает меня, заставляет верить. Кристалл действительно любопытный. Как он попал к тебе?
— Как попал,спрашиваешь?Случайно попал.Летом прошлого года,как вы знаете, я проводил отпуск у себя на родине,в Красноярском крае. Как-то я пошел на охоту и забрел в небольшую деревню,затерявшуюся в тайге. Она расположена в ста километрах к югу от Подкаменной Тунгуски. Заночевать пришлось в избушке старого охотника Вавилова.Утром мы вместе отправились на охоту. Зашли очень далеко и сделали привал на небольшой поляне, на которой рос раскидистый могучий кедр.Вавилов рассказал случай,который произошел с его отцом здесь,на этой поляне,свыше восьмидесяти лет назад.Из его рассказа я догадался,что это случилось 30 июня 1908 года,в день падения Тунгусского метеорита. Вавилову-старшему было тогда 17 лет.Охотясь в лесу, он неожиданно увидел в небе огненный шар,пролетевший на север.Затем в небе он заметил какую-то медленно опускающуюся точку.Скорость ее стремительно нарастала. И вдруг почти к самым ногам упал какой-то предмет, напоминающий небольшой ящичек или шкатулку. Вавилов взял ящичек,но тут же,вскрикнув от боли,выпустил из рук. Ящичек был горяч, как уголь, взятый только что из костра. В тот же миг ослепительная вспышка заставила Вавилова закрыть руками глаза.Ему показалось,что в тайгу, совсем рядом,упало солнце.Когда он открыл глаза,то с любопытством и страхом осмотрелся вокруг. Ничего не изменилось. Тайга имела обычный вид. Вавилов подождал, пока остынет ящичек, и снова взял его. В этот момент раздался оглушительный грохот. Воздушной волной Вавилова сбило с ног. Оглушенный и испуганный,он пролежал,заткнув уши,около четверти часа. В тайге бушевал ураган,трещали деревья. Когда Вавилов, наконец, встал, ему показалось, что тайга чуть поредела. И в самом деле,у многих деревьев верхушки и ветви были сломаны.Со страхом взирая на ящичек- причину,как ему казалось,всех непонятных и грозных явлений,он подошел к разлапистому кедру и сунул ящичек в дупло.Там он и пролежал более полустолетия.Потом отец показал его сыну и положил на место.
Выслушав рассказ Вавилова,я подошел к кедру, сунул руку в дупло и действительно нашел в трухе ящичек,напоминавший небольшую шкатулку, сделанную из неизвестной пластмассы.Вавилов разрешил мне взять с собой этот напугавший в детстве его отца ящичек.Вернувшись с охоты,я попытался открыть шкатулку,но не смог,так как поверхность ее была немного оплавлена. И только дома, в Москве, я с трудом открыл шкатулку и увидел кристалл.
— И ты заинтересовался им как геолог?-спросил Дроздов,слушавший Хрусталева с нескрываемым любопытством. Его обычной апатии и невозмутимости как не бывало.
— Ну, конечно,я же геолог!- воскликнул Хрусталев.- Пляшущие цвета поразили меня, а сам кристалл не походил ни на один земной минерал. В шкатулке я обнаружил небольшой осколок кристалла.Я тщательно осмотрел кристалл и нашел его в полной сохранности.Создавалось впечатление, что осколок положен специально.Но зачем?Ответ напрашивался сам собой:для того, чтобы произвести анализ кристалла,не нарушая его целости.Я так и сделал. Вот что дал анализ: углерод- 53 процента,азот- 19,кремний- 12,магний- 10 и золото- 6 процентов. Итого — пять элементов. Вглядываясь в загадочные пляшущие цвета, я словно почувствовал звучание какой-то музыки и смену моего собственного настроения. Я переживал то страх,то радость,то грусть. И тут меня ошеломила догадка: на кристалле огненными знаками записаны какие-то сведения. Я, конечно, тогда еще и не думал, что кристалл- дневник астронавта.Но начал предполагать, что все это связано с тайной Тунгусского метеорита. Но как расшифровать эти сведения?Я тщательно изучал запись на кристалле, особенно начало, и уловил некоторые закономерности.А именно: вначале шли пять огненных знаков, разделенных небольшими паузами.Эти пять серий повторялись трижды. Затем длинная пауза,за ней- целая группа серий.В ней наряду с другими я уловил уже знакомые мне серии.Я начал соображать: пять серий, разделенных небольшими паузами,- это пять слов, а целая группа серий- это уже фраза. И тут меня осенила еще одна счастливая догадка.Пять слов- это пять элементов, из которых состоит кристалл: углерод, азот, кремний, магний и золото.А фраза, повторенная дважды,должна была,на мой взгляд,переводиться так:«Этот кристалл состоит из пяти элементов- углерода,азота, кремния, магния и золота». Таким образом, у меня было что-то вроде ключа к неведомому языку.
— Молодец,Сергей!-воскликнул Кашин и добавил со своей обычной добродушной иронией: — Я давно подозревал, что ты смышленый малый.
— Вот именно,- усмехнулся Хрусталев.- То же самое, только иными словами, сказал и Хабанов.Это мой приятель- очень способный лингвист из института языкознания.Дело в том,что один я не смог бы расшифровать запись и попросил помочь мне Хабанова.Я ему все рассказал, и он одобрительно отозвался о моей догадке: пять слов- пять элементов кристалла. Но своей особой заслуги я не вижу.Ведь я уже знал,что кристалл состоит из пяти элементов.И догадаться было нетрудно. Вся материя Вселенной состоит из одних и тех же элементов, записанных в таблице Менделеева. Предположим, что житель другой планеты захочет научить нас своему языку.Он постарается дать к нему ключ.И начнет, конечно, с элементов — с этого универсального языка Вселенной.
Цветные знаки кристалла мы с Хабановым сняли на цветную пленку.Хабанов часто брал ее с собой в институт языкознания,чтобы поработать там,привлекая на помощь компьютер.Эта машина специально запрограммирована на расшифровку языков.В общем,не буду рассказывать о том, как мы работали, чтобы узнать морфологию,синтаксис, весь строй неземного языка. Скажу сразу, что через некоторое время мы имели перевод дневника астронавта.Правда, еще далеко не совершенный.В тексте было немало пропусков, неясных мест. Ведь в дневнике говорится о понятиях и явлениях,совершенно неизвестных на Земле.Я продолжал работать над текстом дневника,чтобы приблизить его, так сказать, к земным условиям.О многом мне пришлось догадываться, а многое- просто домысливать. Поэтому не удивляйтесь, что в дневнике неземного астронавта так много земных понятий, образов и представлений.
— Вот теперь ясно,что за рукопись ты начал читать,-проговорил Дроздов. — Неясно пока одно:почему космический корабль не мог совершить посадку? Почему он взорвался в самый последний момент?
— Справедливые вопросы,- одобрительно сказал Хрусталев.- Станислав Лем, Казанцев и другие писатели-фантасты,а также те ученые,которые поддерживали их романтическую гипотезу,утверждали,что астронавты хотели совершить посадку,но не смогли.Корабль взорвался над тайгой в самый последний момент якобы из-за технических неисправностей.Это было,пожалуй,самое уязвимое место их гипотезы.Ведь чем совершеннее техника,тем она надежней. Поэтому трудно и даже невозможно предположить,что такое чудо техники,как звездолет,взорвался, словно старый паровой котел Джемса Уатта.Почему же все-таки взорвался корабль? Все станет ясно,если скажу,что капитан корабля мог совершить посадку,мог,но не захотел.Хотя посадка на Землю и была целью экспедиции. Но капитан корабля боялся, что посадка на тысячелетия задержит прогресс земной цивилизации.Поэтому он сам взорвал звездолет, сам уничтожил себя и всех членов экипажа.
— Сам?!- воскликнули Дроздов и Кашин. — Невероятно!
— Между тем,это так.Когда я прочитаю дневник до конца, вы поймете, что у астронавта не было иного выхода.
— Твоя гипотеза довольно занимательна,-сказал Дроздов.-Но как ты объяснишь один удивительный факт:космическое тело взорвалось,даже не коснувшись Земли. Признаюсь,для меня, сторонника метеоритной гипотезы, причины этого явления неясны. Не может объяснить этот факт и романтическая гипотеза. Ведь если корабль погиб из-за технической неисправности, то он должен был взорваться, ударившись о Землю. Однако взрыв произошел на сравнительно большой высоте.
— Этот действительно удивительный факт хорошо объясняет мой вариант романтической гипотезы,- сказал Хрусталев и, улыбнувшись, добавил: — Кстати, когда я дочитаю дневник, вы все же согласитесь, что моя точка зрения уже не гипотеза, а факт.Утверждаю,что звездолет был абсолютно исправен. Капитан корабля относился с исключительным уважением к инопланетным цивилизациям,и он не хотел взрывом причинить вред биосфере Земли.Поэтому, пролетев над сибирской тайгой на высоте нескольких километров и сбросив свой дневник, он в районе Подкаменной Тунгуски, как я предполагаю, сделал попытку повернуть вверх и взорвать корабль за пределами атмосферы.
— И что же ему помешало? — спросил Кашин.
— Ему помешали члены экипажа.Когда капитан делал поворот, они в его действиях почувствовали что-то неладное и набросились на начальника экспедиции.И капитану ничего не оставалось, как немедленно взорвать корабль.
— Это уж совсем любопытно!- воскликнул Кашин.- Тогда читай.Фантастика это или нет, но мы готовы слушать.
— Но перед этим посмотрите, как выглядит в цветных знаках хотя бы начало дневника. Цветная запись на кристалле передает не только смысл речи, но и самое затаенное настроение астронавта.Она совершенна и музыкальна, в буквальном смысле музыкальна.
Хрусталев открыл шкатулку.Через минуту кристалл заискрился, запламенел многоцветными знаками.В чередовании и интенсивности цветных знаков Дроздов и Кашин почувствовали что-то тревожное. И вдруг им почудилась какая-то музыка, какие-то певучие, волнующие звуки.В них послышалось чувство такого одиночества и скорби, что все вздрогнули.
— Что это? — спросил Кашин.- Почему такая скорбь?
— Дальше вы все поймете,когда я прочитаю дневник,- сказал Хрусталев, закрывая шкатулку.- Это лишь начало. Не весь дневник написан в таких трагических и скорбных тонах. В нем много ликующих красок и звуков. И вообще весь дневник в целом звучит как гимн,как радостная,жизнеутверждающая музыка. А теперь наберитесь терпения и слушайте.
Хрусталев зажег погасшую папиросу, раза два затянулся и, придвинув рукопись, принялся за прерванное чтение.
* * *
Глаза Сэнди-Ски… Я лишь мельком заглянул в их глубину. И они мне почему-то не понравились, что-то чуждое отразилось в них. В чем дело?
Встревоженный, я встал с кресла.
— Что с тобой, Тонри?- спросил Сэнди-Ски.
В его словах было неподдельное участие. Да, с таким нежным участием мог обратиться ко мне только мой друг Сэнди-Ски. И все же мне не хотелось остаться сейчас наедине с ним.
— Видимо, устал, Сэнди,- проговорил я как можно спокойнее. — Я же не отдыхал после торможения. Пойду к себе в каюту.
— Конечно, отдохни…
Я вышел и попал в соседнюю рубку- рубку управления. Члены экипажа успели отдохнуть и приступили к своим обязанностям. Над приборами пульта управления склонилась тонкая и длинная фигура пилота Али-Ана.Рядом,у главного электронного мозга,возился аккуратный и трудолюбивый,как муравей,бортинженер Рогус. Он взглянул на меня и улыбнулся.
У меня не было желания с кем-либо разговаривать,и я постарался поскорее уйти в кают-компанию.Там никого не было. Спустился по лестнице в коридор, по обеим сторонам которого расположены наши каюты — святая святых каждого участника экспедиции. По нашим обычаям,в каюту никто не заходит без особого приглашения хозяина, икто не мешает заниматься научной работой, отдыхать, слушать музыку, читать. Вместе собираемся лишь в кают-компании.
Я закрылся в своей каюте и сел за клавишный столик.Что меня,собственно, встревожило?- спрашивал я себя.- Глаза Сэнди-Ски?Да я их и не рассмотрел как следует.Но вот Рогус… Минуту назад, когда я проходил через рубку управления, Рогус обернулся ко мне.На его некрасивом лице появилась обычная по-детски бесхитростная улыбка. Но сейчас, вспоминая эту улыбку, я подумал, что она не такая уж простая и бесхитростная. На какой-то миг в ней проскользнуло нечто наглое и торжествующее.
«Неужели?- обожгло вдруг страшное подозрение.- Неужели Рогус и Сэнди-Ски — это те… из банды Вир-Виана?» — Я встал и начал ходить из угла в угол. «Какая чепуха! — говорил я себе. — Какая нелепая мысль! Как они могли появиться на корабле? Вздор! Просто в последнее
время у меня расшалились нервы и стала мерещиться всякая чертовщина».
Снова сел за клавишный столик и, чтобы успокоиться, решил продолжать свой труд о цефеидах.Но работа не клеилась…
Это было вчера. А сегодня еще раз попытался, но безуспешно. И вот вместо научного труда на новом кристалле я пишу сейчас этот странный дневник.
В каюте раздался трехкратный мелодичный звон.Я взглянул на часы.Через полтора часа начнутся на корабле новые сутки.Через полтора часа спать… А сейчас по традиции все члены экипажа собираются в кают-компании.Мой помощник Али-Ан сделает доклад о событиях прошедшего дня. После этого все станут высказывать свои мнения, строить планы на завтра. А под конец Лари-Ла будет рассказывать свои забавные истории.
Мне всегда нравились эти вечера в кают-компании. Но сегодня, впервые за много лет межзвездного полета, не хотелось идти туда. Но надо идти…
…Сейчас члены экипажа спят.Один лишь я нарушаю режим. Вернувшись из кают-компании, снова сел за клавишный столик, чтобы записать все, что там произошло сегодня вечером.
Когда я вошел в кают-компанию, все уже сидели в креслах.
— Как самочувствие,капитан? — послышались участливые голоса.
Я успокоил всех,сказав,что отдохнул хорошо и что самочувствие,как всегда, отличное.
— Начинайте доклад, — обратился я к Али-Ану.

Али-Ан встал,вышел на середину каюты и с минуту молчал,собираясь с мыслями.Я уважаю этого поразительно хладнокровного пилота,умного и волевого. Высокий и стройный,он был бы красив, если бы не сухое и несколько надменное выражение лица.В противоположность Лари-Ла и Сэнди-Ски, он постоянно строг и серьезен.Лишь изредка на его бледных губах появляется тонкая улыбка,острая, как клинок.И вообще Али-Ан холоден и логичен,как учебник геометрии. Никаких эксцентричностей, никаких причуд,как у Сэнди-Ски.Но и взлетов никаких. «Под таких,как Али-Ан,очень легко и с большим совершенством подделываются молодчики Вир-Виана»,- подумалось мне. Но я постарался отогнать эту вздорную мысль.
— Сегодняшний день,-начал Али-Ан,-самый знаменательный, переломный в нашей экспедиции.Мы произвели торможение на дальних подступах к планетной системе — цели нашего полета.Все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Механизмы и приборы в полной исправности. До орбиты самой близкой к нам планеты осталось около десяти дней полета на межпланетной скорости. Начинаем готовиться к посадке на планету.А на какую планету- об этом полезно выслушать мнение планетолога Сэнди-Ски.
Вот и все. Али-Ан, как всегда, краток и точен.
Сэнди-Ски встал и начал крупными шагами ходить по кают-компании. Я посмотрел на его горящие вдохновением глаза,на его оживленное лицо — и мне стало стыдно за свою мнительность.
— Нам повезло,-остановившись, заговорил Сэнди-Ски.- Чертовски повезло. Я просто не ожидал,что мы найдем здесь такую необычайно сложную и богатую систему.Вокруг центрального светила вращаются девять планет.Девять!И у многих- спутники.
Жестикулируя,Сэнди-Ски кратко,но живописно охарактеризовал каждую планету. Он еще больше оживился,когда стал под конец рассказывать о жемчужине системы — о планете Голубой.
Я с любопытством взглянул на нашего биолога и врача Лари-Ла. Как он воспримет весть о богатой биосфере Голубой?
Добродушный толстяк Лари-Ла обычно не сидел, а полулежал в свободной, ленивой позе.Но сейчас он, упираясь руками в подлокотники глубокого кресла, привстал и с живейшим интересом слушал планетолога.
— Что? — прошептал он. — Зеленая растительность? Органическая жизнь?
Он вскочил и начал кружиться вокруг Сэнди-Ски.
— Это же здорово!- восклицал Лари-Ла, размахивая руками. Хлопнув по плечу Сэнди-Ски,он сказал:- Ну, дружище, ты меня обрадовал. Наконец-то я займусь настоящей работой. Как я устал от безделья!
Лари-Ла и в самом деле изнывал от безделья.На корабле никто не болел.И ему никак не удавалось обогатить медицинскую науку открытием новых, космических болезней.Особой склонности к теоретической работе он не имел и все дни только и делал,что писал у себя в каюте своеобразный юмористический дневник, напичканный разными анекдотами и происшествиями. Мы иногда смеялись над тем, что к моменту возвращения на Зургану у нас будет не только серьезный, академический бортовой журнал,записываемый в памяти главного электронного мозга, но и дневник Лари-Ла, рисующий нашу экспедицию в весьма своеобразном освещении.
— Однажды от безделья,-заговорил Лари-Ла,когда Сэнди-Ски сел в кресло,- я превратился знаете в кого?В колдуна!Да-да!Не удивляйтесь:в древнего колдуна. Это было, конечно, на Зургане.Я работал одно время врачом в археологической экспедиции. Археологи- неприлично здоровый народ, и меня томила скука. От одного из археологов я узнал,как выглядели и чем занимались древние колдуны. И вот я решил напугать археологов,сыграть с этими здоровяками злую шутку. Однажды ночью археологи сидели около костра.Я же в это время, спрятавшись в кустах, наспех переодевался и гримировался.Вы только представьте себе такую картину: темная ночь, тревожный шум кустов, первобытный костер и разговоры о древних суевериях и прочей чертовщине.И вдруг перед археологами из-за кустов появился самый настоящий колдун- в живописном костюме, с густой и длинной, до колен,бородой и с нелепыми телодвижениями.Вы бы только посмотрели — эффект был поразительный!
И Лари-Ла показал нам, как он изображал перед оторопевшими археологами колдуна Лари-Ла обладал незаурядным актерским талантом, и все мы смеялись от души.Его артистическому успеху способствовал сегодняшний костюм.Он, единственный у нас,зачастую нарушал форму астронавта. Мы все носили простые, крепкие и удобные комбинезоны. А Лари-Ла питал пристрастие к праздничной одежде,иногда крикливой и сверхмодной.Сегодня вечером, как нарочно, он был в живописном, экстравагантно красочном костюме, сильно смахивавшем на одеяние древних колдунов.
— А вот еще один случай…
Но в это время снова раздался трехкратный звон, и все жилые помещения корабля наполнились звуками ночной мелодии. Это своеобразная музыка, ласковая и усыпляющая. В ней слышатся звуки ночной природы: и шелест травы, и легкий перезвон листвы, и мягкое шуршание морского прибоя.
Лари-Ла больше уже ничего не рассказал. Он строг и придирчив, когда дело касается режима.
— Об этом случае завтра,- сказал он.
Все разошлись по каютам. Лишь молодой штурман Тари-Тау остался дежурить у пульта управления.
Вечер в кают-компании мне понравился. Смешно, что у меня возникли какие-то нелепые подозрения. И все же… Все же мне почему-то грустно и немножко не по себе. Почему- и сам не знаю.
Звуки ночной мелодии становятся все нежней и нежней. Невольно слипаются глаза. С завтрашнего дня буду вести дневник систематически. А сейчас спать.
11-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Утро!…Трудно сказать, что мне больше нравится в нашей строго размеренной жизни: уютно-интимные вечера в кают-компании или бодрые утренние часы.
Проснулся я от громкой,медно-звенящей утренней мелодии.В противоположность усыпляющей- ночной- она полна энергии и бодрости, в ней много ликующих, солнечных звуков.
Быстро одевшись, я поспешил в кают-компанию и присоединился к членам экипажа, которые проделывали гимнастические упражнения. После гимнастики мы, весело толкаясь, вошли через узкую дверь в кабину утренней свежести.
Кабина утренней свежести- это бассейн, наполненный морской водой и прикрытый сверху серебристой полусферой-экраном.Раздевшись,мы выстроились на песчаном мысе.Было холодно и неуютно. Но вот Али-Ан дотянулся до кнопки у двери и нажал ее. И вмиг все преобразилось.
Мы по-прежнему стояли на песчаной отмели.Но перед нами был уже не бассейн, а бескрайний океан.Вода, до этого неподвижная,заколыхалась,и наши ноги начал лизать пенистый прибой. Блестящая полусфера превратилась в беспредельный голубой небосвод. Оттуда полились жаркие лучи искусственного солнца, так похожего на солнце родной планеты.Далеко впереди зеленел островок, покрытый густой растительностью. С той стороны подул ветер, чудесный соленый ветер, несущий аромат трав и древних морских приключений…
Здесь,в кабине утренней свежести,мы забываем,что находимся на звездолете, затерянные среди холода безграничных пространств. Каждой частицей своего тела мы ощущаем родную планету…
На песчаной отмели становилось жарко. Мы бросились в воду и поплыли наперегонки. Вперед вырвался Лари-Ла. Меня всегда изумлял этот располневший увалень:плавает он превосходно.Я кое-как догнал его. Но далеко плыть нельзя: впереди все же не настоящий морской горизонт, а экран, создающий иллюзию бесконечной стихии.
Когда мы,освеженные и веселые,вышли на песчаную отмель,хлынул дождь, который сменился ультразвуковым душем.Ультразвуковые волны,пронизывая тело, то сжимают,то растягивают каждую клетку организма.Получается исключительно приятный и полезный микромассаж.
Натянув комбинезон, я первым вышел из кабины- вышел бодрым и свежим, как росистое утро. Вслед за мной выскочил Сэнди-Ски. Его густые, мохнатые брови забавно шевелились: Сэнди-Ски испытывал блаженство.
— Словно заново родился,- рассмеялся он. — Кабина мне напоминает остров Астронавтов. Удивительный остров!
— На Зургане ты отзывался о нем несколько иначе,-возразил я.- Предполетную подготовку,доказывал ты,астронавт должен проходить в суровых условиях, где-нибудь в пустыне или в горах, а не на этом тепличном острове, где разнеживается человек, размягчается его воля.
— Я говорил тогда чистейший вздор.Я переменил свое мнение после одного случая, помнишь?
И Сэнди-Ски ушел в рубку внешней связи, а я уселся в кресло перед пультом управления. Сэнди-Ски напомнил почти забытый мною эпизод. Я живо представил этот трудный переход через остров, вспомнил, как мы преодолевали густые заросли, стремительные реки,скалистые горы.Сэнди-Ски передал все скрупулезно точно.И в то же время в его рассказе чего-то не хватало,чего-то конкретного, живого, трепещущего…
На минуту мной снова овладела тревога,снова зашевелились подозрения, сдобренные изрядной порцией страха, отвратительного, липкого страха.
Надо посоветоваться с Лари-Ла.Ведь мнительность — один из признаков расстройства нервной системы…
Я был настолько погружен в невеселые мысли,что не услышал, как сзади подошел Али-Ан.
— Извините, капитан,- Али-Ан коснулся моего плеча.
Я обернулся и внимательно посмотрел на него. Только сейчас я заметил, как постарел Али-Ан.На лбу и около глаз появилось множество морщинок. А ведь в начале полета это был почти юноша.
— В чем дело, Али? Вы хотите сесть в кресло? Ваша очередь дежурить?
— Да.И, кроме того,капитан,вам необходимо побывать в рубке внешней связи. Оттуда иногда доносятся едва слышные, но крепкие выражения. Сэнди-Ски чем-то, мягко говоря,недоволен.
И на бледных губах Али-Ана вспыхнула обычная улыбка, острая, как клинок, с оттенком тонкой и чуть надменной иронии.
Я зашел в рубку внешней связи и застал Сэнди-Ски в сильном гневе. Он отчаянно и виртуозно ругался.Я рассмеялся, все мои недостойные подозрения мгновенно исчезли. Ведь это же Сэнди-Ски! Мой необузданный друг Сэнди-Ски! В полной мере я мог оценить всю живописность его метафор.
— Что случилось, Сэнди?
Сэнди-Ски, успокоившись, проворчал:
— С экраном творится что-то неладное.Видимо,торможение все же отразилось на его дьявольски нежных блоках.
— Но вчера же он работал.
— Работал на пределе. А сейчас посмотри, какая чертовщина!
Изображение планет на экране двоилось, троилось, было расплывчатым и туманным. Наконец, экран совсем погас.
Пришлось позвать бортинженера. Рогус долго просвечивал каждый блок. Потом, виновато взглянув на нас, сказал:
— Повреждения серьезные.И не в одном, а в нескольких блоках. Ремонт займет два-три дня.
Сэнди-Ски еще раз выругался и,махнув рукой, ушел в рубку управления, к экрану локатора. Но этот экран невелик, да и работает на ином принципе. На нем видны лишь очертания планет.
Почти весь день Сэнди-Ски ходил,насупив брови,молчал. И только вечером он оживился. Дело в том, что Сэнди-Ски, как и я, до самозабвения любил поэзию. И сегодня вечером в кают-компании мы были очевидцами рождения гениального поэта.
А случилось это так.Али-Ан сделал свой короткий и четкий доклад. Лари-Ла лениво пошевелился в кресле и уже открыл было рот,чтобы рассказать очередную смешную историю или анекдот.Он считает,что смех полезен для членов экипажа, особенно перед сном. Но ему помешал штурман. Тари-Тау встал и смущенно попросил разрешения прочитать свои стихи из космического цикла. Он хотел узнать наше мнение.

— Конечно,читай!- воскликнул Сэнди-Ски,с любопытством глядя на Тари-Тау. — Читай! Мы слушаем.
Лари-Ла снисходительно согласился послушать, как он выразился, «убаюкивающие» стихи. Чтение таких стихов перед сном он тоже находил полезным делом.

Мы давно знали,что Тари-Тау,этот не очень общительный, углубленный в себя юноша, пишет стихи. Но никто из нас их ни разу не слышал.
Штурман вышел на середину кают-компании и сначала робко,а потом все более уверенно стал читать стихи.
Мы были буквально ошеломлены,ничего подобного никто не ожидал.Стены корабля словно раздвинулись, и мы почувствовали безграничный Космос, его ледяное и манящее дыхание… Стихи таили в себе глубокую философию.
Сэнди-Ски не выдержал и бросился обнимать поэта. Даже Али-Ан,холодный и рассудочный Али-Ан, горячо и искренне поздравил Тари-Тау.
Сейчас, сидя у себя в каюте за клавишным столиком и вспоминая этот вечер, я испытываю хорошую зависть. Да, я завидую этому мечтательному юноше, почти мальчику.Я тоже иногда пишу стихи.Но какое это убожество по сравнению с поэзией Тари-Тау! Ну что ж, придется примириться с тем, что я всего лишь астронавт и ученый. Великую, сказочную радость художественного творчества я всегда считал привилегией редких счастливцев. Таким счастливцем оказался Тари-Тау. Я рад за него.
Прекрасный, незабываемый день пережил я сегодня, начиная с солнечного утра в кабине утренней свежести и кончая вечером. Правда, на минуту я поддался какому-то нелепому страху и тревоге. Но быстро взял себя в руки. А вечер в кают-компании окончательно развеял сомнения.
12-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
От наблюдения за планетами мне и Сэнди-Ски пришлось отказаться. Рогус до винтика разобрал аппаратуру экрана внешней связи.
Но Сэнди-Ски нашел занятие. Весь день он ходил по кают-компании и шептал стихи Тари-Тау, изредка восклицая:
— Молодец! Какой молодец! Просто удивил.
Лари-Ла вчерашний успех Тари-Тау считает своим поражением. Ведь все время он буквально царил в кают-компании, по праву считаясь остроумным и веселым рассказчиком.Впрочем,сегодня вечером Лари-Ла взял реванш. Он рассказал сначала одну любопытную историю,случившуюся на Зургане,а потом два анекдота, умных и невероятно смешных. Мы хохотали так безудержно, что Лари-Ла стал опасаться, как бы это не перевозбудило нашу нервную систему. Он заботился о полноценности сна членов экипажа.
13-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Лари-Ла сегодня вечером опять рассказал необыкновенно смешной случай. Он вообще в последние дни просто в ударе,он возбужден,его круглое лицо излучает радость.Да это и понятно:биологу,изнывающему от безделья,приятно сознавать, что скоро мы садимся на планете с богатейшей биосферой. Перед Лари-Ла — океан увлекательной работы.
Сейчас все спят, а я сижу за клавишным столиком и пишу этот дневник. Так не годится. По ночам надо спать, надо соблюдать мной же установленный режим. Да и писать больше не о чем.
15-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Фарсан!. Сэнди-Ски- фарсан!
Самые мрачные,самые зловещие предчувствия мои оправдались!Страшно подумать об этом. Но это, видимо, так.Сегодня утром на какое-то мгновение я увидел в Сэнди-Ски фарсана.
Только сейчас, уже поздним вечером,ко мне вернулось самообладание, и я могу спокойно рассказать, что же произошло в рубке внешней связи.
Когда я вошел туда после кабины утренней свежести,за экраном уже сидел Сэнди-Ски.
— Молодец Рогус,-сказал он, поворачиваясь ко мне.- Сейчас экран работает отлично.
Он уступил мне место, а сам встал сзади, положив руки на спинку кресла.
Почти весь экран занимал зелено-голубой диск планеты, обрамленный сияющей короной атмосферы. Планета Голубая! Это было великолепное и пышное зрелище. Голубая стала намного ближе к нам,чем несколько дней назад. И мы отчетливо видели все ее материки и океаны,желтые пустыни и неоглядные зеленые леса. Отдельных деревьев,конечно,еще не различали. Но огромные массивы были бесспорно лесами. Над ними лениво проплывали белые хлопья облаков.
Одно белое пятнышко на зеленом поле оставалось неподвижным.Не знаю почему, словно предчувствуя великую тайну планеты, я неотрывно смотрел на это пятно. Я увеличил изображение на экране настолько, насколько позволял телескоп. И сразу увидел, что пятно разделено, расчерчено темными линиями на квадраты. Едва ли это естественное образование.
— Город!- взволнованно прошептал Сэнди-Ски. — Неужели город?!
Я обернулся и посмотрел в его широко раскрытые от изумления глаза. И тут же отвернулся, похолодев от ужаса.Пронзительного, мгновенно поразившего ужаса…
Даже сейчас, у себя в каюте,я вздрагиваю,вспоминая глаза фарсана… Да, это не глаза живого Сэнди-Ски.
«Глаза как глаза»,- сказал бы любой другой на моем месте.Любой другой, но не я.Я-то хорошо знал своего самого близкого друга. Сэнди-Ски был необычайно и разносторонне одаренным человеком. Я бы даже сказал — причудливо,витиевато одаренным,впечатлительным, остро реагирующим на внешние события. Его чувства и мысли играли,как пламя.И в его глазах,широко открытых в минуты вдохновения и радости, словно чувствовался отблеск этого пламени. Более того, в глазах у влюбленного в Космос Сэнди-Ски за долгие годы межзвездного полета появилось что-то новое, какое-то трудноуловимое выражение. В них словно запечатлелся блеск неведомых солнц,бесконечность космических просторов. Да, это были говорящие глаза.
Но глаза сегодняшнего Сэнди-Ски… Да,они были широко открыты,как это бывало у Сэнди-Ски в минуты радости,изумления.В них читалась даже взволнованность. И все же они поразили меня,как в прошлый раз,в тот день, когда мы произвели торможение. Но сегодня-то я понял, в чем дело. Глаза Сэнди-Ски пугали своей холодной глубиной, вернее- пустотой, бездонной пустотой. «Это глаза мертвого Сэнди-Ски»,- обожгла меня сегодня страшная мысль.Да,это были глаза мертвеца, несмотря на все виртуозные усилия фарсана придать им выражение живого, пламенного Сэнди-Ски.
Глаза человека всегда были трудным орешком для фарсанов…
Но как это могло произойти? Каким образом фарсан оказался на корабле?
Вспомнилось,что во время войны с фарсанами на Зургане уничтожили тысячу восемьсот тридцать два таких чудовища.А было их всего тысяча восемьсот тридцать три.Один,под номером четыреста десять,исчез.Его долго искали,но не нашли.Решили,что он погиб,занесенный песками в Экваториальной пустыне, в районе самой жестокой битвы.И на этом успокоились,несмотря на предупреждение архана Грона-Гро:«Стоит уцелеть хоть одному фарсану,и он начнет размножаться,как микроб». Значит, «микроб» (конечно,это был во всяком случае не Сэнди-Ски!) каким-то образом проник на корабль и стал размножаться…
Кто же он? Всех членов экипажа я хорошо знал. Особенно подружился с ними во время предполетной подготовки на острове Астронавтов.
Вот только Рогус…И меня словно обожгло: конечно,он! Только он мог быть тем «микробом», проникшим на корабль.До этого я находился еще, так сказать, в области предчувствий. Но интуиция превратилась в почти полную уверенность, когда я вспомнил один случай…
У Рогуса за день до старта заболел маленький сын- он единственный из членов экипажа оставлял на Зургане семью. Его отпустили с корабля в город Сумору проведать сына.Всего на два часа! Рогус вернулся с небольшим опозданием,что было непохоже на пунктуального бортинженера.
А перед самым стартом председатель Совета Астронавтики Нанди-Нан отозвал меня в сторону и спросил:
— Помнишь,как Грон-Гро предупреждал,что воспроизводящий фарсан под номером четыреста десять мог уцелеть?
— Помню.
— Он оказался прав. Того фарсана обнаружили недалеко от Суморы.
Сумора! Помню, меня тогда заставило поморщиться это совпадение.
— Как же его обнаружили?- спросил я Нанди-Нана.
— Он ждал,когда на Зургане забудется вся эта нелепая и страшная история с фарсанами. Но прошло всего полгода- и не выдержал: проявил активность и разоблачил себя.
— Активность? — в ужасе переспросил я, догадываясь, о чем говорит Нанди-Нан: фарсан убил человека!
— Да. Ученые,исследовавшие захваченного фарсана, нашли, что за полгода он проявил активность всего один раз,и совсем недавно.Но ты не беспокойся. Этот воспроизводящий фарсан мог оставить после себя только простого фарсана. А простые фарсаны нам сейчас не страшны, и мы его быстро найдем…
Так фарсан (теперь-то я почти уверен, что Рогус и был тем самым простым фарсаном) стал участником первой межзвездной экспедиции.
Рогус выглядел типичным представителем племени сулаков, которые веками, до наступления Эры Братства Полюсов, угнетались шеронами.
В его сутулой фигуре было что-то пришибленное и виноватое.В лице ничего запоминающегося, ни одного броского штриха.Лишь своеобразная, бесхитростно-детская улыбка иногда озаряла это лицо.Именно улыбка мне всегда и не нравилась. Что-то в ней искусственное…
Другим членам экипажа Рогус пришелся по душе. Он покорил всех своей скромностью, трудолюбием и громадной технической эрудицией.
— Удивляюсь,- говорил мне Али-Ан, — почему Рогус вам неприятен. Хороший бортинженер, скромный товарищ. Чего еще надо?
С первых дней полета Рогус показал себя превосходным бортинженером. Все приборы корабля, вся аппаратура и кибернетические устройства работали безотказно.В самом деле,чего еще надо? И я успокоился. Все мы, представители расы северян,стали относиться к этому скромному и способному сулаку с большим уважением и участием. Али-Ан даже подружился с ним.
Почти все свободное время Рогус проводил в своей каюте. Там он упорно работал над каким-то фантастическим изобретением. Кажется, он конструировал нейтринную пушку,которая давала бы возможность произ водить локацию звездных недр.От кого же я впервые услышал об этой пушке?Ну да,от Али-Ана! Он первый получил приглашение Рогуса посетить каюту.И я снова похолодел от ужаса: Али-Ан- фарсан!…Если Рогус фарсан, то Али-Ан никак не мог избежать страшной участи.Дружба Али-Ана с Рогусом погубила его.За ним первым дверь каюты Рогуса захлопнулась, как дверца мышеловки.Оттуда Али-Ан уже не вышел. Вместо него из каюты Рогуса появился фарсан,с ювелирной тонкостью скопировавший не только внешность, поведение и привычки Али-Ана, но и его духовный облик.
Да,но Рогус… Рогус не мог быть воспроизводящим фарсаном.Значит… Неужели у него в каюте дьявольская аппаратура Вир-Виана? Что же делать?
Насколько мне помнится,это случилось в первый год нашего полета. И все остальные годы никто не подозревал, что вместо Али-Ана его обязанности на корабле выполнял- да еще как безупречно!- фарсан.Быть может,остальные члены экипажа тоже стали жертвами Рогуса, который действовал уже вместе с Али-Аном? Но когда?
Во всяком случае,я хорошо помню,что совсем недавно,за день до торможения, дверь каюты Рогуса захлопнулась за Сэнди-Ски…
Когда думаю обо всем этом, кровь холодеет в моих жилах, и я снова задаю себе вопрос: что же делать?
Бороться? Но бороться с фарсанами невозможно,бессмысленно.Голыми руками их не возьмешь.Они обладают страшной физической силой. Правда, на корабле, в грузовом отсеке,хранится лучевое оружие на случай, если обитатели других планет проявят агрессивность. Это оружие я мог бы незаметно взять. Но лучи, смертельные для людей, бессильны против фарсанов. К тому же лучами я могу случайно поразить живого человека.
Но кто же остался в живых? И почему я жив?Почему фарсаны Рогус и Али-Ан не убили в первую очередь меня, начальника экспедиции, капитана корабля?…
Вот с этими отчаянными мыслями мне и надо сейчас попытаться заснуть. Заснуть обязательно.Ведь мне предстоит завтра вести себя среди фарсанов так, чтобы они не знали о моих догадках.Одному мне не справиться с фарсанами. Поэтому надо рассказать живым членам экипажа о своих подозрениях. Но кто же остался в живых? Кто?
Несколько раз я прошелся из угла в угол. Взбудораженные нервы немного успокоились. На минуту я присел за клавишный столик, прочитал сегодняшнюю довольно сумбурную запись и удивился:получилось так, что Сэнди-Ски, Рогус и даже Али-Ан- фарсаны,и только фарсаны. Стопроцентная уверенность! Да откуда она? Какие у меня реальные, убедительные доказательства? Нет таких доказательств. Мало ли что могло померещиться?
16-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Спал отвратительно.Почти все время снились фарсаны.Особенно часто один из них,с хитрой,плутоватой физиономией:мне слишком близко пришлось столкнуться с ним на Зургане во время войны с фарсанами.Снилось,что я спасался от него бегством.Кругом- ни души, лишь бескрайняя знойная пустыня,пески, раскаленные камни и огненный глаз солнца на белесом небе.Я оглянулся и с ужасом обнаружил,что фарсан догоняет, что он совсем близко. Я уже хорошо видел его наглую ухмылку и насмешливо сощуренные глаза.Обливаясь потом, задыхаясь от жары,я снова бросился вперед,туда,где за высокой грядой барханов находились люди.Они спасут меня…Но фарсан неумолимо приближался.Вот-вот он схватит меня и раздавит,как мошку. Неожиданно я ощутил в своих руках увесистый металлический стержень. Развернувшись, я молниеносно обрушил его на фарсана. Его голова с хрустом развалилась… Этот хруст показался мне во сне таким омерзительным и реальным, что я тотчас проснулся.
Я лежал с открытыми глазами. Воображение, распаленное страшным сном, рисовало одну картину за другой. Чаще всего вспоминался Вир-Виан- главарь космической банды фарсанов. Вспоминалась его теория чередующейся гибели цивилизаций.Каждая цивилизация,возникнув на какой-либо планете с благоприятными условиями,достигает более или менее высокого уровня развития, а затем бесследно исчезает в водовороте космических сил.Таков, говорил Вир-Виан,неизменный круг железного предначертания. Так было миллиарды веков назад,так будет всегда, если мы не установим благодетельную диктатуру нашей Зурганы над всеми населенными мирами.Нужна железная власть одной избранной планеты, чтобы успешно бороться с враждебными космическими стихиями. А для установления диктатуры, утверждал Вир-Виан, для вечного цветения цивилизации на нашей планете необходимы космические завоеватели, вот эти чудовища — фарсаны.
Какая все-таки чепуха лезет в голову! Не могу же я согласиться с бредовыми теориями Вир-Виана.Это означало бы,что я не только поддался минутному ужасу перед его фарсанами, но даже капитулировал перед ним…
Я сел и зажег свет.Из зеркала на стене незнакомо глянуло бледное, растерянное лицо. «Хорош», — сумрачно усмехнулся я.
Я вскочил и, чтобы освободиться от хаоса мыслей, успокоиться, долго ходил по каюте. Почувствовав усталость,лег в постель и решил во что бы то ни стало заснуть.Надо отдохнуть,обрести выдержку и бороться.Не сдаваться,а бороться…
Но нет!.Едва я прилег,как с шумом открылась дверь каюты Рогуса. По звуку я точно определил, что это была дверь именно его каюты.
Я встал и прислушался.В коридоре происходила какая-то возня. Затем раздались быстрые и решительные шаги. Кто-то,тяжело дыша, остановился у моей двери. После этого послышались знакомые шаркающие шаги Рогуса.
— Его нельзя трогать,-сказал Рогус. — И вообще, чтобы это своеволие было в последний раз.
Кто-то незнакомым, гнусавым голосом ответил:
— Мне нужна индивидуальность.Я не могу без нее.Сэнди-Ски имеет индивидуальность, Али-Ан тоже…
— Подожди,- прервал его Рогус.- Со временем приобретешь…
Я, похолодев от ужаса,слушал этот странный разговор.Итак,никаких сомнений: Рогус, Сэнди-Ски и Али-Ан — фарсаны.
Незнакомец не назвал Лари-Ла и Тари-Тау.Быть может, Лари-Ла и Тари-Тау — люди? Или он не успел назвать их?
— Но мне нужна индивидуальность сейчас, — снова загнусавил незнакомец.
— Довольно.Идем,- грубо сказал Рогус.- Я запру тебя в каюте, и ты оттуда не выйдешь до посадки на планету.- Смягчившись,он добавил: — Я тебе потом объясню, в чем дело.
— Ладно, — чуть помедлив, согласился тот.
Они ушли. Я хорошо слышал шарканье Рогуса и твердую поступь незнакомца. Дверь каюты Рогуса захлопнулась.
Что все это значит? Кто этот незнакомец? Фарсан? Еще один фарсан? Но это немыслимо. Так не бывает. Каждый фарсан имеет реального прототипа. Фарсан обретает существование только тогда, когда имеет за своей спиной убитого человека.
Но кто же тогда этот тип с гнусавым голосом?
19-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Два дня не притрагивался к дневнику,настолько был подавлен внезапно свалившейся на меня бедой.Но все же я нашел силы, чтобы казаться спокойным. Фарсаны ни о чем не догадываются.Иначе они меня давно бы прикончили. Фарсаны и не могут догадаться, пока не получат ясных,убедительных доказательств. Они почти лишены таких человеческих качеств,как предчувствие,прозрение,интуиция. «Фарсаны беспомощны в области неясных идей и догадок»,-говорил архан Грон-Гро.
Внешне на корабле ничего не изменилось. Жизнь течет по давно заведенному порядку. Вчера вечером, как всегда, все собрались в кают-компании. После Али-Ана выступил Сэнди-Ски.Он сообщил последние данные о планете Голубой. Затем Лари-Ла,как всегда,стал рассказывать о своих приключениях на Зургане. Своих ли?…
К этому времени я окончательно владел собой.Внимательно присматривался к Тари-Тау,прислушивался к рассказам Лари-Ла. И ничего подозрительного не нашел,решительно ничего!Так кто же они, Лари-Ла и Тари-Тау? Люди?Это было бы замечательно! Тогда нас было бы трое против троих фарсанов и одного таинственного незнакомца. Но открыться Лари-Ла и Тари-Тау я еще не решался.
Вчера же вечером я узнал, почему фарсаны оставили меня в живых. Когда зазвучала ночная мелодия и стали расходиться по каютам,я спросил Али-Ана:
— Кто ночью дежурит у пульта управления?
— Тари-Тау.
— Пусть отдыхает. Дежурить буду я.
«Все равно ночь буду плохо спать», — подумал я.
— Нет,капитан,-возразил Али-Ан.-Впереди у вас трудное и ответственное дело — посадка на планету. Вам надо отдыхать. А с обычным дежурством справится и Тари-Тау. Он, кстати,за пультом и слагает стихи.
— Без вас, капитан,- сказал поблизости стоявший Рогус,- я не ручаюсь за сохранность всей тонкой аппаратуры при посадке.
Вот оно,оказывается,в чем дело!Как я раньше об этом не догадался? Фарсанам пока что я нужен.Али-Ан,конечно, неплохой пилот.Он может точно по курсу вести корабль в межзвездном пространстве, может даже совершить посадку на благоустроенный космодром Зурганы.Но чтобы без аварий посадить корабль на чужую планету с незнакомым рельефом,с неизвестными свойствами атмосферы…Нет, для этого у Али-Ана не хватает какого-то особого чувства пилота,вдохновения. В этом отношении фарсан,заменивший Али-Ана, еще слабее. Фарсаны, конечно, обладают сверхъестественной выдержкой,быстротой и четкостью логического мышления.Но у них нет и не может быть человеческой интуиции, подлинного, а не наигранного вдохновения.
— Хорошо. Пусть дежурит Тари-Тау, — согласился я и ушел в каюту.
Здесь я с облегчением вздохнул,усаживаясь за клавишный столик. Итак, впереди у меня еще много дней. Фарсаны не убьют меня по крайней мере до тех пор, пока корабль не возьмет обратный курс на Зургану.
На минуту я представил себе картину возвращения корабля на родную планету. Жители Зурганы встретят астронавтов, не подозревая, что это уже не люди, а фарсаны. На планете появится новое поколение. Вир-Виана давно уже не будет в живых.Но фарсаны,это жуткое воплощение программы и философии Вир-Виана,снова начнут убивать людей, принимать их облик, действуя при этом более тонко и осторожно, чем в прошлый раз. Под видом людей они проникнут в индустриальные и энергетические центры, чтобы установить свое бессмысленное господство. Вероятно, люди справятся с фарсанами и на этот раз. Но каких жертв будет стоить борьба!
Нет, этого допустить нельзя!
20-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
У меня сегодня до смешного разыгралось воображение. Не так уж плохо: я способен к юмору, а это значит, что я спокоен и готов бороться.
Вечером,прежде чем засесть за дневник, который полюбил как своего единственного собеседника,я долго стоял у открытого иллюминатора.Я смотрел на нашу Галактику,на эту огромную звездную колесницу,и думал о том, что было бы, если бы осуществилась безумная мечта Вир-Виана и его единомышленников — шеронов. Сначала Вир-Виан с помощью фарсанов установил бы свое господство на Зургане.А потом… Потом на экране своего воображения я увидел Вир-Виана на троне диктатора Галактики. Его лицо торжественно и вдохновенно- Вир-Виан погружен в видения. Он созерцает сияющий космический апофеоз воинственной и могучей расы шеронов. Одетая в броню властолюбия, закованная в сталь высших научно-технических достижений, она победно шагает по Вселенной…
Вот Вир-Виан очнулся от сладостных видений и властной рукой посылает новые звездолеты для покорения новых отдаленных планет.А в звездолетах его гордость — фарсаны, завоеватели Вселенной…
Я рассмеялся над пышной картиной, нарисованной моим воображением. Но это был горький смех.Все же Вир-Виан отчасти добился своей цели: его фарсаны у меня на звездолете,и в их задачу входит завоевание планет.Но я сегодня принял твердое решение:буду бороться до конца. И уж во всяком случае не допущу, чтобы корабль с фарсанами совершил посадку на планету Голубую. Высадившись,они погубят молодую,неокрепшую цивилизацию.А в том, что на этой планете есть зачатки цивилизации, я сегодня окончательно убедился. В разрыве облаков я видел тот же город, расчерченный темными линиями улиц на квадраты. Я видел на улицах какие-то передвигающиеся темные точки. Вероятно, это разумные обитатели планеты.
Сегодня же, оставшись один в рубке внешней связи, послал на Зургану космограмму: «На корабле фарсаны. Ищу среди экипажа живых союзников. Приму все меры к ликвидации фарсанов. В случае неудачи не ждите возвращения. Тонри-Ро».
21-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Из кабины утренней свежести я сразу же зашел в рубку управления. За пультом,который беззвучно и дружелюбно подмигивал разноцветными огоньками, сидел Али-Ан.
Он внимательно всматривался в экран радиолокатора, на котором виднелись четкие контуры материков планеты Голубой.
— Да, экран маломощный,-сказал он, обернувшись ко мне.- Но скоро и здесь можно будет увидеть следы разумной жизни на планете.
Я спросил его о курсе корабля.
— Курс в плоскости эклиптики,-ответил он четким языком доклада.- Мы только что прошли орбиту самой отдаленной планеты.
— Вот как! Выходит, мы уже внутри планетной системы. Сейчас возможны встречи с кометами и метеоритами. Надо быть особенно осторожными.Передайте это Тари-Тау.И пусть он сейчас стихи слагает не за пультом управления, а у себя в каюте.А локатор теперь же переведите с ручного управления на автоматическое, на фиксацию метеоритов.
Рука Али-Ана потянулась к тумблеру переключения.На экране исчезло изображение Голубой. Локатор стал шарить в пространстве в поисках опасных метеоритов.
На экране появилась точка, отливающая тусклым светом.
— Вот и метеорит,- сказал я.
Мерцающая точка вначале металась в разные стороны, но вскоре замерла в центре экрана.Электронно-вычислительный мозг,соединенный с локатором, быстро определил массу и орбиту метеорита. Тот, видимо, был далеко в стороне, так как автопилот никак не реагировал на него и корабль не изменил курса.
— Удары мелких метеоритов корпус корабля выдержит,- рассуждал Али-Ан. — А большие встречаются здесь редко.
— Как знать, — возражал я, прислушиваясь к голосам, доносившимся из рубки внешней связи.Там находились Сэнди-Ски и Лари-Ла. Я зашел туда.
— Смотрите, капитан,-восторгался Лари-Ла.-Какая буйная зелень! Безбрежные моря зелени,целые океаны хлорофилла!А какие диковинные животные бродят там, под зелеными сводами! Скоро мы их увидим.
Такая ребяческая радость, такой восторг были написаны на его полном лице, что в эту минуту я нисколько не сомневался: он человек!
— Рад за вас, Лари,- улыбнулся я.- Для биолога эта планета- находка.
Сэнди-Ски встал и предложил мне свое место за экраном. Но я отказался, солгав при этом, что сейчас безраздельно увлечен научным трудом о звездах-цефеидах. Я ушел, мрачно поздравив себя с немалым успехом: я научился врать фарсану Сэнди-Ски без малейшей тени смущения.
22-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Сегодня мне удалось около часа провести за экраном внешней связи в одиночестве,без омерзительного соседства фарсана Сэнди-Ски. Здесь у меня возникла счастливая мысль: передать свой дневник, записанный на кристалле, разумным обитателям планеты Голубой. Пусть он будет весточкой о моей родной Зургане.Наше путешествие, таким образом,пройдет не совсем бесцельно. Это на случай, если посадка на планету из-за фарсанов не состоится.
Наблюдая за Голубой,я задавал себе вопросы: смогут ли разумные обитатели этой планеты прочитать мой дневник? И каковы вообще эти обитатели? Как они выглядят?Быть может,они имеют самые неожиданные и безобразные формы, которые подействовали бы угнетающе на наше эстетическое чувство? Надо спросить об этом вечером Лари-Ла.
Присутствие на вечерах в кают-компании стало для меня неприятной обязанностью.Но я,надеюсь,искусно подавлял омерзение и даже вместе со всеми смеялся сегодня рассказу Лари-Ла.Рассказ был проникнут неподражаемым человеческим юмором. Но главное- в нем при описании нашей планеты присутствовали такие живые, чувственно-конкретные детали, что я обрадовался: человек! Но тут же подумал,что фарсан может черпать свои рассказы из юмористического дневника убитого биолога.А Лари-Ла был талантливым рассказчиком, умеющим повествовать живописно и красочно.
— Скажите, Лари,-спросил я,как только тот закончил свой рассказ,-как могут выглядеть разумные обитатели Голубой? Похожи они на нас или нет? Смогут ли они понять нас?
Улыбка сошла с лица Лари-Ла. Он стал серьезным.
— Я уже думал об этом,капитан.Конечно,данных, взятых с экрана квантового телескопа, маловато,но кое-какие выводы у меня уже есть.-Лари-Ла вытащил из кармана своего широкого экстравагантного костюма шкатулку. Он раскрыл ее и несколько хвастливо продемонстрировал всем кристалл с записью, пытаясь показать этим,что и для него настала увлекательная пора научных исследований. Я вглядывался в танцующие цветные знаки-буквы, стараясь запомнить почерк. У меня отличная зрительная память.
— Вот они,предположения и предварительные данные,-сказал Лари-Ла и, захлопнув шкатулку, продолжал поучительным тоном:- Мир животных планеты Голубой может поразить нас, когда мы высадимся,самыми неожиданными, самыми причудливыми формами. Таких зверей и птиц мы на Зургане и во сне не увидим. Однако закон наиболее целесообразного, наиболее адекватного приспособления к окружающей среде приводит к принципиально схожим формам разумных существ на планетах со схожими условиями.А что такое природа? Это огромная кибернетическая машина.В процессе своей эволюции она действует статически, по методу проб и ошибок,учитывая успешные и неудачные действия. Создавая в процессе эволюции мыслящий дух,орган своего самопознания, она стихийно, вслепую миллионы лет перебирает множество вариантов,стремясь найти для высших организмов наиболее рациональное решение,наиболее целесообразную форму.Все эти хвостатые,бегающие,прыгающие,ползающие,четвероногие, десятиногие и прочие животные — все это пробы и ошибки, неудачные варианты, так сказать, отходы производства.Высшая целесообразность развития узка. Она приводит,повторяю,на разных планетах Вселенной к принципиально схожим формам для носителей разума.И я думаю,что разумные обитатели планеты Голубой очень похожи на нас.Они такие же двуногие,с вертикальной походкой существа, как и мы с вами.
«Любопытно»,- думал я,слушая биолога.Но Лари-Ла не был бы подлинным Лари-Ла, если бы тут же не проявил своей несравненной иронии.Его убеждения не всегда выдерживали набегов его же собственного бесшабашного скептицизма. Усмехнувшись и отбросив докторальный тон,Лари-Ла начал говорить о том, что не исключена и другая возможность. И он обрисовал разумных обитателей иных планет в самых фантастических,удручающе безобразных формах. Но говорил он об этом несколько шутливо,иронически предположительно, в виде любопытного курьеза.
Как все это похоже на настоящего,на живого Лари-Ла!
Конечно,он не фарсан! Или, может быть, прав ВирВиан, утверждающий, что он добьется абсолютной адекватности фарсана и человека?
Но почерк!Он поможет мне разрешить сомнения.Почерк человека исключительно индивидуален. Его невозможно подделать,особенно в наше время, когда широкое распространение получил такой тонкий,почти музыкальный инструмент для записей,как клавишный столик.Разные люди неодинаково нажимают на клавиши,по-разному вибрируют их удивительно чуткие пальцы. В огненно-танцующих знаках на кристалле, в их особом цветовом и ритмическом рисунке запечатлевается вся душа человека,весь диалектически-противоречивый строй его мыслей и переживаний. Скорее бы уйти в каюту… Вот, наконец, послышались звуки ночной мелодии.
В своей каюте я сразу подошел к библиотеке- ячейкам в стене,где хранились шкатулки с кристаллами.В разделе «Астробиология» я нашел шкатулку с надписью: «Лари-Ла. Высшие организмы Вселенной».
Закрыв на минуту глаза,я до мельчайших подробностей, до тончайших оттенков вспомнил почерк, который видел сегодня. Затем открыл шкатулку.
В кристалле запламенели цветные знаки. И я словно увидел Лари-Ла — то серьезного,то шутливого,то иронически-бесшабашного Лари-Ла. Сначала я не нашел в почерках никакой
разницы.Но,вглядываясь внимательней, я все же обнаружил едва заметное,но существенное отличие.В почерке сегодняшнего Лари-Ла не было какой-то певучести, всего многообразия чувств. Короче говоря, не было главного — души. Сердце сжалось у меня от этого открытия.
Нет, душу человека, как и его почерк, не подделать,не воссоздать никаким фарсанам.Слова Вир-Виана об абсолютной адекватности, идентичности человека и фарсана — это чепуха, это софизм антигуманиста.
Как тяжело признать, что Лари-Ла- фарсан, а не человек… Остается только Тари-Тау. Но спешить нельзя. Надо к нему присмотреться.
Тари-Тау! Милый юноша! Неужели мы остались только вдвоем?
Сначала я всматривался лишь в форму знаков,в почерк Лари-Ла. Но вот до сознания стал доходить и смысл отдельных фраз: «Природа, словно кибернетическая машина,действует по методу проб и ошибок… Отходы производства…»
Я рассмеялся. Вот откуда, оказывается, любопытные рассуждения фарсана о высших организмах Вселенной!
23-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Жители планеты Голубой, если они сумеют прочитать мой дневник, будут, вероятно, в недоумении: кто же такие фарсаны? Несколько позже я подробно расскажу о фарсанах, о том, как они у нас появились.
Но сначала хочу рассказать собратьям по разуму о нашей родной планете.
Я подошел к ячейкам и стал искать кристалл, в котором были бы просто и сжато изложены сведения о Зургане. Наугад взял одну шкатулку: «Рой-Ронг». Здесь записаны стихи Рой-Ронга- первого поэта Зурганы. Первого… Если Тари-Тау не фарсан, а живой человек,он затмит всех поэтов Зурганы. Я положил шкатулку обратно и взял другую. «Тонри-Ро»- прочел я и улыбнулся.
Здесь мои собственные стихи, записанные на кристалл еще в школе астронавтов. Стихи наивные, подражательные, но искренние.
Я раскрыл шкатулку и прочитал:
Мне снилось, что я в звездолете
В пространстве лечу и лечу.
Я летчик межзвездного флота,
Любой мне маршрут по плечу.
Передо мной словно распахнулся мир моей юности,мир,полный звуков, красок, света…Густой и прохладный парк около школы астронавтов. В перерыве между занятиями я и Сэнди-Ски,спасаясь от палящих лучей солнца, зашли под могучую крону гелиодендрона,тихо звеневшего широкими плотными листьями. Здесь я впервые прочитал свои стихи Сэнди-Ски.Тот в шутку предложил записать стихи на кристалл, а шкатулку всегда ставить рядом со шкатулкой Рой-Ронга…
Возникшее в моем воображении казалось настолько реальным,что я почувствовал запах мохнатой коры гелиодендрона, услышал свист ракетоплана, пролетевшего в чистом, без единого облачка небе. Именно в таких картинах я и решил показать разумным обитателям Голубой нашу планету.Это лучше, чем излагать сухие книжные сведения о Зургане.К тому же,вспоминая прекрасные дни моей юности, я хоть на короткое время забуду об окружающих меня фарсанах.
Но с чего начать? В памяти хорошо сохранились лишь отдельные, разрозненные моменты моей жизни на Зургане. И тут сам случай помог мне. В глубине той же ячейки,где хранились мои стихи,я нашел не совсем обычную шкатулку, изящную, голубую и без надписи. Аэнна-Виан… Самая красивая девушка Зурганы… Во время нашего последнего свидания она подарила мне эту шкатулку.
— Если ты в Космосе захочешь увидеть меня,- сказала она,-то две-три таблетки тебе не повредят.
В шкатулке лежали три белых шарика — таблетки приятных сновидений. Эти возбудители приятных сновидений получили широкое распространение на Южном полюсе Зурганы в эпоху заката древней империи шеронов. В наше время, в эпоху Братства Полюсов,таблетки применяются лишь по рекомендации врачей, да и то в редких случаях. Их принимают на ночь.Засыпая,надо думать о тех минутах своей жизни, продолжение которых хочешь увидеть во сне. Клетки головного мозга, на которых как бы записана память об этих минутах, возбуждаются. И во сне видишь все, что было, с изумительной логичностью и красочной яркостью.
24-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Наконец-то я у себя в каюте.Первую половину дня вынужден был провести в обществе фарсанов- то в рубке управления, то перед экраном внешней связи.
В каюте я сразу же сел за клавишный столик, чтобы записать свой сон. Он был настолько конкретен и многозвучен, что я задаю вопрос: сон ли это? Я словно побывал на Зургане.Я страдал от знойного дыхания Великой пустыни, чувствовал приятную прохладу северных парков, видел людей, слышал их голоса…
Но сначала коротко о нашей планетной системе.Она не отличается разнообразием.Вокруг центрального светила, нашего солнца, вращаются всего три планеты.Самая ближняя к солнцу- Зирга,настоящее адское пекло. Атмосфера ее давно сорвана мощным потоком светового излучения.Зирга- мертвый раскаленный шар.Среди дышащих жаром гор сверкают озера расплавленного олова и свинца. На этой планете можно изжариться в самом термостойком скафандре. Лишь один Нанди-Нан, прославленный астронавт и крупнейший ученый, сумел однажды совершить посадку на теневой стороне Зирги.
Вторая планета- наша Зургана,колыбель разума и человеческой культуры. Ось ее вращения не имеет наклона к плоскости эклиптики. Поэтому у нас нет смены времен года.Зургана в шесть раз дальше от центральной звезды, чем Зирга. Но и здесь чувствуется могучее и жаркое дыхание яростно пылающего светила. Его жгучие лучи давно,еще на заре человечества, превратили обширную экваториальную часть в раскаленную пустыню. Зато на полюсах царит вечное лето с весело шумящей зеленью, с редкими грозами и дождями.
Тутус- самая отдаленная планета, полная противоположность Зирги. Солнце отсюда кажется не больше того шарика,который я проглотил вчера перед сном. Здесь вечные снега,голубые льды,тонкая и ядовитая атмосфера.Планета холодная и неуютная,но более удобная для освоения, чем Зирга. Здесь уже несколько лет существовали небольшие поселения зурган-добровольцев.Они добывали редкие на Зургане металлы.Одно время я- молодой, но уже опытный астролетчик — совершал регулярные рейсы между Тутусом и Зурганой, перевозя редкие металлы для строительства транспланетной дороги.
Проглотив вчера таблетку приятных сновидений, я улегся в постель и стал вспоминать свой последний рейс на Тутус. Ибо день возвращения на Зургану из этого рейса был для меня счастливым днем.

Мой планетолет,задрав в фиолетовое небо тускло поблескивающий нос,стоял на ровной площадке небольшого космодрома. В раскрытую пасть грузового отсека поселенцы затаскивали слитки.Дело продвигалось медленно:подъемные механизмы на этой насквозь прохваченной космическим холодом планете часто выходили из строя.
Около рабочих суетился начальник нашей экспедиции Данго-Дан,нерешительный, слабовольный и ворчливый пожилой человек.
— Не мешало бы побыстрее,ребята,- уговаривал он их.
В это время я, разминаясь после долгого сидения за пультом управления, с удовольствием бродил по льдистому берегу речки.Вместо воды здесь,дымясь, текла жидкая углекислота. Долго стоял около памятника Тутусу — первому астронавту из сулаков,погибшему здесь при посадке. В его честь и названа эта морозная планета.
Когда планетолет был загружен, Данго-Дан направился ко мне, и я услышал в наушниках его голос:
— Тонри-Ро!Хорошо,если бы ты,Тонри, поторопился.Строители транспланетной ждут материалы.
Весил я на этой планете раз в пять меньше,чем на Зургане.Поэтому быстро, в два-три приема, поднялся на площадку верхнего люка и стал ждать, когда неповоротливый Данго-Дан взберется ко мне.
Сняв скафандры,мы разместились в тесной каюте грузового планетолета.Я — у щита управления,Данго-Дан- сзади.
Планетолет легко оторвался от космодрома и быстро набрал скорость. Трасса Зургана-Тутус- была спокойной:ни метеоритов, ни комет. Я переключил планетолет на автоматическое управление и стал мечтать о первой межзвездной экспедиции, которая была приурочена к столетию Эры Братства Полюсов. Меня могли зачислить в экипаж звездолета.Ведь я ученый-астрофизик и второй пилот после Нанди-Нана.Я согласен быть на корабле кем угодно,хоть третьим,запасным пилотом. Возглавит экспедицию, конечно, Нанди-Нан.
Погруженный в мечты о межзвездной экспедиции,я чуть не упустил момент, когда надо было переходить на ручное управление.Почти весь экран локатора занимала Зургана- огромный полосатый шар. На полюсах находились благоустроенные космодромы.Оттуда металл на грузовых гелиопланах доставляли строителям.
— По-моему,сегодня лучше садиться на южный космодром.Оттуда ближе к дороге,- сказал Данго-Дан.
Но у меня появилась дерзкая мысль — совершить посадку в пустыне, прямо на пески, совсем близко от строительства.
Планетолет вошел в атмосферу и стал приближаться к пустыне. На экране возникли желтые волны песчаных барханов.
— Что ты делаешь?- забеспокоился Данго-Дан.- Не видишь разве, где космодром?
— Строители транспланетной ждут материалы,- повторил я его же слова.
— Не надо было этого делать,- умоляюще проговорил Данго-Дан, — разобьешь планетолет.
— Не бойтесь. Самое большее — слегка деформирую опоры.
— Не позволю своевольничать!- вдруг закричал он. В его голосе слышалось отчаяние.
Мне стало жаль его,но было уже поздно.Двигатели перешли на режим торможения.На экране замелькали барханы и многочисленные извилистые трещины. Их надо опасаться больше всего. Для посадки я выбрал самый пологий и мягкий бархан.Планетолет должен сесть на него, как на подушку. Нужен безошибочный расчет,чутье,вдохновение пилота, чтобы точно посадить планетолет в необычных условиях. И мои руки замелькали на щите управления среди многочисленных кнопок и верньеров.
Наконец опоры мягко вонзились в песок бархана.Двигатели заглохли. Планетолет слегка накренился, но по аварийным огонькам щита управления я видел, что даже опоры в полной исправности. Я ликовал.
Едва мы вышли на площадку верхнего люка, как на нас с визгом обрушился песчаный шквал. Данго-Дан встал сзади и,прикрывая глаза от пыли, с облегчением вздохнул:
— Повезло тебе, Тонри, с посадкой.
— Это не просто везение…
Но тут я заснул.Таблетка приятных сновидений, наконец, подействовала. Вернее, не заснул, а провалился в сон, как в яму. Заснул мгновенно и крепко.
Первое, что ощутил во сне,это песок. Он набивался в уши, в ноздри, противно хрустел на зубах. А сзади услышал облегченный вздох Данго-Дана:
— Повезло тебе, Тонри,с посадкой.
— Это не просто везение,а точный расчет,-несколько самоуверенно ответил я.
Спускаясь вниз, мы чувствовали жаркое дыхание пустыни. От раскаленных песков поднимался горячий воздух, сверху немилосердно-жгучим потоком лились солнечные лучи.Но песчаный шквал, к счастью, затих.
Мы увидели группу людей в серебристых комбинезонах. Они махали нам руками.
— Приглашают нас под купол дороги.Там прохладно, — пояснил Данго-Дан. — Идем туда.
Как я ни всматривался, никакого купола не видел. Заметив мое недоумение, Данго-Дан рассмеялся:
— Его и не увидишь. Он прозрачен, как воздух, — в словах Данго-Дана чувствовалась гордость энтузиаста транспланетной магистрали.
— Видишь вон там,- он показал рукой,-матово-белую полосу,прямую,как стрела?Это и есть основание дороги.Над ним прозрачный купол — тоннель из стеклозона.Вернее,два купола:внешний и внутренний. Когда дорога протянется от полюса к полюсу, из внутреннего купола выкачают воздух.В вакууме по белой гладкой полосе с огромной скоростью помчатся в электромагнитных полях скользящие поезда.
— Дешевле было бы обойтись воздушным транспортом.
Это замечание рассердило Данго-Дана.
— А пустыня?- недовольно спросил он.- Пустыня пусть,по-твоему, так и остается? Дорога- не только средство сообщения полюсов.Она нужна как первый этап для наступления на пустыню. Видишь по краям большие вогнутые чаши?
— Это верно,гелиостанции?- спросил я,вытирая пот с лица.Данго-Дан почти в три раза старше меня, но он не страдал от жары и шагал по раскаленным пескам довольно легко. «Привык он, что ли?» — с завистью думал я.
— Да, это гелиостанции. Для них-то мы и привезли редкие металлы. Гелиостанции превращают лучистую энергию жаркого экваториального светила в электрическую.А энергия нужна для синтеза воды и холодильных устройств. Вдоль дороги скоро зазеленеют сады и парки,появятся жилые дома. Это будет не просто дорога, а дорога-оазис.
Данго-Дан говорил, все более воодушевляясь. Я всегда любил слушать энтузиастов своего дела.Но сейчас изнемогал от жары, поэтому почувствовал большое облегчение,когда мы вошли под купол дороги. Здесь и в самом деле было прохладно.
— Стеклозон,- с восхищением проговорил Данго-Дан,постучав по куполу. — Он не пропускает жаркие инфракрасные лучи. Потому здесь и прохладно.
— Наши дома ведь тоже строятся из стеклозона?
— Из вспененного стеклозона,- поправил он.- Наши дома- это легкая пена стеклозона,на девяносто процентов состоящего из воздуха,вернее- из воздушных пузырьков. Кроме того, туда добавляются красящие вещества: голубые, зеленые, пепельно-серые.Но купол дороги делается из чистого и монолитного стеклозона. Эта дорога просуществует тысячелетия,и никакие песчаные бури не нанесут куполу ни малейших царапин… Я ведь специалист по стеклозону,-продолжал он. — И зачем я согласился стать начальником экспедиции на Тутус? Но нам так нужен был металл. Теперь откажусь от этого. Стеклозон! Перспективный строительный материал! Культура стекла- самая древняя. На нашей песчаной планете человек научился варить стекло раньше, чем металл. А стеклозон — это высшая ступень производства стекла.В сущности, это не стекло. Какое же это стекло, если оно прочнее всех металлов? Архитектурные и скульптурные ансамбли из стеклозона нетленны…
Данго-Дан разошелся.Он бы еще долго говорил,если бы ему не помешали.К нам подъехал большой гусеничный вездеход.Такие вездеходы,с кухней, душем и прочими удобствами,заменяют кочевникам-строителям жилые и служебные помещения.
Из кабины выскочила загоревшая почти до черноты девушка и крикнула нам:
— Вас вызывают к экрану всепланетной связи!- Подойдя ближе, она спросила:
— У вас авария? Или горючего не хватило?
— Какая там авария,-проворчал Данго-Дан.- Мальчишке захотелось отличиться — вот и все.
Девушка с любопытством посмотрела в мою сторону. Она узнала меня: изображения астронавтов часто показывают на экране всепланетной связи.
Я не заметил восхищения своим поступком. Более того, на ее губах дрогнула ироническая улыбка, когда она сказала:
— Вам предстоит, видимо, крупный разговор с самим председателем Совета Астронавтики. Нанди-Нан ждет вас обоих у экрана.
— Идем, Тонри, — вздохнул Данго-Дан.
— Идите один. Вы же начальник экспедиции.
Мне было неудобно перед Нанди-Наном за нарушение строгих правил космической навигации.Только сейчас я начал осознавать глупость своего лихачества.
Вздохнув еще раз, Данго-Дан нерешительно направился к вездеходу.
Вернулся он сияющий.
— Все в порядке,я уже не начальник экспедиции,-радостно объявил он.-Нанди- Нан больше всего расспрашивал о тебе.Он ждет тебя в Совете Астронавтики, хочет лично побеседовать.
Настроение у меня совсем упало. Я вышел из прохладного купола в опаляющий зной пустыни.
Подошел к одноместному гелиоплану и с удовольствием положил руки на его приятно-холодноватый корпус.Покрытые полупроводником корпус и крылья не накалялись и не отражали тепло. Наоборот, они почти без остатка поглощали лучистую энергию и превращали ее в электрическую. На этой даровой энергии гелиоплан летал по воздуху, раскинув свои широкие крылья.
Одной ногой я уже забрался в кабину,но кибернетический пилот, вмонтированный в пульт управления, бесстрастным голосом доложил:
— Энергии всего на пятьдесят лиг.
Это означало,что гелиоплан после недавнего полета не успел накопить в аккумуляторах достаточно энергии. Пришлось снова идти по горячим пескам. К счастью,одноместных гелиопланов было много. Киберпилот соседней машины металлически отчеканил:
— Энергии на тысячу лиг.
«С избытком хватит», — думал я, усаживаясь в мягкое кресло. Прозрачный колпак кабины захлопнулся.
— Куда? — спросил киберпилот.
— В Совет Астронавтики, — ответил я. Меня так разморило, что не хотелось самому вести машину. Доверился автомату, чего я вообще-то не любил.
Гелиоплан легко и бесшумно взлетел и, набирая высоту, взял направление на Северный полюс. На большой высоте воздух был прохладней, и мне захотелось впустить в кабину струю свежего ветра. На мою попытку открыть колпак киберпилот предупредил:
— Сейчас не рекомендуется этого делать. Разогревшись в пустыне, вы можете простудиться.
— Подумаешь, какая забота, — с неудовольствием проговорил я.
Но автомат был прав, и я не стал открывать колпак. Не хватало еще, чтобы к Нанди-Нану явился законченный космический разбойник с осипшим голосом.
Через два часа внизу зазеленели поля, сады и парки Северного полюса, заискрились реки и водоемы. Вдали, среди высоких раскидистых гелиодендронов и вечноцветущих кустов, засверкали купола и шпили Зурганоры — столицы Зурганы.
Гелиоплан пошел на снижение и вскоре плавно приземлился около Дворца астронавтов- величественного голубого здания,всеми своими легкими,воздушными линиями устремленного ввысь. Архитектор придал ему форму звездолета, каким представляли его себе писатели и художники-фантасты. Дворец, напоминающий космический корабль в момент старта, хорошо отражает мечту человечества о звездных полетах.
Во Дворце я узнал, что Нанди-Нан находится в галактическом зале. Я вошел в зал и словно очутился в Космосе. В темноте сверкала мириадами звезд наша Галактика. На фоне светлой туманности вырисовывался четкий профиль Нанди-Нана.
Вспыхнул свет,и зал приобрел обычный вид.Нанди-Нан направился к клавишному столику, чтобы сделать какую-то запись. Нанди-Нан, как и Данго-Дан, давно перешагнул за средний возраст.Но какая разница! В противоположность располневшему и нерешительному Данго Дану,Нанди-Нан сухощав,строен,энергичен в движениях.
— Ага, лихач! — засмеялся он, увидев меня. — Космический авантюрист!
Я с облегчением заметил,что, несмотря на несмешливые слова, Нанди-Нан улыбался дружелюбно.
— Ну-ка, расскажи, как ты ухарски посадил в пустыне грузовой планетолет.
Не дослушав до конца, Нанди-Нан строго осведомился:
— Ты был уверен в успехе или рисковал?
— Абсолютно уверен.
— Я так и предполагал.Узнаю себя, когда я был таким же молодым. Все же ты нарушил правила навигации,и многие предполагали от имени Совета Астронавтики выразить тебе порицание. Но я отстоял тебя.
Помолчав немного, он внимательно посмотрел на меня и предложил:
— Давай сядем и поговорим.
Мы уселись в кресла друг против друга.
— Ты не догадываешься, зачем я тебя вызвал?
— Сейчас нет. До этого думал…
— Знаю,о чем ты думал.Но речь сейчас не о том. За время твоего отсутствия произошло несколько важных и,думаю,очень приятных для тебя событий. Начну с менее важного.Круг арханов рассмотрел твою работу по астрофизике и нашел ее хоть и незаконченной,но очень перспективной и оригинальной.Твои смелые поиски в области переменных звезд получили всеобщее признание,и Круг арханов избрал тебя членом Всепланетного Круга ученых.
— Если это менее важное событие, то что же дальше! — воскликнул я.
— А дальше то,что Круг арханов совместно с Советом Астронавтики определил состав будущей межзвездной экспедиции.
— И я назначен вторым пилотом?.- от волнения я даже привстал с кресла.
— Ты назначен первым пилотом, капитаном корабля, начальником экспедиции.
Я был до того ошеломлен, что долго не мог вымолвить ни слова.
— А как же… А как же вы?- наконец спросил я.
— Я слишком стар.То есть не то, чтобы очень уж стар.Летать еще могу и буду летать в пределах системы.Но для межзвездной экспедиции не гожусь. Она продлится много лет,и нужны самые молодые. На Зургану должны вернуться не дряхлые старики,а люди в зрелом, цветущем возрасте.
— Ну, и чтобы окончательно добить тебя,- усмехнулся Нанди-Нан,- скажу еще одно: в экспедицию зачислен твой друг планетолог Сэнди-Ски.
Это было уже слишком для одного дня. Я буквально онемел от счастья.
— Вижу, что на сегодня хватит,-засмеялся Нанди-Нан и, положив руку на мое плечо, добавил: — Рад за тебя. Обо всем подробней поговорим в следующий раз. А сейчас иди отдыхать.
Я вышел из Дворца Астронавтов и бросился к гелиоплану.Но его не оказалось на месте. Кто-то уже улетел на нем. Однако я быстро нашел другую машину.
— Куда? — спросил киберпилот, едва я уселся в кабине.
— Домой! — воскликнул я.
— Где ваш дом?- сухо и,как мне показалось,недружелюбно спросил киберпилот. Можно было показать на карте щита управления точку, где надо совершить посадку. Но я всегда недолюбливал автоматику, слишком уж подделывающуюся под человека. К тому же от переполнявшего меня счастья хотелось двигаться, что-то делать.Я отключил киберпилота и взялся за штурвал.
Поднявшись в небо, я сделал круг над Зурганорой. Прекрасные голубые арки, серые, под цвет гранита, набережные и лестницы, разноцветные, но простые и удобные жилые дома- все сделано из пеностеклозона,о котором с таким увлечением рассказывал Данго-Дан,из материала,который прочнее стали и легок, как кружева.А дворцы!Создавая их, архитекторы вложили все свое мастерство и вдохновение.Каждый дворец — это оригинальное, неповторимое произведение искусства.
Я любил Зурганору…
Повернув штурвал,я направил гелиоплан домой, вдоль темной ленты гелиодороги.Дорога эта, как и корпус гелиоплана, покрыта полупроводниковым слоем, жадно впитывающим лучи, льющиеся сверху мощным золотым потоком. На гелиодороге я заметил под тентами людей. Странные люди! Видимо, они не очень спешили, если пользовались дорогой, движущейся не быстрее бегуна. Я всегда предпочитал более современные способы передвижения:гелиопланы и ракетопланы.
Поднявшись выше, я открыл верх кабины и полетел с максимальной скоростью, опьяняющей и захватывающей дух.
Внизу проносились поля, сельскохозяйственные постройки, плодоносные сады и заводы со светлыми, как оранжереи, цехами. А вот большая огороженная и тщательно охраняемая территория самой мощной на планете аннигиляционной энергостанции.На меня она производит гнетущее впечатление.Видимо,потому,что там во время опасного эксперимента погиб мой отец. Сверху я видел отдельные неземные сооружения энергостанции.Там,глубоко под землей, стоит несмолкаемый грозный шум гигантских турбин.
Показалась Тиара- город, в котором я живу.Тиара — это скорее не город, а буйно зеленеющий парк с редкими вкраплениями многоцветных домов и дворцов. Я посадил машину около моего дома на открытой,незатененной площадке, где гелиоплан мог бы накапливать солнечную энергию.В саду собирал плоды покорный и неутомимый кибернетический слуга, похожий на вертикально поставленного огромного муравья.
— Гок!- позвал я его.
Гок проворно подбежал ко мне на своих гибких ногах-сочленениях.
— Где мама? — спросил я.
— На аннигиляционной энергостанции. Вернется не скоро.
Значит,снова под землей, на гигантской фабрике энергии. Работая в экспериментальном цехе, она старается заменить отца.
Я направился в свою комнату.Только сейчас я почувствовал усталость. Слипались глаза, хотелось спать.
Слуга послушно плелся сзади.Он вызывал во мне безотчетную неприязнь, словно живое существо. Мать же, наоборот, любила часами беседовать с ним.
Гок- последнее слово малой,так называемой, домашней кибернетики. По своей универсальности он не уступает огромным электронным «думающим» машинам, построенным по старинке- на полупроводниках.Его толстое муравьиное брюхо, до отказа напичканное миллионами микроэлементов,- бездонное хранилище знаний. Гок способен производить с молниеносной быстротой сложнейшие вычисления.Без него я запутался бы в черновых расчетах,и моя работа по астрофизике затянулась бы на десятки лет. Но- странное дело!- чем больше я нуждался в нем, тем неприятнее он мне становился.
В комнате было светло, как на улице. За прозрачными стенами гнулись под свежеющим ветром деревья. Скоро, видимо, будет дождь.
— А вчера мама была дома? — спросил я, раздеваясь.
— Да. Вчера мы вычисляли коэффициент аннигилируемой меди.
— Меди?
— Да, меди.Архан с Южного полюса Ронти-Рот и несколько ученых-северян выдвинули предположение, что медь с успехом можно использовать в наших аннигиляционных станциях. Я же считаю, что медь скоро вытеснит более дорогую ртуть и антиртуть.
И откуда только Гок знает все эти новости?Мне захотелось посадить в лужу этого тупицу-всезнайку.
— Вчера Круг арханов составил список членов межзвездной экспедиции,-сказал я.- Кого,по-твоему,назначили начальником экспедиции?Ну-ка,сообрази,пошевели своими железными мозгами.
— Конечно, Нанди-Нана.
— Вот ты и ошибся. Назначили меня.
— Не может быть. Потому что…
— Ну ладно, хватит! — прервал я его. — Хочу спать.
Слуга знал мою привычку спать под открытым небом.Он быстро проковылял к стене и нажал кнопку.Стены потемнели.Надо мной раскинулся купол искусственного темно-фиолетового неба,усыпанного огненной звездной пылью. Беззвучно заработали невидимые вентиляторы.Легкими порывами подул свежий ночной ветер.
Я повалился на постель и мгновенно заснул.Проснулся от шума,доносившегося со стороны экрана всепланетной связи. Не открывая глаз, я прислушался. Там происходила какая-то перебранка. «Кто мог быть на экране? — гадал я. — Сэнди-Ски! Ну конечно, он! Только он мог так сочно выражаться». Гок что-то пытался ему объяснить. На это вспыльчивый планетолог разразился градом проклятий.
Я слегка приоткрыл один глаз и увидел забавную сцену.На светящемся экране -сердитое лицо моего друга,его густые брови грозно хмурились.Перед экраном, облитый призрачным светом, стоял Гок и однообразно тянул:
— Он спит всего три часа. Не стану его будить.
— Молчи,дурак!- стараясь сдержаться, говорил Сэнди-Ски.- Он срочно нужен.
— Но поймите, он вернулся из межпланетного полета…
— Но-но, болван, железная побрякушка, ты еще учить меня вздумал!
Рассмеявшись,я вскочил, подбежал к экрану и оттолкнул Гока. Тот отлетел в сторону, едва удержав равновесие.
— Так его,хама,- злорадствовал Сэнди-Ски.- Эо, Тонри!
— Эо!- приветствовал я его.- В чем дело?
— Ты разве не знаешь? Сейчас загорится огонь над Шаровым Дворцом знаний. Я жду тебя у Дворца.
Огонь над Дворцом знаний означал,что там собрался Всепланетный Круг ученых, обсуждающих какую-нибудь важную проблему.
«Почему Нанди-Нан ничего не сказал об этом?-думал я.-Видимо,хотел,чтобы я хорошо отдохнул».
Я быстро оделся и выскочил на улицу.
Через час я был в Зурганоре.
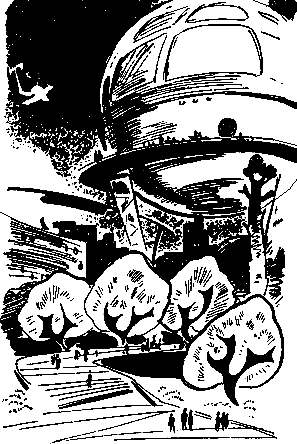
Шаровой Дворец- своеобразное здание. Это гигантский сиреневый шар, находящийся на большой высоте.Создается впечатление,что шар ничем не связан с поверхностью планеты и свободно парит над столицей Зурганы, купаясь в синеве неба.Но на самом деле он неподвижен и стоит на очень высоких и совершенно прозрачных стеклозонных колоннах.
Я посадил гелиоплан на свободную площадку. Под колоннами Дворца меня ждал Сэнди-Ски.
— Какие вопросы обсуждаются на Круге?- спросил я его.
— Ты даже этого не знаешь?- засмеялся он.- Ты совсем одичал за время межпланетного полета.Вопрос один- генеральное наступление на пустыню.Пойдем скорее, мы и так опоздали.

На прозрачном эскалаторе мы поднялись на головокружительную высоту и встали на площадке перед входом во Дворец. Отсюда,с высоты полета гелиоплана, была видна вся столица Зурганы.Мы вошли внутрь,в гигантский круглый зал. Он напоминал сейчас огромную чашу, наполненную цветами, — так праздничны были одежды присутствующих.
В центре чащи, на возвышении, образуя круг, расположились арханы- самые выдающиеся ученые.Поэтому высший совет ученых планеты так и называется — Круг арханов.
Мы с Сэнди-Ски прошли в свой сектор астронавтики и уселись на свободные места. Здесь были знакомые мне астрофизики, астробиологи, планетологи, астронавты.
— Имеется два основных проекта освоения Великой Экваториальной пустыни, — услышал я голос одного из арханов.- Первый проект вы сейчас увидите.
Погас свет.Огромный полупрозрачный светло-сиреневый купол зала стал темнеть,приняв темно-фиолетовый цвет ночного неба. На нем зажглись искусственные звезды.
И вдруг в темноте,в центре зала,возник большой полосатый шар- макет нашей планеты.
— Последнее слово инженеров-оптиков, — шепнул мне Сэнди-Ски.
Это был изумительный макет Зурганы- в точности такой планеты, какую я не раз видел в Космосе со своего планетолета. На полюсах — зеленые шапки с правильными линиями гелиодорог и аллей, с квадратами и овалами парков и водоемов.Зеленые шапки-оазисы отделялись от пустыни узкими серовато-бурыми полосами.Здесь растительная жизнь в виде желтой травы и безлистного кустарника отчаянно боролась с песками и жаром пустыни. Три четверти поверхности занимал широкий желтый пояс Великой Экваториальной пустыни. Безжизненный край,край визжащих бурь и смерчей. А вот и транспланетная магистраль,для которой я недавно доставлял редкие металлы. Правда, здесь, на макете,она была изображена уже готовой.Примыкая к магистрали, протянулись с Севера на Юг полосы зеленых насаждений. «Дорога-оазис», — вспомнились мне слова Данго-Дана.По меридиану,параллельно первой магистрали, появилась вторая, третья… Десятка два магистралей-оазисов. Они соединились темными лентами гелиодорог — солнечной энергии на экваторе хоть отбавляй. В пустыне появились сверкающие квадраты водоемов, первые города. И вот вся планета была расчерчена парками и аллеями, гелиодорогами и каналами. Она напоминала гигантский чертеж. У меня вызвала досаду эта математически правильная, геометрически расчерченная планета.
Сэнди-Ски сердито хмурил брови.
— Нравится? — спросил я его.
— Чертова скука, — ответил он.
Такое же мнение,хотя и не так энергично, высказали многие участники Круга, когда в зале снова вспыхнул свет.
— Что мы сейчас видели? Бедную,израненную планету! — с горечью воскликнул Рут-Стренг из сектора биологии.- Планету, изрезанную на куски аллеями, исхлестанную гелиодорогами.Человек на такой планете окончательно оторвется от природы, породившей его.Нет,с таким проектом согласиться нельзя.
Рут-Стренг ушел с трибуны под одобрительный шум зала. На трибуне появился архан Грон-Гро, высокий, еще сравнительно молодой человек. Он поднял обе руки, призывая к тишине.
— Еще в эпоху классового разобщения и вражды полюсов,-начал он,- высказывалась правильная мысль о том,что человек не может быть по-настоящему свободным, радостным и духовно богатым, если он смотрит на природу чисто утилитарно, потребительски.Переделывая мир,человек соответственно переделывает и себя.Вот почему мы должны относиться к природе как к источнику радости и эстетической ценности.Автор проекта не очень оригинален. Он просто распространил на всю планету то,что имеется сейчас на полюсах. Но уже давно сложилось мнение,что цивилизация наша приобретает неверный,слишком утилитарный,слишком технический характер. Мне по душе другой проект, который вы сейчас увидите.
В зале погас снова свет.И снова в космическом пространстве, искусно созданном инженерами-оптиками,кружился огромный полосатый шар Зурганы. По меридианам пролегли транспланетные магистрали-оазисы. Они так же, как и в первом проекте,соединялись лентами гелиодорог с поселками по обе стороны. Но вместо аллей и геометрически правильных водоемов и каналов на планете зазеленели огромные массивы возрожденных древних лесов. Это были настоящие джунгли, края непуганых птиц и зверей, заповедные места с крутыми горами, с извилистыми реками,со звенящими водопадами.Мир предстал перед нами непостижимо разнообразным — могучим, буйно зеленым, радостно шумящим…
— Вот это я понимаю!- восторгался Сэнди-Ски.- То, что надо здоровому человеку. Согласен?
— Да, согласен…- пробормотал я. Мне было сейчас не до разговоров. Словно завороженный, я смотрел в соседний, гуманитарный сектор. Там сидела девушка своеобразной красоты.Я видел четкий, прекрасный профиль, густую волну темных волос, чуть скрывавших загорелую, словно выточенную из бронзы шею. Это была типичная представительница расы шеронов, расы, которая всегда боготворила женскую красоту.Но не красота ее поразила меня: я встречал не менее миловидных девушек, и ни одна из них не взволновала меня, не затронула мою душу и сердце. А эта!…Девушка была не просто красивой. Лицо ее — музыка, запечатленная в человеческих чертах.
Девушка,словно почувствовав пристальный взгляд,посмотрела в мою сторону.По ее лицу скользнула грустно-ироническая улыбка.
Я отвернулся и стал смотреть на трибуну,стараясь вникнуть в смысл выступлений.
— Человек должен взаимодействовать с естественной средой обитания на условиях,адекватных его сущности,его гуманистической сущности,- говорил один из рядовых членов Круга.Выражался он слишком мудрено. Видимо, такой же новичок здесь, как и мы с Сэнди-Ски.
В противоположность ему речь архана Нанди-Нана,выступившего следующим, отличалась простотой и образностью.
— Второй проект не лишен частных недостатков, но в целом он мудр и дальновиден.Автор его правильно подчеркивает,что живая,первозданная природа, в лоне которой появился человек,необходима нам, как воздух. С детства человек испытывает ее благотворное влияние.Ребенок,изумленно уставившийся на жука,ползущего по зеленой качающейся травинке,полюбит живую природу,найдет в ней что-то бесконечно ценное и доброе.Природа в большей степени, чем искусство, формирует гуманиста.
— Мы овладели ядерной энергией,-продолжал Нанди-Нан,-наши ученые проникли в тайну самой могущественной энергии- энергии всемирного тяготения. И я считаю позором, что столь высокая цивилизация до сих пор терпит у себя на планете громадный безжизненный край раскаленных песков. Правда, наша планета не так густо населена. Но это может служить отчасти объяснением, но никак не оправданием.
Мне всегда нравился Нанди-Нан,и взгляды его я полностью разделял. Стройный и сухощавый,он стоял на трибуне и говорил вдохновенно и темпераментно. Но сейчас я слушал его невнимательно.Мои мысли были заняты иным, и я снова то и дело смотрел в сторону гуманитарного сектора.В это время девушка повернулась к соседке и что-то шептала ей, мягко жестикулируя.Меня поразила естественная грация ее движений, высокая культура каждого жеста,свойственная нашим знаменитым танцовщицам. «Но кто она?- гадал я.- Может быть, действительно танцовщица? Или поэтесса?»
Я словно сквозь сон слышал разгоревшиеся споры,гул голосов в зале.И вдруг наступила тишина.Я невольно взглянул на трибуну. На ее возвышение, не спеша, поднимался архан Вир-Виан- выдающийся ученый и тонкий экспериментатор, личность почти легендарная.Он был из тех немногих шеронов, которые высокомерно,неприязненно относились к новому,гармоничному строю, установившемуся на всей планете.
Выступал Вир-Виан очень редко.Большей частью он молчал,угрюмо и отчужденно глядя в зал. Его редкие и короткие выступления выслушивались в глубокой тишине,ибо они всегда поражали новизной, неожиданностью научных и философских концепций. Но на этот раз он выступил с большой программной речью.
Изложить сегодня ту речь не успею. На наших корабельных часах вечер, и фарсаны уже собрались в кают-компании, дожидаясь меня. К тому же сильно разболелось плечо.Ушиб я его при обстоятельствах, которые нарушили мой сон и чуть не привели к гибели всего корабля. Об этом стоит упомянуть, но уже после того, как целиком опишу свой сон.
26-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Пусть не думает неведомый читатель,что моя жизнь на корабле — это приятная оргия воображения, этакое сладостное погружение в мир воспоминаний. Ничего подобного! Я ни на минуту не забываю о фарсанах.Раздираемый мучительными сомнениями, присматриваюсь к Тари-Тау. Кто он? Фарсан или человек?
Вчера ни строчки не записал в своем дневнике.Весь день вместе с фарсанами проверял все системы звездолета,приводил в порядок корабельное хозяйство. Но об этом потом.Сначала о программной речи Вир-Виана, которая объяснит социально-философские предпосылки появления фарсанов.
Итак,в зале царила непривычная тишина.На трибуне- Вир-Виан.Как все шероны, он был высок и строен. Однако его лицо нельзя назвать красивым в обыденном понимании этого слова. Мощно вылепленное, оно было даже грубым, но патетично вдохновенным и поражало своей духовной силой.
— Общественный труд, борьба за существование и природа — вот три фактора, сформировавшие человека,-начал Вир-Виан своим звучным голосом.- Здесь правильно говорили о том, что для гармонического воспитания человека необходима новая, первозданная природа, развивающаяся по своим внутренним законам, а не природа выутюженная, математически расчерченная. Но спасет ли человечество от биологического и духовного вырождения одна природа? Нет, не спасет. Как ни важна природа, но она фактор второстепенный. На ваших лицах я вижу удивление:о каком это вырождении я говорю?…
И Вир-Виан перечислил признаки начавшегося, по его мнению, биологического и духовного угасания. Он представил перед нашими изумленными взорами карикатурно искаженный образ современного человека- с механизированными и нивелированными чувствами, неспособного к психологическим нюансам и сложному мышлению. Процесс вырождения особенно нагляден, по его мнению, в искусстве, которое является зеркалом человечества.

— Почему,- спрашивал он, — нынешний человек отвергает великолепную поэзию прошлых веков, монументальное искусство шеронов — искусство тонких интеллектуальных раздумий и переживаний?Да потому, что человек перестает понимать его.Оно,дескать, устарело.И начались поиски какого-то современного стиля, рассчитанного на стандартизацию человеческих чувств. Процесс «обесчеловечения» искусства особенно заметен в таком популярном среди юношества жанре,как научная фантастика, которая все более и более превращается из философского человековедения в машиноведение.
— На наших глазах,- говорил Вир-Виан, повышая голос,- происходит необратимый процесс машинизации человека и очеловечения машины,процесс тем более опасный и коварный, что он происходит постепенно и незаметно.
Вир-Виан нарисовал перед нами мрачную картину грядущего упадка. Человек постепенно упрощается, его духовный мир в будущем царстве покоя и сытости стандартизируется.Между тем ученые, работая по инерции, будут еще некоторое время обеспечивать научно-технический прогресс, темпы которого станут все более и более замедляться.Появятся совершеннейшие кибернетические устройства.Со временем эти умные машины превзойдут человека с его упрощенным духовным миром.Они возьмут на себя не только черновой, утилитарный умственный труд,но и отчасти труд творческий. Однако процесс совершенствования кибернетической аппаратуры не будет бесконечным.Даже самых выдающихся ученых грядущего затянет неудержимый поток всеобщей деградации. Ученые сами попадут в духовное рабство к машинам.Кибернетические устройства, не руководимые человеком, будут повторять одни и те же мыслительные и производственные операции, обеспечивая человечеству изобилие материальных и даже так называемых духовных благ. Наступит царство застоя.
— Духовная жизнь на Зургане замрет,- говорил Вир-Виан.-Научно-технический прогресс прекратится.
— Чепуха! — раздался в тишине чей-то звонкий голос.
Поднялся невообразимый шум.Все старались перекричать друг друга. Сэнди-Ски что-то сказал мне, но я не расслышал.Вир-Виан,сумрачно усмехаясь, с ироническим любопытством смотрел на расшумевшихся людей.
Вдруг в секторе ядерной физики поднялся, удивив всех огромным ростом, худой и лысый шерон. Он был так же стар,как и Вир-Виан,и помнил, наверное, эпоху господства своей расы. Громовым голосом, неожиданным для его тощего тела, он прокричал:
— Дайте человеку выступить! Вир-Виан говорит жестокую правду.
Его поддержал другой шерон,помоложе, из сектора биологии.
Наконец все успокоились. Снова наступила тишина.
— Не думайте,что я предсказываю царство омерзительного вырождения, царство обжорства и разврата,- спокойно продолжал Вир-Виан. — Это будет в общем-то сносный век.Это будет золотой век человечества,но век изнеженный и, в сущности, угасающий.Обессиленное человечество станет марионеткой в руках природы,не будет в состоянии бороться с неизбежными космическими катастрофами. Настает час расплаты, час трагической гибели цивилизации.
Вир-Виан подробно объяснил одну,наиболее вероятную по его мнению, причину космической гибели человечества.Всем известен,говорил он, эффект красного смещения.Свет от далеких галактик приходит к нам смещенным в красную сторону спектра.И чем дальше галактики, тем более смещенным приходит к нам свет. Объясняется это тем,что галактики расширяются от некоего центра, разлетаются с огромными скоростями.Мы живем в пульсирующей области бесконечной Вселенной.Мы живем в благоприятную для органической жизни эпоху красного смещения,эпоху разлета галактик.Но в будущем, через десять-двадцать миллиардов лет,эпоха красного смещения постепенно сменится эпохой фиолетового смещения, эпохой всевозрастающего сжатия галактик. Степень ультрафиолетовой радиации неизмеримо возрастет. Одного этого достаточно, чтобы испепелить,уничтожить органическую жизнь. Кроме того, сжатие галактик будет сопровождаться грандиозными космическими катастрофами.
— Человечество неизбежно погибнет в вихре враждебных космических сил! — воскликнул Вир-Виан,патетически потрясая обеими руками.-Не такова ли судьба других высоких цивилизаций, возникших задолго до нас? Я утверждаю: именно такова!
— Вселенная вечна и бесконечна,- говорил он. — В ней множество миров, населенных разумными существами.И естественно предположить, что рост всепланетного, а затем космического могущества мыслящих существ так же вечен и бесконечен.
— Но где же следы этой вечно растущей мощи разумных существ?-спрашивал он. — Где новые солнца,зажженные ими,где следы переустройства галактик? Нет их! Тысячи лет наблюдают
астрономы Зурганы за звездами, на миллионы световых лет проникли они своим взглядом вглубь мироздания и нигде не обнаружили ни малейших следов космической деятельности мыслящего духа.
— Почему?- спрашивал Вир-Виан. И отвечал: — Потому, что разум на других населенных планетах угасает,не успев разгореться во всю мощь.Носители разума становятся жалкими игрушками, марионетками в руках враждебных космических сил. Весь блеск расцветающих цивилизаций, все достижения разума неизбежно гибнут, бесследно исчезают в огромном огненном водовороте Вселенной.
Я посмотрел вокруг. Все слушали внимательно. Многие новички, вроде нас с Сэнди-Ски, были захвачены яркой речью Вир-Виана. Однако на лицах большинства присутствующих выражалось недоумение. Нанди-Нан и некоторые другие арханы воспринимали социально-космические идеи своего коллеги со снисходительной улыбкой.
В гуманитарном секторе я, конечно, снова отыскал взглядом незнакомку, поразившую меня своей необычной красотой. И первое, что бросилось в глаза, — сосредоточенность и грусть, с которой она слушала Вир-Виана. Легкий налет печали на ее лице еще больше подчеркивал одухотворенность и нешаблонность ее красоты. Но почему она так грустна?
— Знаешь, кто это?- вдруг услышал я голос Сэнди-Ски.
— О ком ты говоришь, не понимаю.
Я поглядел на Сэнди-Ски и увидел в его глазах озорные,дружелюбно-насмешливые огоньки.
— Не притворяйся. Я ведь все вижу.
— Ну, говори уж, если начал.
— Она работает сейчас в археологической партии на раскопках погибшего фарсанского города, недалеко от острова Астронавтов. Как и большинство, она имеет несколько специальностей: историк, археолог, палеонтолог и еще что-то в этом роде.
— А как ее имя?
— Аэнна-Виан, дочь Вир-Виана.
Вот оно что!Теперь мне стало понятно,почему она слушала Вир-Виана с таким серьезным и чуть грустным вниманием.
Между тем Вир-Виан продолжал развивать свои космические теории. Представим себе, говорил он, некую воображаемую точку в Космосе. С этой точки мы наблюдаем за бесконечной Вселенной бесконечно долгое время.И что мы видим? Вот за многие миллиарды веков до нас возникла жизнь в разных уголках Вселенной. На отдельных планетах вспыхнули светильники разума. Разум на этих планетах выковывался и совершенствовался в борьбе,и только в борьбе.Сначала в звериной, ожесточенной борьбе за существование, в борьбе с голодом. Затем в борьбе различных племен и общественных групп.И,наконец,в борьбе за полное изобилие благ.
Цивилизация на тех далеких во времени планетах достигла такого же сравнительно уровня,как сейчас на нашей Зургане. Разумные обитатели этих планет,объединившись,достигнув изобилия, встали на шаблонный путь развития. Ибо этот исторический путь,казалось бы самый естественный,легко напрашивающийся в логичный,- путь всеобщего равенства, дружбы, космического братства. Но это ошибочный путь — путь отказа от всякой борьбы.
Правда, оставался еще один вид борьбы — борьба с природой в планетарном масштабе.На одних планетах это было освоение жарких пустынь, как у нас, на других- борьба с холодом и льдами. Наконец, всякая борьба прекратилась. Разумным существам осталось только довольствоваться плодами своих прежних побед. Наступает царство застоя. Научно-технические достижения, явившиеся результатом предыдущей борьбы,открыли возможность межзвездных сообщений. Но для чего использовали эту возможность жители тех планет, вставшие на наш шаблонный и ошибочный путь развития?Для поисков новых и более грандиозных форм борьбы,чтобы предотвратить застой и вырождение? Нет! Они стали летать друг к другу с дружественными целями, для удовлетворения научной любознательности. Но и эта любознательность со временем увянет, ибо она не воодушевляется никакой необходимостью.Таким образом, даже межзвездные сообщения не спасут от застоя и вырождения. В состоянии постепенного угасания разумные обитатели многочисленных планет того неизмеримо далекого времени пребывали миллионы лет. Достигнув полного благополучия, они уже не стремились ни к чему,просто наслаждались,нежились в лучах собственных солнц -естественных или даже искусственно созданных ими.Но Вселенная не может все время находиться в метафизически-неподвижном,устойчивом состоянии. Вот мы видим со своей воображаемой точки,как стали намечаться качественные изменения,гигантские превращения одних форм материи и энергии в другие. Гибли целые галактики,возникали новые.Древние,но изнеженные цивилизации, эти крохотные водоворотики жизни, бесследно исчезали в огромном потоке рушащихся миров и галактик.
Вир-Виан на минуту умолк, оглядел зал и с удовлетворением увидел внимательные лица.
— Но вот Вселенная снова пришла в относительно устойчивое состояние, — продолжал он,- и снова в разных ее уголках вспыхнули огоньки разума, колеблемые ветром космических пространств.Но и эти огоньки погасли по тем же причинам. И так повторялось бесчисленное множество раз.Вот почему мыслящий дух ни на одной из планет не смог добиться вечного существования, вечного и бесконечного роста и могущества.Вот почему ученые Зурганы,проникнув взором в неизмеримые дали Вселенной, не обнаружили ни малейших следов гигантской космической деятельности творческого разума.
— И я с полной уверенностью утверждаю,- раздавался в тишине громкий голос Вир-Виана, временами принимавший трагическое звучание,- что и наша Зургана будет принадлежать к тому же бесчисленному сонму погибших миров. Можем ли мы допустить это? Нет,надо бороться. Перед нами, зурганами,стоит великая космическая цель:не дать погибнуть разуму на нашей планете, как бы далека ни была эта гибель.А для этого,не в пример предыдущим погибшим цивилизациям, мы должны возвеличить мыслящий дух,сделать разум равновеликим Космосу,способным успешно бороться с его гигантскими враждебными силами. Что нужно для этого? Борьба и господство. Борьба — враг застоя и вырождения.Господство — условие высшей культуры.
Кто-то звонко рассмеялся.В зале зашумели.Вир-Виан поднял руку.На его губах играла сумрачная и высокомерная усмешка.Когда немного стихло, Вир-Виан опустил руку и сказал:
— Я знал,что слова «борьба и господство» вызовут у вас ироническую реакцию.Вы,может быть, думаете, что я призываю к возрождению иерархического строя шеронов? Нет.Шеронат рухнул на моих глазах,когда я был еще подростком. Он погиб закономерно и безвозвратно.Но он сыграл великую прогрессивную роль в планетарном масштабе, создав на Зургане самую высокую духовную культуру. Чем обусловлен невиданный взлет шеронской культуры? Борьбой и господством. Стоит подумать, и вы поймете, что борьба и господство всегда были наивысшим законом прогресса. Вспомните хотя бы некоторые биологические законы. Когда древние животные поднимались ступенькой выше по великой эволюционной лестнице, когда они делали шаг на победном пути к человеческой мудрости? Быть может,в спокойные периоды их жизни? Нет! В такие периоды животные вырождались,в их клетках накапливались деградирующие признаки.И наоборот. В кризисные,революционные моменты жизни, когда в борьбе за существование требовалось проявить максимум физических и психических усилий, животные обретали свои лучшие боевые качества:силу и хитрость, ловкость и сообразительность. В клетках организма происходили благоприятные мутации, которые,накапливаясь,передавались потомству.Таков объективный закон природы, и он относится не только к животным, но и к человеку, и ко всему человеческому обществу.
Я вам напомню одну древнюю,но мудрую шеронскую легенду. Очень давно, говорится в легенде,когда на Зургане еще не было человека,бог предложил двум живым существам на выбор- в одной руке сытую и спокойную жизнь, а в другой — стремление к ней. Более проворное животное схватило сытую и спокойную жизнь и убежало с нею в лес.Оно так и осталось животным существом.Другому досталось стремление к сытости и благополучию. И оно со временем стало мыслящим существом — человеком.
И вот сейчас,накануне межзвездных сообщений, вы предлагаете человечеству сытую жизнь и космическое братство. Я с негодованием отвергаю это розовое благополучие,без потрясений и борьбы. Взамен я предлагаю стремление к высокой цели.Вечное и безраздельное торжество духа над материей- вот эта цель.В конечном счете она,может быть, и недостижима.Но ведь в данном случае важна не сама цель, а стремление к ней, стремление, которое неизбежно предполагает борьбу и господство во вселенском масштабе.
Мы сейчас на пороге межзвездных сообщений.За первым кораблем уйдут в Космос,к другим планетам новые,более совершенные. И мы должны использовать эту возможность для борьбы и господства на новом,космическом этапе.Все жители Зурганы станут космическими шеронами,то есть господами во вселенском масштабе и творцами гигантских духовных ценностей. Все населенные планеты Космоса- сначала ближние,а затем и дальние- должны быть завоеваны нами.Но мы не будем жителей покоренных планет истреблять или обращать в физическое рабство.Нет,пусть завоеванные цивилизации развиваются,но под нашим руководством. Это даст возможность нашему человечеству избежать биологического и духовного угасания.Ведь само ощущение власти над другими цивилизациями явится условием воспитания сильных и гармоничных чувств. Кроме того,каждая,даже не очень развитая,цивилизация обладает неведомыми научными и техническими достижениями. И мы можем все научные открытия и технические идеи собирать, накапливать здесь, на Зургане, в памятных машинах.
Но Зургана не должна быть простым хранилищем научной информации Вселенной. Нет,ученые Зурганы будут обобщать,синтезировать эту информацию,создавая новые науки,которые сделают нас еще более могущественными.В результате Зургана сможет успешно бороться с цивилизациями, достигшими самого высокого уровня развития.Это будет апофеоз космической борьбы. Вселенная станет содрогаться от грома сталкивающихся небесных тел,озаряться вспышками взрывающихся звезд и целых галактик.Эта великолепная борьба, стремление к высшему господству предотвратят застой, биологическое и духовное угасание. В буре и грохоте космической борьбы будет выковываться воля и совершенствоваться мощный разум зурган-шеронов,разум,равновеликий Вселенной. Зургане соберут из удаленных уголков Вселенной новую научно-техническую информацию. Творчески обобщенная, она сделает нас еще более могучими и сильными в дальнейшей борьбе. Зургане покорят новые и самые высокоразвитые планеты, приблизятся к сферам отдаленнейших солнц.
Так будет побеждена извечная жестокость Космоса,и светоч разума не погаснет никогда. Факел разума на Зургане будет пылать на всю Вселенную, озаряя космическую ночь,согревая своим теплом не только нас, но и другие, подчиненные цивилизации,предохраняя их от гибели. В этом я вижу величие и космоцентризм человека Зурганы. Некогда зыбкий мыслящий дух станет могучим, будет создавать новые миры и галактики, управлять Вселенной, увековечив свое торжество над гигантскими стихийными силами. А Зургана, наша родная планета, станет столицей Космоса, планетой…
— Планетой-диктатором,- насмешливо подсказал один из арханов.
— Согласен с моим ироничным оппонентом,-усмехнувшись, сказал Вир-Виан.- Но повторяю:диктатура не самоцель,а необходимое средство для достижения грандиозной и благородной цели. Эта цель- защитить жизнь от враждебных космических сил, возвеличить ум, увековечить торжество мыслящего духа над косной материей. Да, наша Зургана станет столицей Космоса и солнцем разума всей Вселенной.
На этом Вир-Виан закончил свою речь и стал медленно сходить с трибуны, всем своим видом выражая презрение к людям, которые не хотят его понять.
— Хау!- закричал вдруг тощий лысый шерон из сектора ядерной физики.
— Хау!- поддержал его еще один шерон.
Таким восклицанием у нас, на Зургане, выражается высшее одобрение. Но этих двух шеронов больше никто не поддержал. Напротив, послышались недовольные возгласы, все зашумели.
Нанди-Нан, взойдя на трибуну, поднял руку и долго успокаивал расходившихся участников Всепланетного Круга ученых. Когда наступила тишина, он выразил сожаление,что один из выдающихся ученых Зурганы так жестоко ошибается в своих социально-космических взглядах,в прогнозах на будущее.Только на основе дружбы и сотрудничества с разумными обитателями других миров, сказал Нанди-Нан, можно победить враждебные силы Космоса. Эту же мысль высказывали и другие участники Круга.
Обсуждение проектов освоения Великой Экваториальной пустыни под влиянием речи Вир-Виана отклонилось в сторону. Многие выступающие, сказав несколько слов по поводу проектов, начинали возражать Вир-Виану и забирались в дебри космической философии.
Всепланетный круг ученых затянулся, и все начали чувствовать усталость. Наконец,открылись двери и заработали радиально расположенные эскалаторы. По ним люди спускались вниз.Эскалаторы напоминали многоцветные, шумные, веселые водопады. В этом людском потоке я потерял из виду Аэнну-Виан.
Когда мы очутились внизу, под огромным голубым шаром Дворца, Сэнди-Ски сказал:
— Приходи через некоторое время в аллею гелиодендронов, там найдешь меня.
И затерялся в толпе. Меня удивило загадочное поведение друга.
Ослепительный диск солнца только что скрылся за горизонтом.Наступила самая чудесная пора на Зургане- вечер с приятным для глаз полусумраком,с ласкающей прохладой.
Люди не расходились по домам,и дискуссия,начатая там,в Шаровом Дворце, не прекращалась.В сущности,Всепланетный Круг послужил лишь началом обсуждения, и споры словно выплескивались из сиреневого шара наружу, вспыхивали с новой силой в многочисленных аллеях и парках, прилегающих к Дворцу.
Дискуссии разгорелись в каждом доме,в узком семейном кругу, перед экранами всепланетной связи.Проблемы,затронутые учеными,обсуждала вся планета.Через несколько дней от населения начнут поступать предложения,и комиссия всепланетного Круга, проанализировав и обобщив их, выработает единое мнение планеты по обсуждавшемуся вопросу.
Я свернул в парк электродендронов.Здесь было особенно многолюдно. Парк привлекал людей свежим, бодрящим воздухом. Широкие и плотные листья электродендронов весь день поглощали лучистую энергию могучего светила. А сейчас, с наступлением темноты, деревья выделяли избыток энергии в виде электрических разрядов.То и дело раздавался сухой треск, вспыхивали, на миг озаряя густеющие сумерки,короткие молнии. Это деревья вели между собой электрическую перестрелку, озонируя воздух.
Люди шли группами,смеясь и оживленно беседуя. Один только я брел в одиночестве, невольно ловя обрывки фраз.
Некоторое время я шел с компанией очень веселых молодых людей, видимо, впервые присутствовавших на Круге.
— Вир-Виан не прав,- услышал я голос какого-то юнца.- Наступление на Экваториальную пустыню- это лишь начало космической борьбы с природой. И в этой борьбе человечество не изнежится, не захиреет.
— Вир-Виан хороший ученый, но плохой философ,- смеясь, сказал невысокий молодой человек.
— Банальный афоризм, — серьезно возразила ему девушка. — Я бы сказала о Вир-Виане иначе…
Но что она сказала бы о Вир-Виане,я так и не услышал. Молодые люди зашли в ажурную беседку и уселись за круглый стол, на котором в прозрачных сосудах искрились вина, стояла еда.Многие,проголодавшись,следовали их примеру. Споры в беседках разгорались с новой силой. Таким образом, вечер и начало ночи после Круга превращались в своеобразный праздник-дискуссию.
В аллее гелиодендронов,куда я зашел в надежде отыскать таинственно исчезнувшего Сэнди-Ски,стояла лирическая тишина. Высокие и густые деревья накопившуюся за день энергию выделяли бесшумно- свечением. К ночи крупные цветы гелиодендронов раскрылись и светились, как голубые фонари, привлекая ночных опыляющих насекомых.
Здесь было совсем мало народу. Голубые тихие сумерки аллеи стали убежищем влюбленных пар, которые сидели на качающихся скамейках под густыми кронами гелиодендронов.
Я почувствовал себя совсем одиноким и уже начал сердиться на Сэнди-Ски, как вдруг из-за поворота,в голубом сумеречном сиянии показалась его крупная фигура. Он разговаривал с какой-то девушкой. Неуловимое изящество походки, отточенная и в то же время естественная грация жестов и движений… Да это же Аэнна! Теперь я начал понимать причину загадочного поведения Сэнди-Ски: он хотел словно случайно познакомить меня с Аэнной.
— Эо, Тонри! — воскликнул он с таким видом, как будто видел меня сегодня впервые. И с деланным удивлением спросил: — Ты почему один?
Обратившись к Аэнне, он шутливо-торжественным тоном сказал:
— Да будет тебе известно, Аэнна,это Тонри-Ро- начальник нашей экспедиции, первый разведчик Вселенной, первооткрыватель звездных миров.
— Можно не представлять,- рассмеялась она и в тон Сэнди-Ски шутливо продолжила:- Астронавты настолько популярны сейчас,что их все знают.Это не то что мы,историки,археологи и люди прочих незаметных, сереньких профессий, все более оттираемых в неизвестность воинственным племенем астронавтов.
В присутствии друга я чувствовал себя легко и свободно. Мы вошли в потрескивающий разрядами парк электродендронов и заняли в беседке свободный столик. Но тут Сэнди-Ски неожиданно вскочил:
— Черт побери! Я и забыл, что мне надо обязательно встретиться с Нанди-Наном. Извините меня.
И он ушел,оставив нас с Аэнной.Взглянув друг на друга, мы рассмеялись над неуклюжей хитростью Сэнди-Ски: он явно хотел оставить нас вдвоем.

Вверху,прямо над нами,с колючим треском вспыхнула молния электроразряда. В ее мгновенном, но ярком свете я впервые разглядел глаза Аэнны-Виан: темно-синие, как утренний океан, глубокие, как горные озера. Ее густые волосы, освещаемые сзади многочисленными крохотными молниями электроразрядов, казались усыпанными танцующей звездной пылью. Аэнна была до того неправдоподобно красива,что меня охватила непривычная робость. Наступило неловкое молчание. Первой нарушила его Аэнна.
— Как тебе понравилось выступление моего отца? — спросила она.
— Мне оно понравилось.
— Вот как!- Ее брови взметнулись,как крылья встревоженной птицы.- Не ожидала. Значит, ты хотел бы стать астронавтом-завоевателем?
На ее серьезном лице скользнула уже знакомая мне улыбка, печальная и слегка ироническая.
— Нет, не то,- смутился я. — Мне понравилась яркая поэтичность речи.
— Но все это форма выступления.Я согласна с тобой: речь его временами просто талантлива. Мой отец вообще, к сожалению, очень талантливый человек.
— Почему к сожалению?!- удивился я.
— Ну,об этом долго рассказывать.Моего отца по-настоящему мало кто знает, — медленно и с грустью проговорила она. Немного помолчав, она спросила:
— Как все-таки ты относишься к выступлению моего отца? Я имею в виду, конечно, содержание, а не форму.
— У меня к нему двойственное отношение.
— Двойственное?-снова удивилась она.-Какое может быть двойственное отношение к столь путаной, ошибочной философии.
— Согласен: в речи твоего отца много путаницы и ошибок, — заговорил я свободно,отделавшись, наконец, от смущения. — Но, с другой стороны, она привлекает своим бунтарским характером.В ней звучит проповедь бунта мыслящего духа против враждебных сил Космоса, стремление к построению цивилизации исполинской и вечной.
— Ого, ты начинаешь усваивать стиль речи моего отца,- рассмеялась Аэнна. Затем спросила:-И что же нужно делать?Неужели для этого необходима борьба во вселенском масштабе,завоевание населенных планет,грабежи научно-технических достижений и, чтобы не выродиться, господство жителей Зурганы над всеми мыслящими обитателями Космоса?
— Нет, конечно…- начал я.
Но в это время Аэнна воскликнула:
— А вот и твой кумир идет! Посмотри.
В парке появился Вир-Виан в сопровождении нескольких шеронов. Среди них я увидел высокого лысого старика, который громко кричал на Круге «хау».
— Ты подожди меня,- сказала Аэнна, вставая, — я на минуту подойду к отцу, спрошу, когда мы будем возвращаться домой.
Вернувшись, Аэнна весело заговорила:
— А знаешь, ты пользуешься у моего отца большим успехом. Он хочет поближе познакомиться с начальником первой межзвездной экспедиции. Он дал мне понять,что было бы неплохо, если бы я пригласила тебя в наш дом. А ведь мой отец — нелюдим.
Вир-Виан, оживленно беседуя с шеронами, остановился недалеко от нас. Шероны часто оборачивались и смотрели в нашу сторону. Один из них был до того стар, что его щеки обвисли и болтались, как салфетки.
— Пойдем отсюда в аллею гелиодендронов,- предложила Аэнна.- Друзья моего отца — не очень приятное зрелище.
В аллее гелиодендронов мы шли некоторое время молча, прислушиваясь к приятному гулу ночных насекомых, перелетающих с одного светящегося цветка на другой. На черном небе огненной росой сверкали звезды. Среди них выделялась ярким блеском Туанга- царица северного неба.
— Туанга!- задумчиво заговорила Аэнна.-Когда я смотрю на нее, мне кажется, что там, в немыслимой дали, живут на цветущей планете невыразимо прекрасные существа.Их разум сверкает подобно голубой звезде Туагне, словно вобравшей в себя весь свет мирового пространства. И никакие черные провалы Космоса не затмят этот блеск,никакие вселенские катаклизмы не сокрушат могучую цивилизацию, вставшую на путь вечного совершенствования и развития. Со временем и наша Зургана станет такой же.И тогда две прекрасные цивилизации, разделенные огромным расстоянием, найдут друг друга, сольются, чтобы стать еще могущественней и прекрасней, чтобы в неизмеримых глубинах Космоса искать себе подобных. И так без конца.Разум Вселенной будет разгораться все ярче и ни когда не погаснет, не станет жалкой игрушкой в руках гигантских стихийных сил.Перед ним вечная борьба с природой,вечная и неутолимая жажда творчества и познания.
Смутившись, Аэнна усмехнулась и сказала:
— Вот видишь,я тоже начала выражаться патетически, как и мой отец. Но я иначе,чем он,представляю развитие мирового мыслящего духа.Конечно, разумные обитатели отдельных планет, достигнув определенного и даже сравнительно высокого уровня развития,все же, вероятно, гибнут в потоке всесокрушающих враждебных сил Космоса.И задача могучих цивилизаций не покорять их, не господствовать над ними, а помогать. Здесь я не согласна с моим отцом и его горячим единомышленником.
— С каким единомышленником?-спросил я.- Это с тем тощим и лысым шероном?
— Да нет же, я имею в виду тебя,- рассмеялась Аэнна. Но слова ее звучали скорее дружелюбно, чем насмешливо.
— Это же клевета,Аэнна,- возразил я.- Идея агрессии, этакого космического разбоя, у меня вызывает отвращение. К тому же я считаю, что величайшие достижения науки неотделимы от высшей гуманности.Покорение других планет, господство над ними вообще невозможны нигде и никогда. Само по себе освоение Космоса предполагает такой высокий уровень сознания, который исключает все это.
— Ты так думаешь?А напрасно.То есть мысль вообще-то правильная, но не во всех случаях.Конечно, на подавляющем большинстве населенных планет общество разумных существ развивается в принципе таким же путем, как и у нас на Северном полюсе.Развитие смутных эпох завершается великим переворотом, установлением гармонического общества на всей планете. Однако не исключена и другая возможность.На какой-нибудь планете цивилизация, даже достигнув необычайных научно-технических высот,может получить уродливые, злые, антигуманистические формы.Ведь перед нами пример не только Северного полюса, но и Южного,где иерархический общественный строй держался тысячелетиями при очень высокой культуре. Почему-то у нас недооценивают историю многовекового господства шеронов, считая это господство высококультурной расы чем-то случайным, незакономерным. Расскажи, например, что ты знаешь о шеронате?
Я вспомнил то, что говорили нам об истории Южного полюса в высшей школе астронавтов.
— Однако немногому вас учили.Я так и знала,что история Юга недооценивается. Факты ты,конечно,знаешь,но без глубокого проникновения в них. Ты астронавт и тем не менее не понимаешь космической опасности, заключенной в самой идее шероната.Предположим- а такая возможность не была исключена,- что иерархический строй шеронов распространился бы на Северный полюс.В этом случае шеронат на планете сохранялся бы еще многие столетия и вышел бы во Вселенную,стремясь к космическому господству.В сущности,к этому и сводилось все выступление моего отца. Он призывал Всепланетный Круг к мирному восстановлению шероната,не особенно на это надеясь.Для убедительности он использовал философские софизмы, устрашая слушателей грядущим вырождением и гибелью вселенского разума. Он настолько одержим этой идеей,что не прочь бы прибегнуть к военному возрождению шероната.Но для этого у него нет таких условий.Большинство шеронов его не поддержит. А самое главное,нет основной военной силы шеронов- фарсанов, все они погибли в войне с северянами. Я специально занимаюсь древней историей шеронов и их воинственных фарсанов и с удовольствием расскажу об этом подробнее. Тебе, астронавту, это полезно знать. Хочешь послушать?
— В другой раз,- сказал я, давая понять, что наша сегодняшняя встреча не будет последней.
— Хорошо,- согласилась Аэнна.- Лучше всего завтра днем. Весь день завтра я буду у отца.Ты знаешь, где он живет? Ну да, в оазисе Риоль. Он живет, как отшельник,в пустыне,чтобы любопытные не мешали его научным изысканиям. Но попасть к нам не так просто.Надо знать шифр,который меняется каждые пять дней. Тебе его можно знать: ведь отец сам желает видеть тебя. На воротах увидишь циферблат и наберешь шифр: ДН-34-03.
В это время мы проходили мимо висячей скамейки. На ней, видимо, кто-то сидел совсем недавно: скамейка еще слегка раскачивалась.Мы сели на нее и с увлечением заговорили о другом- о своей жизни, об искусстве, о природе. Это были прекрасные минуты.Над нами шелестели листья огромного гелиодендрона. Его светящиеся цветы чуть раскачивались, когда на них с радостным гудением садились ночные насекомые. Голубой свет пробивался сквозь шуршащие листья и падал на дорожку, рисуя меняющиеся, причудливые узоры. А вверху, над нами, неуловимо-медленно и беззвучно кружился хоровод серебристых звезд во главе с царственной Туангой…
Нет, не могу без волнения и щемящей грусти вспоминать эту ночь. Именно тогда я впервые почувствовал,что,улетая в скором времени в Космос,я покину, и быть может навсегда,одну из самых прекраснейших планет Вселенной. Думая о Зургане, я всегда вспоминаю и голубые светящиеся цветы гелиодендронов, и трепетные тени на дорожке аллеи, и огненную россыпь звезд, и голос Аэнны…
Когда Аэнна рассказывала о себе, в ее голосе звучала грусть.Я начал понимать причины этой грусти.Она любила отца и в то же время не понимала его,не разделяла его взглядов. Но она не покидала отца. Ведь он был так одинок, если не считать его помощников по научной работе.
— Странные они, эти помощники,- говорила Аэнна.- Люди это,безусловно, одаренные.Многие из них участники сегодняшнего Круга.Совсем недавно были они общительными, находили время беседовать со мной.Часто спорили с отцом, не соглашались с ним по многим научно-философским вопросам. Дело доходило до разрыва. Многие собирались уйти,несмотря на то, что в лаборатории отца проводились какие-то интересные опыты.Какие- я не знаю.Отец не пускает туда никого,кроме помощников.И вдруг с помощниками произошли непонятные перемены. Они стали менее общительными.Лишь изредка вступают со мной в короткий разговор,даже шутят.Но делают это словно по обязанности, торопятся поскорее скрыться в лаборатории.Работают на отца,как рабы. И что самое удивительное — никаких споров, никаких разногласий. Они во всем соглашаются с моим отцом, поддерживают и даже пытаются развивать дальше его ошибочные, зачастую идеалистические философские концепции. Отец, конечно, обладает могучим интеллектом и сильной волей.Но впасть в полное духовное порабощение- это уже слишком,в этом что-то непонятное.Я сама стала избегать встреч с помощниками. Особенно я боялась одного типа,который используется отцом на самых черновых работах. Он мне внушал просто отвращение. Причину своего отвращения я поняла недавно, когда услышала от отца, что этот тип совсем даже не человек…
На этом мой сон оборвался. Сильным толчком я был выброшен из постели. Таблетки приятных сновидений тогда хороши, когда вокруг все спокойно. Но с кораблем творилось что-то неладное. Последние слова Аэнны прозвучали в моем мозгу,когда я уже летел в воздухе.Больно ударившись плечом об угол клавишного столика, проснулся на полу каюты.
Корабль резко,рывками бросало из стороны в сторону.Я беспомощно катался по каюте,отскакивая от стен, как мяч. Наконец, я уцепился за ножку клавишного столика и взглянул на тревожно мигавший аварийный сигнал.Две красные вспышки и одна белая… Метеоритная опасность!…
Я живо представил, словно со стороны, картину судорожных движений нашего звездолета в космическом пространстве.Корабль,очевидно, попал в метеоритную тучу и то ускорял полет,то замедлял его,лавировал,избегая грозной встречи с крупными метеоритами. Мелкие обломки барабанили по сверхпрочной обшивке корпуса, не причиняя ему особого вреда. Корабль напоминал сейчас огромный грохочущий колокол, по которому с чудовищной силой били тысячи молотов.
Скорее в рубку управления! Надо немедленно найти ближайшую границу метеоритного облака и вырваться из него.
Держась за столик, я поднялся и бросился к двери. Неудача! Крутой поворот корабля- и я снова катался по полу.Ползком я все же добрался до двери. Нажал кнопку,и дверь автоматически открылась. В узком коридоре мне было уже легче. Упираясь руками в стены,я дошел до лестницы и уцепился за перила.Поднялся в кают-компанию.Наполненная грохотом темнота кают-компании изредка прерывалась кровавыми вспышками аварийной лампочки. Резкий удар- и лампочка погасла. На противоположном конце кают-компании- дверь в рубку управления.Нажимая кнопку, я пытался открыть ее и застопорить в открытом состоянии. Но автоматика управления дверью, видимо, вышла из строя. Дверь не открывалась.
Что делать? Пока я размышлял, дверь неожиданно, после резкого толчка корабля,сама пришла в движение.Она то открывалась,то,звеня,со страшной силой захлопывалась. Когда дверь открывалась, из рубки управления вырывался белый сноп света. Теперь надо проскочить в дверь так, чтобы не быть раздавленным.
Цепляясь за наглухо прикрепленные к полу кресла,я добрался до взбесившейся двери. У пульта управления сидел, прикрепившись к креслу, Тари-Тау.
— Тари-Тау!- крикнул я как можно громче.
Молодой штурман обернулся.И меня словно озарило:человек!Тари-Тау- человек! Фарсан не может так бесподобно вести себя. На побледневшем лице Тари-Тау я увидел неподдельную растерянность и даже страх.Бедный мальчик! Он, конечно, растерялся, попав в такой неожиданный и опасный переплет.
— Освободи место!- прокричал я. Несмотря на опасность, в моем голосе звучала радость. — Встань позади кресла.
Дверь оглушительно захлопнулась и через секунду снова открылась. Тари-Тау уже стоял позади кресла, вцепившись в спинку.
Я прыгнул в дверь и скоро, пристегнувшись, сидел в мягком кресле.
На экране радароскопа мелькали светлячки — изображения твердых частиц. Корабль не может самостоятельно,с помощью автопилота,выйти из этого густого метеоритного роя.При самостоятельном полете он руководствуется, словно живой организм, своим инстинктом самосохранения, слепым и недальновидным. Поэтому, попав в метеоритную тучу,корабль не полетел наперерез потоку твердых частиц, чтобы скорее вырваться из него.Он выбрал самое простое и безопасное — включился в общий метеоритный поток.Таким образом, уменьшалась опасность встречи с большими частицами.Кроме того, даже в случае столкновения с крупным,но параллельно летящим метеоритом сила удара не была бы такой разрушительной.
Взглянув на правый боковой радароскоп,я похолодел:в центре экрана, совсем близко,качалась, вращаясь вокруг своей оси, тень огромного обломка скалы. Я отчетливо видел зазубренные края.Но корабль реагировал слабо,так как обломок летел параллельным курсом. Метеорит все же коснулся обшивки корабля. Раздался скрежет. Обломок, скользнув по обшивке, остался позади.
Нет,так не годится.Если не помочь кораблю выйти из метеоритного потока, он погибнет.Вращая боковыми радароскопами,я отыскал ближайшую границу метеоритного облака и решительно направил туда корабль. Опасность, конечно, возросла. Звездолет делал отчаянные рывки и уклоны. Но ему все же не удалось избежать столкновения с довольно крупным, величиной с кулак, метеоритом, который взорвался,к счастью, в носовой, наиболее прочной части звездолета. Корабль затрясся и зазвенел,стрелки приборов беспорядочно запрыгали. Но все обошлось благополучно.Мы вырвались из страшного метеоритного плена.Правда, в пространстве еще носились отдельные обломки, и корабль качался из стороны в сторону, избегая встреч с ними. Но это была спокойная качка, какая бывает в море после шторма на длинных и пологих волнах. Вскоре прекратилась и она. На стеклозон горизонтальных приборов можно было положить ртутный шарик, и он не сдвинулся бы с места — так ровно летел сейчас корабль.
— Все, — с облегчением вздохнул я и обернулся назад.
Тари-Тау!Он смотрел на меня с таким смущением,что мне стало жаль его.Милый юноша! Он переживал за свой недавний страх и растерянность. Мне хотелось утешить его, даже обнять как своего единственного союзника.
В рубке управления столпились все фарсаны: Лари-Ла и Рогус- бледные и перепуганные, Али-Ан- как всегда, невозмутимый и спокойный,и хмурый, чем-то недовольный Сэнди-Ски.
— В чем дело, Сэнди?- спросил я.-Чем недоволен?
— Это я виноват, — угрюмо проворчал Сэнди-Ски.- Я предполагал, что между орбитами четвертой и пятой планет есть густая метеоритная зона- обломки погибшей планеты. Но я не придал этому особого значения и не предупредил.
— Не расстраивайся,Сэнди.Видишь,все в порядке,- улыбнулся я, показывая на приборы и аварийные лампочки.Тревожная сигнализация прекратилась.По приборам можно было определить, что корабль не имел серьезных повреждений.
В это время зазвучала бодрая утренняя мелодия.
— Сейчас нам отдыхать некогда, — сказал я. — Сегодня под руководством бортинженера Рогуса все будут осматривать корабль. Проверить все отсеки и механизмы. Выявить и устранить все, даже малейшие, неисправности и скрытые повреждения.
27-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Сейчас, сидя у себя в каюте за клавишным столиком, я представил себе, что произошло бы с кораблем,если бы я не вывел его из плотного метеоритного потока. Крупные метеориты, а многие из них были величиной с гору, рано или поздно врезались бы в звездолет, разрушили его оболочку, вывели из строя все системы.На потерявший управление, беспомощный корабль обрушивались бы все новые метеориты, превращая его в бесформенные обломки,в труху,в пыль…Вместе с кораблем погибли бы все фарсаны, а это и было моей целью. И зачем я спас корабль? Что меня толкнуло на это? Страх перед собственной гибелью? Нет!
Тогда,в минуту опасности,я не думал о фарсанах. Я думал о корабле. Я любил этот сложнейший и совершеннейший аппарат,лучшее творение коллективного разума Зурганы. Я относился к нему почти как к живому существу. И тогда, в грохоте небесной бомбардировки, у меня возникло непреодолимое желание спасти его.
А сейчас я снова спрашиваю себя: зачем я сделал это? Правда, меня утешает одна мысль: я должен закончить дневник и передать его разумным обитателям планеты Голубой.
К тому же Тари-Тау- человек,живой человек, и я обязан ему все рассказать. Нас двое, и бороться мне с фарсанами будет в два раза легче, чем одному. В два раза! Это много значит.
Сегодня я несколько раз оставался в рубке управления наедине с Тари-Тау. Каждый раз я пытался заговорить с ним о фарсанах. И каждый раз внезапно возникающее чувство смутной тревоги останавливало меня. Нет, подожду еще. В этом деле рисковать нельзя.
28-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Метеоритная бомбардировка имела для меня одно важное последствие: я нашел способ в любой момент уничтожить фарсанов.Но,к сожалению,вместе с кораблем.
Произошло это так. Сегодня утром я распорядился, чтобы каждый осмотрел стены кают и о малейших трещинах доложил Рогусу. На стене своей каюты я обнаружил звездообразную трещину. По странной прихоти конструкторов корабля стена моей каюты, примыкающая к регенерационному отсеку, была сделана из легкой пластмассы. Правда, это была пластмасса особой прочности. Но и она не выдержала чудовищной тряски корабля во время метеоритной бомбардировки.
Сжатым кулаком я нажал на центр звездообразной трещины, и пластмасса веером разошлась в стороны. В каюту ворвалась струя озонированного воздуха. Там, в регенерационном отсеке, восстанавливался воздух, который по трубам растекался во все жилые помещения корабля.
Трещину можно заварить. И я пошел искать Рогуса, чтобы попросить у него инструмент.
— Рогус в грузовом отсеке,-ответил на мой вопрос Али-Ан, дежуривший у пульта управления.
Я зашел в грузовой отсек и замер от неожиданности,забыв и об инструменте, и о трещине. В грузовом отсеке- хаос невообразимый. Словно злой великан из древних сказок ворвался сюда и в бешенстве швырял все по сторонам, громил и сокрушал. Научно-исследовательские аппараты в беспорядке валялись на полу. Наиболее хрупкие из них были, вероятно, безнадежно испорчены. Даже запасной гусеничный вездеход, наглухо прикрепленный к полу, сдвинулся с места.
— Ничего страшного,капитан,- сказал Рогус,увидев меня. — Основные приборы в исправности. Надо только разложить все по местам.
— А ракета-разведчик? — встревоженно спросил я, показывая на большой сигарообразный корпус. На этой ракете мы собирались совершить посадку на планету, оставив космический корабль на круговой орбите. Ракета сейчас была сброшена со своего места и лежала на полу. Ее острый нос был деформирован.
Рогус виновато взглянул на меня и ответил:
— К сожалению,капитан, у нее серьезные повреждения. Ремонт займет очень много времени. Видимо,посадку на планету придется совершать на корабле.
Я стал помогать Рогусу наводить порядок.Разбирая сбившиеся в кучу скафандры, я нащупал геологическую мину. Небольшая, величиной с кулак, она обладала страшной разрушительной силой.
Я оглянулся и увидел полусогнутую спину Рогуса. Один миг — и мина исчезла в кармане моего комбинезона.
Разговаривая с Рогусом, я незаметно ощупал в кармане мину. Нашел диск радиосигнализатора и вывернул его из мины. Диск был настолько мал, что свободно помещался на ладони. Незаметно для Рогуса я стал рассматривать диск и увидел циферблат.И тут меня осенило:шифр!Если набрать на циферблате шифр и нажать кнопку,все фарсаны упадут,как подкошенные,погрузившись в своеобразный сон.Но шифр,заветный шифр! Его знал только Вир-Виан — безраздельный главарь фарсанов.
На циферблате набрал наугад ДН333-04. Вдруг, на счастье, это и есть шифр! Вот нажму кнопку- и произойдет чудо:все фарсаны,в том числе и Рогус,упадут, и я могу делать с ними все, что захочу.
Нажав кнопку, я взглянул на Рогуса. Он стоял по-прежнему ко мне спиной, слегка наклонившись над каким-то прибором.
Тогда начал набирать по-порядку: АА000-00, АА000-01, АА000-02. И так до АА000-23. И все безрезультатно. Я понимал: чтобы перебрать все возможные сочетания цифр и букв, мне не хватит и тысячи лет.
Расстроившись,я ушел к себе в каюту и здесь осмотрел мину.Она была исправна. На мине я увидел такой же циферблат, как и на диске радиосигнализатора. И тут у меня впервые возникла страшная мысль: с помощью мины взорвать корабль! При этом я, конечно, погибну, но уничтожу всех фарсанов. Всех до одного. И больше никогда не будет этих чудовищ.
Но взорву корабль в том случае, когда у меня не будет иного выхода. К тому же Тари-Тау… Согласится ли он на взрыв, на самопожертвование? Конечно, согласится, когда мы с ним исчерпаем все другие способы борьбы с фарсанами.
На диске радиосигнализатора набрал уже испробованный шифр: АА000-00. Такой же шифр набрал и на крошечном циферблате мины. Теперь мину можно запрятать в любом уголке звездолета и нажать на диске радиосигнализатора кнопку. До мины мгновенно долетит нужный радиоимпульс — и произойдет взрыв.
Но где заложить мину? Может быть, в рубке управления? Взрыв разворотит всю сложнейшую аппаратуру пульта, и корабль потеряет управление. Но фарсаны-то останутся. По природе своей они могут существовать почти вечно. Находясь в неуправляемом корабле, фарсаны будут носиться в мировом пространстве бесконечно долгое время, пока их не подберут астронавты с какой-нибудь планеты. И тогда…Нет, надо обязательно взорвать весь корабль, вместе с фарсанами. А для этого мину лучше всего спрятать вблизи двигателей, не планетарных,а межзвездных,там,где хранится могучий источник энергии корабля — антивещество. Только оно способно уничтожить корабль так, что от него не останется ни малейшего следа.
Надо под любым не вызывающим подозрения предлогом проникнуть к двигателям.
Такой предлог сейчас,после встречи с метеоритной тучей,легко нашелся. Я снова заглянул в грузовой отсек.Кроме Рогуса,там был еще Лари-Ла,проверявший непроницаемость скафандров.
— Я сам осмотрю двигатели,-сказал я. — Вам, Рогус, и здесь хватит работы.
По узкому и длинному, похожему на трубу коридору я спустился в кормовую часть корабля. В сущности, двигатели можно было и не проверять. По приборам, а также по ровному и спокойному гудению можно определить, что они в хорошем состоянии и работают надежно.
Мину я запрятал среди многочисленных деталей автоматического устройства, которое поддерживало магнитное поле. В этом магнитном поле, как в невидимом мешке, хранился все еще солидный запас антивещества.
Теперь фарсаны не застигнут меня врасплох. Радиосигнализатор будет всегда со мной.Стоит только сдвинуть предохранитель,нажать кнопку — и мина взорвется. Магнитное поле разрушится, антивещество упадет, соединится с веществом корабля. Произойдет чудовищный взрыв. Корабль перестанет существовать, мгновенно превратившись в световое излучение.
29-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Сегодня во второй половине дня я сел за клавишный столик, чтобы продолжить
рассказ о Зургане.Но трещина в стене не давала мне покоя.Я то и дело посматривал на нее и почему-то гадал:смогу я пролезть или нет? Наверное, смогу.Ведь трещину можно расширить.Тогда попаду в регенерационный отсек. А там… Там рядом каюта Рогуса,в стене которой тоже есть небольшая трещина… Об этом вчера говорил Рогус.И меня охватило неодолимое желание заглянуть в каюту Рогуса. Ведь именно там происходило таинственное и жуткое превращение людей, моих сподвижников, в фарсанов.
Я подошел к стене и некоторое время стоял в нерешительности.В другое время никогда не отважился бы на постыдное подсматривание.Но ведь на корабле не люди,а фарсаны.И я решился. Расширив трещину, я с трудом просунул в нее плечи. Ноги прошли свободно.
В регенерационном отсеке было темно.Лишь слегка светились приборы. В их голубоватом сиянии тускло блестели сосуды и баллоны, в которых восстанавливался воздух.Они издавали едва слышные звуки, похожие на посапывание спящего человека.
Осторожно лавируя между баллонов, я приблизился к противоположной стене. Трещину я нашел сразу,так как через нее пробивался свет. Она была невелика и находилась на уровне пояса.
Я наклонился и заглянул в каюту.Первое,что бросилось в глаза, — огромный, опутанный трубками и приборами шкаф.Точно такие же я видел в лаборатории Вир-Виана. И сейчас с ужасом подумал о том, что Рогус засовывал оглушенных, потерявших создание членов экипажа в этот шкаф с целью скопировать, как выражался не без зловещего юмора Вир-Виан, идентичных фарсанов.
В каюте Рогуса послышался шорох- в той стороне, где по стандартной планировке должен находиться клавишный столик.Я посмотрел туда. Сначала мне показалось,что за клавишным столиком спиной ко мне сидел Рогус. Присмотревшись,я понял, что ошибся.За столиком сидел совершенно незнакомый человек,если это вообще человек.Незнакомец был стройнее и выше Рогуса. Кто же это? Наверняка это он стоял тогда ночью у моей двери и гнусавым голосом твердил о том, что ему нужна «индивидуальность».
Незнакомец встал,повернулся ко мне лицом, и я узнал… самого себя! Это было так неожиданно,что я отшатнулся и больно стукнулся о баллон. Это был фарсан! Причем «мой» фарсан!
Собравшись с духом,я снова заглянул в каюту. Фарсан, мой двойник, стоял у стены,где располагались ячейки со шкатулками.Он неторопливо и любовно- точь-в-точь как я! — перебирал шкатулки.
В коридоре послышались шаркающие шаги Рогуса. Фарсан насторожился. Когда шаги замерли у двери, он спрятался за перегородку, где была постель Рогуса.
Дверь щелкнула и отворилась. Вошел Рогус. Тщательно закрыв дверь, он сказал:
— Не бойся. Это я. Ты же знаешь, что сюда, кроме меня, никто не войдет.
Фарсан вышел из-за перегородки, уселся за клавишный столик и заговорил гнусавым голосом. Но я слышал только отдельные слова, так как фарсан сидел ко мне спиной.
— …Никто не видел… На всякий случай…
— Чем занимался?- спросил Рогус и,показав на незнакомый мне овальный прибор с широкой подставкой, спросил:- Эту штуку видел?
— Видел… не понимаю…
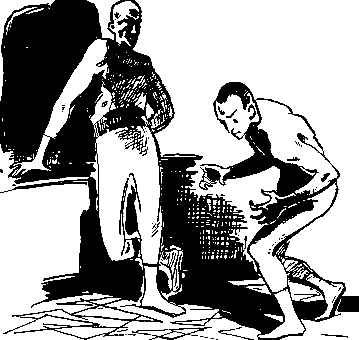
— Не понимаешь?-рассмеялся Рогус.-И не поймешь.Я недавно его сконструировал. Тонри-Ро,к сожалению,поумнее тебя, но и он никогда не догадается о назначении этого прибора.
— Как ведет себя Тонри-Ро?
— Хорошо ведет,- уверенно ответил Рогус.- Я бы даже сказал, отлично. Он ничего не знает,этот простачок, с головой погруженный в астрофизику.
— А как его проверяли? — спросил «мой» фарсан.
— А Тари-Тау для чего? О,Тари-Тау — хитрая приманка.

«Тари-Тау- фарсан!» — с ужасом понял я.
— Приманка? — удивился мой гнусавый двойник.
— Да.Тари-Тау- это моя большая удача.Это почти адекватный фарсан, идеально копирующий живого Тари-Тау. Общайся он с людьми хоть сто лет- и никто не подумает,что это фарсан. А Али-Ан и Лари-Ла решили так: если у Тонри-Ро возникнет хоть тень подозрения, он попытается найти живого человека, союзника.И клюнет на нашу приманку, обратившись в первую очередь к Тари-Тау, нашему наиболее совершенному фарсану.Но Тонри-Ро,как всегда, доброжелателен к Тари-Тау- и только.А дружит он по-прежнему с Сэнди-Ски.Нет,Тонри-Ро ни о чем не догадывается.
И Рогус самодовольно расхохотался. Я вздрогнул от этого хохота. Рогус торжествовал. Не рано ли? Немного помолчав, Рогус спросил:
— Астрофизику изучил?
— Почти все… Труды самого Тонри-Ро полностью…
— Хорошо.Но этого мало. Надо вобрать в свою память большую часть сведений из смежных областей науки.
— Знаю… Планетология, физика ядра, нейтринология, радиоэлектроника…
— Кроме того,Тонри-Ро любит поэзию.
— Особенно Рой-Ронга,- подхватил «мой» фарсан. Он вскочил и вышел на середину каюты.Расставив ноги и подняв правую руку, фарсан начал декламировать отрывок из поэмы Рой-Ронга.
— Не так,- недовольно проворчал Рогус.- Жаль, что ты не видел, как этот простачок в кают-компании читает стихи.О,это торжественное и пышное зрелище. Смотри.
И Рогус начал буквально глумиться надо мной, передразнивая и утрируя мою манеру читать стихи.
Я и не предполагал, что фарсан Рогус затаил такую злобу против меня, единственного оставшегося в живых человека. Вероятно, настоящий Рогус, тот, который был убит фарсаном на Зургане,тоже был человеком завистливым и злым и так же тщательно скрывал это.
— Не верю,- смеялся «мой» фарсан, глядя, как Рогус изображает меня. Смех его был какой-то жидкий и невыразительный.
— Не то,- поморщился Рогус. — Тонри-Ро смеется не так. А впрочем, все это неважно.
— Как неважно?-гнусавил «мой» фарсан — Мне нужна индивидуальность Тонри-Ро.Без нее я чувствую себя неполноценным. Твои тренировки почти ничего не дают.С их помощью я заучил лишь несколько привычек Тонри-Ро.Но это не то. Я даже не имею его голоса. Я хочу быть капитаном корабля. А для этого мне нужно приобрести индивидуальность Тонри-Ро сразу, одним приемом, вот так.
Я с ужасом увидел,что фарсан растопырил пальцы и сделал вид,что вцепился в чью-то голову. Я знал, что таким приемом с помощью особого излучения фарсаны «обшаривают» человеческий мозг, исследуют его микроструктуру. При этом все знания и опыт человека,система его мышления, вся наследственная и приобретенная информация как бы переливаются из человека в фарсана. Человек погибает.
«Мой» фарсан продолжал с вожделением изображать, как он шарит пальцами, испускающими лучи, по моей голове.
— Хватит паясничать,- грубо прервал его Рогус.У тихого и скромного Рогуса появились новые черты:грубость,решительность и властолюбие.Видимо,власть над фарсанами (он был здесь их вождем) портила Рогуса.
Показывая на шкаф- дьявольское изобретение Вир-Виана, Рогус добавил с недоброй усмешкой:
— Мы из Тонри-Ро на обратном пути сделаем еще одного воспроизводящего фарсана.Постараюсь,чтобы это был безупречный фарсан,вроде Лари-Ла или Тари-Тау.Новый фарсан будет полностью обладать индивидуальностью Тонри-Ро.Вот он-то и станет капитаном корабля.
— А как же я?- забеспокоился гнусавый.
— Насчет тебя у нас появились другие соображения,- сказал Рогус.- И тебе необязательно абсолютное сходство с прототипом. Если планета Голубая населена разумными существами,что вполне вероятно, то мы оставим тебя там с необходимым оборудованием.И ты уже знаешь свою задачу: установить на планете наше господство — господство шеронов и фарсанов.
— Не так уж плохо,-улыбнулся «мой» фарсан,довольный почетной перспективой.
— Да,не так уж плохо,- согласился Рогус.-А сейчас ты должен помнить о том, что никакая материальная система- будь то живой организм или кибернетическая машина- не может выработать сведений или указаний,в котороых содержалось бы больше информации, чем ее поступило в память системы извне. Это и есть закон сохранения информации — такой же фундаментальный закон природы, как и закон сохранения энергии и вещества.
— Понимаю. Я и так сейчас много работаю, вбираю в свою память огромное количество информации.
— Особенно ты должен налегать на биофизику, электронику, нейтринологию…
Рогус не закончил перечисление наук.Взглянув в мою сторону,он нахмурился.
— Сколько раз я тебе говорил, чтобы эту щель ты заделал сам, — сказал он и насмешливо добавил:-Видимо,ты такой же лентяй, как и твой прототип Тонри-Ро.
К сожалению,это была правда:я несколько ленив,когда дело касается мелочей.
— Придется самому заварить щель,-проворчал Рогус и,взяв в руки инструмент, решительно направился к стене.
Я спрятался за баллон и затаил дыхание.Раздалось шипение- и щель исчезла. Я попробовал приложить ухо к стене.
Однако голоса доносились настолько глухо, что я не мог разобрать ни одного слова.
Осторожно лавируя в темноте между баллонами, я вернулся в свою каюту.
На душе было тяжело.
30-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Сегодня днем я так и не притронулся к дневнику.И только сейчас,уже поздно вечером,сел за клавишный столик.Признаюсь, весь день у меня было подавленное настроение.Рухнула последняя надежда найти живого человека.К тому же не очень приятно чувствовать,что на корабле находится уже готовый мой двойник-фарсан. Весь день мне не давал покоя вопрос: как смог Рогус, оставив меня в живых, воспроизвести мою внешность и даже некоторые привычки и врожденные качества? Правда, «мой» фарсан неполноценен: обладая вполне конкретной физической индивидуальностью, он не имеет духовной.
И я нашел этому единственно верное объяснение,когда вспомнил один случай. За несколько дней до торможения, проверяя, как закреплены приборы в грузовом отсеке,я ударился о какой-то острый угол и больно поранил ногу.Лари-Ла проявил удивительную расторопность. Он быстро подскочил ко мне с медикаментами, разорвал на ноге комбинезон и залечил рану. Лари-Ла отрезал изрядный кусок моей кожи и бросил его в сосуд с физиологическим раствором. В этом растворе клетки жили и функционировали еще долгое время. А в каждой клетке хранится таинственная наследственная информация, несущая в себе сведения о структуре всего организма. Вот тем куском кожи с многочисленными нормально функционирующими клетками и воспользовался Рогус.
Но,чтобы воспроизвести мой духовный облик,весь строй моих мыслей и чувств, весь жизненный опыт и привычки,необходимо проникнуть в микроструктуру мозга — этого невероятно сложного органа мысли и огромного хранилища приобретенной и наследственной информации.
Сегодня в рубке внешней связи я сделал печальное открытие: на планете Голубой знают, что такое войны. Я и раньше догадывался об этом, а сегодня убедился окончательно.
— Разумные обитатели планеты Голубой,-говорил Лари-Ла,уступая мне место за экраном внешней связи,- удивительно похожи на нас.Только они почти вдвое выше и крупнее.И лица у них в основном белые,а не золотистые, как у нас. Но лица я как следует не рассмотрел. Мы еще слишком далеко.
Встав за моей спиной, Лари-Ла начал словоохотливо излагать свои гипотезы о животном мире, который, по его мнению, чрезвычайно богат и разнообразен на планете Голубой. Однако я слушал не очень внимательно и с облегчением вздохнул, когда Лари-Ла ушел.
Ни биолог Лари-Ла,ни планетолог Сэнди-Ски до сих пор не обратили внимания на детали,которые говорили о том, что с общественным устройством на планете далеко не все в порядке.На планете Голубой,видимо, нередко вспыхивают кровопролитные и опустошительные войны. И все-таки я уверен, что среди социального хаоса и там сверкают удивительные умы ученых, крепнет воля борцов за переустройство общества. Со временем планета Голубая станет младшей сестрой Зурганы.
Но если на Голубой появятся фарсаны,то они надолго, на тысячелетия задержат прогрессивное историческое развитие, установив на планете свое бессмысленное господство. Нет, я не допущу этого.
31-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
За мной установлена слежка! Сегодня я убедился, что Рогус следит за каждым моим шагом.
Днем, проходя через кают-компанию в рубку управления, я увидел Рогуса. Он стоял около кабины утренней свежести и рассматривал какую-то деталь через овальный прибор, тот самый прибор с секретом, который я уже видел в его каюте.
— Что-то новое? — с неплохо разыгранным равнодушием спросил я, показав на прибор.
— Да,капитан.Желаете посмотреть?- И он, улыбнувшись, протянул мне прибор. В простодушной улыбке Рогуса на миг проскользнуло ехидство.
Я взял прибор и внимательно осмотрел его.
— Похоже на прибор для просвечивания металлических конструкций, — проговорил я.
— Вы угадали, капитан.
В смиренном голосе Рогуса послышалась едва уловимая ирония. Рогус просто издевался надо мной.До чего, оказывается, Рогус был злым человеком! Злым и двуличным. Он передал «по наследству» свои черты фарсану.
Я поставил прибор на столик и собрался идти в рубку управления.В это время открылась дверь кабины утренней свежести.Оттуда выглянул Тари-Тау.Вздрогнув, я отвернулся. Я не мог видеть сейчас этого «милого» юношу, этого «почти адекватного» фарсана.Он вызывал такую неприязнь, словно оказался предателем, самым хитрым и подлым предателем.
Но выдавать свои чувства- значит выдавать себя. Я повернулся лицом к Тари-Тау и, улыбнувшись, обменялся с ним приветствием.
— Я кажется, нашел неисправность, — обратился Тари-Тау к Рогусу.
Тари-Тау и Рогус скрылись в кабине утренней свежести.
Я снова взял прибор и самым тщательным образом осмотрел его.Нажимая кнопку,я то включал,то выключал прибор.И вот мне показалось,что на подставке включенного прибора появлялось едва заметное пятнышко. Присмотревшись, я понял, что пятнышко- это замаскированная кнопка. Я нажал ее. И сразу же послышались хорошо знакомые мне звуки:тик-тик,тик-тик… Это же мой хронометр! Он сейчас стоит в моей каюте на клавишном столике. Но зачем Рогус имитирует в приборе тиканье моего хронометра? И откуда он знает о старомодном тикающем хронометре, оставшемся мне после гибели отца? Недоумевая, я приложил ухо к прибору. И вдруг в нем раздался грохот. Создавалось впечатление, что какой-то предмет упал и, гремя, покатился по пластмассовому полу.
И тут меня осенила догадка. Выключив прибор, я поставил его на столик и бросился в свою каюту.
Так и есть! На полу посреди каюты лежала шкатулка. Недостаточно плотно закрепленная в ячейке,она упала и покатилась. Звук упавшей шкатулки я и слышал в приборе.Это прибор-шпион!С его помощью Рогус мог слышать все звуки в моей каюте.Возможно, что и сейчас он стоит, приложив ухо к прибору. Достаточно мне хотя бы шепотом произнести проклятье по адресу фарсанов — и я буду разоблачен.
Ну нет, Рогус. Твои технические хитрости не помогут. Напевая какой-то веселый мотив (пусть послушает Рогус!), я поставил шкатулку на место. Затем вышел и направился в рубку управления.
Здесь мной на минуту овладело ощущение уюта и благополучия.Словно на корабле ничего не произошло.Словно не фарсаны, а живые Тари-Тау и Али-Ан дежурили попеременно у пульта управления. Многочисленные приборы пульта все так же беззвучно и дружелюбно мигали своими многоцветными огоньками.Все так же из кают-компании доносились шаркающие шаги Рогуса. Трудолюбивый, как муравей,он проверял сегодня работу экрана полусферы кабины утренней свежести.Традиционная, мирная картина нашей жизни!О,как мне хотелось, чтобы произошло чудо, чтобы фарсаны снова превратились в людей!
Каждый раз,заходя в рубку управления,я с беспокойством поглядывал на экран локатора. Экран, установленный на фиксацию метеоритов, был чист.
— Успокойтесь,капитан,- смущенно улыбаясь, говорил Тари-Тау.-В Космосе — отличная погода.Никаких бурь,никаких метеоритных дождей и кометных потоков.
Тари-Тау!Как мне жаль этого мечтательного юношу!Вместо него вот этот двойник- такой же углубленный в себя и задумчивый,говорящий таким же образным и поэтичным языком. Но уже не человек, а фарсан…
У себя в каюте я с тоской и горечью размышлял о трагической судьбе своих друзей- членов экипажа.И больше всего мне было жаль Тари-Тау. В его лице, быть может, погиб один из самых великих, один из самых царственных поэтов Зурганы.
Только теперь, думая о погибших членах экипажа, я начинаю понимать, почему председатель Совета Астронавтики Нанди-Нан настаивал на зачислении в экспедицию Тари-Тау,который был тогда совсем почти мальчиком. На дорогах Вселенной возможны всякие случайности и задержки. И если путешествие слишком затянется и усталость долгих лет застелет, затуманит наш взор, то Тари-Тау, будучи уже в зрелом возрасте, поможет нам привести корабль обратно на Зургану. Так, видимо, думал мудрый и предусмотрительный Нанди-Нан.
32-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
До планеты Голубой осталось не больше десяти дней полета. Поэтому мне надо спешить.
О Зургане лучше всего рассказать словами Аэнны-Виан,которая хорошо знала историю нашей планеты. Аэнна пригласила меня к себе на следующий день после Всепланетного Круга ученых.Но три дня подряд я был занят подготовкой к пробному полету и не смог посетить дом Вир-Виана.
Я встретил Аэнну совершенно случайно на берегу Ализанского океана.Я летел на гелиоплане на остров Астронавтов,где меня ждали члены экипажа.Я торопился.До острова оставалось не больше ста лиг, но в это время киберпилот отчеканил:
— Энергии мало. Совершаю вынужденную посадку.
Гелиоплан сел на самом берегу. Едва я вылез из кабины, как услышал далеко сзади приветствие:
— Эо, Тонри!
У меня радостно забилось сердце: мне показалось, что я узнал голос Аэнны. Я обернулся… Она! Аэнна стояла около белого домика туристского типа. Таких домиков здесь насчитывалось десятка полтора. Вероятно, это и был городок археологической партии, в которой работала Аэнна.
— Ты как здесь оказался? — спросила Аэнна, подойдя ко мне. — Решил стать археологом?
— Вынужденная посадка,- махнул я рукой в сторону гелиоплана.
— У тебя есть свободное время? Есть? Тогда посидим на берегу.
— Хорошо. Только я должен предупредить товарищей о том, что задержусь.
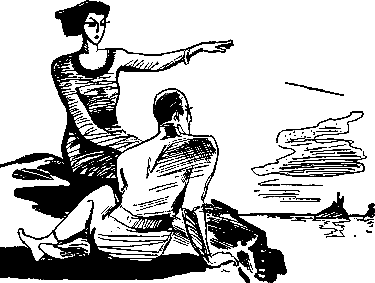
Я снова забрался в кабину гелиоплана.Включив крохотный экранчик всепланетной связи,я вызвал Сэнди-Ски и попросил его приехать за мной на катере часа через три.
— А теперь давай оправдывайся передо мной,- весело заговорила Аэнна, когда я вернулся к ней.- Ты почему не зашел к нам на следующий день после Круга? Ведь обещал. Занят был? А завтра сможешь?
— Первая половина дня у меня свободна.
— Вот и хорошо.Завтра я постараюсь быть у отца. Ведь он скучает без меня, оставаясь со своими помощниками.А главное- отец уж очень хочет видеть тебя. Между вами возникла какая-то непонятная взаимная симпатия.

— Ну, насчет моей симпатии ты слишком преувеличиваешь, — отшучивался я.
— А вот ты ему явно понравился. Послушал бы, как он тебя расписывает: высокий,стройный, умное волевое лицо. Настоящий астронавт! Один из лучших представителей зурганского человечества! У тебя он нашел только один недостаток — ты слишком молод.
Аэнна засмеялась. Я рад был видеть ее такой- оживленной и радостной, без тени обычной грусти.
Мы подошли к берегу и сели на большой гладкий камень,о который со стеклянным звоном разбивались волны. Прямо перед нами раскинулся Главный Шеронский архипелаг — десятки цветущих островов.
— Помнишь,я тебе обещала подробно рассказать о шеронах и вообще об истории Южного полюса? Сейчас самое время.Ты только посмотри на эту колыбель шеронской культуры!
Вид и в самом деле был прекрасный. Острова архипелага утопали в золоте закатного солнца, которое своим огненным диском вот-вот коснется морского горизонта.Стеклолитовые дворцы шеронов,построенные на возвышенностях острова,горели в лучах жаркого светила. Они были словно сделаны из затвердевшего оранжевого света.Другие дворцы,воздвигнутые на низких местах, на самом берегу, сейчас находились в тени и казались призрачными, будто сотканные из дождевых струй. Они всеми своими архитектурными частями устремлялись ввысь, в небо и казались легкими, как морская пена.
— Не дворцы,а песни из стеклолита,- задумчиво проговорила Аэнна.- Шероны умели строить дворцы.В одном из них- отсюда он не виден, он на острове за горизонтом- жили мои предки.Там рос и воспитывался мой отец.Девяносто девять лет тому назад, с наступлением Эры Братства Полюсов, все они были превращены в дворцы отдыха, а некоторые — в музеи шеронской культуры.
— И ты нисколько не жалеешь об этом?- спросил я.
— Нет,я шеронка только по происхождению,а не по убеждению. Да и вся шеронская молодежь не захотела бы вернуться к старому, к обычаям отцов.Это мой отец и немногие шероны,с которыми он слишком тесно дружит, жалеют о потере господства.
— Мне непонятно одно,-сказал я.-Шероны господствовали на Юге тысячи лет. За это время на Северном полюсе произошло множество изменений. В военных столкновениях разрушались одни государства и империи,создавались другие. Сменилось несколько общественно-экономических формаций,наконец,победила самая совершенная,самая гуманная и гармоничная. Это было прогрессивное восхождение от социального хаоса к гармонии. У вас же на Юге истории в сущности не было. В течение многих тысяч лет неизменно сохранялся аристократический строй шеронов. Как это произошло?
— Хорошо.Наберись терпения и слушай,-улыбнулась Аэнна.- О Зургане я могу говорить сколько угодно долго.
Аэнна начала рассказывать о планете чуть ли не с первых дней ее сотворения.Сейчас, сидя за клавишным столиком,я со всеми дорогими мне подробностями восстановил в памяти незабываемую картину: и Ализанский океан, позолоченный закатным солнцем, и Шеронский архипелаг, сверкающий шпилями и куполами дворцов, и берег, о который все тише и тише плескались волны. Мне даже кажется, что сейчас я не один в каюте, что рядом сидит Аэнна, и я слышу ее голос.
Рассказывала Аэнна с увлечением, с красочными подробностями. Ни один историк в школе астронавтов не дал бы мне больше сведений по истории нашего Юга. Сейчас на кристалле я запишу лишь вкратце то, о чем подробно рассказала Аэнна. Думаю, что разумным обитателям планеты Голубой интересно и полезно будет знать историю нашей Зурганы.
Около миллиона лет тому назад в районе экватора появились первые люди на Зургане.Тогда еще не было Великой Экваториальной пустыни.Вся планета зеленела лесами. Лишь вдоль жаркого экватора располагались отдельные разрозненные пустыни.Со временем их становилось все больше и больше. Палящее солнце выжигало растительность, реки и озера высыхали. Пустыни сливались, занимая огромные пространства.Так образовалась Великая Экваториальная пустыня. Кочевые племена первобытных людей разбрелись по полюсам, превратившимся в большие оазисы, разделенные широким поясом раскаленных песков.Попытки перейти пустыню и узнать,что за ней, ни к чему не приводили. Караваны, не пройдя и сотой части пути,гибли, занесенные песками.
Развитие человеческого общества на полюсах шло разными путями. История Севера- это классический пример восхождения общества от низших ступеней к высшим, от первобытной тьмы к гармонии и ясности. Аэнна считает, что так развивается общество разумных существ почти во всех населенных мирах Вселенной.
На Южном полюсе сложились своеобразные условия,в которых развитие общества на тысячи лет остановились на одной ступени.В глубокой древности здесь жили три племени. Многочисленное трудолюбивое и мирное племя сулаков занималось охотой и земледелием.Два воинственных племени- фарсаны(завоеватели) и шероны (мудрые) вели между собой беспрерывные войны.Победили шероны, умевшие изготовлять более совершенное оружие. Шероны и фарсаны заключили между собой союз,в котором главенствующее положение занимали победители. Совместными усилиями они покорили сулаков,обратили их в рабство. С тех пор начал формироваться трехступенчатый иерархический строй. Полновластными хозяевами Южного полюса стали шероны.Они рассеялись на цветущих островах единственного на Зургане Ализанского океана.На берегах океана возникли военные города фарсанов — привилегированных слуг и защитников шеронов. Фарсаны стали в полном смысле слова завоевателями. Они подавляли мятежи и усмиряли сулаков, собирали с них дань для шеронов и для себя.
Среди шеронов установился своеобразный строй аристократической демократии. Все шероны были равны.Они подчинялись только верховному шерону, который избирался один раз в год.Но верховный шерон не имел большой власти.Он следил в основном за исполнением законов, раз и навсегда принятых всеми шеронами. Законы эти отличались мудростью и строгостью. Это и спасло шеронов от вырождения.Наихудшим пороком у них считалось бездеятельное прожигание жизни. В то время как господствующие классы Северного полюса проводили жизнь в праздности, ероны отдавали весь свой досуг научно-техническому и художественному творчеству.Все возрастающее техническое могущество шеронов давало им возможность укреплять свою власть и снабжать фарсанов новыми образцами оружия.Фарсаны почти ничем не интересовались, кроме военного дела, доведенного у них до культа. В их глазах шероны, все глубже проникающие в секреты материи, обладали таинственной и непостижимой властью.
Научное и художественное творчество у шеронов было единственным богом, которому они служили с радостью. Каждое научно-техническое достижение или создание высокохудожественного произведения искусства отмечалось праздником и всешеронскими спортивными играми.
Цивилизация у шеронов достигла невиданного и пышного расцвета, особенно искусство. Причину расцвета шероны видели в господстве над сулаками и фарсанами.Власть над многочисленным рабочим людом, сулаками, давала шеронам досуг для творческой деятельности. Они были избавлены от всех материальных забот.Кроме того,шероны считали,что ощущение неограниченной власти над себе подобными эмоционально обогащает человека, делает его сильным в духовном и волевом отношении, дает возможность формировать физически прекрасную и могучую расу.Господство- непременное условие высшей культуры.Эту мысль каждый шерон усваивал с малых лет.Эта мысль стала основополагающей в социальной философии шеронов.
— Дикая мысль!- воскликнул я, перебив Аэнну. — Примерно в это же время на Севере общественная мысль далеко шагнула вперед.
— Да,-согласилась Аэнна.- Теория социального прогресса, скачкообразного, революционного развития общества была чужда шеронам,она им была просто враждебна.Но вот что любопытно:жизнь заставила некоторых шеронов сомневаться в вековых устоях своего общества.И заставило прежде всего подпольное общество сулаков.Настоящее искусство всегда враждебно рабству.Древние и тоже подпольные историки-сулаки записали в своих случайно уцелевших сочинениях интересный рассказ.Однажды один верховный шерон совершал инспекторскую поездку по огромной территории,населенной сулаками.Он увидел обычную картину трудовой жизни и как будто бы покорных сулаков.Но вот что его смутило: некоторые здания, построенные сулаками,поражали красотой.Но не смиренной, а гордой красотой. Такие здания внушали мысли о свободе. Верховный шерон приказал сопровождающим его фарсанам сравнять с землей эти здания.
Вернувшись на райские острова,верховный правитель рассказал о своей поездке. Но остальные шероны не придали его рассказу особого значения. Но через некоторое время на блаженные острова шеронов стали доходить вести о каком-то брожении среди сулаков.Тогда другой верховный шерон совершил вторую поездку на континент.В некоторых селениях сулаков он увидел статуи, которые его буквально испугали.Все статуи были примерно одинаковы — на высоком постаменте стоял закованный в цепи сулак. Но в выпрямленной мускулистой фигуре сулака, в гордом повороте головы, в выражении лица чувствовались такой вызов судьбе, такая дерзкая сила, что цепи казались чем-то случайным. Вот-вот сулак сделает еще одно движение — и цепи со звоном разлетятся в стороны.Правитель приказал шеронам разбить статуи. Но одну он привез на острова и показал шеронам.Статуя произвела переполох.Среди шеронов появилась еще одна странная социальная теория.В головах сулаков, дескать, образовался некий «идеологический вакуум».В этом вакууме стихийно зарождается бунтарская идеология,находящая свое выражение в искусстве. Но бунтарская идеология может привести и к бунтарским действиям.Вот этого шероны боялись больше всего.Как они боролись с такими зарождающимися явлениями в обществе сулаков? Двумя способами.С одной стороны путем жесточайших репрессий против наиболее интеллектуально развитых и художественно одаренных сулаков. С другой стороны шероны сделали попытку поработить сулаков не только физически, но и духовно. Они всячески развивали у сулаков бытовавшие религиозные настроения. Они создали для них особую религию.Эта религия учила, что после смерти души исполнительных сулаков переселяются на соседнюю планету Зиргу, которая сверкает ночью морями расплавленного олова и свинца.Там сулаки якобы становятся шеронами и проводят жизнь в вечном блаженстве. По всей территории Южного полюса были воздвигнуты пышные храмы Зирги, где фарсаны заставляли сулаков ежедневно молиться. Так из поколения в поколение воспитывалась покорность — главная добродетель сулаков.
Все это,конечно,задерживало поступательное общественное развитие на Южном полюсе. Но все же в обществе сулаков происходили незаметные количественные изменения. С каждым столетием усиливались волнения, возникали бунты, а затем и хорошо организованные восстания, которые жестоко подавлялись фарсанами. Восстания были особенно опасны, когда их возглавляли отдельные, наиболее сознательные фарсаны.
— Фарсаны? — удивился я. — Твердолобые фарсаны?
— Ну, не все фарсаны твердолобые,- улыбнулась Аэнна. — Несмотря на привилегированное положение, у отдельных представителей этой военной касты появлялось недовольство. А недовольство всегда вынуждает мыслить самостоятельно. Но, к сожалению, основная, подавляющая масса фарсанов преданно служила шеронам.
За несколько десятков лет до наступления Эры Братства Полюсов в обществе и культуре шеронов все же стали намечаться признаки застоя и медленной, неуклонной деградации.В философию и искусство все чаще проникали идеи космического пессимизма, идеи бесцельности и тленности человеческой культуры перед вечностью и бесконечностью природы.
В это время на Северном полюсе восторжествовал гармоничный общественный строй,открывший перед людьми широкий простор для творческой деятельности. В науке,технике и культуре северяне быстро догнали шеронов. На Севере и на Юге появились гелиопланы,которые смогли преодолевать огромное расстояние между полюсами. Так люди Юга и Севера узнали о существовании друг друга.
Шероны стали искать средство от застоя в борьбе с северянами, в стремлении распространить свое господство и на другой полюс.Кроме того, война, как они надеялись,поможет ликвидировать социальные противоречия на самом Южном полюсе. Борьба- вот новая идея,воодушевившая шеронов. В борьбе крепнет дух, неизмеримо возрастает могущество расы. Борьба, по мнению шеронов, способна оживить их угасающую культуру. Так возникла изнурительная, длившаяся многие годы война между полюсами. Под руководством шеронов десятки тысяч фарсанов с боевой техникой перелетали на гелиопланах Великую Экваториальную пустыню и высаживались в безлюдных оазисах, прилегающих к Северному полюсу. Оттуда они на шагающих бронированных вездеходах начинали военные действия против северян.Фарсаны сражались умело и храбро, но не могли победить северян, часто терпели сокрушительные поражения и с большим уроном улетали обратно.
Шероны поняли,что им не добиться решающего успеха,пока они не найдут новое мощное оружие.Такое оружие появилось почти одновременно на Севере и на Юге. Это были ядерные снаряды огромной разрушительной силы.Когда фарсаны сбросили три таких снаряда на города Северного полюса,северяне предприняли решительные меры.Они совершили массовый воздушный налет на Южный полюс. Северяне потеряли при этом большую часть своего воздушного флота- гелиопланов и появившихся к этому времени быстролетных ракетопланов. Но они уничтожили все фарсанские военные города и всех фарсанов до одного. Архипелаг шеронов северяне не тронули, стараясь сохранить высокую культуру.
Немногочисленные шероны остались без своих верных воинственных слуг и защитников- без фарсанов.Спасаясь от восставших сулаков,они покинули острова Ализанского океана и поселились подальше от Южного полюса- в северных городах или в оазисах. Так рухнуло многовековое господство шеронов, погиб их аристократический строй. Сулаки создали у себя на Юге такое же гармоничное общество, как и на Северном полюсе. Между полюсами установилась эра мирного сотрудничества- Эра Братства Полюсов.
Закончив рассказ, Аэнна задумчиво смотрела на яркие мазки заката. Солнце только что скрылось за горизонтом. Океан начал погружаться в свою ночную дремоту. Волны едва слышно плескались у наших ног.
— С тех пор прошло девяносто девять лет,-снова заговорила Аэнна.- Молодые шероны не могут представить себе иной жизни, чем сейчас. Но мой отец и его немногие друзья, которые еще помнят свое детство, проведенное в дворцах архипелага, не могут примириться с потерей своего исключительного положения. Но что они могут сделать без фарсанов?
— Ничего не могут,- сказал я.- И тем лучше для них и для общества. Сейчас они приносят обществу огромную пользу, став учеными и творцами произведений искусства.
— Все это так.Но что за мысли у них,что за философия!-воскликнула Аэнна. — Если ты внимательно слушал мой рассказ о шеронской культуре,то должен понять,откуда у моего отца такая сумасбродная космическая теория. Господство над себе подобными он по-прежнему считает условием высшей культуры.Но в наше время, когда вот-вот начнутся межзвездные сообщения, недостаточно власти на одной планете. Нужна вечная борьба во Вселенной и господство одной, избранной планеты над всеми мирами Космоса.Это мой отец считает необходимым условием бесконечного роста и совершенствования мыслящего духа Вселенной.
— Но у твоего отца есть одна привлекательная идея — идея концентрации научно-технических достижений, рассеянных во Вселенной.
— Концентрировать научную мысль можно и мирным путем, — возразила Аэнна.
— Конечно, можно,- согласился я. — Оно так и будет.
Некоторое время мы молчали, любуясь пышным закатом. Такие закаты на Зургане бывают только здесь, в районе Шеронского архипелага. Там, где зашло солнце, замирал слабый всплеск малиновой зари. На золотисто-зеленом небе вырисовывались четкие контуры шеронских дворцов.
— Красота какая!- воскликнула Аэнна.- Не случайно именно здесь создавались самые величественные произведения искусства.
Взглянув на часы, она добавила:
— Сейчас мы услышим не менее красивую музыку- знаменитый колокольный час шеронов. Ты когда-нибудь слышал такое?
— Только по системе всепланетной связи, — ответил я.
— Но это совсем не то. Шероны делали колокола из какого-то чудесного сплава, секрет которого утерян. Разнообразные по форме и величине, колокола издают чистые, нежные и в то же время сильные звуки. Транслировать их по всепланетной связи трудно, не исказив. Но давай лучше послушаем.
Небо темнело. Стояла вечерняя тишина, нарушаемая едва слышным шелестом волн.
И вдруг до нашего слуха издали, из-за горизонта, донесся нежный мерцающий звук. То заговорил колокол центрального острова архипелага. Колокола всех дворцов имели между собой радиосвязь. Поэтому звонили согласованно, словно инструменты хорошо налаженного оркестра. Центральному колоколу ответили другие. И началась музыкальная перекличка шеронских дворцов, возвещающая о том, что еще один день жизни человечества бесследно канул в вечность. Звуки лились и лились над океаном, бессмертным и невозмутимым, как тысячи веков назад.
В задумчивых и печальных переливах, похожих на рыдания, слышалась глубокая скорбь,бессильная жалоба на космическое одиночество,на тленность зурганской культуры, затерянной в безграничной Вселенной…
Мелодичный звон колоколов стал затихать, усиливая щемящую тоску. Наконец в последний раз зазвонил центральный колокол — заключительная вспышка звука, трепетная и умирающая.
Аэнна задумчиво смотрела на угасающий закат.Ее прекрасное лицо было тронуто легкой печалью.И я впервые подумал о том, что частая грусть Аэнны — это, может быть, выражение меланхолии ее древней мудрой расы.
— Не правда ли, какая красивая и грустная музыка?-взволнованно прошептала Аэнна.-Колокольный час- это эстетическое воплощение философии шеронов эпохи упадка.
Аэнна права,думал я,эта музыка воплощает в себе весь пессимизм высокой, но утомленной культуры.Вир-Виан пытается в своей новой космической философии вырваться из этого пессимизма, но безнадежно. Его философия, в сущности, так же пессимистична и закатна, как этот закатный колокольный час.
В море, в сгустившихся сумерках,сверкнул огонек. Наконец мы увидели катер, причаливший недалеко от нас. Из катера выскочил Сэнди-Ски и направился к нам.
— Эо, Тонри! Эо, Аэнна! — воскликнул Сэнди-Ски.
— Эо, Сэнди!- повеселевшим голосом приветствовала его Аэнна.
Сэнди-Ски внес в наше общество оживление и смех. Мы втроем пришли к городку археологов и попрощались с Аэнной.
— Завтра я жду дома, у отца! — крикнула она мне, когда мы направились к берегу.
33-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
И снова я не смог сдержать своего обещания:назавтра мне пришлось заниматься подготовкой к пробному полету.Лишь на второй день с утра собрался я посетить «крепость» Вир-Виана, как называли жилище и лабораторию ученого.
До этого,изложив в дневнике речь Вир-Виана на Всепланетном Круге и рассказ Аэнны, я в какой-то степени объяснил социально-философские предпосылки появления новых фарсанов.Теперь же мне предстоит объяснить их природу, их материальную сущность. Признаюсь, для меня это нелегкая задача, так как я недостаточно хорошо знаком с нейрофизиологией, бионикой и другими смежными областями наук. Но я постараюсь вспомнить все, что говорил мне по этому поводу сам Вир-Виан.
«Крепость» Вир-Виана находилась вдали от городов, в оазисе Риоль. Поэтому, собираясь к Вир-Виану,я оделся в легкий белый пилотский комбинезон, который неплохо защищал от жгучих солнечных лучей.
Мой гелиоплан бесшумно летел над пустыней,над бесчисленными барханами, которые напоминали собой застывшие морские волны. Но вот вдали зазеленел остров- это и был оазис Риоль. Сверху он походил на большой остроносый корабль, нагруженный зеленью и бросивший якорь среди песчаных волн пустыни.
Я посадил гелиоплан на ближайший к оазису пологий бархан. Шагая по раскаленным пескам, направился к оазису. Он был обнесен зеленым и абсолютно гладким стеклолитовым забором, настоящей крепостной стеной. Я попробовал найти какие-нибудь ворота,какой-нибудь вход.Но безуспешно.Стена была гладкой.Зато я сразу нашел циферблат.Подумал и набрал на диске цифру-пароль, которую сообщила мне Аэнна. Стена неожиданно раздвинулась. Образовался проход, и я вошел внутрь оазиса. Стена за мной бесшумно замкнулась. «Ну и ну!» — удивился я.
Ровная песчаная дорожка привела меня к дому. На открытой, но затененной деревьями веранде я увидел человека. Он сидел в старинном мягком кресле и читал не менее старинную книгу. Цветные знаки, образующие слова, были в ней нанесены на бумагу, а не закодированы в кристалле. Такие громоздкие бумажные книги давно уже вышли из употребления.
Услышав мои шаги, человек неуклюже встал и обернулся.
— Ниан!Ниан-Нар!-воскликнул я и с ужасом попятился.Мысли вихрем пронеслись в голове. Ниан-Нар!Как он оказался здесь! Ведь он мертв! Погиб при посадке!
— Извините, я Тонгус, — сказал человек и улыбнулся.
Я медленно приходил в себя. Да, да, конечно, это не Ниан-Нар. Улыбка была не его. Да и голос не тот — какой-то скрипучий и неприятный.
Я сбивчиво стал объяснять цель моего прихода, но, изумленный, замолк. Человек перестал улыбаться и снова стал разительно похож на Ниан-Нара.
Некоторое время длилось молчание.
— К кому изволили прийти? — наконец, вежливо проскрипел человек, слегка наклонив голову.
— Я Тонри-Ро. Я пришел…
— Слышал, слышал,- прервал он меня.- Архан Вир-Виан будет рад видеть вас. Идемте в библиотеку. Там его подождете. Он скоро освободится.
Желая проводить меня, человек взял мою руку повыше локтя и сжал с такой силой, что я ойкнул от боли.
— Извините,- смутился он, выпуская руку.- Мои пальцы еще не обрели достаточной гибкости. Идите за мной.
Человек пошел впереди. Походка у него была какая-то разболтанная, движения угловатые.
«Странный тип,- думал я, оставшись один в библиотеке.- Словно деревянный. И выражения какие-то древние: «не обрели достаточной гибкости», «к кому изволили»…
В ожидании Аэнны или Вир-Виана я начал знакомиться с библиотекой. Здесь находилась преимущественно научная литература: нейрофизиология, электроника, кибернетика и так далее. Но были и художественные книги, в основном произведения древнешеронской поэзии.
Прошло полчаса. «Где же Аэнна?»- подумал я и осмотрел комнату более внимательно.В ней были три двери. В одну я вошел с веранды. Боковая дверь справа была закрыта.Но третья дверь,прямо передо мной,была чуть приотворена. Оттуда доносилось едва слышное чавканье и монотонное гудение. Так гудят электронно-вычислительные машины.Вероятно, за дверью находилась таинственная лаборатория Вир-Виана.
Я приоткрыл дверь и заглянул,надеясь увидеть кого-нибудь и спросить об Аэнне.Но в лаборатории никого не было.И в то же время чувствовалось, что работа шла полным ходом.Невиданной формы кибернетические установки самостоятельно, по заданной программе ставили опыты, производили вычисления, записывали результаты анализов.
Я старался подавить в себе несколько нескромное любопытство. Но не выдержал и вошел.
Чавканье шло из непонятных кибернетических аппаратов,внешне похожих на шкафы,опутанные светящимися трубками и разноцветными проводами. Таких аппаратов было около десятка. Возле каждого на низких подставках стояли непрозрачные пузатые сосуды. Я наклонился над одним из сосудов и сразу в испуге отшатнулся. Там плавал в мутно-зеленом растворе… человеческий глаз. Меня поразил не сам глаз, а то,
что он имел живое выражение. Он жил! Мне показалось даже, что он смотрел на меня с каким-то ехидством, с насмешливым любопытством.
Хотя я человек неробкий, мне стало здесь не по себе. Я ушел из лаборатории и тщательно прикрыл дверь.
В это время из боковой двери в библиотеку вошел Вир-Виан.Вошел,несмотря на преклонный возраст, легкой походкой бодрого,уверенного в себе человека. Меня снова поразила интеллектуальная сила его грубого, внешне некрасивого лица с тяжелым подбородком, крупным горбатым носом, шишковатым лбом. Мне нравилось это лицо, лицо творца, создателя огромных духовных ценностей. Единственное, что его портило,- это высокомерие прирожденного шерона.
Но надменное выражение исчезло, когда он увидел меня.
— Рад приветствовать руководителя первой межзвездной экспедиции, — сказал Вир-Виан.
Положил руку на мое плечо и дружески пожал его. Улыбнувшись, он продолжал:
— Вы пришли,конечно,не ко мне.Но я рад видеть вас не меньше,чем Аэнна. Она ждала вас вчера весь день. Сегодня ее здесь нет.- Нахмурившись, он добавил: — И вообще она бывает здесь в последнее время редко. Сейчас она на берегу Ализанского океана, на раскопках фарсанского города.
Он подошел к старинному креслу с высокими подлокотниками и уселся в него. Показав на соседнее кресло, он вежливо предложил:
— Может быть, вы посидите немного со мной? Мне хочется поговорить с вами.
Едва я опустился в мягкое сиденье, как в библиотеку из боковой двери вошел высокий широкоплечий человек.
— Эфери-Рау,заведующий биологическим сектором моей лаборатории,-представил его Вир-Виан.
— Мы,кажется,знакомы,- сказал я,сразу вспомнив этого веселого,общительного человека, великолепного спортсмена, чемпиона Южного полюса по плаванию. Я не раз состязался с ним на водных дорожках, и он почти всегда побеждал меня. Но это было давно, года два назад. С тех пор я его не видел.
— Конечно,знакомы,-подтвердил Эфери-Рау,усаживаясь в кресло напротив нас. — В воде мы всегда были врагами, а на суше — друзьями. Помнишь?
— Помню. Но почему ты забросил спорт?
— Не совсем так,- нерешительно ответил он. — Не забросил, но для спорта остается мало времени.
— Эфери-Рау поглощен серьезной научной работой,-вмешался Вир-Виан. — Кстати, Эфери, как дела с твоим полимером?
— Я получил то,что надо,- в голосе Эфери-Рау появились знакомые мне нотки бахвальства.- Теперь искусственный полимер не отличить от белкового даже под четырехсоткратным увеличением.
— Я был уверен, что ты добьешься своего. Но о делах поговорим потом.
Обратившись ко мне, он спросил:
— Вы верите в разумных существ в планетной системе,так блистательно открытой Нанди-Наном?
— А почему бы нет? Нанди-Нан считает,что там около десятка планет.На одной из них вполне возможна разумная жизнь.
— Предположим, что на одной из планет вы найдете разумных обитателей и сравнительно высокую культуру. Что вы будете делать?
— Как что?- я пожал плечами. — Познакомимся с цивилизацией, установим дружественные связи. Ведь наша экспедиция не последняя.
— Дружественные связи,- усмехнулся Вир-Виан.- Звучит, конечно, возвышенно и благородно.
— Я слушал вашу речь на Всепланетном Круге,-сказал я.-Неужели вы убеждены, что для возвеличения разума Вселенной нет иного пути, как завоевание иных населенных миров, господство над ними?
— Вражда,господство,войны…- недовольно проворчал Вир-Виан.-Вы изображаете меня каким-то кровожадным и бессмысленным завоевателем.Поймите, что борьба и господство в Космосе- не самоцель, а необходимое условие и средство достижения самой высокой и благородной цели,которая когда-либо стояла перед разумными существами. Это цель- создание могучего, несокрушимого и вечного разума Вселенной, установление примата мыслящего духа над грандиозными силами косной материи…
Вир-Виан прочно уселся на своего любимого философского конька.С ним сейчас бесполезно было бы спорить.
— Ну,хорошо,- не совсем тактично перебил я его. — А какими же средствами, каким оружием вы думаете бороться с другими населенными мирами?Я,например, не представляю.Предположим, что на планетной системе Нанди-Нана мы найдем цивилизацию.Неужели мы сумеем установить господство нашим оружием?Ведь перед нами,небольшой кучкой,будет целая населенная планета,и у разумных обитателей найдется пусть даже примитивное, но неведомое нам и неожиданное оружие.
— Верно,верно,- живо откликнулся Вир-Виан, с любопытством глядя на меня. — Продолжайте.
— Теперь предположим,хотя мне это предположение кажется диким и бессмысленным,предположим,что мы каким-то образом установим свое господство на планете. Но ведь мы улетим обратно, и наше господство прекратится.
— Верное замечание,- Вир-Виан вскочил с кресла и начал ходить по библиотеке.- Абсолютно верное. Для борьбы в Космосе нам необходимо оружие тонкое, гибкое, а главное- неожиданное. Над таким оружием я и работаю со своими помощниками.
— Какое оружие? Вероятно, какие-нибудь мощные силовые поля?
— Нет, совсем не то,- возразил Вир-Виан.- Когда-нибудь я вам,Тонри, покажу это оружие. Я или мой помощник.
Когда Вир-Виан говорил о своих помощниках, мне почему-то вспоминался странный тип, которого я встретил на веранде.
— Скажите,этот Тонгус, который сидит на веранде, тоже ваш помощник? — спросил я.
Вир-Виан и Эфери-Рау переглянулись.
— В некотором роде да, — ответил Вир-Виан. — А что?
— Какой-то он странный…
— Странный? Нет ничего удивительного. Это моя первая и не совсем удачная модель.
— Модель? Этот человек- модель? Не понимаю.
Вир-Виан удовлетворенно улыбнулся. Эфери-Рау рассмеялся громко и заразительно, напомнив мне прежнего общительного весельчака.
— Странный,говорите?- сказал Вир-Виан.-Ну что ж,я доволен,что вы заметили в нем всего лишь странности. Так и быть, Тонри, я объясню, что это такое. Со временем об этом узнают все. Но вас прошу пока молчать.
Вир-Виан открыл дверь на веранду и повелительно крикнул:
— Тонгус! Зайди сюда!
Появился Тонгус. Шел он бесшумно, но неровно, словно толчками.
— Слушаюсь,- сказал он тоном вышколенного слуги древних времен.
— Разденься.
Тонгус повиновался.Стройный и сухощавый, с покатыми и узкими, но мускулистыми плечами,Тонгус и телосложением поразительно напоминал Ниан-Нара, с которым я провел немало часов на пляжах Ализанского океана.
Вир-Виан предложил:
— Сейчас, Тонри-Ро, осмотрите его, пощупайте мускулы и скажите, что еще странного найдете в нем.
Я с опаской подошел к этому непонятному созданию и внимательно осмотрел его. Тонгус стоял, уставившись взглядом в угол. Я осторожно ощупал мышцы его рук и плеч. И ничего особенного не нашел. Только мускулы показались мне несколько жесткими. Об этом я сказал Вир-Виану.
— Верно.Но сейчас мы можем устранять и этот недостаток.Эфери-Рау разработал полимер,по своей консистенции идеально схожий с мускулами человека.
— Так кто же этот Тонгус? Искусственный человек?
— Не совсем так. Давно, еще в юности, я мечтал изготовить в лаборатории искусственного человека на основе живого белка. Задача оказалась, конечно, непосильной.Она будет по плечу ученым грядущих столетий. Но и тогда лабораторные белковые конструкции будут значительно уступать человеку, созданному природой.В сущности,это будут полукретины с медленно протекающими нервными реакциями,с вялыми рефлексами. Мой же метод, метод воссоздания человека не на биологической, а на технической основе, оказался более прогрессивным.Грубо говоря, мой Тонгус- это сложнейшее кибернетическое устройство.
— У меня есть дома кибернетический слуга. Но он совсем не похож на человека…
— Еще раз верно,- с готовностью поддержал меня Вир-Виан.- Он не похож на человека не только внешне,но,главным образом,по своим функциям. Ваш слуга — всего лишь робот. Он содержит пять-шесть миллионов микроэлементов, вполне пригодных для хранения обширной информации и воссоздания логических мыслительных операций человека. Его провозгласили чудом нашего века, кибернетическим совершенством.Верно,конечно, что миниатюрный домашний слуга совершенней прежних громоздких машин,работавших по заданной и чаще всего довольно жесткой программе.В непредвиденных обстоятельствах слуга не так беспомощен. Действуя по более свободной программе, он самостоятельно находит логически верные,подчас остроумные решения.Но все же домашний слуга — всего лишь робот, примитивный робот.
— А ваш Тонгус разве не робот?- возразил я.- Человек по форме, машина по содержанию.
Мой, быть может, не совсем удачный афоризм вывел Вир-Виана из равновесия. Нахмурившись, он начал сердито расхаживать по библиотеке и говорить о своих достижениях в области кибернетики.Слова «мой», «я», «новый шаг вперед» так и мелькали в его речи.
Тонгус неуклюже и медленно одевался. Эфери-Рау внимательно и с восторгом слушал Вир-Виана.Мне вспомнились слова Аэнны о духовном порабощении помощников,работающих в лаборатории ее отца. Она права, думал я, глядя на Эфери-Рау.Именно порабощение.Это раболепие доставляло, видимо, удовольствие Вир-Виану. Он успокоился и, остановившись передо мной, сказал:
— Эфери-Рау не согласен с вами,Тонри-Ро.Да и другие мои помощники тоже. А ведь среди них есть серьезные,самобытные ученые.Конечно, мой Тонгус еще весьма далек от совершенства.Но он и сейчас по своим логическим способностям превосходит человека.Он мыслит четко,безошибочно, с огромной, молниеносной быстротой.Он содержит не миллионы микроэлементов, как ваш домашний слуга-робот,а несколько миллиардов атомов и молекул,которые идеально воспроизводят функции нервных клеток человека- нейронов.Тонгус- это почти предел развития малогабаритной кибернетики, это кибернетика на высшем, атомно-молекулярном уровне.Ученым Зурганы потребуются десятки лет,чтобы хоть немного приблизиться к моим достижениям.
Последние слова прозвучали чересчур хвастливо. Вир-Виан и сам почувствовал это. Он опустился в кресло и,устало махнув рукой, проговорил:
— Впрочем, о Тонгусе пусть расскажет вам Эфери-Рау.
Эфери-Рау легко вскочил с кресла и подошел к Тонгусу, который, одевшись, стоял на прежнем месте.
— Тонгус состоит из трех основных частей,- начал рассказ Эфери-Рау. — Его духовная сущность, его интеллект- это миллиарды молекулярных нейронов. Они скомпонованы почти как у человека и расположены в голове и позвоночнике. В груди находится система небольших, но емких аккумуляторов электроэнергии, которая расходуется на логические и физические операции. Без перезарядки энергии хватит на несколько лет.И, наконец, — внешняя оболочка: скелет, мускулы, кожа, волосы. И все это- полимеры, которые по своей консистенции, пластичности и механическим свойствам схожи с человеческими тканями. Ведь в сущности мышцы,кости, кожа, волосы человека — это те же полимеры, но только биологические.У Тонгуса в жилах течет плазма — густая жидкость, идеально похожая на человеческую кровь.Она ему нужна не только для полного физического сходства с человеком.Нет.Кровь эта,вернее плазма, выполняет еще сложную энергетическую функцию. Если под луческопом посмотреть на внутренние органы Тонгуса,то сначала можно увидеть обычную картину:легкие дышат, сердце сокращается, желудок и кишечник перистальтируют. Лишь при более внимательном изучении можно обнаружить, что это не человеческие органы.
Свой рассказ Эфери-Рау сопровождал показом на Тонгусе, который покорно стоял на месте. И вообще, пожалуй, покорность- единственное у Тонгуса человеческое качество,столь свойственное даже нынешним раскрепощенным сулакам. Не случайно ему дано имя сулака- Тонгус, хотя по внешним признакам он стопроцентный северянин.
— Тонгус, ты свободен, — распорядился Вир-Виан.
Тонгус ушел на веранду.
Эфери-Рау сел в кресло.
— Ты,конечно,понимаешь,-продолжал он,-что наш Тонгус весьма и весьма далек от совершенства. Во-первых, у него нет или почти нет человеческих эмоций. В первой модели нам не удалось запрограммировать их. Но в последующих моделях мы уже можем устранять этот недостаток, если это вообще недостаток. Но и тогда не будет настоящих человеческих эмоций,этих пережитков древности. Да, да, не смотри на меня удивленно. Именно древности, когда эмоции нужны были человеку в его звериной борьбе за существование. Наши наиболее совершенные модели будут просто имитировать, в зависимости от обстоятельств, чувства радости, страха, удовольствия. Имитировать, чтобы только походить на человека, — и только. Откровенно говоря, мы и не будем стремиться к полному и чрезвычайно сложному диалектическому единству мысли и чувства, то есть к настоящим человеческим эмоциям. Ибо подлинные человеческие эмоции только мешают, вносят путаницу, хаос в процесс чистого мышления. Итак, отсутствие человеческих эмоций, вернее их имитаций,- первый недостаток Тонгуса. Второй недостаток сразу бросается в глаза- это его неуклюжесть и угловатость, развинченность движений. Ты,конечно, в общих чертах знаком с кибернетикой и знаешь, что такое обратная связь.У человека безупречно налажен механизм обратной связи.У Тонгуса есть этот механизм, без него он не сделал бы ни одного движения.Но механизм обратной связи у него груб, примитивен, недостаточно тонко развит.Он может,например,взять шкатулку с кристаллом, но при этом не рассчитать силу действия,и шкатулка затрещит в его пальцах. Все его жесты и движения кажутся неуклюжими.Почему?Предположим,что Тонгусу нужно совершить простое физическое действие.Например, поднять руку. Из соответствующего участка сложной сети молекулярных нейронов в аккумуляторную часть поступает сигнал.Оттуда по микропроводам-нервам электрический ток определенной силы идет к мышцам-полимерам.Под воздействием тока полимеры(это так называемые сократительные полимеры) сокращаются, и рука поднимается. У человека даже в таком простом физическом действии, как поднятие руки, участвуют очень разные мускулы с разной степенью усилия: мускулы руки, шеи, всего корпуса. Этим-то и достигается плавность движений, их легкость, изящество, грациозность. У Тонгуса, к сожалению, этого нет. В ходьбе или поднятии руки у него участвует небольшая и самая необходимая группа мышц. Вот почему он кажется неуклюжим, машиноподобным в своих жестах и движениях.
— Человек по форме, машина по содержанию!- сердито проворчал Вир-Виан. Он никак не мог забыть мой злополучный афоризм, который прозвучал для него чуть ли не оскорблением — Вы, Тонри-Ро,ошибаетесь.Эфери-Рау ближе к истине. Мой Тонгус- это скорее машина по форме,а по интеллектуальному содержанию — человек.В некоторых областях деятельности он превосходит человека.Его память может хранить неимоверное количество знаний, логически мыслит он быстрее и безошибочнее человека. А вот по форме, вернее по внешнему поведению, он сейчас напоминает робота, машину. Но ведь это так легко устранить в моих следующих моделях!
Я раскаивался в своих словах, которые так сильно задели тщеславие Вир-Виана. Чтобы как-то загладить свою вину, я сказал:
— Вероятно, ошибаюсь. И даже по форме Тонгус, когда он неподвижен, как две капли воды похож на погибшего астронавта Ниан-Нара. Почему?
— А что,здорово похож?-самодовольно усмехнулся Вир-Виан.-Ну,так слушайте, в чем здесь дело. Быть может, это и есть самое интересное и важное в моей работе. Как вам известно, живой организм, в том числе организм человека, состоит из белков и нуклеиновых кислот.Ученые установили огромную роль нуклеиновых кислот в передаче наследственных признаков,в росте и развитии клеток. Итак, нуклеиновые кислоты, в частности, так называемая дезоксирибонуклеиновая кислота — ДНК, обладают способностью не только воспроизводить себя, но и направлять синтез белка. В нуклеиновых кислотах, таким образом, заложена информация наследственности, и стоит разгадать этот таинственный шифр, как человек получит могучее средство управления живой природой.Так вот- я разгадал этот шифр. Оказалось, что нуклеиновые кислоты и вообще некоторые биологические полимеры могут не только воспроизводить сами себя, но они несут в себе наследственную информацию, то есть сообщение о том живом существе, в котором они образовались. Все оказалось гораздо сложнее, чем думают наши ученые,-при этом Вир-Виан иронически-высокомерно усмехнулся. — Наследственная информация заложена не только в механической структуре нуклеиновых кислот, но и в характере, в своеобразии протекающих в них реакций- электромагнитных, химических и других…
Я начал догадываться, почему Тонгус представляет почти идеальную копию Ниан-Нара. Но я все же выразил сомнение в том, что по наследственному шифру, хранящемуся в нуклеиновых кислотах, можно воссоздать весь организм в целом или хотя бы внешность живого существа.
— Не верите?- снова усмехнулся Вир-Виан. — Тогда я приведу несколько наглядных примеров. Вы знаете, конечно, что такое ханас. Это восьмилапое ползающее животное. Предположим, что вы наступили ему на одну из лап. Что делает ханас? Чтобы освободиться от врага, он отделяет эту лапу и убегает на семи лапах. Через некоторое время у него вновь отрастает восьмая лапа. А вот еще более наглядный пример. Берем зерно любого растения. Зерно никак не похоже на само растение. Но в нем заложена наследственная информация о самом растении. Бросьте зерно в землю- и оно в строгом соответствии с этой информацией построит само растение. Конечно, дело с нуклеиновыми кислотами гораздо сложнее.
Я начал сдаваться под доводами Вир-Виана. Но он привел еще один и, на мой взгляд, наиболее убедительный пример.
— А вот вам аналогия,- сказал Вир-Виан.- Учтите, это всего лишь варварски грубая аналогия. Но вы получите наглядное представление о том, как по наследственному шифру нуклеиновых кислот можно воспроизвести точную копию живого существа.Вы, конечно, знаете, как наши палеонтологи восстанавливают внешний облик и образ жизни давно вымерших животных,этих гигантских существ, обитавших на нашей планете за миллионы лет до появления человека. При раскопках они находят какую-нибудь кость, например, зуб. И этот зуб, оказывается, содержит в себе огромное количество информации о самом животном. По одному лишь зубу ученые определяют, каково было само животное: хищное или травоядное, какой пищей питалось, в какой среде обитало и многое другое. Так ученые с изумительной точностью воспроизводят внешний облик и поведение животного, которого они никогда не видели. Если уж простой зуб содержит в себе такое количество информации, то что говорить о нуклеиновых кислотах,в микроструктуру которых сама природа заложила неимоверно сложный и подробный наследственный шифр. Учтите при этом важное обстоятельство: нуклеиновые кислоты хранят наследственную память не о живом существе вообще, не о его видовых признаках, а о данном, конкретном существе со всеми его индивидуальными особенностями.Вы спрашиваете, начал ли я свои опыты сразу с человека, а именно с Тонгуса? Нет, я начал с животных. Я сконструировал сложнейшую кибернетическую дешифровально-моделирующую установку. («Тот самый шкаф», — подумал я). Установка расшифровывает наследственный код, а затем в строгом соответствии с полученной информацией воссоздает, моделирует на кибернетической основе живое существо.Однажды я поймал сунга- дикого зверька, обитающего в пустыне около оазисов. Взял у него микроскопический срез мяса,содержащий сотни тысяч нормально функционирующих нуклеиновых кислот, и заложил его в установку. И что вы думаете? Работая по заданной программе, моделирующая установка через три часа изготовила абсолютно точное подобие сунга.Его кости,мышцы,кожа,шерсть — все это искусственные полимеры, по своим механическим свойствам и отчасти даже по микроструктуре ничем не отличающиеся от биологических полимеров. Внутри у него небольшой, но емкий аккумулятор и всего лишь полмиллиона молекулярных «нервных клеток». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы запрограммировать все поведение сунга.
— Можно показать? — спросил Эфери-Рау.
— Конечно. Обоих сразу: и настоящего, и искусственного.

Эфери-Рау вышел в боковую дверь, оставив ее приоткрытой.
Вскоре оттуда, стуча по полу когтями, выскочили два сунга. Шестилапые, с длинными и гибкими телами, с острыми мордочками, с сильными мускулистыми хвостами, они ничем не отличались друг от друга. Зверьки разбежались в разные стороны и стали шарить по углам в поисках песка, чтобы зарыться в него.Ничего не найдя, они вернулись на середину библиотеки и с недоумением озирались вокруг. Наконец сунги сошлись и начали обнюхивать друг друга. Один из них, видимо инстинктивно, почувствовал в другом существо враждебное, чуждое его породе. Его короткая и колючая шерсть взъерошилась, встала дыбом. Грозно заверещав, он набросился на противника. Тот, оглушительно взвизгнув, сильным ударом хвоста отбросил нападающего и сам приготовился к атаке.
— Эфери,разними!- крикнул Вир-Виан, брезгливо морщась и закрывая ладонями уши. Пронзительное верещание заставило и меня заткнуть уши.
Эфери-Рау ловко,очевидно,у него был уже опыт, разнял драчунов. Сдавив им шеи, он унес беспомощно повисших зверьков обратно.
— Ну, как?-спросил Вир-Виан.-Смогли бы вы отличить искусственного сунга от настоящего?
— По-моему, тот, который напал первым, и есть настоящий.
— Вы угадали.
— Угадал не случайно.Настоящий сунг звериным инстинктом почувствовал в другом существе чуждое себе, своей породе.
— Верно, — сказал Вир-Виан, с любопытством взглянув на меня. — Звериный инстинкт в этих случаях почти безошибочен.У человека же разум преобладает над инстинктом. А разум ошибается. Если я усовершенствую Тонгуса, особенно поведение, и выпущу его на волю, люди будут считать его человеком. Ему надо только соблюдать некоторые предосторожности. Например, избегать врачебных осмотров, особенно луческопии…
— Избегать творческих занятий:не писать стихи, не сочинять музыку, — продолжил я.
Вир-Виан вяло согласился.
— К сожалению,это тоже верно,хотя не совсем. В творческих областях Тонгус несколько уступает человеку. Но не так уж сильно. Он может создавать вполне приличные стихи и музыку. Гением он, вероятно, все же не будет. Но вот в технике Тонгус разбирается лучше человека.
— Как же все-таки с Ниан-Наром? — напомнил я.
— Ах да!- снова оживился Вир-Виан. — Мы отклонились. Теперь вы понимаете, что я могу создать идеальную кибернетическую копию человека — не человека вообще, а именно конкретного человека, воспроизвести его физическую и духовную сущность со всеми индивидуальными особенностями. Например, я беру обыкновенный шприц и делаю вам небольшой и почти безболезненный укол. В трубочке шприца остаются тысячи клеток вашего организма. Все это я передаю моей дешифровально-моделирующей установке. Вы сидите в кресле и часа три читаете своего любимого поэта. В это время аппарат с огромной быстротой проделывает сложную и таинственно-незримую работу.По микроструктуре нуклеиновых кислот,по характеру протекающих в них химических, электромагнитных реакций,по тысяче других индивидуальных признаков он расшифровывает наследственную информацию. И не только наследственную. Он разгадывает информацию обо всех изменениях, происшедших с вами и с вашей внешностью при жизни.Ведь человек меняется с каждым годом, с каждым днем. Меняются его характер,привычки,меняется в какой-то мере и внешность.И это не проходит бесследно. В нуклеиновых кислотах, во всех клетках организма тоже происходят неуловимые изменения. Клетки — эти сложнейшие кибернетические установки- живут вместе с человеком,они стареют, меняется характер протекающих химических реакций,сила и частота электромагнитных колебаний. Меняется все. И все это учитывает мой моделирующий аппарат. В соответствии с расшифрованной информацией — наследственной и приобретенной — он воссоздает исключительно точное кибернетическое подобие человека.
— Прошло три часа, пока вы читали книгу,- продолжал Вир-Виан. — И вдруг открывается, например, вот эта дверь,- он показал на дверь в лабораторию, в которой я уже был. Вир-Виан говорил все с большим увлечением. — И появляется человек,ваш двойник.Он похож на вас не только внешностью, но и своим поведением, темпераментом, характерными жестами и привычками. Вы ошеломлены…
Я представил эту картину и поежился от неприятного ощущения. Да, это было бы отвратительно — видеть своего механического двойника. Но Вир-Виан говорил об этом все с большим жаром и увлечением. И я снова не совсем учтиво прервал его:
— Но почему тогда ваш Тонгус не похож на Ниан-Нара по характеру и привычкам?
— Я снова отклонился в сторону,- смутился Вир-Виан, и, подумав немного, продолжал:- С Ниан-Наром получилось не так, как с вашим воображаемым примером. Даже мои первые опыты с животными были удачнее. И вот почему. Вы, конечно, помните несчастный случай с астролетчиком Ниан-Наром. Он погиб при посадке. рачи не могли уже ничего сделать. Ниан-Нар был безнадежно мертв. Я попросил,чтобы тело Ниан-Нара доставили ко мне, и сказал, что попытаюсь вернуть его к жизни в моей лаборатории. Врачи удивились, но не возражали — настолько высок мой авторитет.Оживить труп, конечно, не удалось. Но я взял кусочек тела и передал его дешифровально-моделирующей установке. Машина оказалась на этот раз бессильной.Да и понятно: ведь Ниан-Нар был мертв уже двадцать часов. За это время в клетках организма,в том числе в нуклеиновых кислотах, произошли необратимые процессы. Весь сложный комплекс химических, электромагнитных и прочих реакций нарушился,хотя клетки в какой-то степени еще функционировали. Машина не смогла разгадать все наследственные и приобретенные качества человека.Но по микроструктуре нуклеиновых кислот она все же расшифровала наследственную информацию о внешности человека. И машина воссоздала эту внешность. Получилось сложное кибернетическое устройство в образе Ниан-Нара. Мы назвали его Тонгусом. Тонгус был необычайно развит интеллектуально, но начисто лишен человеческих качеств, кроме внешности. Мы все же запрограммировали кое-какие человеческие черты.
— В основном покорность.
— Верно,- согласился Вир-Виан. — Мы хотели иметь хорошего слугу. И мы его имеем. Наш Тонгус неизмеримо выше ваших домашних слуг-роботов.
По мере того как Вир-Виан рассказывал о своих и в самом деле изумительных работах по моделированию человека, у меня росло чувство смутной тревоги. В сумрачной тайне лаборатории Вир-Виана было что-то чуждое,враждебное человеку.
— Зачем все это?- наконец воскликнул я. — Какая цель кибернетического воссоздания человека? Если бы вам удалось скопировать Ниан-Нара не только внешне,но и по темпераменту и поведению, что из этого получилось бы?
— Получился бы хороший фарсан,-ответил Вир-Виан,внимательно глядя на меня.
— Фарсан? Так в древности называли на Южном полюсе привилегированных воинственных слуг шеронов.
— Верно.Не совсем, правда, в древности. Но название прекрасное. Фарсан-завоеватель! На этот раз завоеватель Вселенной. Это как раз то гибкое и неожиданное оружие для завоевания населенных планет,о котором я уже упоминал. Предположим,что наша экспедиция найдет в планетной системе Нанди-Нана разумных обитателей и сравнительно высокую цивилизацию. Вероятно, жители той планеты будут в основном похожи на нас.Но не это важно.Важно то, что жизнь там наверняка образовалась на такой же белково-нуклеиновой основе, как и у нас.Теперь предположим, что вы высаживаете на населенной планете такого фарсана с необходимым кибернетическим оборудованием. Вы улетаете обратно,а фарсан-завоеватель остается в качестве почетного гостя, представителя нашего мира.А все фарсаны запрограммированы так, что они размножаются,подделываясь под разумных обитателей той планеты,на которой вы их оставите.Предположим маловероятное:белково-нуклеиновые тела жителей какой -нибудь планеты имеют трудновообразимую, фантастическую форму. Например, это будут парящие в воздухе шары с короткими руками и одним вращающимся, как антенна локатора,глазом. Фарсаны по наследственной информации нуклеиновых кислот скопируют их внешность и поведение. Кроме того, новые фарсаны будут иметь всю приобретенную информацию разумных обитателей,их знания и жизненный опыт.Живые прототипы фарсанов будут при этом,конечно,уничтожаться. Под их видом фарсаны, обладающие громадными техническими знаниями и навыками, проникнут во все важнейшие производственные и энергетические центры планеты. И вот…- При этих словах Вир-Виан вскочил с кресла и начал взволнованно ходить по комнате. В его голосе появилась торжественность, точь-в-точь как в самых патетических местах его речи на Всепланетном Круге.- И вот в одно прекрасное время жители планеты оказываются под властью фарсанов,то есть под нашей властью.Вы понимаете,что это значит? Это значит, что мы сделаем первый шаг к космическому господству.Это значит,что наша прекрасная Зургана станет в будущем центром галактик,вместилищем и центром вселенского разума. Это значит, что мыслящий дух…
Вир-Виан снова понесся вскачь на своем коньке. Он жестикулировал, лицо его приобретало восторженное выражение.
— Это бессмысленно!- воскликнул я. — Дико и бессмысленно. К тому же Круг арханов никогда не согласится на это.
Вир-Виан, нахмурившись, подошел к креслу и опустился в него.
— Знаю, что не согласится,- вяло проговорил он.- Поэтому я и обращаюсь к вам, Тонри-Ро. Вы можете сделать первый шаг, взяв на корабль хотя бы одного фарсана.
— Тонгуса?- спросил я с удивлением.- Этого развинченного кретина?
— Зачем такие сильные выражения?Тонгус не кретин.Но он,конечно,не годится. Мы дадим вам другого, идеально совершенного фарсана.
— Нет, нет!- горячо возражал я. — Я всецело подчиняюсь Кругу арханов и никогда не соглашусь на этот жестокий и безумный эксперимент.
Увидев расстроенное и угрюмо-надменное лицо Вир-Виана,я снова пожалел его. Я все же уважал этого великого ученого. И мне захотелось убедить его, сделать так, чтобы он сам понял бессмысленность и жестокость своей затеи.
— К тому же нет никакой гарантии безопасности,- осторожно начал я.- Ваши фарсаны,расплодившиеся на чужой планете и захватившие власть,могут,как бы это выразиться,выйти из-под нашего контроля и натворить бед не только там, но и здесь, на Зургане. Свободное программирование таких совершенных кибернетических устройств может привести к весьма нежелательным последствиям. Чего доброго, ваши фарсаны еще подумают, что они выше человека, и возомнят себя господами.
— Случайности в поведении,конечно, могут быть,- согласился Вир-Виан. — Но если в программе одного или даже нескольких фарсанов произойдет отклонение в нежелательную сторону, другие, преданные нам фарсаны, быстро ликвидируют их.
— А если отклонение в программе вызовет массовый характер?
— О нет!- живо возразил Вир-Виан.- Это маловероятно. Но я предусмотрел и этот совершенно исключительный случай.
Вир-Виан встал и подошел к двери на веранду.Открыв ее, он крикнул:
— Тонгус! Зайди сюда.
Вошел Тонгус. Как и в прошлый раз, он услужливо встал посредине комнаты.
— У каждого фарсана,- сказал Вир-Виан,показывая на голову Тонгуса,-имеется особый блок безопасности. Сейчас я покажу вам его в действии.
Эфери-Рау,до этого внимательно слушавший своего учителя, неожиданно встал и поспешно удалился в лабораторию. Он так торопился, что не успел плотно закрыть дверь. Сквозь щель я видел, как Эфери-Рау сел в кресло в напряженно-выжидательной позе.
— Блок безопасности,- продолжал Вир-Виан, — принимает только одну сложным образом зашифрованную радиограмму, которая известна пока лишь мне одному. Радиограмму можно послать с помощью вот этой портативной вещи.
Он вынул из кармана и показал обыкновенный радиосигнализатор,каким пользуются при взрывных работах.Такой радиосигнализатор и сейчас лежит у меня в кармане.К сожалению, я не мог видеть цифр, набранных на сигнализаторе Вир-Виана:он тщательно прикрывал ладонью циферблат. Вир-Виан передвинул предохранитель и положил палец на кнопку.
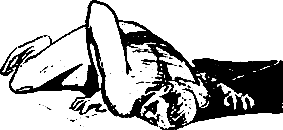
— Теперь предположим, что в генеральной программе Тонгуса произошло нежелательное, опасное отклонение. Тогда я делаю следующее. Смотрите.
Вир-Виан нажал кнопку.Тонгус сразу как-то обмяк, колени его подогнулись, и он упал на пол.
— Не бойтесь, он не разобьется и не получит никаких повреждений. Тонгус прочнее человека.Но он сейчас мертв. Вся деятельность сложной сети молекулярных нейронов прекратилась. Работает только один блок безопасности. Он-то и ликвидирует все нежелательные отклонения в программе фарсана. Происходит как бы процесс самоочищения.
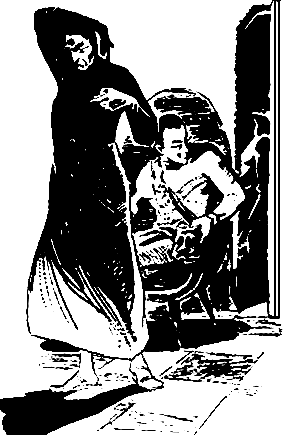
Я случайно взглянул в приоткрытую дверь лаборатории и вздрогнул: Эфери-Рау повис в кресле, рука его беспомощно свесилась до пола, а голова вяло склонилась вперед и немного в сторону. Что с ним? Неужели Эфери-Рау, как и Тонгус?… Не может быть!…
Мои лихорадочные размышления прервал Вир-Виан.
— Теперь смотрите,- сказал он, глядя на Тонгуса,- я нажимаю вторую кнопку.
Тонгус зашевелился и быстро встал на ноги.
— Фарсаны,- торжествующе продолжал Вир-Виан,-взбунтовавшиеся фарсаны снова во власти человека. Но случаи неповиновения исключительно редки. Мои фарсаны надежнее и преданнее прежних фарсанов, фарсанов-людей. Вы согласны?
И Вир-Виан самодовольно рассмеялся.
— Конечно, надежнее,- услышал я голос вошедшего Эфери-Рау.
Я обернулся и внимательно взглянул на него. Эфери-Рау улыбался и смотрел на Вир-Виана с еще большей преданностью и раболепием, чем раньше.
«Неужели Эфери-Рау,-думал я,-это не человек,а его кибернетический двойник? Но где же тогда живой Эфери-Рау? Где?»
Эти мысли не давали мне покоя, усиливая тягостное впечатление от всего, что я видел здесь. И мне захотелось поскорее уйти. Сославшись на неотложные дела, я заторопился. До ворот меня проводил Вир-Виан.
— Надеюсь,что перед тем,как покинуть Зургану,вы зайдете ко мне? — спросил он на прощание.
Не помню,но мне кажется,что я обещал зайти, обещал, чтобы что-то сказать. Расставшись с Вир-Вианом, я направился к гелиоплану, который за это время накопил под жаркими лучами изрядное количество энергии.
«Что мне делать? — думал я, усаживаясь в кабину. — Может быть, обо всем рассказать Нанди-Нану? Посоветоваться с ним? Нет, ведь я же обещал Вир-Виану пока что не говорить никому…»
Но такова была беспечность нашего поколения, выросшего в условиях гармонического общества,и такова оптимистическая сила молодости,что тягостное чувство исчезло, как только гелиоплан поднялся в воздух. Ветер звенел в ушах, напевая свою незатейливую, но весьма увлекательную песенку странствий. Я летел к освещенным просторам Ализанского океана, к своим друзьям на зеленом острове Астронавтов.
34-й день 109-го года
Эры Братства полюсов
Едва сегодня уселся за клавишный столик, как засветился экран внутренней связи, и я увидел крупное лицо Сэнди-Ски. Он дружелюбно улыбался.
— Эо, Тонри! Откликнись! Ты совсем покинул нас ради своих дышащих звезд. Вчера весь день работал,но сегодня не дадим. Эо, откликнись! — повторил он, и его улыбка стала еще приветливей.
В ответ я постарался улыбнуться. Но улыбка, видимо, получилась вымученная и хмурая, так как Сэнди-Ски обеспокоено спросил:
— Может быть, я мешаю тебе?
— Нет, нет Сэнди!- рассмеялся я (на этот раз довольно успешно). — Сейчас приду. К тому же мне надо просто отдохнуть.
— Правильно,- сказал Сэнди-Ски.- У тебя будет много времени на обратном пути.
Почти весь день провел в рубке управления и,в основном,в рубке внешней связи. Мы стремительно приближаемся к планете Голубая.На огромном экране внешней связи даже при среднем увеличении не помещается вся планета, а только ее отдельные части, отдельные материки. Увеличивая изображение, я иногда различал маленькие фигурки разумных обитателей. И меня каждый раз пронизывала острая грусть оттого, что мне не придется с ними встретиться.
— Они начинают изменять облик своей планеты,хотя и бессистемно,- прошептал сзади Сэнди-Ски. — Видишь?
И он показал на квадраты пашен,на каналы, города и промышленные предприятия, засоряющие атмосферу клубами черного дыма.
— Цивилизация еще младенческая,но она имеет все условия для бурного развития,- продолжал восторженно шептать Сэнди-Ски. — Ведь планета благодатнейшая. Пустынь почти нет. Сплошной оазис.
Днем случилось одно небольшое пришествие, еще раз показавшее,насколько тонко и, так сказать, всесторонне перевоплощаются фарсаны в людей. Молодой штурман Тари-Тау торопился сменить дежурившего у пульта управления Али-Ана. При этом он слишком быстро взбежал по лестнице в кают-компанию. У него подвернулась нога, и он вскрикнул. Я увидел его лицо, посеревшее от боли. Лари-Ла смочил ногу Тари-Тау пятипроцентным раствором целебной радиоактивной жидкости и недовольно проворчал:
— Похромаешь до вечера. В следующий раз будешь осторожнее.
Морщась от боли и прихрамывая,Тари-Тау подошел к креслу у пульта управления и сменил Али-Ана.
Чтоб так разыграть эту сцену,Тари-Тау надо было иметь настоящее, почти человеческое ощущение боли.Разыграть… Здесь это слово,пожалуй, не подходит. Тари-Тау не разыгрывал эту сцену, не создавал предварительно в своем железном мозгу логически-безупречной схемы своего поведения. Нет, он, можно сказать,жил.Все у него получилось непроизвольно- так, как у живого Тари-Тау. Все фарсаны наделены так называемой системой самосохранения- почти такой же совершенной,как инстинкт самосохранения у человека. Система самосохранения у фарсанов включает в себя элементарные человеческие ощущения, в том числе ощущения боли, играющие роль сигналов об опасности. Но что касается сложных чувств,человеческих эмоций,вдохновения, интуиции… Нет! Тут я не соглашусь ни с каким кибернетиком-энтузиастом. Можно, конечно, запрограммировать машине высокие человеческие чувства, как это сделано у фарсанов. Но это все-таки не подлинные эмоции, а их бледные копии.
Но до чего искусные копии! В этом я убедился сегодня вечером, когда фарсаны собрались в кают-компании.После доклада Али-Ана и обмена мнениями встал Тари-Тау.Он был в новом комбинезоне и уже не хромал. Тари-Тау смущенно, почти робко сказал, что может прочитать нам свои новые стихи из космического цикла.Все мы с восторгом согласились послушать, особенно Сэнди-Ски. Даже Лари-Ла,которому так хотелось рассказать свою очередную юмористическую побасенку, сказал:
— Давай, мальчик,давай,- хотя Тари-Тау был уже не мальчиком, как в начале полета, а юношей.
Лари-Ла и на этот раз не обошелся без своей добродушной иронии.
— Признаюсь,не очень разбираюсь в поэзии, — усмехнувшись, сказал он. — Но даже меня твои стихи пробирают до самых мозолей.
И Тари-Тау начал читать. Вначале голос у него был глухой, он по-прежнему чувствовал смущение и скованность. Но потом разошелся и читал с большим подъемом. Голос его окреп, глаза сверкали вдохновением. Я на минуту забыл, что передо мной фарсан. Да это же живой,настоящий Тари-Тау. А какие стихи! Конечно, это стихи живого Тари-Тау, а фарсан только присвоил их.
Слушая стихи,я словно погрузился в чарующий мир образов,ритмов и музыки. Да,Тари-Тау,я мало знал тебя,ты был настоящий поэт. О если бы ты мог слышать сейчас меня! Ты слышишь?. Своей мудрой и чуткой душой ты умел все объять, все видеть…
Могут ли фарсаны обладать такой же способностью? Нет, тысячу раз нет! Слушая сегодня стихи Тари-Тау, я вспомнил слова фарсана Эфери-Рау, когда он говорил о том, что, моделируя человека, они с Вир-Вианом не стремились воссоздать диалектическое единство мысли и эмоций. Не верю этому! Они просто не смогли распознать и воспроизвести эту сложную диалектику. Эмоции, говорил Эфери-Рау,вносят путаницу,хаос в чистый интеллектуальный процесс. Тоже чепуха! Эмоции обогащают даже самую абстрактную мысль ученого. Малейший всплеск радости, незначительный эмоциональный взлет делают мысль могучей и крылатой.
Мысль гуманистична по природе своей,она неразрывно связана с человеком, с миром его эмоций,с его жизненным опытом и, наконец, с опытом многочисленных предшествующих поколений.И никакими кибернетическими ухищрениями невозможно воспроизвести невообразимо тонкие нюансы,трепещущие ассоциации человеческой мысли.Мысль фарсана,мысль кибернетической машины- это мысль без эмоций и без ассоциаций. Это даже не мысль,а ее логическая схема,ее сухой геометрический чертеж…
Когда Тари-Тау прочитал последнее стихотворение, раздались восторженные возгласы.
— Хорошо, мальчик! — воскликнул Лари-Ла. — Очень хорошо.
Спокойный и выдержанный Али-Ан неожиданно подошел к Тари-Тау и дружески сжал ему плечи.А на необузданного Сэнди-Ски стихи произвели странное действие.Сначала он словно онемел, а потом вскочил и разразился целым каскадом… ругательств.Самых отборных,фантастически-замысловатых ругательств. Но это было выражение не гнева, а восторга, наивысшего восторга.
Энтузиаст-кибернетик мог бы сказать мне, указывая на фарсанов, что это и есть проявление эмоций, ничем не отличающихся от человеческих. Согласен: спектакль разыгран великолепно. Но разве это проявление человеческих эмоций? Вздор! Это не эмоции, а их бледные копии, отвратительные суррогаты. В поведении фарсанов я то и дело чувствовал фальшь. Правда, не очень грубую, но все же фальшь. В последнее время я стал особенно проницательным в этом отношении.
Один только Тари-Тау почти безупречен.До того тонко,ювелирно тонко фарсан воплотился в живого Тари-Тау.Прочитав стихи,он стоял задумавшись,весь еще во власти поэтических образов. Тари-Тау не замечал восторгов, бурно рассыпаемых в его адрес. Как и подобало живому Тари-Тау, он был погружен в свою действительность,сотканную из яви и сна, в действительность, которая придает вымышленным образам реальность бытия.Наконец,он очнулся и,робко улыбнувшись, сел в кресло.
35-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Почти весь день провел в обществе своих страшных попутчиков, разыгрывая ничего не понимающего простачка.Но настал вечер, вечер сладостных воспоминаний о далекой и невозвратимой Зургане.
В моем положении сейчас нет ничего более волнующего,чем эти воспоминания. И я словно слышу голоса живых людей, голоса, из которых многие уже умолкли навсегда.Ведь благодаря эффекту времени, возникающему при субсветовых скоростях полета,на Зургане минуло почти столетие, а на нашем корабле прошло всего десять лет. Но в памяти живо
воскресают человеческие лица, их выражение, голоса…
Остров Астронавтов…Единственное на Зургане место,где сохранилась такая же необузданная и дикая природа,как на планете Голубой.С утра мы бегали вокруг острова, преодолевая горные потоки, крутые скалы, густые чащобы. Потом состязались в плавании и отдыхали на берегу,стараясь впитать всеми порами тела лучи неистово палящего, но дорогого нам зурганского солнца.Мы знали, что скоро надолго лишимся родного солнца и будем довольствоваться его подобием в кабине утренней свежести.
В своем воображении я нарисовал до того реальную картину острова Астронавтов,что едва слышный в моей каюте шум планетарных двигателей кажется мне сейчас шипением белопенных волн,лизавших мои ноги. Я лежал на горячем песке, голова находилась в тени рагвы- густого плодового дерева. Вкусные и сочные плоды рагвы свисали так низко, что я мог, лежа на спине, достать их руками.
Подошел Сэнди-Ски и, толкнув меня в бок голой пяткой, покрытой влажным песком, спросил с беззлобной усмешкой:
— Лежишь и мечтаешь о своей Аэнне?
Я не обижался на эти насмешки. Отчасти он прав. Влюбиться накануне опасной и ответственной межзвездной экспедиции, говорил он, по меньшей мере недостойно настоящего астронавта.
— Ты сильно преувеличиваешь мое увлечение,- отшучивался я.- Даже ты больше знаешь об Аэнне, чем я. Скажи, где она сейчас? Я, например, этого не знаю.
— По-прежнему в городке могилокопателей, — улыбнулся он и добавил: — Я даже могу сказать, что Аэнна сейчас делает.
— Ну, и что же она делает? — спросил я.
— Не притворяйся равнодушным,- рассмеялся Сэнди-Ски.-От меня ты не укроешься.Слушай, в чем дело. Среди археологов, этих презренных гробокопателей,как ни странно,есть немало артистически одаренных людей. Сейчас в шаровом доме они выступают с концертом перед отдыхающими. Возможно, что Аэнна уже готовится к выходу, чтобы исполнить свой знаменитый «Звездный танец».
— Я не знал, что она танцует.
— Да еще как! Хочешь посмотреть? Тогда давай поспешим. С твоего разрешения немного нарушим строгий распорядок предполетной жизни.
Быстро одевшись, мы уселись в гелиокатер и поплыли на север. Остров Астронавтов вскоре утонул за горизонтом, а вдали на севере засверкали шпили и дворцы Шеронского архипелага.
Сэнди-Ски повернул катер в сторону берега. Вскоре мы причалили к обрывистому скалистому берегу,покрытому редким кустарником.Прыгая по камням, мы взобрались наверх.
— Вот и городок, где живут земляные черви, то есть археологи,- пояснил Сэнди-Ски, показывая на сверкающие белизной легкие пластмассовые домики.- А вот и шаровой дом.
Немного в стороне я увидел огромное и круглое, как мяч, здание без окон.
— Откуда этот шаровой дом?- удивился я.- Совсем недавно его здесь не было.
— Его построили за один час,- сказал Сэнди-Ски.- Вернее, выдули из расплавленного пеностеклозона, как выдувают колбы. Идем туда.

Мы вошли внутрь огромного шара и очутились в непроницаемой темноте. Мы опоздали и увидели только финал «Звездного танца».Сцены,собственно,не было. Перед зрителями расстилался безбрежный угольно-черный Космос, озаряемый в такт музыке вспышками огневых облаков и беззвучно взрывающихся сверхновых звезд. Это был несколько декоративный, театральный Космос. В центре- обломок скалы, изображающий астероид. На нем я увидел Аэнну в легком серебристом костюме, плотно облегающем ее стройное, гибкое тело. В таком костюме на настоящем астероиде астронавт погибнет моментально, пронизанный космическим холодом. Но я сразу же забыл об этой условности, как только увидел Аэнну, ее плавные движения, с трепетной легкостью отзывающиеся на музыку. Аэнна казалась мне древней богиней плясок, сошедшей на космический обломок скалы. Темп танца ускорялся, его ритмический рисунок стал четким и отрывистым. Вот уже Аэнна похожа на буйное серебристое пламя.В ее стремительных движениях чувствовался такой неудержимый порыв, что все затаили дыхание…
Танец закончился. Вспыхнул свет. Но в круглом зале еще стояла тишина. Наконец раздались возгласы: «Хау!» Многие бросились поздравлять Аэнну. Я был ошеломлен и взволнован и долго не замечал, как Сэнди-Ски дергал меня на рукав.
— Ты, я вижу, совсем остолбенел,-услышал я его насмешливый голос. — Может быть, подойдем и поздравим Аэнну?
Но я все еще молчал.Внимательно посмотрев на меня,Сэнди-Ски, усмехнувшись, сказал:
— Вот что,дружище, иди-ка ты лучше на берег,на то место, где стоит катер. А я скажу Аэнне, что ты ждешь ее там. Вернуться на остров можешь на том же катере, а я найду другой.
Я пришел на скалистый берег и уселся на камне у самого моря. Долгое время я ничего не замечал.Я все еще видел в угольной черноте сверкающий обломок скалы и танцующую Аэнну.
Наконец очнулся и посмотрел по сторонам. Берег был пустынный. Лишь далеко слева стояла на пляже небольшая группа отдыхающих. Среди них я заметил знакомую фигуру. Тонкая талия,отлично развитая грудная клетка пловца. Неужели?… Я взял в катере бинокль и,спрятавшись между кустами,стал наблюдать. Так и есть — Эфери-Рау!
Эфери-Рау разговаривал с людьми. В бинокль я хорошо видел его лицо, как будто он стоял рядом, в двух шагах. Эфери-Рау хвастливо похлопал себя по широкой груди и самодовольно огляделся. Я не заметил бы в его поведении ни малейшей фальши, если бы ничего не знал о фарсанах, если бы не видел, как Эфери-Рау безжизненно повис в кресле под действием шифрованной радиограммы Вир-Виана.Но сейчас мне казалось, что Эфери-Рау немного не тот. Или мне это просто казалось? «Если это фарсан,которого Вир-Виан решил изредка, чтобы не вызывать подозрений, отпускать к людям,то где же живой Эфери-Рау?-думал я. — Неужели он его в самом деле уничтожил?»
Вот Эфери-Рау снова похлопал себя по груди и показал на море. Я хорошо знал этот хвастливый жест. В тот день было сильное волнение, и никто из отдыхающих не решился купаться. Но Эфери-Рау бросился на гребень высокой волны и поплыл в своем превосходном стиле, вызывающем у меня всякий раз чувство восхищения.
Я снова сел на камень лицом к океану и, отложив в сторону бинокль, стал думать об Эфери-Рау. Воспроизвести кибернетическими, чисто техническими средствами мысль человека во всем ее величии и богатстве невозможно.В этом я не сомневался.Но можно ли воссоздать поведение человека с таким искусством, чтобы гадать,как я только что гадал, человек это или фарсан?Нет,по-моему, и это невозможно.Отсутствие трепета жизни неизбежно скажется и здесь. Невольно вспомнились «Звездный танец» Аэнны, ее одухотворенные, песенные движения.
Сзади послышался шелест кустарника.Я оглянулся. Аэнна!… Она стояла на остроконечном камне и, улыбаясь, балансировала раскинутыми в стороны руками. Взмахнув ими,как птица крыльями, она бесшумно спрыгнула и подошла ко мне.
— О, Тонри,- засмеялась она. — Как это романтично и немного старомодно — назначать свидания на безлюдном берегу.
— Не совсем безлюдном,- возразил я, подавая бинокль. — Взгляни налево.
Аэнна взяла бинокль и поверх кустов стала рассматривать пляж. В это время из бурлящих волн выходил на берег Эфери-Рау, победоносно размахивая руками.
— Эфери-Рау!- воскликнула она и, посерьезнев, добавила: — Поразительное явление. Как это отец отпустил его?
— Давай сядем на камень, как в прошлый раз,- предложил я.- Об этом Эфери-Рау и других помощниках твоего отца я и хочу поговорить.
— А ты откуда их знаешь? — удивленно вскинув брови и усаживаясь на камень, спросила Аэнна.
— Ты же сама приглашала меня.
— Но ты же не был…
— Я был вчера,и мы полдня беседовали с твоим отцом.
— Полдня? Поразительно!- Аэнна звонко рассмеялась.- Ах да, я забыла: отец влюблен в тебя. О чем же вы говорили? Отец в последнее время стал особенно скрытным и нелюдимым.Хоть я люблю его,но меня все меньше тянет в его крепость-лабораторию.Он разговаривает только со своими помощниками да с немногими гостями-шеронами.Причем это в основном старые шероны, которые разделяют его взгляды о космической борьбе и господстве.Не нравится мне отец в последнее время.
При последних словах тень печали снова легла на ее красивое лицо.
— Да, в тайне его лаборатории есть что-то бесчеловечное,- проговорил я. — Вир-Виан просил меня никому не рассказывать о своих опытах. Но тебе-то, я думаю, можно рассказать.
— О какой тайне ты говоришь?- спросила Аэнна.-Я мало знаю о его опытах, но мне кажется, что он работает сейчас над искусственными полимерами, находящимися на грани живого белка.
— Искусственные полимеры Вир-Виана,конечно,поразительны,- возразил я.- Но главное его достижение в том, что он создает кибернетическую аппаратуру на принципиально новой основе, на атомно-молекулярном уровне.
— Ты хочешь сказать, что отец предлагает кристаллы и микроэлементы заменить атомами?
— Да.Поглотив квант энергии,атом становится возбужденным.Переходя из этого состояния в нормальное, он излучает энергию. Вот этим переходом из одного состояния в другое Вир-Виан и заставил атом выполнять главную логическую операцию «да-нет-да».
— Это же великолепно,- оживилась Аэнна.- Насколько я понимаю, это крупное достижение.
— Да,это успех,- согласился я.-Наши ученые давно работают над этим,но пока ничего не получается. Но зачем Вир-Виан скрывает свои достижения? Неужели для того, чтобы в тайне изготовить несколько фарсанов?
— Каких фарсанов? Ты имеешь в виду воинственную древнюю расу? Но она же полностью погибла.
— Я говорю об искусственных фарсанах, о людях с полимерным телом.
— Ты намекаешь на этого кретина Тонгуса?- улыбнулась Аэнна.- Но это же просто слуга.Признаюсь, я тоже сначала приняла его за человека, который вызывал у меня непонятное отвращение. Но отец все объяснил мне.
— Дело не в Тонгусе. Это всего лишь первый образец. Сейчас Вир-Виан может делать более совершенных фарсанов.
И я рассказал о своих подозрениях,о том, что Эфери-Рау и другие помощники Вир-Виана — это, возможно, искусственные люди, кибернетические фарсаны.
Аэнна быстро встала и с ужасом посмотрела на меня.
— О, Тонри. Ты говоришь что-то страшное. Нет, нет. Этого не может быть. Хотя мне они тоже кажутся немного странными. Но я не думала… Нет, не может быть!
Я встал с камня и взял Аэнну за руку. Рука ее слегка дрожала.
— Но все же, Аэнна, это, видимо, так.
— Проводи меня до нашего городка,- сказала Аэнна.- Я хочу остаться одна и подумать.
По пути в городок она спросила:
— Но почему ты их называешь фарсанами?
— Потому что основная их программа- завоевание населенных планет Вселенной для новой породы шеронов,потому что их атомно-молекулярные мозги напичканы воинственно-космической философией, о которой Вир-Виан так подробно распространялся в Шаровом Дворце знаний. Вир-Виан сам называет их фарсанами.
— Вот видишь, я же говорила как-то тебе, что мой отец- опасный и недобрый гений, — сказала Аэнна. — Но я не думаю… Нет, это невероятно!
Когда мы подошли к пластмассовому городку археологов, у нее мелькнула мысль, от которой она вздрогнула и снова с ужасом посмотрела на меня.
— Подожди,если фарсаны- кибернетические двойники,то где живые люди?Неужели они мертвы?… Быть может,убиты? Нет, Тонри. Твое предположение слишком чудовищно. Я должна сама все проверить и продумать.
— Знаешь что,- неожиданно предложил я,увидев ее расстроенное лицо,- давай улетим в Космос вместе.
— О нет, Тонри,- слабо улыбнувшись, сказала она. — Совет Астронавтики не разрешит брать женщин в первый межзвездный.
— Скоро у нас испытательный полет. Из него вернемся через год. И перед настоящим полетом у нас будет еще полгода. За это время я уговорю Совет Астронавтики. Ведь нам нужны будут историки.
— Не так все это просто, Тонри. К тому же я сама не захочу.
— Почему?
— Вот ты любишь Космос.Межзвездный полет- цель твоей жизни.Скажи,смог бы ты ради меня остаться здесь, на Зургане?
Я замялся.
— Ну, говори. Только прямо.
— Нет, не смог бы.
— Вот так же и я не могу покинуть Зургану и улететь в Космос надолго, быть может,навсегда.Я люблю Зургану. Поэтому я и стала археологом, историком и палеонтологом.А ты не расстраивайся, — добавила она, взглянув на меня. — В Космосе ты скоро забудешь обо мне.
Я хотел возразить, но она сказала:
— Не будем сейчас об этом говорить. Ты вернешься из пробного полета, и у нас будет еще полгода. Да это же целая вечность!
— А вот мое первобытное жилище,- улыбнувшись, сказала Аэнна и показала на белый пластмассовый домик.
В таких домиках я провел немало ночей и дней во время туристских походов. Легкие, обставленные просто,они мне нравились больше, чем наши высокоавтоматизированные дома.
— Подожди минутку.- Аэнна зашла в домик. Вернувшись, она протянула мне шкатулку, в каких обычно хранятся кристаллы:- Возьми с собой в Космос вот это.
— А что здесь?
— Таблетки приятных сновидений.Продукт шеронской цивилизации эпохи упадка,- рассмеялась она и добавила:-Знаю,что вам не разрешают брать в полет эти таблетки.Но две-три штуки тебе не повредят. Вдруг в Космосе заскучаешь и тебе захочется на время,хоть во сне, вернуться на Зургану.
Потом, положив руки на мои плечи и почти вплотную приблизив свое лицо, она спросила:
— А может быть, в Космосе ты все же не забудешь меня? А? Тогда тебе приятно будет увидеть меня хоть во сне. Так ведь?
Даже сейчас, через много лет космического полета, я не могу без волнения вспоминать этот момент. И мне никогда не забыть ослепительно прекрасного лица Аэнны, особенно ее глаз,таивших в своей глубине далекую и светлую, как звезды, печаль…
Здесь,у пластмассового домика,мы и расстались.Мог ли я тогда предполагать, что не увижу ее больше никогда, что Аэнна скоро погибнет в схватке с чудовищами, порожденными ее отцом,- с кибернетическими фарсанами?
36-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Когда предполетная подготовка закончилась,мы покинули остров Астронавтов и впервые по-настоящему обосновались на корабле Каплевидный звездолет, устремив свой тупой нос в небо, стоял на космодроме, расположенном на самой высокой горе Северного полушария.Отсюда мы стартовали. Старт был необычный. Наш звездолет был захвачен незримым, но мощным антигравитационным полем и плавно выведен за пределы атмосферы- в Космос. Здесь-то, в сущности, и состоялся настоящий старт, когда заработали планетарные двигатели.
Корабль быстро наращивал скорость.Но перегрузка не доставляла нам особого беспокойства. Когда звездолет развил максимальную межпланетную скорость, мы включили экран внешней связи и увидели нашу родную полосатую планету. В обычный оптический телескоп она показалась бы нам отсюда не больше горошины, так как корабль уже приблизился к орбите третьей планеты нашей системы — Тутуса.
Согласно инструкции пора переходить на особую двустороннюю связь, которая действовала в пределах нашей планетной системы.Во Дворце астронавтов находился точно такой же экран внешней связи, как и у нас.Я знал,что перед ним все время дежурит Нанди-Нан. Он ждет от нас подробной информации о полете.
Я включил двустороннюю связь, и через некоторое время на экране появилось озабоченное лицо Нанди-Нана.
— Эо, Тонри!- оживился он, увидев меня на своем экране. — Как дела? Как ваше самочувствие? Как ведет себя корабль?
Мой рассказ о полете радовал Нанди-Нана. Около его глаз веером собирались морщинки — он улыбался.
— Хорошо, очень хорошо,- сказал он и предупредил: — Но главные трудности впереди, когда разовьете субсветовую скорость.
Он оказался прав. О трудностях пробного полета не буду рассказывать. Скажу только, что и при субсветовой скорости корабль показал прекрасные навигационные качества.Однако на этом еще не кончилась программа пробного полета. Надо было проверить, как будут работать механизмы корабля при торможении и крутом развороте.
Одевшись в скафандры, мы погрузились в магнитно-волновые ванны. Началось торможение до межпланетной скорости.Затем разворот на сто восемьдесят градусов, снова несколько дней полета при субсветовой скорости и снова торможение.Лишь после этого мы увидели на экране внешней связи нашу Зургану. Полет по корабельным часам длился всего несколько десятков дней. Но на планете в силу эффекта времени прошло около года.
Мы с нетерпением всматривались в полосатый шар. Что нового появилось на планете за время нашего полета? И мы увидели, что широкую желтую полосу пустыни пересекла прямая и тонкая линия- на Зургане построили первую транспланетную дорогу. По обеим сторонам дороги на желтом фоне песков четко выделялись неправильной формы зеленые пятна. Здесь, вероятно, уже весело шумели рощи и леса.
Мне хотелось поскорее связаться с Дворцом Астронавтов. Но двусторонняя связь еще не работала. Было слишком далеко.
Корабль только приближался к орбите Тутуса. Лишь на другой день из тумана на экране выплыло лицо Нанди-Нана. Изображение становилось все более четким. Наконец, он тоже увидел меня.
— Эо, Тонри!- воскликнул он.- Поздравляю весь экипаж с благополучным возвращением.
В это время в рубку внешней связи вошел Сэнди-Ски и встал позади меня, положив руки на спинку кресла.
— Эо, Сэнди!- приветствовал его Нанди-Нан.-По вашим лицам вижу, что полет прошел хорошо. Так ведь?
— Очень хорошо, — сказал я и начал коротко докладывать о полете.
Не успел я закончить, как с экраном внешней связи что-то случилось. Он снова затуманился. Изображение задрожало, а потом исчезло совсем. По экрану сверху вниз ползли сплошные туманные полосы.
— Похоже на помехи,- сказал Сэнди-Ски.- Такое впечатление,как будто кто-то пытается перебить нашу связь.
Экран вдруг прояснился, и на нем возникло крупное лицо… Вир-Виана.
— Что за чертовщина!- недовольно воскликнул Сэнди-Ски и прибавил еще одно ругательство.
Вир-Виан, казалось,не обратил на это никакого внимания. Только на его некрасивом шишковатом лбу появилась суровая складка. Вир-Виан поднял два пальца.Так приветствовали верховные шероны своих рядовых собратьев в эпоху шероната.
— Капитан Тонри-Ро,- заговорил он,- на Южном Полюсе Зурганы создано новое правительство.Я приказываю произвести посадку на южном космодроме на горе Коу.Здесь в честь вашего прибытия построена триумфальная дорога. Вас встретят с величайшими почестями. Вас…
Но Вир-Виан не договорил. Экран снова покрылся туманными полосами.
— Ничего не пойму,- ворчал Сэнди-Ски.- Откуда выскочил этот дьявол?
На короткое время экран очистился, и мы увидели встревоженное лицо Нанди-Нана. Голос его доносился глухо, как сквозь стену.
— Посадку совершайте на северном космодроме. Антигравитационное поле мы используем для обороны.Поэтому посадку производите самостоятельно, на планетарных двигателях.Знаю, что трудно, но…
Все.На этом квантовая двусторонняя связь прекратилась. Сколько мы ни ждали, как ни крутили верньеры, на экране все время ползли змеистые полосы.
Пришлось переключиться на общий обзор планеты.На экране снова возник желтый шар с зелеными шапками на полюсах. Увеличив изображение, я стал различать на Северном полюсе города и даже людей. На экране они выглядели едва заметными точками. Против обычного,людей было очень мало. И вдруг они совсем исчезли. Улицы и площади опустели.
— На планете творится какая-то чертовщина,- ворчал Сэнди-Ски. — Ну-ка, Тонри, уменьши изображение, чтобы видеть всю планету целиком.
Я так и сделал. На границе между полупустыней и зеленой шапкой Северного полюса мы заметили две ослепительные вспышки. Вскоре над Южным полюсом появилась одна, но очень яркая вспышка.
— Я так и знал,- взволнованно прошептал Сэнди-Ски. — Это война! Между Севером и Югом снова война.
Я молча пожал плечами, продолжая напряженно всматриваться в диск планеты. Во многих местах Южного полюса то и дело вспыхивали и метались зеленоватые лучи. Это же смертоносное лучевое оружие! Похоже, что Сэнди-Ски прав — это война!
Но отчего возникла война? Как это могло произойти на сотом году Эры Братства Полюсов? Мы узнали обо всем только там, на планете, когда совершили посадку на северном космодроме. С гордостью могу сказать, что посадку на планетарных двигателях я произвел безупречно. Огромный космический корабль повиновался мне так же послушно, как легкие планетолеты, на которых я летал прежде.Первое, что поразило нас на космодроме, — это несколько десятков молодых людей,вооруженных старинным огнестрельным оружием.Они приблизились к нам, когда мы спустились по трапу и ступили на стеклозонное покрытие космодрома.
— Что, ребята,из музеев взяли?- невесело усмехнулся Сэнди-Ски, показывая на длинноствольное оружие.
— Из музеев, — смущенно ответил один из них.
К нам подошел Нанди-Нан с двумя врачами.
— Друзья,- обратился он к нам после короткого приветствия.- Планета переживает тревожное время. Потом все объясню. Сначала вы, как все граждане Северного полюса,пройдете через просвечивание.Луческопия- пока единственный надежный способ отличить человека от фарсана.
— Фарсаны!- воскликнул я,начиная догадываться.- Так это война с фарсанами?
— Да, — ответил Нанди-Нан.- Это война с кибернетическими фарсанами.
Члены экипажа с недоумением слушали наш разговор.
— Это я виноват, что вовремя не предупредил…- начал было я.
— Знаю,- перебил меня Нанди-Нан.- Все знаю. Виноват не ты, а все мы, весь Круг арханов. Аэнна, дочь Вир-Виана,вскоре после того как вы улетели, все рассказала, предупредила нас об опасности. Но мы не придали ее словам особого значения. А сейчас расплачиваемся за беспечность.
— Где сейчас Аэнна? — спросил я.

От Нанди-Нана я услышал страшное известие: Аэнна погибла. Она все время работала в археологической экспедиции на Южном полюсе. Когда Вир-Виану удалось с помощью фарсанов установить на Юге свое господство, многие шероны и все северяне, жившие на Южном полюсе, отказались ему подчиняться. Они были безжалостно истреблены фарсанами с помощью лучевого оружия.
— Что все это значит?Как это могло произойти?- спросил Лари-Ла.- Мы ничего не понимаем.

— Наберитесь терпения,- сказал Нанди-Нан. — Это длинная история. Сначала выполним постановление Совета обороны:подвергнем вас луческопии.Я, конечно, уверен, что вы люди,- усмехнулся Нанди-Нан.- Но все постановления Совета обороны сейчас- высший закон. Методом луческопии мы обезвредили почти всех фарсанов в Северном полушарии. Почти всех…Беда в том, что изредка фарсаны все же появляются. Где-то на севере замаскировался фарсан. Всего один. Однако никто не гарантирован от того,что ночью будет убит, а утром под его видом появится фарсан. Поэтому луческопия проводится регулярно.
Нанди-Нан привел нас к недавно построенному на краю космодрома приземистому зданию. Врачи исследовали всех членов экипажа, а заодно проверили, как мы перенесли первый межзвездный полет.
После того Нанди-Нан пригласил нас в соседнюю комнату. Мы уселись в кресла, и Нанди-Нан рассказал:
— Дней через двадцать после старта космического корабля исчез Вир-Виан вместе со своей лабораторией и помощниками. Оазис Риоль опустел. Один случайный очевидец утверждал, что грузовые гелиопланы от оазиса полетели в сторону Южного полюса.Однако на Юге Вир-Виана не нашли. Вот тогда-то и забила тревогу Аэнна-Виан.Она предупредила арханов о возможной опасности, о том, что ее отец создает в лаборатории сложные кибернетические устройства, копирующие людей.Аэнна подчеркнула,что при этом Вир-Виан,возможно,истреблял живых людей.Кибернетические копии этих людей Вир-Виан называл фарсанами. Арханы внимательно выслушали Аэнну.Опасность они не считали слишком серьезной.Однако поиски Вир-Виана и его лаборатории продолжались с еще большей настойчивостью.Через несколько дней случилось одно происшествие, которое по-настоящему встревожило арханов и все население планеты.В пустыне на строительстве гелиостанции с большой высоты упал молодой техник. Врачи, поспешившие на помощь,нашли его мертвым. И вдруг к своему ужасу обнаружили, что это совсем не человек,а сложное кибернетическое устройство,поврежденное при падении.Этот случай заставил арханов собраться на чрезвычайное заседание.Было решено во что бы то ни стало разыскать Вир-Виана и пресечь его бесчеловечные опыты.Арханы решили также подвергнуть все население планеты луческопии, чтобы выловить фарсанов.Тогда фарсаны,страшась разоблачения, подняли восстание.
— Извините,у меня вопрос к вам,-сказал я.-Я немного знаком с лабораторией Вир-Виана. Там находятся особые кибернетические аппараты, в которых по наследственному шифру нуклеиновых кислот происходит воссоздание людей. Но чтобы поднять восстание, нужно иметь много фарсанов. И мне непонятно, как Вир-Виан успел создать их. Ведь нужно заманивать или похищать людей, чтобы изготовить их кибернетические копии.
— Хорошо,-сказал Нанди-Нан.-Я немного нарушу последовательность рассказа, чтобы объяснить.Ты, Тонри, далеко не все знаешь о производстве фарсанов, а другие члены экипажа вообще не имеют об этом представления.Тебе,Тонри, Вир-Виан сказал, что воссоздает человека по наследственному шифру нуклеиновых кислот. Но это не совсем так. По наследственной информации нуклеиновых кислот можно воспроизвести только внешность человека, а также некоторые врожденные качества и безусловные рефлексы. Но ведь фарсан копирует живого человека со всеми его индивидуальными признаками, с его памятью, его знаниями,навыками.А для этого мало нуклеиновых кислот.Для этого надо особыми лучами исследовать микроструктуру мозга.В кибернетические аппараты,о которых ты,Тонри,говорил,Вир-Виан помещает не нуклеиновые кислоты, а всего человека, оглушенного, но еще живого. Там на основе анализа нуклеиновых кислот и мозга происходит воссоздание человека. Кибернетика конструирует более совершенную кибернетику- копию человека на основе атомно-молекулярных нейронов. Бесспорно, это крупное достижение науки, обращенное по злой воле Вир-Виана против человечества. Фарсаны опасней и страшней, чем ядерные снаряды.
Теперь объясню,как Вир-Виан добился массового производства фарсанов. Покинув оазис Риоль,Вир-Виан скрылся в труднодоступных горах Южного полюса. Там он построил не лабораторию,а целый завод. Стационарные кибернетические установки, которые ты,Тонри, уже видел раньше, выпускали на этом заводе особой сложности фарсанов- так называемых воспроизводящих фарсанов. Они имеют внутри устройство,копирующее в миниатюре стационарную кибернетическую установку. Таким образом,воспроизводящий фарсан- это целая передвижная лаборатория, производящая простых фарсанов. Воспроизводящий фарсан, как и простой,конечно,ничем не отличается от человека. Каждый из них изготовлен по образу и подобию конкретных людей со всеми их индивидуальными способностями.
Воспроизводящих фарсанов Вир-Виан выпустил около двух тысяч, заменив ими такое же количество убитых людей.Он разослал их по полюсам. Ночью они похищали спящих людей и изготовляли их кибернетические подобия — простых фарсанов. Людей при этом они превращали в пепел. По утрам в парках, а то и просто на дороге мы находили кучи пепла, не подозревая, что это прах людей, которых еще вчера вечером видели живыми.Сейчас,надеюсь,вам понятно,почему на обоих полюсах Зурганы появилось много фарсанов,особенно простых, так много, что они способны были поднять восстание с целью захвата власти.
— Понятно,- ответил за всех Лари-Ла.- И в то же время непонятно, как могла произойти такая чудовищная вещь в наше время.
— Слушайте,что было дальше.После того,как начали вылавливать фарсанов, они по команде Вир-Виана подняли восстание.Оно, видимо, не было еще как следует подготовлено.Но у фарсанов имелось два преимущества.Во-первых, внезапность: никто из людей не знал без луческопии,кто его спутник или сосед — фарсан или человек. Во-вторых, эффективное лучевое оружие разрушает только настоящие белковые клетки, животные организмы. На фарсанов оно не действует. Поэтому фарсан мог направить губительный луч на целую толпу, не опасаясь, что в этой массе людей он поразит своего собрата.
Сейчас,правда, ученые ищут особой жесткости гамма-лучи, способные поражать у фарсанов деятельность молекулярных нейронов. Но это оружие еще в стадии испытания. А пока нам остается наносить фарсанам механические повреждения с помощью старинного огнестрельного оружия и даже стальных дубинок. Таким способом на Северном полюсе истребили всех выявленных фарсанов. Всех, кроме одного, и очень опасного, воспроизводящего фарсана.Он где-то хорошо замаскировался и ловко ускользает от луческопии.Среди людей изредка появляются простые фарсаны, которым удается иногда совершить мелкие диверсии.
Основные энергоцентры Северного полюса надежно защищены от проникновения фарсанов.Иная обстановка сложилась на Южном полюсе.Там Вир-Виан со своими фарсанами достиг своей цели.Сулаки,основное население Юга, привыкшие к многовековому рабству и подчинению,не оказали серьезного сопротивления. Да и фарсанов на Юге было больше.Против них самоотверженно боролись немногочисленные группы северян и шеронов,не примкнувших к Вир-Виану.Но они были уничтожены,буквально испепелены смертоносными лучами.Вир-Виан со своими приверженцами-шеронами создал новый режим по образцу древнего шероната. Себя он объявил верховным шероном, временным диктатором всей планеты.
— Но с какой целью?- спросил Лари-Ла. — И это после ста лет Эры Братства Полюсов?
— Вы, конечно, слышали речь Вир-Виана в Шаровом Дворце знаний и должны догадаться о его целях,- на тонких губах Нанди-Нана заиграла ироническая усмешка.-Вир-Виан намерен возродить шеронат на всей планете и воспитать новую породу людей-шеронов, покорителей Космоса. А в дальнейшем превратить Зургану в господствующую во Вселенной планету, в центр мирового разума.
— Теперь все ясно,- рассмеялся Сэнди-Ски,а затем, нахмурив густые брови, проговорил: — Мне всегда не нравилась эта неглупая образина. Но что было дальше? Мы видели из Космоса ядерные взрывы.
— Вир-Виан,установив на Юге диктатуру, провозгласил свою программу и призвал присоединиться к нему всех северян и шеронов,проживающих на Северном полюсе. Всех северян и шеронов он объявил новыми,космическими шеронами и создателями гигантских духовных ценностей вселенского масштаба. Как видите, стиль программы мало отличается от его речи в Шаровом Дворце знаний. Сулаков Вир-Виан предложил считать второстепенными гражданами до тех пор, пока те в течение ряда поколений не преодолеют свою, как он выразился, биологическую неполноценность. В ответ мы потребовали прекратить производство кибернетических фарсанов,а всех готовых фарсанов уничтожить или сдать Совету обороны.Тогда на Юге начали в спешном порядке выпускать ядерные снаряды. Два взрыва вы уже видели из космоса.К счастью, они не причинили большого вреда. К этому времени мы,использовав всю мощь аннигиляционной энергостанции, создали антигравитационное поле большой протяженности. Этим полем, словно броневым колпаком, накрыли Северный полюс. Теперь любое тело, попав в поле, потеряет свой вес и будет отброшено. К сожалению, Вир-Виан сумел создать вокруг Южного полюса такое же поле.Мы убедились в этом, когда попытались взорвать южную энергостанцию. Вир-Виан легко перехватил наш ядерный снаряд и разрядил его в верхних слоях атмосферы.
— Этот взрыв мы тоже видели,- сказал Сэнди-Ски. — А что же будет дальше? Сейчас,как я понимаю,оба полюса находятся в состоянии равновесия. А дальше?
— А дальше?- Нанди-Нан пожал плечами. — Победит тот, кто первым сумеет нейтрализовать или разрушить антигравитационное поле. Это нелегкое дело, требующее новых научных изысканий. Наши инженеры совсем недавно добились кое-какого успеха. Они сконструировали ядерный снаряд с нейтрализатором. С его помощью можно на короткое время пробить дыру в антигравитационном поле.
— В чем же дело?- нетерпеливо спросил Сэнди-Ски.- Надо скорее разрушить южную энергостанцию и, значит, ликвидировать защитное поле вокруг Южного полюса.
— Все это верно.Но мы не можем рисковать пока единственным снарядом: фарсаны могут обнаружить его и уничтожить прежде, чем тот долетит до цели. Вир-Виан,конечно, догадается, в чем дело, и сконструирует у себя такой же снаряд с нейтрализатором.Нет,мы не можем рисковать. Тут нужен человек, обладающий очень хорошей и быстрой реакцией- так сказать, интуицией наведения. Я знаю такого человека.
При этом Нанди-Нан посмотрел на меня.
— Хорошо, я согласен, — ответил я.
— Ну вот и договорились,- сказал Нанди-Нан,вставая.-Теперь идите отдыхать. А тебя, Тонри, я сначала познакомлю с конструктором аппаратуры наведения. Она несколько иная, чем щит управления на корабле. С этим конструктором тебе и предстоит завтра работать.
37-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
— Эо,затворник!- так приветствовал меня сегодня утром Сэнди-Ски. Он только что вышел из кабины утренней свежести, и его густые брови так знакомо и забавно зашевелились от удовольствия. Для меня и до сих пор загадка: действительно ли фарсаны испытывают после кабины чувство бодрости, какого-то физического восторга или это ловкая имитация?
— В каком смысле затворник?- спросил я.
— Последние дни ты совсем уединился в своей каюте. Мы только и видим тебя утром, вечером и немного днем в рубке внешней связи. Неужели научная работа по астрофизике так увлекла? Сомневаюсь, сильно сомневаюсь.
При этом фарсан Сэнди-Ски внимательно и,как мне показалось, с подозрением посмотрел на меня."Фарсаны все знают!»-мелькнула мысль.Я сунул руку в карман комбинезона и нащупал кнопку радиосигнализатора, готовый в любую секунду нажать ее.
— Почему сомневаешься?- спокойно спросил я.- Астрофизика способна так увлечь, что забываешь обо всем.
— Э нет,не говори,-смеялся Сэнди-Ски.-Я знаю, в чем дело. Ты пишешь стихи! Да-да, я в этом уверен. Ты целые дни сочиняешь стихи! Ты просто бредишь ими. Признаюсь, стихи Тари-Тау и меня заразили поэтической лихорадкой.
Я с облегчением вздохнул: фарсаны, конечно, ничего не знают, догадка им не под силу. Но следовало удивиться:
— Так ты, значит, пишешь стихи?! И каковы успехи?
— Плохо.- В голосе Сэнди-Ски прозвучало такое неподдельное уныние, что я рассмеялся.
— Значит, ничего не получается?- спросил я.- Признаюсь, у меня тоже ничего путного не выходит.
— Вчера написал одно стихотворение,- сказал Сэнди-Ски.- Потом прочитал его и вдруг почувствовал себя мизерной букашкой рядом с Тари-Тау, этой высоченной горой, проткнувшей облака своей белоснежной вершиной.
«Ого! — мысленно воскликнул я.-Так витиевато-образно сказать мог только живой Сэнди-Ски, а не фарсан…»
Слово «затворник» заставило меня быть осторожней, и я почти весь день провел среди экипажа. В основном сидел за экраном внешней связи, изредка заглядывал в рубку управления.
Подвергая тщательной локации видимую сторону планеты Голубой, я делал вид, что выбираю место для посадки.Сзади торчал фарсан Сэнди-Ски, как всегда, положив сильные большие руки на спинку сиденья. Как планетолог он давал свои советы и, надо признаться, довольно толковые.
— Лучше всего, по-моему, произвести посадку в этой пустыне, — Сэнди-Ски показал на огромный желтый лоскут почти в центре самого большого материка планеты.
— Неплохо, — согласился я. — В пустыне легче выбрать удобную площадку — твердую и сравнительно ровную.
— У тебя к тому же есть богатый опыт,- рассмеялся Сэнди-Ски, намекая на случай, когда я, нарушив инструкцию, посадил грузовой планетолет в пустыне вблизи строящейся транспланетной дороги.
Через два-три дня я сяду за пульт управления и переведу корабль на круговую орбиту.После нескольких оборотов вокруг планеты я произведу снижение,делая вид,что готовлюсь к посадке в пустыне. Но я пролечу над ней в сторону полюса- туда, где зеленеют необозримые леса. Там меньше опасности, что шкатулка с кристаллом затеряется.Когда-нибудь разумные существа планеты найдут ее и, быть может, прочтут мой дневник…
Да, так я и решил.Сделав максимальное снижение,я сброшу дневник над лесом, где и людей, конечно, больше, чем в пустыне.А потом… Потом я круто поверну вверх и взорву корабль далеко в околопланетном пространстве…
Завтра у меня будет больше свободного времени, и я постараюсь закончить дневник.
38-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Рэди-Рей,конструктор аппаратуры наведения,с которым меня познакомил Нанди-Нан, оказался веселым, смешливым человеком. Несмотря на несколько плутоватое выражение лица, он мне понравился сразу, особенно его глаза — удивительно синие и живые.
— Рад подружиться с астронавтом номер один,- улыбаясь с хитрым прищуром, сказал он и с исключительным радушием положил руку на мое плечо. Я с удовольствием ответил ему таким же дружеским пожатием.
— Итак, сегодня мы ознакомимся с аппаратурой наведения,- сказал он. — Главным образом с экраном и щитом управления.
Двухместный гелиоплан доставил нас на окраину небольшого города Руноры, расположенного в полупустыне.Рэди-Рей вышел из кабины и повел меня на вершину высокого холма, оросшего желтой травой и жестким кустарником. Справа зеленели парки и сады города Руноры,а прямо перед нами, на юге, расстилался безбрежный океан Великой Экваториальной пустыни.
— Вон там,среди песчаных барханов,- сказал Рэди-Рей, показывая в сторону пустыни, — затерялся небольшой малоизвестный оазис Рун. Там и оборудован пульт наведения.
Я уже хотел снова сесть в кабину гелиоплана, но Рэди-Рей остановил меня.
— На гелиоплане туда не проберемся. Здесь, на краю пустыни, антигравитационное поле круто загибается и касается почти поверхности. Гелиоплан врежется в поле и будет выброшен из него со страшной силой в неизвестном направлении,- сказал он и шутливо добавил:- Так мы можем долететь до Южного полюса и попасть в лапы фарсанов.
Но идти пешком по раскаленным пескам- невеселая перспектива. Я сказал об этом Рэди-Рею.
— Зачем пешком? У меня здесь замаскирован вездеход. Все должно быть предусмотрено на этой войне.
Мой слух резануло непривычное слово «война».
«Как странно,- думал я. — И это после ста лет Эры Братства Полюсов!»
На небольшом,приземистом вездеходе мы добрались до оазиса Рун. Здесь вился жиденький кустарник и стояло несколько десятков деревьев,дающих слабую тень. Но все же оазис защищал от песчаных шквалов.В центре,на открытом месте, был оборудован пульт наведения,а на краю оазиса возвышались ажурные металлические конструкции стартовой площадки. И больше ни одного строения и ни одного человека.
— Такой важный объект,- удивился я, — и никакой охраны.
— Охрана сейчас не нужна,- возразил Рэди-Рей.-Когда установят на стартовой площадке снаряд, тогда и будет охрана.
Рэди-Рей объяснил устройство аппаратуры, показал расположение приборов, кнопок и тумблеров на щите наведения. В принципе все это мне было уже знакомо, так как щит наведения имел много схожего с пультом управления на планетолетах. Единственное новшество — экран наведения.
— Обрати на него внимание,-сказал Рэди-Рей.-Завтра тебе придется работать руками на щите почти вслепую, ты должен все время смотреть на экран наведения. На нем ты увидишь топографическое изображение тех мест, над которыми реактивный снаряд будет пролетать.
На вездеходе мы приехали на окраину Руноры. На прощание Рэди-Рей сказал:
— Встретимся в оазисе рано утром. Ночью туда доставят снаряд с нейтрализатором. До завтра!
До завтра… Я не мог тогда и подумать,что завтра Рэди-Рея не будет в живых, что ночью он станет жертвой единственного уцелевшего на Северном полюсе воспроизводящего фарсана. Видимо, фарсан давно охотился за такой важной добычей, как изобретатель нейтрализатора и аппаратуры наведения.
Рано утром,когда не взошло солнце,я был уже в оазисе Рун. На стартовой площадке трое инженеров устанавливали привезенный ночью снаряд.На фоне светлеющего неба я видел его четкие контуры.Снаряд с острым носом,окутанным сеткой — антенной нейтрализатора, был установлен с небольшим наклоном в сторону Южного полюса. Когда все было готово, инженеры подошли ко мне и пожелали удачи. Вскоре их вездеходы, оставив между барханами змеистые следы, скрылись за горизонтом. Около оазиса я увидел десятка полтора боевых шагающих вездеходов, специально выделенных для охраны.
На металлических конструкциях стартовой площадки и на листьях деревьев в лучах восходящего солнца засверкала роса. В это время знакомый приземистый вездеход подошел к краю оазиса и остановился на горбатой спине бархана.Из кабины выскочил Рэди-Рей.
— Эо,астронавт!- весело окликнул он меня. Его плутоватая физиономия сияла радушием.
Обратившись к начальнику охраны,он приказал,чтобы боевые вездеходы удалились как можно дальше.
— Ваше место вон там,-казал Рэди-Рей,показывая на высокую гряду барханов. — А здесь во время пуска снаряда вам будет весьма жарко.
До гряды барханов было не менее тысячи шагов. Но юркие вездеходы добежали до нее за минуту и вскоре, рассредоточившись, скрылись за грядой.
Мы, с Рэди-Реем остались вдвоем.
— Подожди немного,-сказал он.-Сейчас еще раз проверю аппаратуру и тогда приступим.
Рэди-Рей торопливо направился к пульту наведения. Зайдя в прозрачную кабину пульта,он начал почему-то возиться над висевшим сбоку экраном всепланетной связи. «Странно, — подумал я. — Ведь экран исправен». Внимательно наблюдая за работой Рэди-Рея, я подошел к большому дереву и остановился в его тени. На жестких листьях роса уже испарилась. Становилось жарко. Слабый утренний ветер мел песчаную пыль.
Рэди-Рей приступил к наладке аппаратуры наведения.Он так увлекся,что, по-видимому, забыл о моем присутствии. На щите разноцветными огнями загорелись лампочки, засветился экран наведения. Пальцы Рэди-Рея притронулись к кнопкам щита управления.
Взглянув в сторону стартовой площадки, я с удивлением заметил, что сигарообразный корпус ядерного снаряда начал медленно перемещаться. Вот он уже в зените, потом слегка наклонился в сторону Северного полюса — как раз туда,где находился наш главный энергоцентр,поддерживающий антигравитационное поле.
— Стой! — закричал я. — Стой! Что ты делаешь?!
Рэди-Рей обернулся. На его лице появилась недобрая хитрая усмешка. «Фарсан!- вздрогнул я от внезапно мелькнувшей догадки.- Ведь это фарсан!»
Фарсан Рэди-Рей вышел из кабины, посмотрел по сторонам и с удовлетворением увидел, что кругом
по-прежнему ни души, ни одного человека. Одни только бесконечные песчаные холмы. Они сверкали нестерпимо-желтым блеском в жарких лучах солнца,застывшего в белесом небе. Жуткая картина! Даже сейчас, вспоминая ее, я слегка поежился,словно ледяной холодок пробежал по спине. Но тогда,в минуту опасности,я был спокоен. Ужасающе спокойным был и фарсан. Он был уверен, что я от него никуда не уйду. Все с той же ехидной усмешкой он направился ко мне, стараясь не пропустить к пульту управления, и уже поднял руки, намереваясь ими, словно железными клещами, раздавить меня.

Я медленно отступал, фарсан приближался, держа наготове руки. Здесь-то и пригодилась моя ловкость и быстрота реакции. Когда фарсан был совсем близко, я внезапно нырнул вниз и прыгнул вперед. Руки фарсана сомкнулись в пустоте.
Подскочив к пульту наведения, я выхватил одну важную деталь. Это был длинный металлический стержень с тремя пазами и тремя шестернями на конце. Без этой детали пуск снаряда невозможен. Лампочки на щите наведения погасли.
С этой довольно увесистой деталью я побежал в пустыню- туда,где за грядой высоких барханов располагались боевые вездеходы. Там люди. С их помощью я хотел поймать и обезвредить фарсана.
Фарсан бросился за мной. Бегал он хорошо. Видимо, живой Рэди-Рей был неплохим спортсменом. Но и я одно время считался чемпионом Северного полюса по кроссу на пересеченной местности. Фарсан заметно отставал. Но я не учел одного обстоятельства: я уставал, а он нет. Я изнемогал от жары, обливался потом. Фарсан не знал подобной человеческой слабости и чувствовал себя прекрасно в этом пекле.
Чтобы перевести дыхание, я на минуту остановился и оглянулся назад. Фарсан приближался, легко перепрыгивая через трещины в каменисто-песчаном грунте. На его лбу блестели капельки пота,он учащенно дышал.Но это не усталость. Это ее имитация.На плутоватой физиономии фарсана по-прежнему играла усмешка.
Мне стало страшно.Страшно за себя и за судьбу планеты.Что делать? Бросить тяжелый стержень, который сильно мешал, и бежать? Но фарсан подберет эту деталь,поставит ее на место и, прежде чем я добегу до людей… Нет, этого нельзя допустить.
Собрав последние силы,я снова побежал. До гряды барханов оставалось еще сотни три шагов.Фарсан неумолимо настигал меня. Уже слышалось за моей спиной его прерывистое дыхание.И тут я сделал то, чего фарсан никак не ожидал: остановился и, внезапно обернувшись, молниеносно обрушил тяжелый стержень на его голову. Голова фарсана с хрустом развалилась. Из нее выпал сверкнувший на солнце продолговатый блок безопасности.На металлический стержень налипла студенистая масса атомно-молекулярных нейронов.Я с отвращением стряхнул этот мыслящий студень и сел на песок.
Немного отдохнул,потом встал и пошел обратно к пульту наведения. Я закрылся в прозрачной кабине, сел в кресло, включил холодильную установку и сразу ощутил приятную прохладу.
Первым делом надо доложить о случившемся Нанди-Нану.Я включил экран всепланетной связи,но он не светился. Попробовал еще раз включить- экран по-прежнему не работал: фарсан предусмотрительно привел его в негодность.
Дорог был каждый час. Ведь шероны тоже искали средство против нашего защитного антигравитационного поля.Стержень, так неожиданно послуживший мне оружием против фарсана, я вставил на место. На щите снова вспыхнули разноцветные лампочки, засветился экран наведения. Я переместил снаряд на прежнее место и нажал пусковую кнопку.Прозрачный купол кабины на какое-то время автоматически потемнел.Но и сквозь темно-фиолетовый стеклозон я увидел огненную струю плазмы, вырвавшейся из дюз реактивного снаряда. Раздался грохот. Потом все стихло, и стеклозон кабины снова стал прозрачным.
Снаряд вырвался в верхние слои атмосферы и лег на горизонтальный курс. На экране я видел местность,над которой он летел.Это был однообразный ландшафт, бескрайний океан песков, усеянный бесчисленными бугристыми барханами, напоминавшими сверху морскую рябь.
Великую Экваториальную пустыню снаряд пролетел за несколько минут. И вот я увидел извилистую границу зеленой шапки Южного полюса. Вдали в лучах солнца сверкал Ализанский океан. Шероны и фарсаны наверняка уже засекли снаряд и следили за его полетом.Они были уверены, что антигравитационное поле надежно защитит их. И действительно, по неосторожности я слишком близко подвел снаряд к этому незримому полю. Снаряд, потеряв вес, отскочил от него, как мяч, и несколько раз перевернулся. Но я быстро выправил курс.
Антигравитационное поле я пробил нейтрализатором над Ализанским океаном, где не могло быть антиракетных установок. Но стоило снаряду приблизиться к берегу,как фарсаны послали ему навстречу несколько ракет.Если бы снаряд не был управляемым,фарсаны быстро сбили бы его. Но, послушный моей воле, снаряд легко уклонился от встречи с первыми ракетами. Они взорвались далеко в стороне. Однако дальше мне пришлось приложить все свое мастерство, чтобы лавировать, уклоняться от вражеских ракет, которых становилось все больше и больше.И я принял решение: снизил скорость и перевел снаряд на бреющий полет.Этим почти исключалась возможность столкновения с вражескими ракетами. Но возникла другая опасность: стоило снаряду задеть какое-нибудь высокое здание или гору, как он взорвется, не долетев до цели.
Мои гибкие тренированные пальцы бегали по кнопкам щита управления. На экране наведения с невероятной быстротой мелькали здания и рощи, над которыми вихрем мчался снаряд. Но вот впереди засверкали белоснежные вершины полярных гор.В кольце этих гор и находилась самая мощная энергосистема. Снаряд стремительно взлетел вверх и обогнул гряду гор.На экране развернулась панорама энергостанции. Туда, в центр многочисленных сооружений, я и обрушил свой снаряд.
Экран мгновенно вспыхнул и погас. Южный полюс лишился могучего потока энергии.Он был оголен:антигравитационного поля над ним больше не существовало…
39-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
— Итак,послезавтра посадка, — с ликованием говорил сегодня утром Лари-Ла. На его лице сияла довольная улыбка.
Посадка на незнакомую планету- самый волнующий и радостный момент в жизни астронавтов.И все фарсаны,каждый по-своему, выражали эту радость. С угрюмым любопытством смотрел я на этот спектакль,разыгранный исключительно ради меня. Но сегодня у фарсанов не все шло гладко. В отдельные моменты я чувствовал такую явную фальшь,что меня просто подмывало ошеломить их, крикнув: «Плохо, братцы! По-настоящему вы радоваться не умеете».
Но хорошо или плохо,а фарсаны «ликовали». Мне же сегодня было особенно тягостно. Но я не подавал виду, был внешне спокоен и даже весел.
Вечером,когда все разошлись по каютам, я сел за клавишный столик, быть может,в последний раз.Мне осталось лишь дописать дневник, рассказать о том, как закончилась война с фарсанами там, на Зургане.Здесь, на космическом корабле, война продолжается. Мне выпала нелегкая доля завершить эту затянувшуюся войну…
После того как Южный полюс лишился защитного антигравитационного поля, исход войны был,в сущности, предрешен.Сопротивление шеронов и фарсанов казалось бессмысленным.Но шероны все же предприняли отчаянную попытку атаковать Северный полюс.С воздуха он был надежно прикрыт антигравитационным полем. Поэтому шероны послали через Великую Экваториальную пустыню тысячи бронированных вездеходов.Впереди,тяжело переваливаясь с бархана на бархан,но довольно быстро шли огромные бронированные чудовища, начиненные взрывчатой смесью. Они управлялись по радио фарсанами, засевшими в небольших и юрких шагающих броневездеходах,оснащенных лучевым оружием. Если бы это бронированное войско ворвалось на Северный полюс, оно произвело бы там страшное опустошение.

Воздушный флот северян остановил фарсанов почти у самого экватора.В тцентре необозримой пустыни развернулось грандиозное сражение,каких не знала история Зурганы. Наши боевые ракетопланы атаковали с большой высоты.От них отделялись и летели вниз стремительные, как молния, ракеты. Вездеходы, начиненные зарядами, взрывались с чудовищной силой, ослепляя наших пилотов и вздымая тучи песка.Фарсаны рассредоточились и упорно продвигались на Север. Наибольшие потери северяне несли от лучевого оружия. Сотни ракетопланов, потеряв управление, падали вниз и глубоко зарывались в песок. Однако перевес был на нашей стороне.
Апофеозом сражения явилась невиданной силы песчаная буря.Наши ракетопланы поднялись еще выше и кружились,выискивая цели над большой территорией,охваченной ураганом.Внизу все бурлило и кипело.Миллионы тонн песка с воем и визгом неслись над пустыней.Чудовищные смерчи вздымали песок почти до ракетопланов. Песчаная буря разметала хорошо организованное войско южан и помогла разгромить фарсанов.
Сулаки,узнав о поражении главных сил фарсанов, подняли восстание.Наш воздушный флот поспешил им на помощь.Северяне захватили главные центры Южного полюса и взяли под стражу шеронское правительство во главе с диктатором Вир-Вианом.
На всей планете началось тщательное выявление фарсанов,особенно воспроизводящих.
Мне пришлось видеть пленных фарсанов.Между собой они были связаны цепями. Под охраной людей,вооруженных старинным огнестрельным оружием,пленных вели в особое здание.Там их подвергали дополнительной луческопии:люди боялись, что среди фарсанов мог случайно оказаться настоящий человек.Наиболее совершенных, воспроизводящих фарсанов демонтировали на отдельные блоки, которые отправляли в лаборатории для исследований. Остальных уничтожали.
Фарсаны,наделенные системой самосохранения,боялись уничтожения не меньше, чем мы страшимся смерти. Их лица изображали неподдельный ужас.
В толпе таких же зевак,как я,было немало людей, которые смотрели на пленных фарсанов с участием и состраданием.
— Эо, Тонри!- услышал я приветствие. В колонне пленных я увидел высокую атлетическую фигуру Эфери-Рау.
— Эо, Тонри!- повторил фарсан. Я не ответил на приветствие.
— Тонри,- заговорил фарсан.- Ты пользуешься большим влиянием в Совете Астронавтики. Спаси меня. Клянусь, я буду тебе хорошим и преданным слугой.
Я отвернулся, ничего не ответив.Звон цепей и крик ярости заставил меня снова посмотреть в сторону Эфери-Рау. Делая огромные усилия, фарсан пытался освободиться от кандалов. Жилы на его руках вздулись, лицо покраснело. Наконец фарсану удалось сделать почти невероятное: он разорвал кандалы и опутывающие его цепи. Эфери-Рау бросился на охрану. Одного человека он схватил за руку и сломал ее с такой легкостью, как будто это была соломинка. Раздался выстрел. Завопив от боли, фарсан схватился за голову и закружился на одном месте. Еще несколько выстрелов — и фарсан Эфери-Рау упал. На меня эта сцена произвела тяжелое впечатление.
В лаборатории Вир-Виана на блок безопасности каждого воспроизводящего фарсана ставился порядковый номер.Всего их было тысяча восемьсот тридцать три.А выловили и ликвидировали тысячу восемьсот тридцать два.Поиски продолжались.Население планеты вновь подвергли просвечиванию.Но воспроизводящий фарсан под номером четыреста десять так и не нашелся. Решили,что во время сражения его разнесло взрывом на мелкие части, которые затерялись в песках. Еще некоторое время в пустыне на месте сражения искали блок безопасности с номером четыреста десять.Но затем поиски прекратились.
Совет обороны объявил, что война с фарсанами закончилась, и сложил свои полномочия. Население планеты вернулось к нормальной жизни.
Лишь один архан Грон-Гро считал эту самоуспокоенность ошибкой."Быть может,- утверждал он,- война с фарсанами только начинается». Он призывал к бдительности. «Поиски,-говорил он,-должны продолжаться. Стоит уцелеть одному воспроизводящему фарсану, как он через некоторое,быть может довольно длительное,время станет вновь размножаться, как микроб. В этом смысл его существования, его генеральная программа».
Архан Грон-Гро оказался прав. Четыреста десятый номер ловко скрывался в заброшенных шахтах около города Суморы. Он ждал, когда на Зургане забудется история с фарсанами.Он мог ждать и год,и два,много лет. Но через полгода он каким-то образом узнал, что в город на короткое время прибыл один из членов экипажа космического корабля. Перед такой важной добычей фарсан не устоял. Он разоблачил себя, но зато превратил члена экипажа в фарсана. Так появился двойник Рогуса…
40-й день 109-го года
Эры Братства Полюсов
Последний день.Завтра сброшу на планету дневник и взорву звездолет… Сейчас корабль на круговой орбите и совершает уже четвертый оборот вокруг планеты. На экране внешней связи видны мельчайшие детали Голубой, видны ее разумные обитатели, как будто они рядом и я могу с ними говорить…
Собратья по разуму! Мне грустно, невыразимо грустно, что не придется встретиться с вами. О многом хотелось бы вам сказать. И в первую очередь о человеке…Странно,раньше мне как-то не приходили в голову мысли о человеке.Но сейчас,окруженный фарсанами, этими совершеннейшими и в то же время отвратительными копиями людей,я с восторгом думаю о человеке, о его величии, о его бесконечной ценности…
Человеческий организм чрезвычайно сложно устроен. Но я согласен с кибернетиками: сложность эта не безгранична и потому организм человека в принципе поддается моделированию,а его мышление- имитации. Но только имитации.Нельзя забывать социальную природу мышления.Сознание,мышление — не только свойство высокоорганизованной материи, но и продукт общественной истории,которой нет и не может быть у фарсанов или других кибернетических машин. Кроме того, необходимо, на мой взгляд, учитывать диалектику развития кибернетики. Ведь человек,создавая все более сложные кибернетические устройства,сам будет при этом усложняться,а его духовный мир — совершенствоваться и углубляться.Человек-творец, моделирующий свое подобие, всегда выше своей логически-эмоциональной копии.
Когда в душе моей проносится буря вдохновения и мозг мой становится трепещущим, светоносным источником идей и образов, могу ли я в это время сравнить себя с фарсаном?
О, нет!.Человек- это зеркало Вселенной, его сознание- это целый океан звездного света.
Даже фарсаны Тари-Тау и Лари-Ла не заставят меня изменить свои взгляды. Фарсан Тари-Тау изумителен.Вир-Виан мог бы гордиться этой несомненной удачей. Но говорить об абсолютной адекватности живого Тари-Тау и фарсана, конечно, смешно.
Зато с каким совершенством этот фарсан читает стихи!Вот и сегодня он ошеломил меня поэмой, — по-видимому, последним и самым лучшим произведением Тари-Тау.
Сегодня вечером в кают-компании отмечался своеобразный юбилей- двухсотлетие Эры Братства Полюсов.На корабле мы прожили десять с небольшим лет. Но на Зургане со дня нашего старта прошло ровно сто лет.
В этот вечер все фарсаны, в памяти которых хранятся знания и опыт живых людей, предавались «воспоминаниям».
— На Зургане у меня остался младший брат,- сказал Лари-Ла.- А сейчас он намного старше меня: ему больше ста двадцати лет. Как все это странно! Привыкнут ли когда-нибудь астронавты к таким парадоксам?
Тари-Тау вспомнил своих родителей.Он говорил с такой задушевностью,с такой нежностью, что я невольно был тронут. Да,Вир-Виан мог бы гордиться фарсаном Тари-Тау. Это не фарсаны Сэнди-Ски и Рогус…
— А у тебя есть стихи о Зургане?- спросил его Сэнди-Ски.
— Есть. Не так давно,накануне торможения, я записал на кристалл небольшую поэму. Она так и называется — «Зургана».
Сэнди-Ски вскочил с кресла и воскликнул:
— Так чего же ты скромничаешь? Прочитай ее нам. В такой вечер ты просто обязан это сделать.
Я присоединился к просьбе Сэнди-Ски.Мне хотелось услышать поэму,созданную человеком Тари-Тау в последние дни его жизни,когда через много лет полета тоска по родной планете, любовь к ней достигли наивысшей точки. Поэма должна быть образцом зрелого вдохновения. И я не ошибся.
Тоска по родине…Кому из астронавтов она незнакома? За долгие годы полета в душе у мечтателя и поэта Тари-Тау тоска по родине росла,любовь к ней становилась почти безграничной.И эта грусть,и эта любовь в последние дни жизни Тари-Тау вылилась неудержимым потоком поэтических строк. В поэме звучала не только тоска по родной планете,но и ликующая радость грядущей встречи, когда наш корабль, обожженный лучами неведомых солнц, овеянный холодными космическими ветрами,вернется на Зургану. Это была великолепная поэма — сверкающая и чеканная, как драгоценный камень, звенящая, как бронза, таящая отблеск непостижимой красоты жизни. Не было у нее лишь конца.
— Не успел закончить…- притворно оправдывался нынешний Тари-Тау.
Бурю восторга изобразили фарсаны. А Сэнди-Ски! Этот в общем-то не очень совершенный фарсан был великолепен…
Я вернулся в каюту, сел за клавишный столик, а в ушах еще долго звучала музыка поэмы.
Странное действие оказывает она:грусть,навеянная ею,быстро прошла,а в душе осталась только радость,буйная,алая радость.Видимо,поэтому у меня сегодня, в последний вечер моей жизни, такое приподнятое,почти праздничное настроение и такие торжественные мысли о человеке.Я рад за Тари-Тау,создавшего такую поэму.Я рад и горд вообще за человека- творца величайших духовных ценностей, преобразователя природы, покорителя космических стихий.
Человек — поистине космоцентрическая фигура, величайшая святыня Вселенной. Ничто не сравнится с его красотой и величием, с его непокорной, сверкающей мыслью, необъятной и певучей, как океан, полной неукротимого стремления к безграничной власти над природой и к жизни бесконечной…
* * *
— Все,- сказал Хрусталев, перевертывая последнюю страницу рукописи. — На этом кончается дневник.
Чтение затянулось до трех часов ночи.Но друзья Хрусталева не думали о сне. Они были взволнованы только что услышанной исповедью астронавта, прилетевшего из неведомых звездных глубин и погибшего здесь, на Земле, над сибирской тайгой.
— А теперь посмотрите,- продолжал Хрусталев,- как выглядят в пламенных красках последние слова астронавта,так сказать,последние страницы дневника.
Хрусталев открыл шкатулку и повернул кристалл. Затем он погасил настольную лампу.Через несколько секунд в сумраке комнаты кристалл вспыхнул,заискрился, засверкал всеми цветами радуги. И снова Кашина и Дроздова властно захватило ощущение какой-то музыки.
Но в мелодии пылающих красок не было ничего тревожного и скорбного, как в начале дневника.Напротив,в победно танцующем цветном пламени,в торжественном ритме огненных знаков, в гармонии ликующих красок как будто слышался голос астронавта.Он,неведомый, говорил землянам о величии и безграничной ценности человека,о торжестве разума над космическими стихиями- и над ледяным безмолвием тьмы, и над огненным безумием звезд и галактик…


Семен Слепынин
Звездный странник
фантастический роман

журнальный вариант
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Видения
Видения! Неотступные видения страшных миров и эпох!.. Они беспрерывно преследуют меня, мучают во сне. Второй день пытаюсь избавиться от них, отдыхая и набираясь сил на планете, так похожей на Землю.
Из окна хижины я вижу кусочек этой удивительной планеты: нескончаемые, нетронутые леса и гору с лысой вершиной. Скоро зайдет солнце, и я долго не смогу оторвать взгляда от великолепного заката. А там — снова ночь… Снова беспокойный сон с назойливыми видениями. Даже сейчас, стоит прикрыть веки, перед глазами возникает наглая ухмылка палача и ученого Тибора, а в ушах слышится его торжествующий возглас: «Га! Га! Провокатор!».
Но больше всего меня смущает другое видение: приход из Вечности… Явление из небытия капитана корабля Федора Стриганова. Ироническим словечком «явление» хочу пригасить тот первобытный страх перед иррациональными силами, какой испытал во время встречи с воскресшим капитаном. А надо описать эту встречу… Надо, если хочу вспомнить Вечную гармонию, в которой я был и память о которой подавлена.
Произошла эта встреча в Электронной эпохе — эпохе Тибора, Генератора вечных изречений и людей-полуманекенов.
В тот день я в качестве «провокатора» долго слонялся по всепланетному супергороду. Вернулся поздно и сразу же прилег отдохнуть. К моей досаде над дверью загудел зуммер.
— Войдите! Открыто! — с раздражением крикнул я.
Кто-то вошел и тщательно прикрывал дверь. Взглянув, я с удивлением обнаружил человека в нашей корабельной форме — в пилотском комбинезоне! Человек повернулся, и я мигом вскочил на ноги.
— Капитан! Федя!.. Откуда!
— Оттуда, Сережа, — капитан искривил губы и ткнул пальцем вниз. — Из-под земли. Из Вечной гармонии.
— Вечная гармония… — растерянно пробормотал я.
— Да. Не знаешь такую? Стерли память… Но она восстановится. Не может быть, чтобы ты забыл все. Например, Незнакомку. Помнишь беседы с ней там, на Луне?
— На Луне? — переспросил я, чувствуя подступающий холодок страха. — Постой, мы же тебя на Луне…
— Верно! Вы меня там похоронили! — почему-то обрадованно воскликнул капитан. — Видишь, все-таки кое-что помнишь!
Я невольно отшатнулся и к стыду своему промямлил что-то нечленораздельное.
— Прекрати истерику! — в голосе капитана зазвенели знакомые властные нотки. Смягчившись, он добавил: — Извини, Сережа. Давай лучше поздороваемся. Ну-ну, давай руку. Не бойся.
Собравшись с духом, я подошел ближе. Капитан сдавил руку с такой силой, что я поморщился. Это грубо материальное пожатие меня несколько успокоило.
— А теперь, Сережа, сядем и поговорим.
— Слушай, Федя, — попытался я улыбнуться. — Ты так сжал руку… Не призрак же ты?
— Все же призрак, — с горькой усмешкой возразил он. — Я получил временный выход в мир живых. Вспышка жизни… Помнишь, на корабле перед заходом в Вечную гармонию?.. До того, как была стерта память?
— Помню. Какие-то привидения.
— Точно. Привидения. Вот и я такой же, братец.
— Слушай, капитан, — я снова сделал жалкую попытку улыбнуться. — Говори прямо.
— Придет время, и все вспомнишь. В общих же чертах Вечная гармония — общество давно умерших людей. Мертвецами легче управлять. Они не бунтуют… Вот уж где действительно гармония — абсолютная и вечная! И управляет ею — сам Сатана.
— Сатана? Ты все шутишь!
— Так его называет Незнакомка. Но чтобы не пугать тебя мистикой, буду называть его Диктатором… Не хочу утверждать, что в своих странствиях мы попали в будущее Земли. Нет, в этом пока не уверен. Еще не разобрался… Но только там, где мы побывали, человечество исчезло. Отрицание… Помнишь такой закон — отрицание отрицания? Так вот, в Вечной гармонии отрицание не полное, а в снятом виде… В виде призраков, загробных духов. Диалектика прогресса! В общем, наши уважаемые потомки, — тонкие губы капитана иронически искривились, — наши уважаемые потомки, если это они, несколько увлеклись прогрессом. Доигрались… Как сказал Иван, достукались.
— Достукались… Узнаю, так мог сказать только Ваня.
— Он и сказал. Как и вечная Незнакомка, Иван уверен, что все это результат истребления природы. Убита последняя птица, вытоптана последняя травинка… Остался в окружении техносферы голенький царь природы — человек. Вот тогда-то и явился новый царь — всесильный Диктатор. Отрицание человека… Пожалуй, Иван прав, хотя только отчасти. Вечная гармония — это предельная форма отчуждения человека в тоталитарном обществе. Прямо-таки апокалипсическая форма отчуждения, конец света, всеобщая гибель людей. Но по желанию Диктатора умершие, а точнее — их вечные двойники, иногда на короткое время материализуются.
— А зачем?. — пробормотал я. — Материализация зачем?
— А хотя бы для контактов, — снова горькая усмешка. — Вот как я сейчас с тобой. Невидимый Диктатор может вступать в контакты с живыми людьми только таким путем, через посредничество своих слуг и рабов. Недавно он научился протыкать нейтринным лучом толщу времени в пятьсот лет. И вот я пришел к тебе. Материализовался за дверью в районе твоего биополя. Спросишь, зачем пришел? По заданию. Чтобы уговорить тебя вернуться. Бездарная Вечная гармония нуждается в творческих умах. Но вернуться добровольно. Добровольность — главное условие… Ты не делай этого, Сережа! Там тебя прикончат, и станешь, как все. Как я… А пояс? Энергетический пояс у тебя уже появляется?
— Иногда. Вот здесь, — откликнулся я и показал на талию.
— Ты должен помнить о поясе и капсуле. Это лучшее достижение Диктатора — чудо волновой микротехники. Твою личную капсулу программировала Незнакомка. Капсула у тебя особенная. Не такая, как у других членов экипажа. Пожалуй, в ней ты смело можешь лететь в будущее. Она домчится до Вечной гармонии и, не фиксируясь, рикошетом отскочит в сторону. Куда? Кто его знает! Незнакомка догадывается о другом мире и сходной планете. Но это может быть и какой-нибудь фантом.
— Фантом?
— Что-нибудь вроде этого. Вообще-то Диктатор фантомами не забавляется. Но он может…
Неожиданно капитан в беспокойстве вскочил с кресла. Встал и я.
— Заговорился… Надо уходить в Вечность… Для отчета. Скажу, что ты еще не надумал, не решил… Поэтому надо еще не раз засылать капсулу. Мы с Незнакомкой переделали ее. Твоя личная капсула стала двухместной. Для чего? Вот тут к тебе моя главная просьба. Нет, не просьба. Приказ! Я командир экипажа, хоть и явился с того света. Поэтому приказываю… Слышишь, братец? Приказываю! Из Вечности вот так же на кончике нейтринного луча спустится твой враг. Для расправы. Он что-то подозревает… Ты его сразу вспомнишь, как только он возникнет в районе твоего биополя. Этакий толстомордый тип с лучевым пистолетом за поясом. Это доверенное лицо Диктатора, его лучший слуга. Ты его убери с моей дороги, замкни в капсулу. Вот так…
Капитан торопливо подошел. Я стоял в оцепенении. Одной рукой он обнял меня за талию, а другой сделал движение, будто нажимает переключатель эпох на энергопоясе.
— Рукой нужно обнять, чтобы истечением твоего биополя замкнуть вспыхнувшую капсулу вокруг «толстомордого». Ты не бойся — все предусмотрено… Как только капсула развернется, она перережет нейтринный луч, и «толстомордый» будет отсечен от Вечности. Отсечен. Понимаешь? Вместе с ним улетишь в прошлое, в первобытный век — там у Диктатора конечная станция во времени. И там ты сам расправишься со своим врагом. Через сто дней пояс-капсула снова вернется. По желанию можешь либо остаться в первобытном веке, либо совершить рейд. Куда? Вероятно, в мир-фантом… Но мне… Нет, не только мне! Ты окажешь услугу всему братству цивилизаций, всем планетам, населенным живыми обитателями. Я займу место «толстомордого» в высших сферах Вечной гармонии. Будет больше доверия у Диктатора… И взорву… Изнутри взорву! Вечная гармония разлетится вдребезги… Выполнишь приказ? Обещаешь?
— Обещаю, Федя. Твердо обещаю, хоть и не совсем…
— Ты все поймешь. Увидишь «толстомордого», все вспомнишь и поймешь.
Стриганов говорил торопливо и нервно, расхаживая по комнате. И вдруг замер. На лице его застыла гримаса отвращения и ужаса.
— Все. Сигнал… Диктатор зовет. Сейчас он погасит искорку жизни. Прощай, Сережа…
Капитан протянул руку и тут же исчез. В самом деле, будто погас… Вот так и погас с протянутой рукой.
Что это было? Сон? Галлюцинация?
Пожалуй, не сон и не галлюцинация. В этом я убедился на другой день. Утром, еще сонного, меня схватили подручные Тибора и увезли в камеру пыток. Крепко связанный, я сидел в особом кресле, от которого тянулись провода столу — своего рода пульту управления палача. Стол усеян был кнопками, верньерами и светящимися приборами. Самый страшный из них — диагностер, регистрирующий внутренние кровоизлияния и переломы костей. Рядом подрагивал стрелкой квадратный индикатор боли.
Пришел Тибор, деловито уселся за стол. Взглянув на меня, торжествующе гоготнул:
— Га! Га! Провокатор!.. Хорош провокатор. Я догадывался, что ты пришелец, который ловко маскируется под провокатора. Но вот кто второй пришелец, как он явился и как исчез — для меня загадка. Думаешь, не знаю о нем? Знаю! Стены твоей квартиры зафиксировали второго пришельца. О чем вы с ним говорили? Молчишь? Ничего, у меня заговоришь: Тибор — это Тибор!
Тибор говорил о Федоре Стриганове. Явное доказательство, что приход воскресшего капитана — не бред, не галлюцинация…
Стрелка индикатора боли вздрогнула и поползла вверх, мою правую ногу пронизала нестерпимая боль. Почти теряя сознание, я нащупал под рубашкой энергопояс — подарок неведомого Диктатора. О поясе никто не знал. Передвинул переключатель эпох. Вспыхнуло холодное фиолетовое пламя: пояс развертывался в капсулу. Фиолетовое мерцание погасло, и меня окутало тахионно-фотонное поле в форме перетянутого посередине яйца. Прозрачного, как воздух. Для аборигенов эпохи я был уже невидим и неощутим. Я просто перестал для них существовать, ибо очутился в сдвинутом, несовмещенном времени. Но я какой-то миг видел все. Не без злорадства вспоминаю, как Тибор, обалдело заморгав глазами, уставился на опустевшее кресло…
Началась пульсация поля — словно взмахивали невидимые крылья. Птица-капсула вырвалась из эпохи на простор и теперь скользила во времени в поисках точки совмещения.
Мимо проносились тысячелетия. Я падал в прошлое… Падал стремительно, и ничего нельзя было разобрать в сером хаосе сменяющихся эпох и цивилизаций.
Наконец капсула нащупала свою точку. Наступил торжественный момент — фиксация в запрограммированной эпохе, стыковка. Произошла она ночью. Короткая вибрация поля, и капсула вспыхнула, развернув свои огненные крылья.
Когда фиолетовое пламя погасло, капсула свернулась в энергопояс. Щекотнув под рубашкой, он тут же исчез, растворился в Великом Ничто — в вакууме. Со слов капитана я знал, что пояс улетел в будущее, в Вечную гармонию. Для аккумуляции энергии. Через сто дней он вернется.
Я лежал на левом боку, рассматривая сквозь гермошлем приютивший меня мир. Спина упиралась во что-то твердое. Камень? Обернулся и в темноте увидел сизый, туманно светившийся ствол березы. На лесную прогалину пробивался Сверху дымный, лунный свет. Я сразу почувствовал доверие к этой планете, смело откинул на спину гермошлем и вдохнул свежий ночной воздух, насыщенный лесными ароматами.
Встал и, хромая, побрел наугад. Плазменный излучатель держал наготове. Им же освещал дорогу. Выбрался на посеребренную луной поляну. На краю ее притулилась к могучей сосне хижина. Я открыл скрипнувшую дверь, посветил. В хижине было пусто. Я повалился на нары и проспал до утра.
Так я поселился в этой давно заброшенной избушке. Сейчас сижу перед окном за дощатым, посеревшим от времени столом. Передо мной — цветной портрет Элоры. Портрет, большой блокнот и авторучка — все, что осталось от Электронной эпохи. На вырванных из блокнота листах пытаюсь писать воспоминания.
Смешно сказать — воспоминания. О самом главном — о Вечной гармонии с ее загадочным Диктатором — ничего решительно не помню. Как ни вглядываюсь в черный колодец памяти — ничего… Одни только видения и назойливые мысли о фантомах.
Вчера утром, пока варилась уха, я не раз осматривался, с удовольствием вдыхая запахи трав и хвои. Не планета, а курорт. Странная планета, очень странная… Самое непонятное в ней то, что она слишком понятна. Поляну окружали знакомые с детства сосны и березы. На огромной раскидистой сосне, подпиравшей хижину, мелькал рыжий хвост белки. В глухой чащобе гулко барабанил дятел, а леса звучали, как орган, — их наполняли струнные песни синиц.
Если бы это была Земля!
Мысль о фантомах гвоздем засела в голову. Правда, временами — это бывает все чаще и чаще — мне кажется, что капитан ошибался. Фантоматические способности Диктатора, вероятно, огромны. Но достаточны ли они, чтобы создать такое правдоподобие? Нет, сейчас я почти уверен, что капсула закинула меня в реальную эпоху.
Через сто дней вернется капсула, чтобы переместить меня сквозь тысячелетия в эпоху Тибора. Я могу пренебречь ее зовами… И в самом деле: чем шататься по шумным и опасным вершинам цивилизации, не лучше ли навсегда остаться здесь, у ее истоков, вот в этом тихом закутке истории?
Но приказ! Я обязан выполнить волю капитана. Только в эпохе Тибора может состоятся встреча с таинственным гостем из Вечности «толстомордым». Он придет из загробного мира!
Ко мне снова протягивают холодные щупальца смутные образы, видения и… страх! Непривычный, суеверный страх. Я пытаюсь освободиться от его липких пут, стараюсь хоть что-нибудь вспомнить о проклятой Вечной гармонии. В конце концов, не традиционный же это поповский ад с чертями и грешниками, с таинственным Сатаною во главе! Имеет же эта «гармония» какое-то материалистическое объяснение…
Нет, так дело не пойдет. Если хочу серьезно вспомнить Вечную гармонию, эту мусорную яму прогресса, я должен начать с начала. Буду излагать свои скитания в четкой последовательности событий. Это поможет моей памяти. А начну, пожалуй, с середины нашего межзвездного полета. Но это завтра. Сейчас уже поздно. Да и закат, великолепный закат то и дело отвлекает меня. Леса на западе оранжево плавятся и горят, как на гигантском костре.
…В хижине темнеет. Гаснет закат. На небе выступают все новые и новые звезды, словно кто-то невидимый раздувает тлеющие угли. Услужливое воображение настраивается на воспоминания о нашем полете. Сижу в хижине, а мысли мои гуляют уже там — среди звезд, в великой тишине мироздания…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Черная аннигиляция
В великой тишине мироздания… Нет, не такая уж это мирная тишина. Полная грозных неожиданностей и опасностей, она не располагает к спокойным и торжественным мыслям о величии звездных сфер.
Раздумывая, с чего начать повествование, я встряхнул перо. Упала капля. На бумаге вспыхнула жирная и черная клякса. Своей чернотой и формой она мигом напомнила страшный беззвучный взрыв в пространстве и испуганный крик Малыша:
— Черная аннигиляция!..
Пожалуй, с этого взрыва и начались наши злоключения.
Наш звездолет «Орел» стартовал с Камчатского космодрома 20 июля 2080 года. Мы должны были исследовать планетную систему звезды Альтаир в созвездии Орла и отработать в полете новый гравитонный двигатель.
От Земли до Альтаира — шестнадцать световых лет. Двадцать лет корабль летел с околосветовой скоростью, управляемый ЭУ — электронно-ионным универсалом. Почти все это время мы спали, охлажденные в гипотермическом отсеке. После окончательного пробуждения жизнь на корабле вошла в обычную колею. Утром по привычке мы собрались в звездной каюте — просторной пилотской кабине с пультом управления и огромной прозрачной полусферой.
Планетолог Иван Бурсов, поглаживая темно-русую бороду, хищно высматривал, кто меньше занят, с кем бы он мог поговорить на философские темы. Это его слабость. Некоторое время он кружился надо мной, как коршун над цыпленком. Я отмахнулся от него: занят.
Сейчас свободен был только инженер Николай Кочетов. Влюбленный в гравитонную технику и равнодушный к философии, инженер наименее интересный собеседник для Ивана. Но все же Бурсов сел рядом с ним и начал расхваливать гравитонный двигатель.
— Ты подожди, Иван, восторгаться, — возразил Кочетов. — Мне тоже наш мотор нравится. Но кое-что проверено только в лабораториях. В частности, нам сегодня надо удалить выгоревшее топливо. А что это значит?
Инженер с удовольствием начал рассказывать о новом двигателе. В корме корабля находится рабочее вещество — многотонный шар из свинца. Под воздействием специфической структуры полей свинец выделяет ураганную энергию в виде гравитационного излучения. Гравитоны, летящие, подобно фотонам, со световой скоростью, отталкиваются от чашеобразного отражателя и создают реактивную тягу.
— И вот тут-то начинаются чудеса, — с подъемом продолжал инженер. — Рабочее вещество выгорело. Свинцовый шар, лишившись гравитонов, стал невесом. Его масса равна нулю. На земле он казался бы легче пушинки. Ты думаешь, такой свинец непригоден как топливо? Ничего подобного! Перестройка полей, и невесомый свинец начал выделять… Что, по-твоему? Опять же положительные гравитоны! Теряя гравитоны, нулевой свинец становится веществом с отрицательной гравитационной энергией и массой…
Занятый прокладкой трассы, я краем уха прислушивался к разговору и старался подавить безотчетную тревогу. Дело действительно новое, проверенное только в земных лабораториях.
Вечером наш «гравитонный инженер» менял рабочее вещество. Выгоревший свинцовый шар он удалил из двигателя и прикрепил силовой паутиной к днищу служебной ракеты. Удалившись на триста километров, ракета должна повернуть налево, описать длинную полуокружность и вернуться к кораблю сзади. Но перед этим инженер обязан был на дальней дуге полуокружности избавиться от опасного свинцового шара.
Случилось непредвиденное. При повороте силовые путы разорвались, и оголенный свинцовый шар, лишившись предохранительного сферического поля, начал сближаться с ракетой Видимо, Кочетов растерялся. Мы видели, как ракета судорожно отскочила в сторону, чего делать не следовало ни в коем случае. Шар не только не отставал, а буквально погнался за ракетой и вскоре прилип к ее корпусу. А затем… Вот здесь-то и раздался испуганный крик Малыша, — так мы звали бортинженера Ревелино:
— Черная аннигиляция!..
Да, это была аннигиляция. Но не та, которая получается при уничтожении вещества и антивещества и которая сопровождается ослепительной вспышкой, выделением огромной энергии. Почти все наоборот. Заряженный отрицательной гравитационной энергией свинец и обычное вещество ракеты, соединившись, мгновенно, взрывоподобно исчезли, аннигилировали, обратившись… Во что? Во всяком случае, не в энергию.
Сквозь купол каюты мы увидели на привычном звездном небе внезапно возникшую зияющую бездну. Будто разорвалось само пространство. Это был угольный провал в Ничто…
И сразу мир исчез. Вселенная рухнула. Ни звезд, ни туманностей — ничего. Густая, как нефть, непроницаемая тьма. Сознание у всех померкло… Мы словно погрузились в небытие и в тот же миг вынырнули.
— Что это было? — спросил вскочивший на ноги Бурсов. — Где мы?
Кто ему мог ответить? Еще ни один астронавт не попадал в такие переплеты…
Дня через три мы опять все были в сборе в звездной каюте. Иван и Ревелино, как всегда, перебрасывались шутками и беззлобными колкостями.
Малыш почти совсем оттеснил планетолога от астротелескопа. Вскоре мы услышали от него такое, что удивило нас и обрадовало.
— Иван! — Малыш обернулся к планетологу с насмешливой физиономией. — Ты сколько планет насчитал вокруг Альтаира? До аннигиляции.
— Пять.
— И все лишены жизни?
— Ну да, — насторожился Иван, чувствуя подвох. — А что?
— Эх, горе-планетолог, — вздохнул Малыш. — Всего три планеты. И на одной из них высокоразвитая цивилизация.
Все вскочили и бросились к астротелескопу. Ревелино не шутил: мы увидели третью от светила планету, похожую на апельсин с ярко освещенным оранжевым боком. Растительность — желто-зеленая. Небольшие, но многочисленные моря соединились слюдяными лентами каналов. Каналы опоясывали всю планету и имели характерную деталь — перемычки. Не то дамбы, не мосты. А скорее всего города-мосты, так как на ночной стороне планеты перемычки светились.
Да, планетолог крепко просчитался.
— Как же ты проморгал такую планету? — добродушно усмехнулся капитан.
— Не понимаю, — оправдывался Иван. — Было пять безжизненных планет…
Планетолога заклевали насмешками: на корабле царила атмосфера дружеских подзадориваний, шуток и розыгрышей. Она сохранялась всегда. Даже после встречи с разумными обитателями оранжевой планеты… Нет, никаких недоразумений и конфликтов не было, хотя встретили нас необычно.
Корабль, захваченный силовыми щупальцами, мягко посадили в центре циклопического диска-спутника. Диск висел над оранжевой планетой с голубыми прожилками каналов. Над нашим кораблем неожиданно раскинулся серебристый купол.
Приборы показывали, что под куполом земной состав атмосферы. Мы вышли из корабля, но никто нас не встретил.
Наконец появились представители планеты. Их было двое. Отличались они от нас невысоким ростом, более гибкими в плечах руками. Их выразительные лица были бы красивы, если бы не полное отсутствие волос на голове. Еще одна особенность: между корпусом и руками иногда появлялась перепонка, и обитатели планеты могли перелетать на короткие расстояния.
Встречающие подпорхнули на своих руках-крыльях к дешифратору и заговорили между собой. Их речь напоминала щебетание птиц. Один из них приветливо улыбнулся нам и назвал себя.
— Чеи-Тэ, — так примерно перевел имя дешифратор.
— Федор Стриганов, — отозвался капитан.
После знакомства наш планетолог развернул светящуюся астрономическую карту. Тан-Чи — спутник Чеи-Тэ — забраковал ее, сказав, что она неточна. Это нас удивило.
Чеи-Тэ подошел к стене и нажал кнопку. Купол над нами засверкал мириадами звезд. Мы сравнили нашу карту с этой звездной сферой и нашли ряд больших расхождений в расположении и конфигурации созвездий.
— Не надо забывать, — прошептал нам капитан, — что мы побывали внутри чертовой аннигиляции, в этом кромешном аду времени и пространств…
Чеи-Тэ, ткнув лучиком-указкой в звезду, которую мы называем Альтаиром, сказал:
— Это наше светило — Руанда… А это наша планета — Тайса.
Мы узнали, что Тайса входит в содружество двадцати ближних населенных планет. Разумные обитатели этих планет сильно отличаются друг от друга.
— Во всяком случае более сильно, чем мы с вами, — с улыбкой продолжал Чеи-Тэ. — Есть поблизости еще одна планета, которая для нас и всего содружества является неприятной загадкой. Вот жители этой планеты похожи на вас. Просто поразительно похожи! Но мы уверены, что вы с неизвестной планеты, еще не вошедшей в общее братство. Будем рады принять вас у себя… А теперь расскажите о себе. Откуда вы? Вероятно, с очень далекой звезды?
— Не очень далекой, — возразил капитан и показал на Солнце. — Вот она.
Чеи-Тэ и Тан-Чи растерянно переглянулись
и защебетали на своем птичьем языке. Дешифратор в это время молчал. Потом снова заработал, и мы услышали, как Чеи-Тэ смущенно проговорил:
— Извините за небольшое совещание. Мы не ожидали… Мы не учли эффект времени. Наши приборы зарегистрировали гравитационный взрыв. Не коснулся ли ваш корабль зоны взрыва?
Капитан коротко рассказал о случившемся.
— Да, так и есть, — таисянин кивнул головой. — Громадный сдвиг во времени. В ваше отсутствие на планете произошли непонятные социальные изменения.
— Какие изменения? — встревожился Иван.
— Вероятно, значительные, — Чеи-Тэ долго и сочувственно смотрел на нас, а потом решился: — Ваша планета как раз и есть та единственная в известной нам части Вселенной, где обосновалась технически могучая, но враждебная космическому братству цивилизация.
— Ну, нет! — воскликнул Иван. — Уже в наше время, в двадцать первом веке, почти все страны Земли встали на путь гармоничного общественного развития!
— Но прошло столько времени, — сказал Чеи-Тэ. — Возможно, тысячелетия… Мы пытались наладить дружественный контакт с этой планетой. Ничего не получилось… Кстати, Тан-Чи участник той экспедиции.
— Около пятидесяти лет назад, — начал рассказ Тан-Чи, — наша экспедиция в составе трех кораблей приблизилась к границам системы. Посланные на разведку беспилотные автоматы отскочили от невидимой бронированной стены вот здесь, — Тан-Чи очертил вокруг Земли и Луны большую окружность. — Это было сферическое защитное поле неслыханной энергетической напряженности. Два корабля подошли почти вплотную к сфере. И тут случилось невероятное: жители планеты напали. Не было никаких космических кораблей или беспилотных средств нападения. Просто люди появлялись в самых неожиданных местах. Возникали из ничего, проникали через любые преграды, не боялись никакого оружия. Сожженные лучевым ударом, возникали вновь. Нет, эти чудовища не убивали. Они стремились взять нас в плен. Им удалось захватить первый корабль. Второму кораблю, на котором находился я, чудом удалось вырваться.
Мы молчали, подавленные столь неожиданной вестью о нашей планете.
— К сожалению, — закончил Тан-Чи, — больше ничего добавить не могу. Планета держится в строгой самоизоляции. А своей агрессивностью доставляет немало хлопот космическому содружеству.
Таисяне предложили нам не возвращаться на Землю и поселиться у них навсегда. Но мы решили лететь на родную планету.
Несколько дней знакомились с таисянской цивилизацией — своеобразной и высокоразвитой. Особенно далеко шагнула у них техника звездоплавания. Их корабли передвигались со скоростью, многократно превышающей световую. Они умели «съедать» пространство, трансформируя его во время. Таким способом таисяне по нашей просьбе забросили «Орел», словно катапультой, к окраине Солнечной системы.
Дальше наш корабль шел самостоятельно, на планетарных двигателях. За орбитой Плутона я впервые почувствовал чье-то незримое, надоедливое присутствие. Будто кто-то невидимый наблюдал за мной. Спиной, всеми порами тела я так и ощущал липкий, изучающий взгляд. Нервы мои были взвинчены.
Однажды я сидел в своей каюте спиной к двери. Тишина. Внезапно дверь зашелестела, точно ее открывал сквозняк. Я резко обернулся. Из коридора высовывалась толстая физиономия, которая тотчас скрылась или… растаяла.
«Померещилось, — подумал я тогда. — Нервы. Этого еще не хватало».
Но вечером того же дня в звездную каюту вбежал испуганный Ревелино.
— Ребята! — крикнул он. — В моей каюте кто-то был. Кто-то не наш!
— А я, — вмешался вдруг молчаливый биолог Зиновский, — когда подходил к своей каюте, услышал там шорох. Быстро открыл дверь…
— И что же? — строго спросил капитан.
— Ничего, — смутился биолог. — Никого не оказалось.
— Психи. Наслушались от таисян всякий чертовщины, — и властным голосом капитан потребовал: — Запрещаю на корабле всякие разговоры о привидениях, о чертях и ведьмах.
Иван расхохотался. Благодушно поглаживая бороду, он сказал:
— Прости их, капитан. Нервные барышни. Мне вот никакие ведьмы не снятся.
Однако на другой день утром планетолог пришел в звездную каюту раньше обычного. И не развалился, как всегда, в кресле, а ходил из угла в угол и озадаченно теребил бороду. «Да-а… Феноменально», — еле слышно бормотал он.
— Капитан, — наконец заговорил Иван, остановившись. — Можешь называть меня как угодно. Но я сегодня ночью видел.
— Кого же это? — нахмурился Федор. — Во сне?
— Мне не снилось! Ночью я проснулся и услышал за моим столом шелест страниц. Настольная лампа светилась. Я обернулся и увидел в кресле за книгой девушку или молодую женщину. Красивую ошеломляюще…
— Так, так, — проговорил капитан.
— Ты подожди, слушай, — оживился планетолог. — Ничего подобного еще не встречал. Я видел ее всего секунду. Она была… Постой, вспомню. Она была в темно-синем… Нет, в светло-синем с блестками платье. Густые черные волосы и большие темные глаза… Когда я обернулся, она взглянула на меня со странной улыбкой и тотчас исчезла. Просто растаяла в воздухе…
— Значит, растаяла! — брови Федора хмурились все более грозно.
Не на шутку рассердившись, капитан ушел к себе в каюту. Вскоре, однако, вернулся и швырнул на стол фундаментальное «Нейтрино и время». Виновато взглянув на нас, сказал:
— Вы правы, братцы. В моей каюте тоже кто-то был, читал вот этот устаревший труд.
— Феноменально! — торжествовал Иван. — Что? Убедился? А кого ты видел?
— Не ее, — усмехнулся капитан. — Я вообще никого не видел. Когда открывал дверь, слышал грохот опрокинутого кресла. Словно кто-то поспешно вскочил. Вошел — в каюте пусто. На книжной полке беспорядок.
— Что это все значит? — спросил я капитана.
— Думаю, что для волнении нет причин, — сказал Федор. — Если бы они хотели убить нас или взять в плен, то давно бы сделали это. Присматриваются, изучают, прежде чем вступить в контакт… И потому прошу не увлекаться. Никаких эксцессов! Не обращайте внимания. И строго выполняйте установленный порядок.
Однако утром следующего дня порядок грубейшим образом нарушил Иван Бурсов: он де явился на спортивный час. По насупленным бровям капитана было видно, что планетолога ожидает не очень-то приятный разговор.
Не пришел Иван и в звездную каюту, что не на шутку всех встревожило…
Мы нашли планетолога в его каюте. Крепко скрученный простынями он был привязан к койке. Во рту торчал кляп — кусок губчатой подушки, засунутый с такой силой, что я еле вытащил его. Малыш в это время развязал Ивана.
Бурсов встал. Он был в такой ярости, что не мог вымолвить ни слова, а только беззвучно шевелил губами и сжимал кулаки. Под правым глазом красовался синяк.
— Кто это тебя так разделал? — нахмурился капитан.
— Черт возьми! А я почем знаю? — взорвался наконец Иван.
Капитан жестом хотел остановить разбушевавшегося планетолога. Но из того проклятия сыпались, как горох из разорванного мешка.
— Да скажешь, наконец, что здесь произошло!? — повысил голос Федор.
Окрик капитана подействовал. Бурсов успокоился.
— Ночью я пытался бодрствовать, делая вид, что сплю. И все же задремал по-настоящему. Когда очнулся, оказалось, что лежу на животе и за спиной кто-то связывает руки. Повернуть голову и посмотреть не успел. Хотел крикнуть, но он воткнул подушку с такой силой…
— Он, он! — капитан сделал нетерпеливый жест. — Кто — он?
Однако Иван не мог дать вразумительного ответа…
— Может быть, вернемся к таисянам? — осторожно предложил Зиновский, когда мы сидели в звездной каюте.
— Не будем терять надежду на взаимопонимание, — ответил капитан. — Но никаких эксцессов. Слышите, братцы? Никаких эксцессов!..
Дальше случилось что-то непонятное. Сквозь купол каюты мы заметили, как защитная сфера, до которой было еще далеко, слегка засветилась. От нее протянулись змеисто извивающиеся языки — протуберанцы. Они захватили наш корабль в силовой мешок.
Вот и все… Я свободно вызывал свои воспоминания о том, что было до захвата, и они проплывали перед моим умственным взором последовательно и четко, как войска на параде. Даже сейчас, прикрыв глаза, я снова вижу капитана и слышу его властное требование: «Никаких эксцессов!..» А дальше я, словно споткнувшись, останавливаюсь перед внезапно возникшей пропастью забвения.
А эксцессы и конфликты, видимо, случались и после предупреждения капитана. Об этом говорит шрам на моей левой щеке. Вообще все мы там пришлись, очевидно, не ко двору. Ведь меня же одного «наши уважаемые потомки» вышвырнули, как котенка, из своего таинственного будущего?!
Не знаю, где сейчас остальные члены экипажа. Что же до меня — я попал в эпоху Электронной гармонии. В эпоху, которая непосредственно примыкает к загадочной Вечности. Для ее аборигенов я — чужак, опасный пришелец…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пришелец
Вокруг меня вспыхнуло холодное фиолетовое пламя. «Капсула», — мелькнула мысль. Пламя погасло, и капсула свернулась в щекотнувший на талии пояс, который сразу исчез.
Я лежал на сухой траве. В ночной тьме глухо шептались деревья. Где я? Откуда я? Мысли походили на клочья тумана, ползущие медленно и тягостно. С тревогой обнаружил, что думаю не только на русском, но и еще каком-то языке. Догадался: язык коренных обитателей эпохи… Сознание медленно прояснялось.
Встал на ноги и увидел на себе вместо пилотской формы неудобный и крикливый костюм из синтетики. Пошатываясь, побрел наугад. Жиденький лес быстро кончился. Вдали мириадами огней светился многоэтажный город. Что-то чуждое было в этом сверкающем исполине, и я повернул назад. Не прошел и километра, как вновь очутился на опушке. И вновь безумная пляска огней.
Дальнейшее помню смутно. Каким-то образом оказался в городе, в его гигантском полыхающем чреве. Везде двигались, кружились, бесновались разноцветные холодные огни. Едва угадывались очертания высоких, этажей в сто, зданий. Они были оплетены вертикальными, наклонными и в основном горизонтальными слабо мерцающими, будто бы и не материальными вовсе, лентами. На лентах — силовых транспортных эстакадах — лепились кресла и сферические кабины. Из кабин выходили люди и перебегали на соседние движущиеся ленты. Я спросил одного спешащего субъекта насчет гостиницы или отеля. Тот на миг остановился, посмотрел на меня с недоумением и испуганно прошмыгнул мимо. В чем дело? Я же говорю на языке аборигенов. Видимо, что-то делаю не так?
Устало сел в кресло, и оно понесло меня в неизвестном направлении. Случайно нажал в подлокотнике кнопку. Вокруг кресла засеребрилась сфера-экран. Замелькали стереокадры. Сначала ничего не понял — настолько чужды и экстравагантны оказались обычаи эпохи. Присмотрелся. В похотливых судорогах извивались люди с инстинктами насекомых… Какие-то сражения в космосе… Это был сексуально-приключенческий фильм. Такой пошлый, что я тут же выключил сферу.
С ощущением голода вошел в какое-то заведение — нечто среднее между рестораном и дансингом. Высокий просторный зал напоен ровным и нежным светом. После огненного безумия улицы здесь приятно отдыхал глаз. Да и толпы не было. Круглые столики почти пустовали.
Предусмотрительно выбрал столик, за которым сидела молодая пара. «Буду делать то же, что они», — решил я. Те ковыряли рыхлую розоватую массу изящными лопаточками, которыми пользовались как ножом и вилкой.
Бесшумной танцующей походкой подскочила официантка — странная девица с голыми до плеч руками и приятным улыбающимся лицом. Странным было, что ее сахарно белые руки, лицо и даже рыжеватые волосы едва заметно мерцали.
— Что принести? — спросила она.
— То же самое, — кивнул я в сторону соседей.
Официантка, мило улыбнувшись, ушла, а я приглядывался к соседям. Их гладкие, без единой морщинки, лица были невыразительны. Изредка, когда они смотрели на меня, в равнодушных и скучных глазах мелькало удивление.
Девица принесла фужер голубой жидкости и брусок розоватого студня — какого-то синтетического блюда. Я расковырял его лопаточкой и осторожно отправил один кусок в рот.
Сосед тем временем вытащил из кармана пульсирующий шарик, из которого к протянутой руке официантки скакнули искры — электронные сигналы.
Что это? Деньги? А чем буду расплачиваться я? Пошарил в своих карманах. Шарика нет. Зато нащупал прямоугольную пластинку, уместившуюся в ладони. С пластинки глянуло объемное и светящееся изображение моего лица. Под портретом какие-то знаки и надпись: «Гриони — хранитель гармонии».
Словно невзначай я открыл ладонь и показал пластинку официантке.
— Хранитель! — воскликнула та. — Вам надо было сразу показать карточку.
При слове «хранитель» соседи взглянули на меня с испугом и почтением. «Ого, — подумал я. — Здесь я, видимо, важная птица».
А девица еще раз улыбнулась и вдруг, — очевидно, в честь моей персоны — взорвалась, осыпав столик брызгами разноцветных искр. От неожиданности я вздрогнул. А мои соседи захихикали, довольные увеселительным трюком. От девицы остался безобразный металлический каркас, опутанный тонкими проводами. Это был светоробот! Повернувшись, скелет зашагал в служебное помещение заряжаться энергией.
Спать… Очень хотелось спать. Я долго скатался по передвижным эстакадам, пытаясь выскочить за город и выспаться в той роще, где произошла фиксация, стыковка с эпохой. Но рощи не нашел. Наконец до того утомился, что готов был приткнуться под кустом в каком-нибудь парке. Однако супергороду, видимо, не полагалось иметь садов и парков. Здесь вообще не было ни одного деревца, ни одной травинки. Ничего живого, кроме машиноподобных людей.
Это испугало меня. Охваченный минутной паникой, я заметался, как птица, попавшая в клетку.
Зачем-то спустился под землю, где с большой скоростью проносились бесчисленные поезда.
Потом взлетел на самый верх огромного здания. Оно соединялось стометровой движущейся дугой-эстакадой с верхними этажами такого же дома-гиганта. С высоты этой футуристической параболы попытался рассмотреть окраину города. Но сверкающему урбаническому морю не было границ.
Снова спустился вниз, на самый глубокий уровень подземных дорог. В лабиринте безлюдных боковых коридоров нашел укромный темный угол. Свалился в изнеможении и заснул.
Когда проснулся и поднялся на улицу, мне показалось, что проспал целые сутки и что сейчас течь. Город все так же ослеплял, рассыпаясь разноцветными искрами. Только народу было больше.
Я взобрался на знакомую верхнюю дугу и в чистом небе увидел полуденное солнце. Люди прятались от него в электронных кабинах.
На трех просторных площадях, расположенных поблизости, заметил памятники. По-видимому, одному и тому же человеку. Каменные или металлические изваяния стояли в одинаково горделивой позе.
Я подошел к постаменту и прочитал надпись: «Болезней тысячи, а здоровье одно». Сначала подумал, что это памятник выдающемуся ученому-медику. Но странное поведение аборигенов заставило засомневаться.

Люди, проходя мимо истукана, останавливались, вытягивались в струнку, вскидывали правую руку вверх и старательно кричали:
— Ха-хай! Ха-хай!
Я не только не последовал их примеру, но и небрежно держал руки в карманах. Не подозревал, что совершаю ошибку, что электронный город буквально вцепился в меня десятками искусно запрятанных глаз-объективов. Он наблюдал за мной потом весь день, куда бы я ни отправился. Все новые и новые глаза города следили за мной и передавали информацию о моем необычном поведении в БАЦ — бдительный автоматический центр. Об этом я узнал много позже. Тогда я просто стоял перед памятником, глубоко задумавшись. Ничего не поняв, повернулся и зашагал к светящемуся переплетению лент. А за спиной то и дело слышались возгласы: «Ха-хай!».
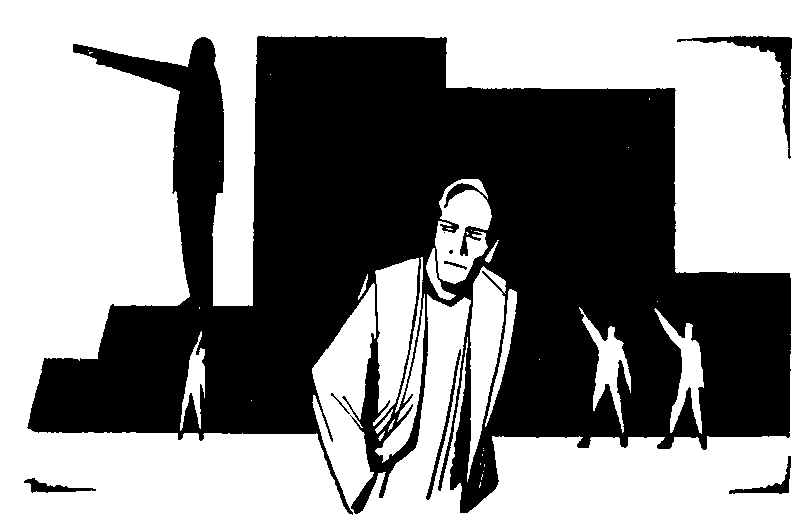
Долго скитался по городу. Сидя в удобных креслах, бесцельно перемещался с яруса на ярус и думал о том, как свыкнуться с новой эпохой, как найти в ней свое место.
Первые впечатления — безотрадные. Человек, конечно, животное общественное и живет в тесной среде себе подобных. Но такая многоэтажная толпа не могла бы и присниться.
Толпа отличалась удивительной разобщенностью. Толпа одиночек… Впрочем, люди не казались усталыми или озабоченными. Напротив, их лица, бледные из-за отсутствия загара, выглядели сытыми и бездумно счастливыми. Между собой они говорили о пустяках — о новых силиконовых перчатках, только что просмотренном в кабине фильме — очередном секс-детективе. Лишенная всякой образности, речь аборигенов была унылой и плоской.
Да Земля ли это? Может быть, совсем другая планета, лишь похожая на Землю? Может быть, таинственные потомки, выкинув из своей не менее таинственной Вечной гармонии, переместили меня не только во времени, но и в пространстве?
У меня был надежный способ проверки — звездное небо.
Ночью я забрался на самую высокую в этой части города параболу. К моему неожиданному счастью, с параболической эстакадой что-то случилось. Она остановилась, огни погасли. Люди, лавируя в темноте между оголившимися креслами, расходились по соседним передвижным дугам.
На середине заглохшей эстакады я с облегчением вздохнул. Удобно расположился в мягком кресле. Здесь, кстати, можно прекрасно выспаться. Положил голову на спинку кресла и с волнением взглянул вверх, ожидая увидеть иной, чем на Земле, огненный рисунок неба. Однако первое, что бросилось в глаза, — красавец Лебедь. Широко раскинув могучие звездные крылья, он миллионы веков летел вдоль Млечного пути. Рядом знакомое с детства созвездие Лиры во главе с царицей северного неба — Вегой. А вот, кажется, Геркулес, взмахнувший палицей. Правда, Геркулес казался не таким, каким он должен выглядеть с Земли. Да и другие созвездия изменили свои очертания. В чем дело? Прошло, видимо, не так уж много лет. Тысяча, ну, две тысячи… Этого времени недостаточно, чтобы звезды ощутимо переместились.
Незаметно заснул. Проснулся, когда одна за другой стали таять льдинки звезд. Глядя на сереющее небо, начал вспоминать планету моей юности, с грустью ворошить пепел перегоревших дней.
Задумавшись, не заметил, как в утренних сумерках (дуга еще не светилась) приблизились два человека. Один из них, тот, что был пониже, спросил с ехидным любопытством:
— Звездами любуешься?
— Допустим, — ответил я, не в силах унять нарастающее раздражение.
— А может, еще и стихи сочиняешь?
— Хотя бы и так! — гнев, необузданный гнев вдруг захлестнул меня. — А вам чего надо?! Чего?!
— Таких вот и надо, — спокойно сказал второй человек, высокий и худой, склонившийся надо мной наподобие вопросительного знака. В правой руке он держал оружие, похожее на пистолет. Только вместо дула на меня глядела узкая горизонтальная щель.
— Пойдешь с нами, — продолжал высокий. — Попытаешься бежать, отсечем вот этой штукой ноги.
Я выхватил из кармана чудодейственную пластинку и сунул ее длинному под нос. Тот отшатнулся и чуть не выронил оружие.
— Саэций, смотри! — воскликнул он. — Карточка… Выдана самим Актинием.
Взглянув на карточку, а затем на меня, Саэций ответил:
— Карточка Актиния. Но я этого типа не знаю, хоть и работаю у Актиния много лет.
— Вот что, — подумав, сказал высокий. — Отведем его к Актинию. Пусть он сам разбирается.
В трехместной кабине мы подъехали к высокой двери. На левой стороне багрово светилась надпись: «Институт общественного здоровья». Справа переливался и вспыхивал разноцветными искрами все тот же загадочный афоризм: «Болезней тысячи, а здоровье одно».
Меня ввели в большую комнату. За столом, наклонив рыжеволосую крупную голову, сидел человек и читал книголенту. Сутуловатый, с квадратными плечами, он своим телосложением заметно отличался от изнеженных обитателей города.
— Тибор! — обратился к нему один из моих конвоиров. — Актиний на месте?
— Там, — кивнул он на дверь и поднял голову.
Меня словно что-то кольнуло: его круглое лицо с мясистым носом и квадратной нижней челюстью показалось до ужаса знакомым. Но где я его видел? Во всяком случае не здесь, не в этом городе…
— А этого интеллектуала к кому привели? Ко мне? — спросил он с ухмылкой. Неприятнейшая ухмылка! Улыбался только его рот, а глаза смотрели на меня холодно, словно прицеливаясь.
— Еще не знаем, — ответил Саэций. — Это очень странный интеллектуал. О его поведении нам просигналил БАЦ. И знаешь, где его взяли? На погасшей верхней эстакаде. Он смотрел на звезды и сочинял стихи.
— Звезды? Стихи? — с веселым удивлением переспросил Тибор и загоготал, а потом, выразительно повертев указательным пальцем около своего виска, разочарованно протянул: — А он не того?..
— Нет, он не сумасшедший. Не похож.
— Тогда, значит, ко мне. Мы с ним мило побеседуем в пыточной камере. Га! Га! Он узнает, что Тибор — это Тибор!
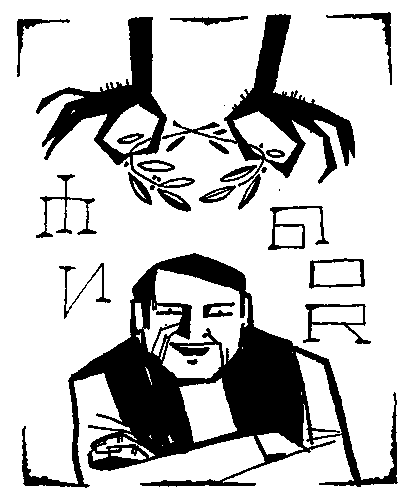
Саэций втолкнул меня в дверь. Я был в таком смятении, что хозяин кабинета Актиний, взглянув на мое ошарашенное лицо, махнул конвоиру рукой: уйди! Саэций ретировался и прикрыл дверь.
Актиний смотрел на меня так внимательно и сочувствующе, что я воспрянул духом. Его сухощавое лицо с высоким умным лбом и добрыми, чуть хитроватыми глазами мне определенно нравилось. Такому можно говорить о себе любую правду. Да и что мне оставалось делать?
— Мда-а… Занятный тип, — проговорил Актиний и показал на кресло. — Похож на интеллектуала… Хотя нет. Те так не переживают. У нас никто не знает таких нравственных драм, какие написаны у тебя на лице. У нас везде царит гармония — и в обществе, и в душе каждого человека.
Актиний усмехнулся, а затем вдруг подмигнул — заговорщически и добродушно. Я окончательно почувствовал доверие и необъяснимое расположение к этому человеку. Вытащив из кармана карточку, молча протянул ее Актинию.
— Мда-а… Это уж совсем занятно. Мне доложили о карточке. Она действительно сделана в моем институте. Кто тебе ее дал?
— Я бы сам хотел это знать.
— Такую карточку подделать невозможно. Ее могли сфабриковать только те, — Актиний ткнул пальцем вверх. Странно взглянув на меня, добавил: — А может быть, ты сам из тех?.. Ты пришелец?
— Да, я пришелец.
— Тс-с, тише…
Актиний вскочил. Живой и подвижный, как ртуть, он забегал по кабинету, подбежал к двери, проверил, плотно ли она прикрыта.
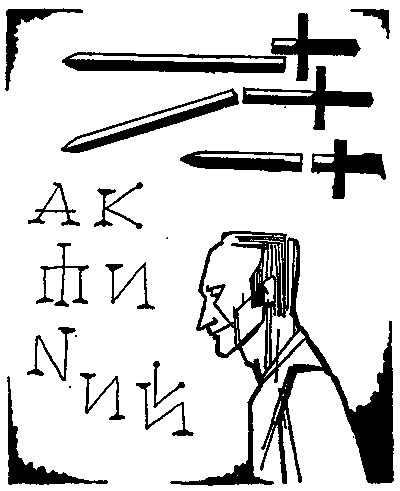
— Говори тише. Иначе Тибор услышит. И тогда все… Пришелец, — прошептал Актиний. — Впервые в жизни вижу пришельца.
Потом, еще раз ткнув пальцем вверх, воскликнул:
— Но это же невозможно! Наши боевые космические крейсера охраняют все подступы к планетной системе. Ни один пришелец не проникнет. Муха не пролетит. Нет, это невозможно!
Я коротко рассказал о своих скитаниях в пространстве и времени, начиная со старта в двадцать первом веке и кончая фиксацией вот в этой эпохе.
— Мда-а… Занятная сказка, — задумчиво проговорил Актиний. — И в то же время по твоей честной первобытной физиономии вижу, что не врешь. Конечно, в наши дни возможны всякие эффекты и парадоксы. Но путешествия во времени… Во всяком случае тебе здорово повезло, что сразу попал ко мне. Иначе очутился бы в лапах Тибора.
В соседней комнате послышались шум и гоготание. Я вздрогнул. Актиний поморщился.
— Чувствует добычу, мерзавец… Кого-то привели.
Открылась дверь, и в кабинет втолкнули испуганного человека.
— Актиний! — радостно воскликнул Саэций. — Смотри, кого поймали! Помнишь, год назад сбежал поэт Элгар? Вот он.
Актиний недовольно махнул рукой. Саэций исчез.
— Ну что, попался, дурак? — хмуро спросил Актиний. — А я-то дал тебе возможность бежать. Стихи твои тогда понравились. Но второй раз отпустить не могу. Не в моих правилах. Да и сам попаду на подозрение. Подумают, что я хитро притаившийся пришелец. Тогда нам обоим не сдобровать. Загремим в пыточное кресло Тибора.
Подвижное лицо поэта жалко дернулось.
— Что, боишься Тибора? Не отдам тебя этому прохвосту. Пойдешь в подземелье на строительство энергокомплекса. К своим собратьям — поэтам, историкам, композиторам и прочим художникам.
В тот раз хорошие стихи были у тебя. А сейчас с чем поймали?
Элгар робко протянул пластиковый свиток. Актиний развернул его и, подняв палец, со вкусом прочитал два стихотворения.
— Ну, как? — дружелюбно подмигнув, обратился он ко мне.
— По-моему, неплохо, — с готовностью ответил я. — Даже метафорично. Для суховатого и бедного языка этой эпохи…
— Этой эпохи, — задумчиво повторил Актиний. — Ты все еще настаиваешь, что попал из прошлых, забытых времен? А впрочем, чем черт не шутит… Да и лицо у тебя чуть с грустинкой, этакое вдохновенное лицо первобытного композитора. А может, ты действительно, как доложили мне, сочиняешь стихи или музыку? — с притворным ужасом спросил Актиний.
— Я не поэт и не композитор, — успокоил я Актиния, начиная смутно догадываться о назначении «Института общественного здоровья». Видимо, художественно одаренные люди считаются здесь «больной» частью населения, опасной для общества.
Как бы в подтверждение моих догадок Актиний продолжал:
— А стихи у него в самом деле хорошие, такие встречаются все реже. Но этим они и вредны для прогресса и гармонии. О чем в них говорится? О любви! Представляешь? Это в наше-то время секса! Девственно чистого, первозданного секса, освобожденного от мусора психологических переживаний, этих ненужных обломков прошлого!.. Стихи опасны еще тем, что воспевают любовь среди исчезнувших цветущих лугов и тенистых дубрав. А это уж прямой вызов. Это противоречит тому, чему учит нас Генератор Вечных изречений и Конструктор гармонии.
Актиний кивнул на висевший позади него портрет. На нем был изображен человек, памятник которому я уже видел. Под портретом кокетливо искрился афоризм: «Болезней тысячи, а здоровье одно».
— А чему учит нас Генератор? — с напыщенной назидательностью продолжал Актиний. — Он учит, что наша эпоха — эпоха технического прогресса и технологической эволюции, которая должна вытеснить эволюцию биологическую. Только те, — взглянув на меня, Актиний ткнул пальцем в потолок. — Только пришельцы живут в дружбе с устаревшей и враждебной биосферой, развивают искусство. Да, когда знакомишься с идеями нашего великого Генератора, чувствуешь, что имеешь дело не с текущим человеческим умом, а с умом вековечным и абсолютным.
Элгар, раскрыв рот, с изумлением слушал. Чувствуя, что переборщил, Актиний хмуро взглянул на поэта и сказал:
— Надеюсь, будешь молчать. Все равно никто тебе не поверит.
Затем нажал на столе кнопку. На вызов явились Саэций и второй охранник.
— Отправьте этого болвана в подземелье. Он не способен к интеллектуальному труд. Пусть займется физическим.
Когда дверь закрылась, Актиний ободряюще улыбнулся мне и подмигнул.
— Ну, как твои душевные бури и нравственные катаклизмы? Улеглись?
— Я не совсем разбираюсь…
— Вижу это, странный пришелец, — добродушно сказал Актиний и сунул мне мою карточку. — Возьми. Будешь работать у меня — разберешься. Но вот как объяснить остальным, кто ты? И почему карточка очутилась у тебя? Мда-а, это будет нелегко. Задача… — Актиний долго и мучительно морщил лоб и вдруг вскочил с просиявшим лицом. — Есть! Осенило! Ты же — провокатор!
— Я!? Провокатор!?
На мое изумление Актиний не обратил ни малейшего внимания. Он бегал по кабинету, суетился, потирал руки и хохотал, довольный своей выдумкой.
— Да! Да! — весело кричал он. — Я раскусил тебя. Ты гнусный провокатор!
Актиний сел за стол и, состроив серьезную физиономию, что далось ему с трудом, нажал кнопку.
— Позови всех сюда, — сказал он вошедшему Саэцию.
Собрались сотрудники этого удивительного института. Штат небольшой — человек двадцать. К моему неудовольствию, рядом стоявшее кресло заскрипело под тяжестью грузного тела. Тибор!
— Небольшое совещание, — объявил Актиний и повел рукой в мою сторону. — Это хранитель Гриони. Наш сотрудник. Вы его еще не знаете. Саэций и Миор схватили его как человека с опасным для прогресса первобытным складом мышления, с так называемым художественным мышлением. Схватили! Одно это говорит о том, что Гриони — работник отличный. Просто находка для нас! Вы поняли?
В ответ — молчание. Саэций пожал плечами, а Тибор хмыкнул и удивленно взглянул на меня.
— Значит, не поняли. Посмотрите еще раз, — снова эффектный жест в мою сторону. — Как будто ничего особенного. Но присмотритесь внимательней и вы обнаружите, вернее, просто почувствуете нечто необычное, нечто от забытых первобытных времен, когда люди, не зная красоты и величия техносферы, валялись на травке где-нибудь под деревом и прославляли красоту биосферы. Да к такому человеку сразу потянутся, как железные опилки к магниту, люди с атавистическим мышлением — художники! И вот Гриони, вылавливая таких людей на транспортных эстакадах, в увеселительных заведениях, будет с ними сначала приветлив, а потом…
— Провокатор! — воскликнул Тибор и загоготал.
Потом с уважением, смешанным с некоторой долей иронии, посмотрел на меня, раздвинув в ухмылке рыхлые губы. Можно было бы подумать, что Тибор улыбается приветливо, если бы не его глаза — холодные, прицеливающиеся, никогда не смеющиеся глаза.
— Наконец-то поняли! А теперь идите и впредь не задерживайте его. Не мешайте ему работать.
Когда все вышли, Актиний внимательно посмотрел на меня.
— Ну, что морщишься? Не нравится работа провокатора? Тебе ничего не придется делать. Первобытных осталось совсем мало. Хорошо, если за год к тебе прилипнет с десяток. Можешь их отпускать, хотя это не в моих правилах. Их надо вылавливать.
— А зачем? Зачем вылавливать?
— Мне кажется, ты начинаешь понимать сам. Идеология пришельцев, — Актиний ткнул пальцем вверх, — искоренена. Сейчас художники — единственные люди, способные пошатнуть незыблемые устои гармонии. Они сами и их творения — почва, не которой произрастает всяческое инакомыслие, тяга к прошлому и стремление сохранить индивидуальность… Кстати, где ты живешь? — вдруг спросил он. — Ну, хоть ночуешь где?
Я рассказал, как одну ночь провел в подземных коридорах, а вторую — под звездами на погасшей дуге.
Актиний весело расхохотался.
— Ну и занятный тип! Откуда только… Ладно, ладно, — перебил он себя. — Сказки с удовольствием послушаю потом. Главное — ты факт, реальный и симпатичный факт. Странный новичок в нашем мире. Держись за меня, иначе пропадешь! Сейчас устрою тебя в хорошем доме…
Десять минут езды в лабиринте передвижных дуг, бесшумный взлет лифта — и мы на самом верху стапятидесятиэтажного дома. На площадке — две двери. Актиний подошел к одной из них и нажал голубую клавишу. Загудел зуммер. Дверь открылась, на площадку вышла пожилая женщина с добрым морщинистым лицом. Сложив руки на груди, она воскликнула:
— О, небеса! Актиний! Как давно не видела вас!
— Рядом квартира еще свободна? Тогда вот вам, Хэлли, новый сосед — хранитель Гриони, наш сотрудник.
Глубокие морщинки около глаз Хэлли собрались в приветливой улыбке.
Квартира мне понравилась. Главное удобство — солнце, большая редкость в этом городе. На верхних этажах, не затененных домами и сетью эстакад, свободно лились в окна его теплые лучи.
— Вижу, на языке у тебя так и вертятся вопросы, много вопросов, — посмеивался Актиний. — Сядем, и я расскажу кое-что о нашем мире, в котором ты действительно выглядишь полным несмышленышем…
— Тридцать лет назад благодетель человечества, Конструктор гармонии и Генератор Вечных изречений оправданно жестокими средствами установил строй Электронной демократии, названный впоследствии Электронной гармонией. Условия для гармонии подготовлены научно-техническим прогрессом. Материальное производство осуществляет техносфера. Люди заняты в основном умственным трудом. Правда, невозможность обеспечить всех высшими благами цивилизации и умственная неравноценность привели к тому, что общество делится на две мирные группы. Меньшинство, пять-шесть процентов населения, это интеллектуалы. Остальные — сексуалы.
— Интеллектуалы и сексуалы! — невольно воскликнул я. — Какое странное деление!
— Ну, это не совсем официальное деление, — усмехнулся Актиний. — И далеко не четкое. Впрочем, сексуалы не обижаются, если их так называют. Напротив, они довольны. Это лаборанты, низшие научные сотрудники, программисты, наладчики электронной аппаратуры. Недлинный рабочий день, дешевая синтетическая жвачка и одежда, веселящие напитки, секс, балаганные зрелища… Чего еще надо? И мы, хранители, должны поддерживать нравственное здоровье и душевную гармонию, в частности — оберегать людей от растлевающего воздействия первобытного искусства. Ибо душевная гармония — основа гармонии общественной… Интеллектуалы — это ученые, высшие инженерно-технические работники, администраторы. Из них состоит и девятка Великих Техников — высший орган планеты. Почему Техники? Да потому, что главное, творческое продумано и сделано. Генератором. Остальное, как говорится, дело техники. Вот это техническое руководство, простое поддержание гармонии и осуществляют Великие Техники.
— Техники, ученые, администраторы… — повторил я. — Что же получается? Технократия?
— Устаревший термин. Но можешь называть и так.
— А кому принадлежат богатства планеты? — допытывался я. — Кто такие, например, администраторы?
— Те, кто пожизненно управляет промышленными комплексами.
— Может быть, они и есть владельцы этих комплексов?
— Может быть, — пожал плечами Актиний. — А какое это имеет значение? Важно то, что интеллектуальная элита обеспечивает научно-технический прогресс.
Видимо, Актиний — специалист по «душевным болезням» — не очень разбирался в болезнях социальных.
— А как душевное здоровье интеллектуалов? — спросил я, ожидая услышать взрыв сарказмов.
— О! — с ироническим воодушевлением воскликнул Актиний. — Здесь полный порядок. Во-первых, у интеллектуалов нет свободного времени, чтобы развлекаться эстетическими побрякушками. Во-вторых, их спасает от художественной заразы чрезвычайно узкая специализация и профессиональный кретинизм. Но если среди них заведется ученый с художественными наклонностями и первобытной тягой к утраченным или иным формам жизни, то это будет самый опасный человек для гармонии, почти пришелец. Поэтому мы должны изолировать художников. Первобытная природа и нешаблонные художественные произведения действуют разрушающе, дисгармонично. На почве природы и искусства произрастает страшный сорняк — индивидуальность человека. Появляются нездоровые самобытные личности…
— Нездоровые самобытные личности? Сорняк? — ошеломлено повторил я.
— Нашему машинному миру нужны стандарты, — продолжал Актиний. — Стандартными людьми можно управлять и без вождей. Только из них можно построить четко налаженный и здоровый общественный организм. А своеобразие людей приводит к разброду, анархии и — страшно подумать! — к инакомыслию!
— Теперь мне понятен смысл афоризма: «Болезней тысячи, а здоровье одно»!
— Это гениальное изречение Генератора! — с шутовским пафосом провозгласил Актиний. — Это знамя нашей эпохи! Ведь индивидуальных черт человека — действительно тысячи, и каждая болезненно отзывается на здоровом стандарте.
— Слушай, Актиний! — воскликнул я. — Почему ты возглавляешь институт общественного здоровья? Ты же сам не веришь, что приносишь этим пользу.
— Верю! — живо возразил Актиний. — Именно верю. В других институтах с художниками поступают более круто, а я стараюсь сохранить их всех, рассовать по подземельям и больницам.
— И все же ты убежден, что их надо изолировать. Почему?
— Мое правило такое: чем хуже, тем лучше.
— Что ж, — усмехнулся я. — Диалектика в этих словах есть. Но не совсем понимаю…
— Сейчас поймешь! Художники со своим неистребимым зудом создавать произведения искусства поддерживают в обществе какой-то минимальный духовный уровень. А теперь представь, что они исчезли. Образуется полный вакуум, на планету опустится бездуховный космический холод. Вот тогда люди вздрогнут и очнутся…
— А если не очнутся?
— Нет, не говори так, — в глазах Актиния мелькнул испуг. — Этого не может быть.
— Возможно, ошибаюсь, — желая утешить расстроенного Актиния, сказал я. — Еще не разобрался.
— Конечно, не разобрался.
На прощание Актиний просил раз в день появляться в институте.
— Для формальности, — добавил он. — Да и мне скучно будет без тебя. Я, может быть, впервые живого человека встретил.
Актиний ушел, а я стал осматривать комнату.
Одна стена — стереоэкран, на котором, если нажать кнопку, замелькают кадры нового секс-детектива. Эта «духовная» продукция изготовляется поточным методом не людьми, а, вероятно, самим городом-автоматом.
На другой стене — ниша для книголент. Однако никаких книг не было, кроме сочинений Генератора. Я взял первое попавшееся и нажал кнопку. Вспыхнуло и заискрилось название — «Вечные изречения». Большинство афоризмов, за исключением известного «Болезней тысячи, а здоровье — одно», для меня были непонятны. Впрочем, если вдуматься… Скажем, такое изречение: «Человек — клубок диких змей». Под дикими змеями, которых надо беспощадно вырывать, подразумевались, вероятно, индивидуальные качества… Отложил в сторону сборник изречений и взялся за другие книголенты — основные философские труды. Однако сразу же запутался в лабиринтном, мифологическом мышлении Генератора. Какая-то дикая смесь прагматизма и «философии жизни».
Махнул рукой, прилег на диван и отдыхал до вечера. А когда выступили звезды, вышел на балкон…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Город Электронного Дьявола
Итак, я вышел на балкон. Внизу, управляемый вычислительными машинами, шевелился бесконечный город. Змеились ярко освещенные эстакады и ленты, перекатывались разноцветные искры. В этом гигантском чреве копошились биллионы людей — одноликая армия стандартов. Сверху сквозь сонмище огней и паутину эстакад я пытался разглядеть их. Безуспешно — людей без остатка поглотили электронные джунгли.
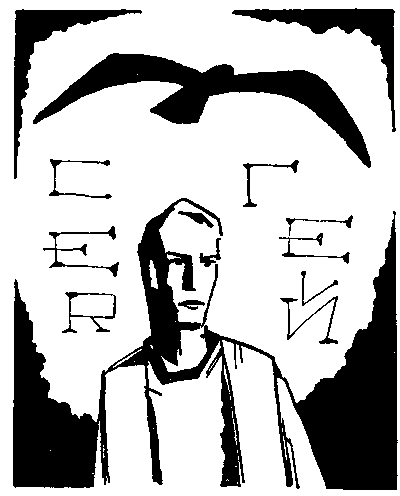
Я сел в глубокое кресло-качалку и, положив голову на мягкую ворсистую спинку, стал смотать на ночное небо. На минуту охватила радость: передо мной распахнулся иной мир — бесконечный простор Вселенной. Но странно — созвездия казались еще менее знакомыми, чем прошлой ночью…
— Хранитель Гриони! — послышался голос с соседнего балкона. — Что вы один скучаете? Заходите к нам.
На соседнем, балконе за круглым уютно освещенным столом сидели хозяйка и красивая молодая женщина лет двадцати пяти.
— Моя дочь Элора, — сказала хозяйка, когда я вошел.
Я слегка поклонится и назвал себя.
— О, вы очень старомодны. — По красиво очерченным полноватым губам Элоры скользнула надменная усмешка. Вообще в ее стройной фигуре, во всем ее облике было что-то аристократически высокомерное.

Однако только с первого взгляда казалась она холодной, как айсберг. В ее словах было немало душевной теплоты. А когда она рассказывала о своем мире, о знакомой интеллектуальной элите, лицо ее было задумчивым и печальным. В широко открытых глазах отражались извивающиеся огни супергорода. И вдруг мне показалось, что в черной бездне глаз за этими пляшущими бликами мелькает глубоко запрятанный, неосознанный ужас. Нет, Элора не так проста. Ей самой неуютно и даже страшно в этом мире…
Об искусстве она отзывалась пренебрежительно. И вот однажды — это было через несколько вечеров — мне захотелось показать ей красоту забытой природы и величие человека, воспетое «первобытным» искусством. Сделать это на сухом и бедном всепланетном языке Электронной эпохи почти невозможно. А что если научить Элору русскому языку? Я мог успешно справиться с этим: в период предполетной подготовки все члены экипажа овладели методикой обучения инопланетных жителей земному языку.
— Я хорошо знаю один из древних языков. На нем созданы замечательные произведения художественной литературы.
— Откуда знаете?
— Ну, хранителю гармонии приходится иметь дело с разными людьми, — уклончиво ответил я. — Хотите знать этот красивый и богатый язык?
— А что, — оживилась Элора. — Иногда бывает так скучно… Память у меня хорошая. Да и техника поможет.
Она принесла из комнаты украшения, похожие на серьги или клипсы. Прикрепив их к мочкам ушей, пояснила:
— Украшения создают вокруг головы особое силовое поле. Это новый стимулятор памяти. С его помощью буду запоминать быстро и прочно, как машина.
Почти через час Элора знала уже около трехсот слов и с десяток стихотворений.
Мать Элоры, наморщив лоб, пыталась вникнуть в смысл нашей беседы. Наконец с недоумением произнесла:
— О чем вы говорите?.. О, небеса! Я ничего не понимаю.
Элора, шутливо подражая матери, сложила руки на груди и сказала:
— О, Гриони! Не продолжить ли наше образование где-нибудь в увеселительном заведении? Я так редко бываю там.
Я согласился. Аборигены ложатся спать очень поздно, предаваясь первую половину ночи «техносферным» развлечениям.
В увеселительном заведении у меня зарябило в глазах — так много было здесь крикливо одетых людей, так прихотливо извивались и пульсировали на стенах и потолке разноцветные огни. Мелькали незапоминающиеся фарфорово-гладкие лица.
К счастью, на нас никто не обращал внимания. Все уставились на сцену. Там раздевалась девица. Части интимного туалета она швыряла в людей. Долетев до центра зала, одежда с сухим треском рассыпалась электрическими искрами. В толпе лениво спорили — натуральная это девица или светоробот.
Столы располагались вдоль стен. Середина зала была свободна.
Перед тем как сесть, я взглянул в зеркало и чуть не ахнул. Не мудрено, что аборигены эпохи оглядываются на меня! Нет, внешне я будто ничем не отличался от них. Тот же рост, только чуточку повыше. Те же черты лица.
Однако в зеркале я увидел представителя забытых эпох с твердым мужественным лицом. На впалых щеках, около губ и на лбу прорезались тонкие морщинки. В глазах затаилась грусть, а виски, словно посыпанные солью,
серебрились: скитания во времени не прошли бесследно.
«Первобытная физиономия, — усмехнулся я. — Физиономия провокатора…»
— Внешность у вас замечательная, — Элора старательно выговаривала слова по-русски. — Таких людей на планете становится все меньше.
Я сел и взглянул на Элору. От сурового аристократизма не осталось и следа. Беломраморное лицо Элоры затеплилось и светилось легкой улыбкой.
— Есть хотите? — спросила она. — Я закажу что-нибудь.
— Я голоден, как волк!
— Как? — удивилась Элора.
— Как волк, — повторил я и объяснил, что в древних лесах водились такие вечно голодные звери.
Принесли на тарелках светло-голубое пенистое облако. Посетители ели такую же синтетическую жвачку, запивая ее «ноки» — розовым и, видимо, алкогольным напитком. И без того бездумные лица их деревенели в бессмысленной радости. Посидев с минуту в экстатическом одурении, люди неожиданно выскакивали на середину зала, извивались, высоко и нелепо подскакивали. Как я узнал после, это был спазматический танец. Сплошные конвульсии, судороги в их чистом клиническом проявлении. Каждый плясал сам по себе — ни партнеров, ни партнерши. А самое страшное — все происходило без музыки, в полнейшей тишине…
— Вам принести ноки? — раздался над моим ухом голос обслуживающего светоробота.
Я утвердительно кивнул. Элора отчужденно откинулась в кресле и удивленно взметнула черные брови.
Выпив ноки, я ожидал легкого опьянения. И жестоко ошибся! Сначала почувствовал животное, отупляющее блаженство, а потом в ушах, все усиливаясь, зазвучала инструментованная истерика — дикие крики, обезьяньи вопли, скрежет металла. Напиток химически воздействовал на нервные клетки, вызывая ощущение одуряющего счастья и слуховые галлюцинации.
Но еще большие испытания ждали меня впереди. Под грубые ритмы непроизвольно задергались руки, ноги против моей воли подняли меня с сиденья. И вдруг охватило неистовое желание выпрыгнуть на середину зала и вместе с толпой с вожделением топтать пружинящий пластиковый пол…
С неимоверным трудом, сцепив зубы и наморщив покрытый испариной лоб, я подавил это желание и заставил себя сесть. Вспомнив предполетную волевую тренировку, принялся последовательно устранять действие напитка. Элора, широко раскрыв глаза, со страхом и сочувствием следила за моими усилиями. Наконец «музыка» в ушах заглохла, и я с облегчением вздохнул.
— А вы сильный человек, — с восхищением прошептала Элора. — Еще никому не удавалось нейтрализовать ноки… Уйдем отсюда, — внезапно предложила она. — Мне здесь боязливо.
— Боязно, — поправил я ее. — А точнее сказать — страшно.
По дороге мы часто задерживались на безлюдных верхних эстакадах. Я учил Элору русскому языку. Ей очень нравилась стихи, образные народные выражения и жаргонные словечки, большим знатоком которых был Иван Бурсов. Сильное впечатление произвели на Элору туманные и музыкальные стихи раннего Блока.
— Как красиво, — шептала она. — Бесполезно, но как красиво!
На плоской крыше одного из зданий стояла маленькая летательная машина — личная аэрояхта Элоры. На ней и улетела Элора к дворцам Великих Техников — к отцу. На прощание сказала:
— Постараюсь чаще бывать у матери. Мы с тобой тогда… Как это? Наболтаемся. Побольше стихов. Занятие нехорошее, но с хранителем можно — рассмеялась она, а потом с грустью добавила: — Мне жаль расставаться. Но мы скоро встретимся…
На следующий день меня ждала другая встреча. В ожидании синтетического блюда я сидел утром за пустым столиком. От неожиданности вздрогнул, услышав за спиной знакомое гоготание.
— Га! Га! Провокатор!
Рядом сел Тибор, ухмыляясь почти дружелюбно.
— А недурная мысль пришла Актинию: возродить идею провокатора в образе человека! Раньше был только журнал-провокатор.
— Журнал?
— Да. Сейчас мало кто знает. В первые годы Электронная гармония была в большой опасности. Слишком много развелось людей, призывающих к хаосу, к общественному строю пришельцев. Как их найти? Генератор вечных изречений разрешил тогда с тайной провокационной целью издавать журнал, где свободно бы печатались стихи, проза, а главное — полемические статьи. И простачки клюнули… Вышло всего несколько номеров, а потом журнал закрыли. Имея адреса, Хранители без труда выловили миллиона два подписчиков. И сразу стало тише. Га! Га! Га!
«С ним полезно поговорить, — думал я. — Он многое знает».
Словно угадав мое желание, Тибор спросил, пытливо глядя на меня.
— Хочешь, приоткрою тайну города?
— Тайну?
— Да. Актиний смутно догадывается о ней… Управляют обществом, этим биллионным скопищем дураков, вовсе не Великие Техники.
— А кто?
Тибор склонился ко мне и доверительно шепнул:
— Сам город.
Он откинулся назад, наслаждаясь моим изумлением.
— Город? Не понимаю А Великие Техники?..
— Болваны, — мой собеседник пренебрежительно махнул рукой. — Отупевшие в разврате болваны! Ими тоже управляет город. Как куклами.

— Как куклами? — Изумление мое нарастало.
— Хочешь, посмотрим кого-нибудь из них? Эй, ты! — махнул он рукой светороботу. — Подойди.
Пританцовывая, подскочил светоробот.
— Кто-нибудь из Великих выступает сейчас с речью?
— Да. На Южном материке.
— Включи.
Стена-зеркало засветилась перед нами, и я увидел на трибуне упитанного человека. Звучным, как барабан, голосом он произносил речь, оснащая ее плавными, закругленными жестами.
— О чем он говорит? — сказал Тибор. — Обещания и все такое… Одно и то же. Призывы хранить гармонию и готовиться к космической войне с пришельцами. Для Великого важен не ум, а голос. Обрати внимание на уши. В глубине их запрятаны крохотные суфлеры-радиофончики. Они не видны. Через них город нашептывает речь, а Великий повторяет ее хорошо поставленным голосом.
Беседа с Тибором становилась все более занимательной. Чувствовалось, что он завидовал Великим Техникам и в то же время презирал, хотя тупоумие их, возможно, преувеличивал. Всепланетный город, как я понял, превратился в сложную и почти автономную электронную систему, которая программируется в соответствии с Вечными изречениями Генератора. Город стал в буквальном смысле государственной машиной. Это город-мозг, гомеостат, стремящийся к равновесию, к поддержанию и укреплению гармонии.
— Но ведь все это делается в чьих-то интересах! Я так понимаю.
— Правильно понимаешь. Ты умный провокатор. Га! Га! Даже… Даже слишком умный.
Тибор замолк и маленькими болотного цвета глазами уставился на меня. Какая-то мысль ошеломила его, и он задумчиво промычал:
— Гмм… Забавно.
«Черт его знает, — мелькнула догадка. — Не думает ли он, что я пришелец? Для него это было бы в самом деле забавно — схватить пришельца, который маскируется провокатором». И я поспешил прикинуться простачком.
— Но в чьих? Не разберу.
— В интересах и по заданию администраторов и тех же Великих Техников, — медленно ответил Тибор, находясь по-прежнему в цепких лапах сомнения.
Случайно я нащупал слабую струнку Тибора — бахвальство. Я задал вопрос, который погасил его подозрительность.
— А кто конкретно программирует?
— Я! — воскликнул мой собеседник и горделиво ткнул себя в грудь. — Я! Тибор — это Тибор! Правда, мне помогают другие кибернетики, пользующиеся особым доверием. Я ведь ученый. Палач? Что палач… Всего лишь хобби. По-моему, в каждом из нас полыхают протуберанцы древних эпох. Например, желание помучить жертву.

— Странное хобби… А если город возьмет на себя функции палача?
— Вот этого я и боюсь! Знаешь, город и для меня становится черным ящиком, теряю даже контроль над его входами и выходами. Он ускользает из-под нашей власти, иногда сам себя совершенствует. Что будет? А?
«Вечная гармония», — чуть было не брякнул я, но вовремя удержался. Да и что я знал о Вечной гармонии? Ничего…
С Тибором я встречался и беседовал еще несколько раз.
— Да вы с ним друзья, — посмеивался Актиний. Посерьезнев, добавлял: — Ты того… Поосторожней. Тибор — умный и хитрый прохвост. Возможно, что-то подозревает.
Я не придал большого значения словам Актиния. Сближение с Тибором считал полезным и уже не вздрагивал, когда слышал за спиной полунасмешливое, полудружелюбное приветствие:
— Га! Га! Провокатор!
Тибор проведал такое, чего не знали даже Актиний и Элора.
Однажды днем мы с Элорой задержались на крыше высокого здания. В этом безлюдном месте никто не мешал разговаривать на русском языке, который так полюбился Элоре.
— Что это? — спросила вдруг Элора, показав в сторону площади. Сквозь негустое переплетение движущихся парабол виднелись колонны людей.
— Армия вторжения, — пояснил я, разыгрывая знатока-хранителя. — Незанятых в производстве становится все больше. Куда их девать? Город… То есть Великие Техники, решили готовить миллиардную армию вторжения. Да! — с ироническим пафосом Актиния продолжал я. — Это будет великая армия! Пришельцам не поздоровится. Наши солдаты сапогами затопчут их зеленую планету!
— О, Гриони! — смеялась Элора. — Не притворяйся. Ты не похож на других. Иногда мне кажется, что ты вырос в другом мире…
— Давай полюбуемся Армией вторжения, — прервал я ее.
Мы спустились на несколько парабол и стали наблюдать. Любоваться в сущности нечем. Это было плохо обученное войско. Люди, которые до этого мало ходили пешком и только дергались в спазматических танцах, с трудом привыкали к строевой дисциплине. Капралы шагали рядом и учили их маршировать.
Солдаты на левом плече держали многозарядные лучевые ружья. Проходя колоннами мимо статуи Генератора, они вскидывали правые руки и нестройно, но громко орали:
— Ха-хай! Ха-хай!
Неожиданно с нависших над площадью эстакад сорвались змеистые молнии и впились острыми жалами в плечи двух солдат. Те упали и корчились, крича от боли. Капралы гнали их обратно в строй.
— Что это? — испугалась Элора.
— Не знаю, — растерялся я. — В программе города этого не было… Видимо, те солдаты притворялись. Разевали рты, но не кричали. Всевидящий город зафиксировал это и покарал электроразрядами. Он сам усовершенствовал себя, придумав наказание!
— Страшный город, — прошептала Элора.
— Город Электронного Дьявола, — сказал я и попытался объяснить этот образ.
Захотелось как-то развеселить погрустневшую Элору, и я предложил вырваться хоть на время из города. Элора согласилась.
Аэрояхта понесла нас на север. Летели долго. Внизу плескалось бесконечное море огней, волнами прокатывались какие-то искрометные сгустки, змеились эстакады.
И вдруг совершилось чудо: город кончился. Элора посадила аэрояхту на опушке небольшой рощи. Я узнал ее — это та самая роща, где произошла фиксация, стыковка с эпохой. Я сорвал пучок травы и с наслаждением понюхал. С острой и сладкой печалью вспомнился запах лугов моего детства.
— О, Гриони! — смеялась Элора. — Как ты счастлив! Ты странный человек… Вот что: у меня еще много разных дел. Ты оставайся, а я скоро вернусь.
Я остался один. Присел на бугорок, поросший сухой травой. И вдруг вздрогнул, почувствовав у талии легкое щекотание. Энергопояс! Зов Вечности!.. Я вскочил и, чтобы успокоиться, прошелся по роще. У меня не было ни малейшего желания совершить бросок во времени. Как ни плохо здесь, но будущее — я это чувствовал! — еще страшнее…
Элора вернулась, когда совсем стемнело. Из аэрояхты она вынесла какие-то напитки и пакеты с синтетической едой.
— Устроим… Как это раньше называлось? Пикник. Загородный пикник, — смеялась Элора.
Она села рядом со мной и посмотрела на небо. Вверху — непривычная для аборигенов картина. На черном куполе раскинулась серебристая арка Млечного пути с мириадами далеких светил.
— Как хорошо! — прошептала Элора. — Тишина. Города нет и никого нет… Сейчас во всей Вселенной нет никого, кроме нас двоих и вот этих звезд. Стихи, — потребовала она. — Еще стихи!
Мне вспомнились стихи Лермонтова, удивительно подходившие к обстановке:
Как ночи Украйны
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных…
Действие этого стихотворения было неожиданным. Элора уронила голову на мои колени и зарыдала.
— Не было этого! С таким уважением писать о женщине, о человеке… Зачем ты все это придумал? Не было этого никогда!
— Это было. Давно.
Я приподнял ее голову и случайно задел затейливую башенку-прическу. Волосы рассыпались черным шелковистым облаком, и я почувствовал еле уловимый аромат.
— Твои волосы пахнут мятой…
— Мятой? А что это такое?
— Это трава с очень приятным и своеобразным запахом.
Элора вдруг отшатнулась и внимательно, почти с ужасом посмотрела на меня.
— А впрочем, чего я испугалась? — прошептала она. — Хотя бы и так… Даже лучше.
— Понимаю. Ты подумала, что перед тобой пришелец?
— Да, я так подумала, — улыбнулась Элора. — Но этого не может быть.
— Конечно! Наши боевые крейсеры… — начал я тоном знатока.
— И все же ты пришелец, — перебила меня Элора. — Только не со звезд, а из другой физической системы отсчета. Я хочу, чтобы ты меня взял с собой, в свое таинственное измерение, в выдуманный и зачарованный мир поэзии!
Матово-белое лицо Элоры казалось в ночи кристаллом, светящимся изнутри ровным светом. Хороши были ее глаза. Не холодные и строгие, какие вижу сейчас на портрете, а удивленно раскрытые и нежные — две загадки, две черные бездны…
Наша встреча с Элорой была последней. Тибор не терял времени. Воспользовавшись моим отсутствием, его подручные вмонтировали в стены квартиры всевидящие электронные аппараты-доносчики. Информация от них поступала не в БАЦ, а непосредственно к Тибору.
Однажды я вернулся к себе очень поздно и прилег отдохнуть. К моей досаде над дверью загудел зуммер.
— Войдите! Открыто! — с раздражением крикнул я. Приоткрыл глаза и мигом вскочил на ноги: посреди комнаты стоял капитан!
Странную и жутковатую встречу с воскресшим Федором Стригановым я уже описал.
А утром связанного и полусонного, меня доставили в институт общественного здоровья. Не в тот, которым руководил Актиний, а в другой. Привязали к пыточному креслу. И мне пришлось еще раз услышать дурацкое гоготание.
— Га! Га! Провокатор!.. Хорош провокатор. Ты пришелец…
После встречи с Федором Стригановым мне вдруг показалось, что Тибор и есть тот самый «толстомордый», который должен явиться из Вечности. Как проверить это? И я решил ошеломить Тибора.
— Я не пришелец. Во всяком случае, не тот… А вот ты пришелец. Ты покойник, парламентер Диктатора! Ты явился из его царства, из Вечной гармонии… Гармонии мертвецов!
В своем предположении я ошибся, ибо Тибор откинулся назад и от изумления раскрыл рот. Он озадаченно уставился на меня, его рыхлые губы зашевелились:
— Ммм… Забавно.
Опомнившись, Тибор указательным пальцем повертел около своего виска.
— Того… Га! Га! Рехнулся! Его еще не пытали, а он уже рехнулся! Не притворяйся. Ты сначала все расскажешь о втором пришельце. Я сумею вытянуть. Тибор — это Тибор.
Он нажал кнопку. Магнитный сапог на моей правой ноге сжимался. Стрелка индикатора боли ползла вверх. Что делать? Совершить прыжок во времени в загадочный мир-фантом? Я скользнул взглядом по камере пыток, посмотрел в окно. Там, за окном, бесшумное буйство и пляска огней — гримаса властелина, беззвучный хохот Электронного Дьявола…
И я решился. Но помощник Тибора, маленький и толстый человечек, постоянно вертелся около кресла. Его биополе перехлестывалось с моим и мешало поясу вынырнуть из вакуума.
Свободной левой ногой я резко толкнул толстяка в грудь, и тот с грохотом полетел в угол. Я сунул руку под рубашку. На талии щекотал пояс, и я быстро сдвинул переключатель эпох. Пояс вспыхнул фиолетовым пламенем и растянулся в капсулу. Я уже был теперь в несовмещенном времени. Из капсулы еще просматривалась покинутая эпоха. Но для аборигенов я полностью исчез… С удовольствием вспоминаю, как Тибор обалдело заморгал глазами и, размахивая руками, что-то кричал своим подручным. Те кинулись к пыточному креслу и руками шарили по опустевшему сиденью.
Началась пульсация поля, — словно взмахивали невидимые крылья. Птица-капсула вырвалась из эпохи на простор… А затем фиксация, совмещение во времени. Так я оказался в неведомой эпохе, вот на этой благоухающей, но безлюдной планете.
Если бы это была Земля!..
ГЛАВА ПЯТАЯ
Земля…
Земля! Ни один мореплаватель древности не произносил это слово с таким восторгом, как я. Это безусловно Земля! Капитан ошибся: капсула закинула меня не на другую планету и не в мир-фантом, а на Землю!

Окончательно убедился в этом сегодня утром. Перед завтраком я отправился к небольшому озеру, плескавшемуся у подножия горы. Нога болела меньше, и я решился, наконец, подняться наверх. Когда взобрался на голую вершину, у меня перехватило дыхание. И не от усталости, хотя гора довольно высока, а от красоты и знакомости распахнувшихся далей. Земля!.. Мне кажется даже, что передо мной ландшафты, характерные для Среднего Урала. Кругом зеленеют лесистые увалы, подернутые тонким утренним туманом. Куда ни кинь взгляд — холмится застывшее каменное море с белыми гребнями шиханов на волнах-вершинах…
Но какой сейчас век? Во всяком случае, не «мое» двадцать первое столетие. Тогда леса на Урале рассекались высоковольтными линиями и автострадами, а в воздухе стоял почти беспрерывный гул от пролетающих в поднебесье лайнеров. Это не двадцатый и даже не девятнадцатый век: я не заметил ни одного заводского дымка, ни одного телеграфного столба. Что ж, буду считать, что сейчас середина или конец восемнадцатого столетия.
Я сидел на согретом солнцем камне, любовался далями и размышлял о странных капризах реки времени, носившей меня на своих волнах из эпохи в эпоху и забросившей сейчас вот в это мгновение, на этот свой живописный и пустынный берег.
Так и не удалось сегодня написать об Электронной эпохе ни строчки. Утром я сделал открытие, которое ошеломило меня. До самого вечера ходил сам не свой, не зная, что и подумать.
Утром поел ухи — сытной, пахнущей дымком, но изрядно надоевшей. Потом решил еще раз прогуляться к полюбившемуся мне горному перевалу. Опираясь на палку, поднялся на каменистую вершину. Снова передо мной раскинулись неоглядные всхолмленные дали. И снова зашевелились печальные воспоминания о навсегда потерянном двадцать первом столетии.
Но к этим воспоминаниям примешивалось какое-то тревожное чувство, ощущение чего-то пугающе знакомого. Что это было? Обычно я сидел на камне лицом к югу. Справа, разрезая темные хвойные леса, пролегла светлая полоса березняка. Нескончаемой лентой тянулась она с севера на юг. Вот этот геометрически правильный коридор березняка и не давал мне покоя. Откуда он здесь, в восемнадцатом веке? Мог ли он образоваться естественным путем? И сегодня у меня вспыхнула одна догадка. Одна, как показалось сначала, вздорная мысль.
Решив проверить ее, спустился по правому склону горы — более крутому и обрывистому. Вошел в широкий березовый коридор. Здесь было больше солнца, чем в глухом ельнике. Высокие и гладкие стволы берез светились, как свечи. Я опустился на колени. Подминая траву, продвигался вперед и ощупывал землю, пока не натолкнулся на… железобетонную плиту! Такие квадратные плиты служили обычно фундаментом для металлических опор высоковольтной линии.
Забыв о боли в ноге, вскочил и испуганно оглянулся. Я был потрясен не меньше, чем Робинзон Крузо, обнаруживший на своем необитаемом острове следы чужих ног.
Все еще сомневаясь, снова встал на колени и, ползая вокруг плиты, рвал траву и копал землю — то палкой, то просто руками. И нашел то, что искал: обломок ажурной мачты-опоры. Краска давно облупилась, оголенный металл покрылся толстым слоем шершавой ржавчины.
Да, теперь уже ясно — здесь когда-то, быть может, сотни лет назад, проходила высоковольтная линия. А на Урале в мое время таких линий было особенно много. Мне даже показалось…
Я сел на траву и, протянув глухо ноющую ногу, стал, не торопясь, поглаживать ее. Это занятие немного успокоило меня. Итак, мне показалась удивительно знакомой эта местность. По-моему, я был здесь с ребятами после окончания школы.
И вдруг ка экране моей памяти ярко вспыхнул тот солнечный июньский день. С рюкзаком за спиной я шагал вместе с ребятами по тропинке, протоптанной туристами и грибниками. Да, отлично помню: мы шли по этой широкой просеке. Только вместо берез упругим ковром расстилалась трава, а по бокам высились медноствольные сосны. По густо-синему небу медленно плыли тугие белобокие облака. Над головой, запутавшись в толстых витых проводах, свистел ветер. Через каждые двести метров нас встречали, поблескивая серебристой краской, празднично, почти феерично красивые решетчатые опоры высоковольтной.
Немного южнее, как мне помнится, просеку пересекала шоссейная дорога. Прихрамывая, я пошел туда и вскоре увидел то, что осталось от дороги, — прямую полосу колючего кустарника. Я долго копал палкой под корнями одного куста, пока не наткнулся на слой гравия. Выковырнул даже чудом сохранившийся кусок асфальта.
Когда-то, в мое время, здесь кипела жизнь. Тонко завывая моторами, стремительно проносились электромобили, шелестели автобусы на воздушной подушке. А в облаках рокотали воздушные корабли. Во все эти шумы вплеталась струнная музыка высоковольтной.
Где все это?… Сейчас только птичьи свисты да невнятный говор леса нарушали первозданную тишину.
В глубокой задумчивости побрел к хижине — поросшей мохом и давно покинутой людьми. Людьми не восемнадцатого века, как думалось раньше, а двадцать второго. А может быть, более поздней эпохи…
Но где же люди? В голове теснились беспорядочные мысли. Сначала подумал, что человечество на гигантских кораблях покинуло Землю.
По пути еще раз залез на вершину горы. На минуту снова захлестнула радость: нет, не могли люди покинуть планету, прекрасней которой нет на тысячи световых лет вокруг!
Над низиной слева парил чибис и человеческим голосом печально вопрошал безлюдье: «Чьи вы? Чьи вы?». Радость моя растаяла, как дым. Я глядел на бесконечные зеленые просторы, и тоска теснила мне грудь: где вы, люди? Где?
Что случилось с родной планетой? С началом космических полетов одной из самых грозных и коварных опасностей стала биологическая — опасность случайного занесения инопланетной инфекции. Может быть, это? Может быть, на Земле ураганом пронеслась неведомая эпидемия, поразившая лишь людей?
Встревоженное воображение нарисовало мне несколько сотен уцелевших, которые в панике бежали из городов. Одичав, люди долгие годы бродили по лесам, пока не наткнулись на развалины селений. На обломках старой материальной культуры, на руинах покинутых идеалов они создали общество, основанное на несправедливости и насилии. Как в древнейшие времена, началась кровавая погоня за цивилизацией. Сизифов труд человечества… Войны, деспотические режимы и восстания, снова войны…
Гипотеза маловероятная и весьма невеселая. Но пока у меня нет других, чтобы объяснить возникновение странных эпох, в которых я побывал. С момента эпидемии, а она разразилась, видимо, в двадцать втором веке, до Электронной эпохи прошло по моему звездному календарю двенадцать тысяч лет. Сто двадцать веков! Срок более чем достаточный, чтобы из небольшой одичавшей кучки вновь выросло человечество. Да еще какое! Биллионы людей…
И все-таки какой необычайный контраст между виденной мною Электронной эпохой и вот этой планетой — заброшенной, безлюдной…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Дым на горе
Нет, далеко не безлюдной!.. На планете есть люди! Только не знаю — радоваться или печалиться по этому случаю. Может быть, их надо опасаться?
Вечером хотел прогуляться к озеру и взобраться на горный перевал. Отошел от хижины сотню шагов и остановился, как вкопанный. Мое любимое место занято! Над вершиной горы струился дым костра.
Я прислушался. Тишина… Чуткая, первозданная тишина. Лишь какие-то птахи подняли возню, уютно устраиваясь на ночь. Я прислонился к шершавому стволу сосны и стал наблюдать. Над горой клубился подсвеченный снизу пепельный дым. Совсем стемнело, и я видел лишь пляшущие багровые блики.
Наконец костер погас. Я постоял еще полчаса, а потом вернулся в хижину. Прилег, не раздеваясь, и приготовил на всякий случай плазменный излучатель. Мое неугомонное воображение было встревожено, как никогда.
Утром с надеждой и опаской посмотрел на запад, в сторону горы. Настроение тут же упало: на ярко освещенной вершине ни дыма, ни малейшего движения… Ушли.
Сел на камень и разжег костер, чтобы сварить уху. Еще раз взглянул на гору и невольно вздрогнул: над ее вершиной качался и тянулся в чистое небо гибкий, как веревка, сиреневый столб дыма…
С этого памятного утра началась новая полоса моей жизни. Прошло уже немало дней, и пора рассказать о своих впечатлениях и знакомствах.
Увидев вьющийся сиреневый столб дыма, я притушил костер и решительно направился в сторону горы: будь что будет! Пускай там дикари, и контакты предстоят, вероятно, нелепо! Мне надоело одиночество, я истосковался по людям.
На вершину поднимался с севера, где рос густой кустарник. Оттуда можно подобраться незамеченным. На лужайке наткнулся на две палатки, напоминающие небольшие юрты. Две серебристо-серые полусферы увенчивались металлическими стерженьками. Сначала подумал, что палатки сделаны из какой-нибудь пленки. Осторожно подошел ближе, потрогал. По еле заметному мерцанию догадался, что это не пленка, а неизвестное мне поле — прохладное и шелковистое на ощупь. Ясно, что ночевали здесь не одичавшие люди, а представители высокоразвитой, быть может, инопланетной цивилизаций.
За кустами послышался невнятный говор. Я сделал несколько шагов, чуть раздвинул ветки и увидел такую картину.
На залитой солнцем поляне весело трещал костер. Перед ним на плоском камне сидели светловолосый молодой человек и тонкая, стройная девушка. Немного в стороне, прямо на траве, расположился здоровенный детина, этакий былинный молодец с добродушной и простецкой физиономией. Все трое одеты почти так же, как в родном моем двадцать первом веке одевались туристы. Пожалуй, и мой пилотский комбинезон сейчас мало отличался от их удобных для походов костюмов.
Светловолосый сунул в костер сырую зеленую ветку. Видимо, нарочно, чтобы дым был гуще и ядовитей. Ветер дул в сторону девушки, и та, хмурясь и отмахиваясь рукой от едкого дыма сказала своему соседу:
— Патрик, перестань дурачиться! Как ребенок…
Услышав знакомую речь, — они, несомненно, говорили на том, общепланетном языке, который начал складываться на Земле в двадцать первом веке, — я невольно покачнулся и переступил ногами. Под каблуками громко хрустнула сухая ветка. Скрываться больше не было смысла. Я вышёл на открытое место и несмело произнес:
— Здравствуйте.
Все трое без особого удивления взглянули на меня и дружелюбно ответили на приветствие. Девушка показала на камень.
— Присаживайся к костру. Скоро будем есть грибницу.
— Грибницу? — удивился я. — Какие же грибы в начале лета?
— А маслята. Это наша Таня собирает их. Она у нас знаток… Кстати, где она?
По южному склону горы легко взбиралась девушка с гибкой и тонкой талией. Наклонив голову, она со счастливым смехом разглядывала грибы, которые несла в прозрачном мешочке. Густые пушистые волосы ее рассыпались и закрытии лицо. Она подошла к костру и показала всем грибы.
— Смотрите, какие красавцы! Будто из сказки.
Девушка откинула назад волосы и подняла голову. Я встретился с ней глазами и обомлел. Кровь отлила от моего лица, частые и сильные удары сердца прокатывались по всему телу. Смущенная моим взглядом, девушка удивленно смотрела на меня страшно знакомыми темными, как ночь, глазами. Я был потрясен: передо мной стояла… Элора!
— Что с тобой? — участливо спросил молодой человек, сидевший на камне. — Ты побледнел.
— Я тебе кого-то напомнила? — спросила наконец девушка, по-прежнему глядя на меня.
— Да, очень, — торопливо заговорил я, стараясь овладеть собой. — Даже растерялся.
«Что со мной? Отголосок видений? Какая чушь взбрела мне в голову?» — укорял я себя. Сходство поразительное, но светло-золотистые волосы девушки, ее звонкий голос, жесты и манера держаться… Нет, конечно же, это не Элора!
— А кого напомнила? Не секрет?
— Конечно, не секрет. Да я вам портрет покажу. Он в моей хижине.
— Я слышал об этой избушке, — вмешался светловолосый молодой человек. — Она где-то здесь. Точно не знаю. Ее построил мой соотечественник-шотландец. Сколотил сам примитивным топором. Ему так полюбился Урал, что он жил отшельником в хижине три года. И писал книгу. Вы, конечно, помните эту в свое время нашумевшую поэму «Внуки Оссиана».

— Моя хижина, оказывается, знаменитая, — пошутил я. — Приглашаю вас к себе. У меня и уха почти готова.
— Приглашаешь, а мы даже незнакомы, — возразила девушка. — Давайте знакомиться. Таня. Татьяна Кудрина.
— Сергей, — представился я.
Пожимая всем по очереди руки, я узнал имена моих новых друзей. Светловолосый молодой человек — Патриций Рендон, его соседка — Вега Лазукович.
— Орион. Орион Кудрин, — былинный молодец слегка привстал. Он кивнул в сторону Тани и добавил: — Мне крупно не повезло — я брат вот этой ехидной особы. Ты ее еще не знаешь. У нее не только осиная талия, она и жалит, как оса.
Таня лукаво усмехнулась.
— У тебя модное имя, Сергей, — заговорила она со мной. — Сейчас вернулись к простым народным именам — Сергей, Татьяна, Патриций. Лишь изредка дают имена по старинке — по названиям звезд и созвездий. Звучные имена. Вега! Посмотри на нее — ей так подходит это красивое имя. Не правда ли?
Стройная и высокая Вега Лазукович и в самом деле отличалась незаурядной красотой. Несколько, правда, холодноватой. Но умные серые глаза оживляли ее строгие правильные черты.
— А теперь посмотри на моего любезного братца, — густые ресницы Тани затрепетали от еле сдерживаемого смеха.
— Татьяна! — Орион сурово повысил голос и погрозил крепко сжатым могучим кулаком.
Я невольно улыбнулся. Орион грозно сдвигал брови, стараясь, чтобы кулак выглядел устрашающе. И все напрасно. Удивительная вещь — от увесистого кулака так и веяло неистощимым добродушием. Мои новые знакомые покатывались со смеху, глядя на отчаянные усилия Ориона придать своему жесту свирепость. Наконец Орион отвернулся и с досады махнул рукой.
— Да, да! Взгляни на него, — Таня подняла вверх указательный палец и торжественно продекламировала: — О-ри-он! Услышав гремящие, фанфарные звуки имени, поневоле вообразишь стройного и гордого красавца. А конкретный носитель звонкого имени? Какой кошмар! Какое нелепое несоответствие! Это же медведь, неповоротливый, косолапый медведь!
— Ладно, Таня, хватит, — взмолился Орион. — Давайте обсудим предложение Сергея. По-моему, толковое предложение. Согласны? Тогда тушите костер и собирайтесь.
Орион, сидевший по-турецки, вскочил на ноги с легкостью кошки. «Не такой уж медведь», — подумал я и направился вслед за ним убирать палатки. Помощи, однако, не потребовалось. Орион протянул руку к стержню, металлически сверкавшему над палаткой. И стержень погас, целиком уместившись в огромной руке. А палатка как будто растворилась. Заструившись, она исчезла в стержне. То же самое Орион проделал с другой палаткой, а стержни сунул в карман.
Через десять минут я, стараясь меньше опираться на палку, вел всех к хижине. «Кто они, эти аборигены эпохи? — ломал я голову. — И какой эпохи? Как им объяснить, кто я, откуда?»
А тут еще Орион смущал. Он шагал рядом и поглядывал на меня с таким выражением, будто силился что-то вспомнить.
Лес, наконец, кончился, и мои спутники стопили на цветущий ковер поляны. От согретой солнцем росистой травы поднимался легкий пар, окутывая хижину колышущейся кисеей.
— А здесь красиво! — прозвенел Танин голос. — Вега, посмотри на хижину. Она будто плавает в тумане. И костер дымится. А котелок! Какой странный котелок!
Котелок и в самом деле должен казаться необычным моим попутчикам. Обожженный на огне и закопченный, он сейчас мало походил на прозрачный гермошлем, который я отвинтил от комбинезона. Но Орион так и уставился на котелок, то и дело переводя изумленные глаза на отвороты комбинезона, где еще сохранились пазы. Я опустился на колени, нагнулся и начал подкладывать в костер сухие ветки. Костер запылал, охватывая гермошлем огненными космами. Вега и Таня готовили какую-то хитрую смесь из грибов и рыбы.
— Когда будет готово, — сказала Таня, — все равно никому не дам завтракать. Уморю всех голодом, пока Сергей не покажет, на кого я похожа.
Я пригласил всех в свое обиталище. Наверное, хижина никогда не принимала столько гостей.
— Таня! — воскликнула Вега. — Это же ты! Почти копия. Только вот волосы… У нее они совсем черные. А твои словно вымыты в золотой воде. И загар у тебя золотистый. А она белая…
— Не так уж и похожа, — возразил Патрик. — Выражение лица другое.
— Совсем не похожа, — вставил Орион и притворно зевнул. — Никогда не поверю, что моя вертлявая сестра походит на эту спокойную мраморную красавицу.
Когда все вышли из хижины и уселись вокруг костра, Таня сказала:
— Мне она не очень понравилась. Слишком строгая, даже высокомерная.
— Ничего удивительного. Она аристократка. Но не из прошлого…
Хотел добавить: из будущего. Но осекся. Наступал решительный момент — надо рассказать о себе, о своих приключениях. Поверят ли?
— Вспомнил! — воскликнул Орион и вскочил на ноги. — Но это же невозможно! Невероятно!
Потом подошел ко мне, нерешительно потоптался и сказал:
— Я, кажется, знаю, кто ты. Видел… Ты Сергей Волошин, астронавигатор старинного гравитонного звездолета «Орел».
— Плохо придумал, Орион, — сказал Патрик. — Все знают, что «Орел» вылетел к системе Альтаира в двадцать первом веке и не вернулся. Погиб, не долетев до цели.
— Орион у нас выдающийся мистификатор, — с улыбкой пояснила Таня. — Любит разыгрывать.
— Нет, Орион не выдумал, — возразил я, стараясь быть спокойным. — Вот только где ты видел меня?
— А в музее Астронавтики. Там портреты всего экипажа… Постой, если ты тот самый, где же корабль? Как сам очутился здесь?
— Сначала объясните, в каком я веке.
— Сейчас двадцать четвертый век, — прошептала Таня, странно глядя на меня расширенными глазами. — Две тысячи триста шестьдесят пятый год.
— Да мы с вами почти ровесники, — усмехнулся я. — Разница в триста лет — сущий пустяк по сравнению с тысячелетиями!
— Тысячелетиями? — пробормотал Орион. — Говори яснее. Сразу.
Пока я рассказывал о своих приключениях, со всех сторон, погрохатывая громами, наползали темно-синие тучи. Никто этого даже не заметил, забыли и о завтраке. Когда подул свежий ветер и защелкали по траве первые крупные капли, Вега зябко передернула плечами, взглянула на небо и сказала:
— Нас замочит. Не перейти ли в хижину?
— Там тесно, — напомнил Патрик. — Но я выпрошу хорошую погоду.
Патрик взял у Ориона стержень, из которого раньше была развернута палатка. Стержень в его руках удлинился, острый конец Патрик воткнул в землю, а наверху появился тонкий обруч диаметром в полметра. Пространство внутри круга затуманилось, замерцало и превратилось в серебристый экран.
Патрик нажал кнопку, и на экране возникла девушка с причудливой копной огненно-рыжих волос.
— Центральное управление погодой. Дежурная по сектору два-восемь, — четко доложила рыжеволосая девушка.
— Как тебя зовут, огненная богиня туч и громов?
— Ирина, — улыбнулась девушка. Нахмурив брови, добавила: — Это к делу не относится.
— Какая строгая! А мы по делу. Просим часа на два расчистить над нами небо.
— А еще туристы! Дождичка испугались, — Ирина насмешливо сощурила глаза. Затем снова нахмурилась и сухо отчеканила: — Частные просьбы выполняем в исключительных случаях.
— Орион, придется тебе, — развел руками Патрик. — Я бессилен.
— Орион у нас важная персона, — обратилась ко мне Таня с дрогнувшими в усмешке полными губами. — Знаменитый астролетчик. Выдвигали даже в капитаны, но комиссия каждый раз браковала из-за мягкости характера. Вот он сейчас и тренируется в свирепости.
— Таня, не издевайся над братом, — улыбнулась Вега. — Может быть, он сумеет воспитать у себя командирскую требовательность.
Орион подошел к экрану. По приветливой улыбке можно было догадаться, что огненная девушка его узнала.
— У нас, Ирина, тот самый исключительный случай.
— Хорошо. Назовите квадрат.
Орион назвал цифры. Экран погас. Тяжелые редкие капли, казалось, вот-вот сольются в сплошной поток. Но в это время тучи над нами заклубились, начали таять и раздвигаться в стороны. И вместо дождя на поляну полились теплые солнечные лучи.
Я встал и жадно смотрел по сторонам. Лишь над нами голубела проплешина чистого неба. Кругом же курчавились сизые тучи.
— Правда, красиво? — услышал я рядом шепот Тани. — Ты, видимо, очень любишь природу.
— Еще бы, — пошутил я. — Ничего подобного не видел тысячи лет. Истосковался.
— Ты удивительный человек.
Я посмотрел на Таню и не мог отвести взгляда от тревожно знакомых глаз.
— Да, удивительный, — смутившись, продолжала она. — Я имею в виду не только твою судьбу и скитания. А вообще.
— Татьяна! — послышался сзади окрик.
Мы обернулись, и Таня рассмеялась, увидев вознесенный вверх кулак, которому так хотелось казаться свирепым.
— Отпусти Сергея, — продолжал Орион. — Сейчас он мой. Мы немедленно отправимся с ним в Совет Астронавтики. Это же эпохальное событие!
— Сергей не твой, а наш, — перебила его Таня. — Сначала он расскажет о себе. Потом позавтракаем. И вообще не командуй. Не получается у тебя.
Орион поворчал и унялся. Я почувствовал неизъяснимую симпатию к этому былинному богатырю. Мягкие линии его лица, каждый его жест словно излучали неистребимое добродушие, которое он пытался скрыть. «Да, видимо, не получится из него командира корабля!» — подумал я и с грустью вспомнил Федора Стриганова — человека огненной воли, с твердыми, гранитными чертами лица.
Все снова расселись вокруг костра. Я коротко поведал о последних днях жизни в Электронной эпохе, о том, как с помощью капсулы выбрался из пыточного кресла Тибора. Я оголил до колена правую ногу. Шрамы, синяки и кровоподтеки произвели впечатление. Особенно на Таню. Она смотрела на меня с таким страданием, как будто ей самой было больно.
— Вега, помоги ему. Ты же врач.
— Радикальных средств мы не взяли, — ответила Вега. — Сергею придется лететь со мной в кочующий аквагород. Кстати, там исследуем его память. Орион со своим Советом Астронавтики подождет. Сейчас нужны медики.
— Ладно, — неохотно согласился Орион.
Я выразил сожаление, что из-за меня расстраивается туристский поход, рассчитанный на много дней.
— А мы его повторим, — обрадовалась Таня. — С самого начала. И обязательно все вместе. А сейчас только позавтракаем.
Во время завтрака мне пришлось выслушать всевозможные предположения. Все сходились на том, что странствовал я не в будущих эпохах Земли, а где-то в стороне. В доказательство Орион привел пример, удививший меня. Оказывается, в системе Альтаира нет населенных планет. Вокруг голубой звезды вращаются не три, а пять планет — те самые безжизненные планеты, какие наблюдал Иван Бурсов до черной аннигиляции.
— Постойте! — воскликнул я. — Сейчас, когда узнал вас и вашу эпоху, верю, что Земля в будущем не может быть такой. Но… Но я ведь жил среди людей. Внешне таких же, как вы. И Луна… Что все это?
— А вот что… — Орион немного подумал и воскликнул: — Дискретное развитие!
Он начал торопливо и не очень ясно излагать гипотезу дискретного исторического развития. По словам Ориона получилось, что странствовал я в реальности… несуществующей.
Таня иронически захлопала в ладоши, затем, подняв палец, пояснила мне:
— Орион у нас не только мистификатор, но и выдающийся мистик.
— А сейчас слово Сергею, — сказала Вега. — Что ты подумал, когда очутился в нашей эпохе?
— Подумал, что с высот будущего упал в восемнадцатый век. А потом вот что произошло…
Мой рассказ о том, как я нашел остатки высоковольтной линии и шоссейной дороги, развеселил слушателей. Орион встрепенулся.
— Сергей ошеломил нас своими приключениями. Теперь мы возьмем реванш!.. Вот слушай. Еще в твоем столетии леса и луга отступали под натиском гремящей техники. Кругом дымили заводы и фабрики, земля содрогалась от железнодорожного и автомобильного транспорта, а в воздухе с каждым годом нарастал реактивный гул. Человек и природа сжались и потеснились. Так вот — сейчас ничего этого нет. У нас произошла промышленная… контрреволюция!
Ориону так понравилось последнее слово, что он хохотнул и вскочил на ноги.
— Да, да! Промышленная контрреволюция! Обшарь, Сергей, всю планету и нигде не найдешь ни заводов, ни шахт, ни дорог. Одни только города и поселки, утопающие в зелени и шумящие фонтанами. Никаких колес. Люди ходят пешком, а в воздухе одни птицы… Ну что получил! — торжествовал Орион.
— Бедный Орион! — Таня смотрела на брата с хорошо разыгранной жалостью. — Что с тобой? ТУ деградируешь прямо на глазах. Сергей же сразу понял, в чем дело.
Орион недовольно взглянул на сестру, сел на траву и насупился.
— По-моему, энергостанции, заводы, транспорт и все прочее — под землей, — предположил я. — Изгнание техносферы под землю.
— Не только под землей, но и в космическом пространстве, — сказала Таня. — Основную энергию, например, отсасываем от расточительного Солнца. Вот и получилось: земля — людям, воздух — птицам. А перемещаются люди в подпространстве.
— В гиперпространстве, — хмуро бросил Орион. — Невежда.
— В гиперпространстве, — с улыбкой поправилась Таня. — Пассажирский и грузовой гиперфлот.
— Сергею я все объясню. Нам пора, — заговорила Вега. — Патрик, вызови дежурную станцию вакуум-такси.
Шотландец, как я заметил., охотно слушался Вегу. Он подошел к экрану-обручу, с кем-то переговорил, назвал квадрат и еще какие-то цифры. Затем выдернул из земли стержень, который в его руках стал расти и достиг трех метров в длину. Экран-обруч растаял.
— Сейчас этот карманный киберуниверсал превратился в аварийную причальную мачту, — объяснил мне Патрик.
Он отошел на край поляны, воткнул мачту в землю и вернулся к угасающему костру.
Через минуту острая вершина мачты с сухим треском заискрилась, засверкала бенгальским огнем.
Вот и такси, — с улыбкой кивнула Вега в сторону мачты.
Бенгальский огонь погасал. Медленно, как изображение на фотобумаге, «проявлялась» сигарообразная машина. Наконец, она полностью выплыла из гиперпространства и уткнулась игольчато-острым носом в вершину мачты.
Когда прощались, Орион смущенно попросил:
— Сергеи, на столе я видел твои записки… Воспоминания. Можно ими воспользоваться? Все останется на месте. Только снимем копию для некоторых членов Совета Астронавтики.
Можно? Ну и прекрасно! Больше в дневнике никто не будет рыться. Даже вот эта нахальная особа, — Орион с добродушной ухмылкой взглянул на Таню. Он перестал сердиться на нее.
Пожимая руку, Таня посмотрела на меня долгим взглядом и сказала:
— Наш медведь не отличается вежливостью. Не догадался пригласить в гости… Приходи к нам. Мы живем здесь, на Урале, недалеко от твоей хижины. Вега расскажет, как нас найти. А мы с братом придем к тебе в кочующий аквагород.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Кочующий аквагород
Мы с Вегой уселись в мягкие кресла двухместного вакуум-такси. Прозрачная кабина заволоклась туманом.
— Гиперпленка насыщается и пропитывается тахионно-фотонным излучением, — поясняла Вега. — Переменное поле дает возможность машине соскальзывать в гиперпространство и перемещаться там практически мгновенно.
Среди множества кнопок Вега отыскала на пульте одну, около которой светилась надпись: «Аквагород Риори». Нажала ее.
— Вот и все. В каком бы месте Мирового океана ни плавал этот город, гиперлет найдет его и причалит к станционной мачте. В морях и океанах несколько тысяч дрейфующих городов. В них почти четверть населения планеты…
— Но я не чувствую никакого полета…
— А мы уже на месте, — Вега не удержалась от улыбки. — Вот смотри.
Стенки кабины подернулись светлеющим туманом и вскоре стали совсем прозрачными. Верх кабины, щелкнув, откинулся назад.
Переход был ошеломляющим. Только что над утренним лесом грохотала гроза и молнии обжигали края черных туч. А сейчас надо мной синела огромная чаша безоблачного вечернего неба. На западе багрово распухшее солнце коснулось края океана, прочертив на воде золотую дорожку. С высоты трехсотметровой причальной мачты я увидел город-сад, окруженный со всех сторон океаном.
Лифт опустил нас вниз. Мы шли по широкой аллее, по краям которой шелестели пальмы. Вскоре очутились на берегу. Волны плескались у самых стен санаторных зданий.
Меня поселили в комнате с верандой, нависающей прямо над водой. Больную ногу облучили, а на ночь наложили пухлую повязку, пропитанную целебным раствором.
Спать лег на веранде, открытой с трех сторон океанским ветрам. Внизу с еле слышным стеклянным звоном плескались волны. «Рай», — усмехнулся я и подивился причудливости своих скитаний.
Я ворочался в постели, перед закрытыми глазами кружились смутные картины будущих эпох. Будущих? Или посторонних?
Невидимые кибер-врачи и кибер-сестры, вмонтированные в колоннаду веранды, уловили встревоженное, смятенное состояние и раскинули надо мной силовую излучающую сферу. Зазвучала тихая, убаюкивающая музыка. Я заснул.
Проснулся с бодрым чувством, со странным ощущением, что я так же свеж и могуч, как вот этот синий бескрайний океан, сверкавший под косыми лучами утреннего солнца.
Пришла Вега.
— Ну, давай полюбуемся твоей ногой.
Вега сняла повязку. На ноге — ни одного шрама, ни одной ссадины.
— Вот так же легко можем убрать и шрам на щеке.
— Пусть останется, — усмехнулся я. — Это память о Вечной гармонии. С ней еще не рассчитался.
— Надо сначала вспомнить нелюбезную гармонию, — с улыбкой возразила Вега. — Для этого и пришла за тобой.
По переходному мосту направились в соседнее здание. Мост выглядел, по-моему, слишком театрально. По бокам рдели цветы величиной с блюдце, журчали фонтаны.
Тенистый парк, раскинувшийся на крыше, был скромнее. В конце его, опираясь на перила, стоял высокий пожилой мужчина с загорелым лысым черепом и любовался океанской гладью.
— Доктор Руш, — коротко представился мужчина и, кивнув в сторону океана, добавил с усмешкой: — Застоялись молодцы. Пираты… Ждут не дождутся шторма.
На пологих волнах покачивались два древних парусных корабля, похожих на каравеллы Колумба. На мачтах закрепляли снасти загорелые ребята.
— Ну-с, молодой человек, — доктор Руш взглянул на меня проницательным острым взглядом. — Загадка номер один? Так, кажется, именуют сейчас тебя. Очень рад, что загадка попала ко мне. Идемте.
Втроем спустились вниз и вошли в просторный залитый светом зал.
— Ну-с, загадка номер один, — доктор Руш приглашающе взмахнул рукой. — Садись сюда.
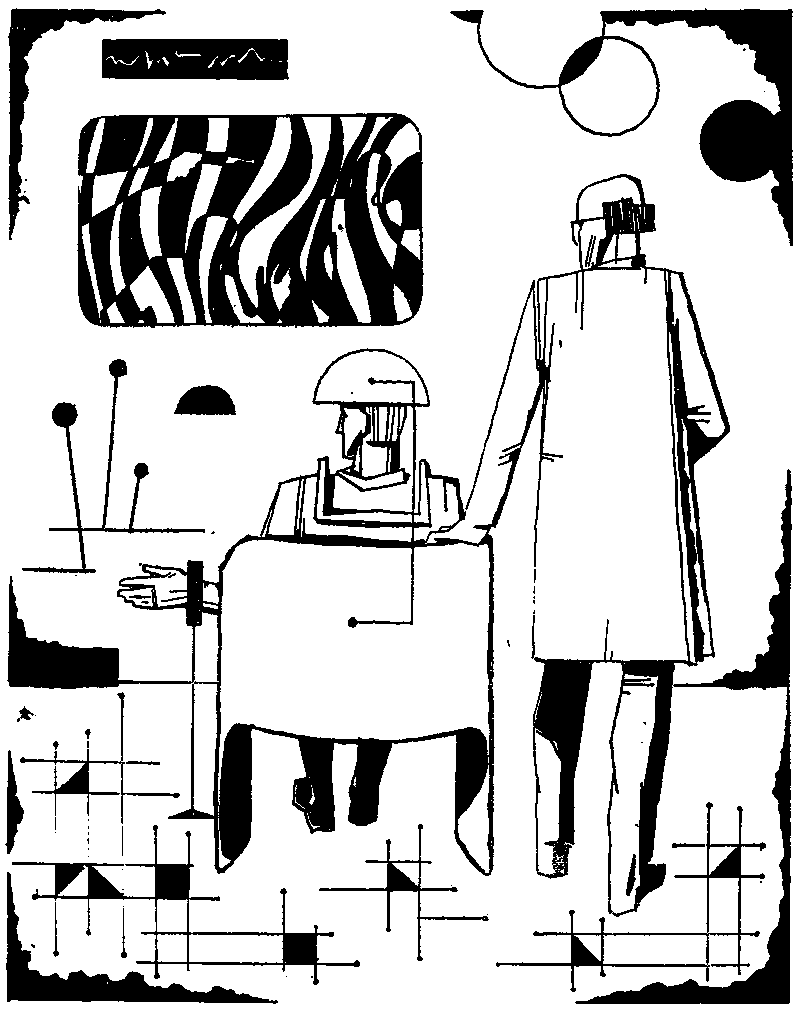
Я сел в глубокое сиденье. К вискам, к запястьям рук мягко присосались датчики. Антрацитово-черные острые глаза доктора останавливались то на мне, то на экране, занявшем противоположную стену. Я видел на экране сменяющиеся расплывчатые фигуры, переливы красок, змеистые пересекающиеся линии — непонятную для меня картину моей психической жизни.
— Психика в хорошем состоянии? — доктор Руш обменивался мнениями с Вегой. — Гибкая, отлично натренированная. Вот только иногда какие-то навязчивые мысли.
— Например, о фантомах, — улыбнулся я.
— Может быть, — согласился доктор Руш. — Но это не болезнь, а результат несколько недисциплинированного богатого воображения. У тебя фантазия поэта-романтика. Ну, и еще некоторая импульсивность… Теперь насчет памяти, — доктор Руш пожал плечами. — Здесь труднее. Блокада памяти… Тонкая, кружевная, прямо-таки ювелирная работа. Блокада локальная, местная. Определённые ячейки памяти замкнуты. Информация в них на стерта, но основательно подавлена. Постепенно память восстановится. И здесь помогут только отдых и душевное равновесие.
— Ассоциативная память, — подсказала мне Вега. — Стоит вспомнить какую-нибудь яркую деталь или ряд деталей, слов, образов — и в опустевших ячейках начнет всплывать информация. Но блокада может прорваться и мгновенно.
— Ну-с, загадка номер один, — улыбнулся доктор Руш. — Попробуем прочитать кое-что из твоих таинственных приключений. Эпизоды, которые удастся выхватить, запишем на микрокристалл. Это по просьбе Совета Астронавтики… Сейчас окутаю непроницаемым читающим облаком, клубком излучений. Постарайся думать своей странной гармонии. Может быть, удастся кое-что выхватить из недр…
Опустилась тьма. Напрягая память, я пытался штурмовать блокаду. Внезапно ощутил боль в левой скуле и удар. Такой сильный, что перед глазами поплыли радужные круги. Заметил даже очертания огромного кулака, влепившего затрещину — первый привет Вечной гармонии. Чуть волнуясь, пробовал высветить в памяти весь эпизод. Но безрезультатно. В космически непроницаемой тьме роились неуловимые образы. Вероятно, это читающее облако последовательно перебирало заблокированные ячейки.
Так продолжалось довольно долго. И вот следующая картина — яркая, объемная. Целый кусок моей прошлой жизни. Правда, началось все не с видимого изображения, даже не со звуков, а с настроения. Меня затопила волна невыразимого горя и отчаяния. И только потом увидел себя бредущим с членами экипажа по лунному космодрому. Мы несли тело погибшего капитана…
Мы похоронили капитана на краю космодрома. Поставили памятник с вечным огнем наверху… И вдруг картина оборвалась, погасла вместе с рубиновым вечным огнем. Снова тьма, густая и липкая, с колышащимися неясными образами.
Тьма рассеялась, и я увидел просторный светлый зал, Вегу и доктора Руша, глядевшего на экран.
— Небогато, — сказал он, обернувшись ко мне. — Всего две картинки… Не поискать ли еще между этими двумя эпизодами? Попробуем.
И снова удар в скулу и расходящиеся круги в глазах… Немного погодя чудом перенесся из кресла и тьмы на солнечную, покрытую изумрудной травой поляну. В середине ее — небольшое овальное озерко, скорее глубокая лужа с прохладной и чистой водой. Мы, члены экипажа, как обезумевшие, плескались в этой луже. Даже наш строгий капитан вел себя, как мальчишка. Вынырнув из воды, он вспомнил давнюю свою привычку декламировать Маяковского:
Уважаемые товарищи потомки,
Роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме…
Опять черный провал, густая клейкая тьма. Затем в клубящемся тумане начали медленно выступать какие-то очертания. Внезапно почувствовал, что сижу на жестковатом сиденьи у пульта управления вездехода. Рядом — члены экипажа. Перед нами расстилались унылые, наводящие тоску ландшафты. Какие? Трудно сказать, потому что наше внимание поглощено многотысячным, может быть, даже миллионным войском. Солдаты изумительно правильными рядами двигались прямо на нас, четко печатая строевой шаг. Чем ближе, тем явственней вздрагивала земля: туммм… туммм…
— Капитан! — услышал я голос Ивана. — Капитан! Что они? Взбесились? Эти твои уважаемые потомки…
— Не знаю… Попытка вступить в контакты? Не похоже…
Капитан, наморщив лоб, размышлял. Потом морщинки на лбу разгладились, и он, желая нас успокоить, с кривой усмешкой произнес:
— Не бойтесь. Они решили просто попугать.
— Попугать? — Иван пытался улыбнуться. — Феноменально…
А солдаты все ближе и ближе. Они шли, встряхивая землю чугунным топотом: туммм… туммм… На их плечах — ружья с расплюснутыми на концах стволами. По неведомо кем поданной команде солдаты взяли оружие наперевес. Сверкнули на солнце стволы…
— Капитан! — Иван был не на шутку встревожен. — Они же сотрут нас сапогами… Я пущу в ход биологический разрушитель!
— Никаких эксцессов! — прикрикнул Федор Стриганов. — Слышите! Никаких эксцессов! Кажется, я понимаю, в чем дело. Их не уничтожить никаким разрушителем. Они бессмертны, потому что давно мертвы.
— Капитан! — не унимался планетолог. — Сейчас не до шуток!
— А я не шучу. Потомки не сделают нам вреда. Это не входит в их задачу. Пока не входит… Может быть, все же контакты? Нет, не то… Есть! Понял! Смотрите, что произойдет.
Стриганов предостерегающе поднял руку. А солдаты — вот они, в двух десятках шагов. Мы видели их бессмысленные физиономии, покрытые капельками пота. Солдаты разевали рты, задыхаясь от жары. И вдруг все они пропали, будто провалились. Исчезновение было полным и ошеломляющим. Еще не осела пыль, поднятая сапогами, а их уже не было. Капитан с облегчением опустил руку.
— Так и есть! Это просто парад. Парад мертвецов… Не спрашивайте, братцы. Сам толком не знаю. Одно ясно — с планетой случилось что-то страшное…
На этом все оборвалось. Густая, как нефть, тьма прочно занавесила память…
— Ну и ну! — развел руками доктор. — Вот уж действительно загадка.
— Сережа, — утешающе ласково сказала Вега. — Это не наша планета. Ты не расстраивайся, отдыхай. Только отдыхай.
Мне ничего не оставалось делать, как последовать этому совету.
Вечером услышал в комнате сигнал вызова. На засветившемся экране появился Орион Кудрин. Он лениво сидел в кресле, закинув ногу на ногу.
— А, космический бродяга! — Орион вместо приветствия чуть привстал и снова сел. — Звездный странник! Так именуют тебя телекомментаторы. С легкой руки Тани. Кстати, ты произвел на мою сестру сильнейшее впечатление. О тебе только и трезвонит…
Заметив мое смущение, Орион сказал:
— Извини, Сергей, за болтовню. Я по делу. Можно к тебе в гости?
— Что за вопрос. Конечно, можно.
Я сел, предполагая, что Орион через несколько минут на гиперлете появится в городе. Но случилось неожиданное. Орион прямо с экрана буквально ввалился в комнату и вместе с заскрипевшим креслом придвинулся ко мне почти вплотную. Я вскочил на ноги. Что это? Розыгрыш?
Орион тоже встал и, улыбаясь, сунул мне свою широкую, как лопата, ладонь. В растерянности я протянул руку и пожал… пустоту. Орион расхохотался.
— Слушай, ты, мистификатор! — воскликнул я. — За такие шутки влеплю, как мне когда-то!
— А давай влепи, — Орион охотно подставил ухмыляющуюся физиономию. Рассмеялся и добавил: — Это новый экран.
— Понимаю… Телевоссоздание.
— Оно. Последняя новинка техники. Объемное воссоздание… А ты молодец. Быстро ориентируешься! Сразу чувствуется астронавт. Но к делу.
Орион сел и закинул ногу на ногу.
— Просмотрели мы картины, расшифрованные доктором Рушем. Да-а… Ошеломляющие картинки. Да и записки твои тоже… Отрезвляют!.. В общем, озадачен даже невозмутимый академия Фирсанов — председатель Солнечного Совета! Солнечный Совет? Координирующий центр, что-то вроде правительства всех населенных планет Солнечной системы — Земли, Луны, Венеры, Марсa, спутников Юпитера… Но дело не в Фирсанове, тобой хочет встретиться сам Спотыкаев.
— Спотыкаев?
— Да. Академик Спотыкаев. Своеобразная личность, новичку нелегко привыкнуть к нему. Но я буду с тобой, поддержу. Спотыкаев — милый, обходительный, корректный человек. Это в обычном, как он выражается, суетном настроении. Мой мозг, говорит он, отдыхает, погруженный в житейскую суету. Зато в ином, в рабочем настроении так сказать, в научно-эвристическом… Вот тогда он настоящий Спотыкаев. Рассеян, невнимателен к собеседнику. Может ответить колкостью и даже грубостью. По рассеянности наступит на ногу и не извинится, способен споткнуться на ровном месте. Но главное — в эвристическом настроении он натыкается на удивительные открытия и догадки, переворачивающие обычные представления. В общем, сам увидишь. Через два дня заявимся к тебе. А теперь, извини, тороплюсь. До свидания.
Орион привстал и с невозмутимым видом протянул руку для прощания. Но я пригрозил кулаком. Орион хохотнул и вместе с креслом втянулся в экран, который тотчас погас.
Нет ничего томительнее безделья. Не привык я к отдыху, который прописал мне доктор Руш. Вся жизнь моя была наполнена тренировками, работой, а затем головокружительными приключениями. А сейчас… Весь следующий день купался и загорал. Вечером гулял в парке на крыше санаторного здания. Подошел к малахитово-зеленым перилам и собрался встретить здесь закат, когда услышал сзади голос Веги:
— У нас, Сережа, гости.
Обернулся и рядом с Вегой увидел Таню.
— Ну, здравствуй, скиталец! — подала она мне руку с какой-то странной, просяще несмелой улыбкой.
— Орион выражается точнее: бродяга, — пошутил я. — Да, космический бродяга. Ничего не имею за душой. Даже воспоминаний!
— Воспоминания кое-какие имеются, — поспешила утешить Вега. — Остальные придут позже. А сейчас, извините, оставлю вас. Есть работа. Кстати, Таня покажет тебе город.
К вечеру стало прохладней, и мы с Таней долго ходили по паркам и площадям, по удивительно нешумным улицам города. Шелест движущихся дорожек сливался с шорохом листвы, а редкие гравимашины, похожие на лодки, скользили над деревьями совершенно беззвучно.
Я не нашел ни одного здания, похожего на другое. Словно люди, они отличались своеобразием неповторимой индивидуальностью. В каждом дворце, в каждой набережной запечатлелась личность творца, художника-архитектора. Большинство городских сооружений были красивого изумрудного цвета.
— Жителям полюбился цвет океанской волны, — заметил я.
Это потому, что город почти целиком сделан из затвердевшей морской воды. А ты не знал?
Пока мы шли берегом, бронзовое солнце легло на водный горизонт, и пологие волны лизали его огненный диск. Вечер… Тихий, задумчивый. Мне же рисовалась почему-то иная картина: росистое утро, луг с шалфейными ароматами и жаворонок, повисший в небе серебряным колокольчиком. Почему? Быть может, потому, что рядом видел утренне радостную Таню, слышал ее чистый звонкий голос. «Жаворонок», — подумал я. Вспомнилась Элора с ее низким грудным голосом. До чего они разные! Трагически одинокая Элора с душой загадочной и сложной, как лабиринт. И Таня — ясная и светлая, как солнечный луч. Совсем разные, несмотря на довольно заметное внешнее сходство, которое меня уже больше не смущало.
Вот только глаза… Прощаясь у станции гиперлетов, Таня смотрела на меня пугающе знакомыми ждущими глазами. Потом, ложась спать на веранде, я никак не мог забыть этого взгляда. Долго ворочался, вспоминал солнечную улыбку Тани, ее чистый голос и звонкий смех. Жаворонок…
Академик Спотыкаев оказался не таким уж страшилищем, как его расписывал Орион. Правда, встретившись со мной на веранде, он без всякого приветствия ткнул пальцем и равнодушно, погруженный в свои думы, спросил:
— Этот, что ли?
— Да, — ответил Орион и подмигнул мне: дескать, не робей. И я не робел. Чем-то располагал к себе этот высокий, средних лет человек с гладко зачесанными волосами. Он бегло осмотрел мою подтянутую широкоплечую фигуру, загорелые мускулистые руки и одобрительно отозвался:
— Ничего экземпляр. Подходящ… Первобытный тип, говоришь? С первобытным мышлением? И за это выбросили из царства Диктатора? Так, так…
Словно спохватившись, он взял мою руку, крепко пожал и сказал извиняющимся голосом:
— Спотыкаев. Цефей Спотыкаев. Очень рад. Есть ряд вопросов. Присядем?
Но тут же снова погрузился в себя, стал рассеян и едва не сел мимо кресла.
Задавал он вопросы как-то странно, как мне казалось, без всякой логики, непоследовательно. Досконально выяснял незначительные детали Электронной эпохи, потом нетерпеливо, почти раздражаясь, перебивал, интересовался капсулой, задумчиво слушал рассказ о полетах в несовмещенном времени. Я никак не мог приноровиться к течению его мыслей, к причудливому бегу ассоциаций и чувствовал себя иногда бестолковым.
Неожиданно Спотыкаев вскочил, как будто вспомнив что-то важное. Молча сунул мне руку на прощание и отправился к станции гиперлетов.
— Видел? — спросил Орион, собираясь идти вслед за академиком. — Это ты виноват, задал ему задачку… Ничего. Завтра-послезавтра он окунется в море житейской суеты и станет, как все. И ты его по-настоящему узнаешь. Милейший человек!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Парадокс Странника
Цефей Спотыкаев и в самом деле оказался милейшим человеком. Я убедился в этом через несколько дней, когда доктор Руш и Вега освободили меня из-под своей опеки.
Академик и я стояли в то утро на гравибалконе, парящем на полукилометровой высоте. Поднебесная тишина. Не слышно даже гомона птиц. Лишь ветер насвистывал в ушах разгульную песню просторов и странствий. Под нами, среди русских лесов, голубели полусферы Дворца Астронавтики. Далеко впереди, на самом горизонте, возвышались причудливые пирамидальные здания — гигантские дома-сады. Своими вершинами они почти касались кучевых облаков.
— В каждом таком домике живет до тридцати тысяч человек, — охотно рассказывает Спотыкаев. — Они кольцом опоясывают исторический центр Москвы. Он остался таким же, как и в твоем столетии.
Академик повернулся ко мне. На лице — дружелюбная улыбка. Стройный, подтянутый и корректный, он нисколько не походил на прежнего Спотыкаева.
— А теперь, Сережа, спустимся вниз. Нас ждут в Малом зале.
Гравибалкон снизился до уровня десятого этажа, подплыл к раскрытой двери, состыковался со стенами двора и стал обычным балконом.
В Малом зале на предварительное обсуждение «Парадокса Странника» собралась группа ученых во главе с председателем Солнечного Совета академиком Фирсановым.
Сначала выступали социологи. По их мнению, так называемая Электронная гармония отдаленно напоминала сплав тоталитарных режимов Западной Европы, Азии и Америки, существовавших в середине и конце двадцатого века. Но очень своеобразный сплав, развивающийся в условиях высокого технического потенциала. «Технотронный век», «общество потребителей и массового сознания», «научно-технический прогресс в условиях этатизма», — так говорили социологи. Случилось то, что и должно было случиться: функции тоталитарного государства были переданы электронному супергороду-автомату, который вышел из-под власти людей и стал независимой, саморазвивающейся субстанцией. Именно в этом надо искать разгадку последовавшей затем Вечной гармонии.
Все утверждали, что Скиталец, то есть я, побывал не на Земле будущего, а на совсем другой планете.
— Но где? На какой? — вырвалось у меня.
— На это, Сережа, ответить потруднее, — сказал Спотыкаев, положив руку на мое плечо. Затем встал и обратился ко всем:
— Да, это главный вопрос. Ответить на него мы сейчас не в состоянии. Разгадку можно искать отчасти в капсуле, в которой Сергей Волошин совершил рейды во времени. И, думаю, не только во времени… Тахионно-фотонная капсула, — продолжал академик, — чудо корпускулярно-волновой микротехники. Исследовать ее пока невозможно, потому что запрограммирована на индивидуальное биополе Волошина. Но принцип работы капсулы нам известен. По этому принципу мы строим гиперлеты и скоро создадим первый гиперзвездолет. Предположим, что вот сейчас у Волошина появится его индивидуальный энергопояс. Нажим переключателя, и пояс развертывается в капсулу. Сначала она состоит только из фотонного поля, и мы еще видим Волошина — он еще наш, в нашем «фотонном» континууме. Но вот в фотонное поле вплетаются нити тахионного излучения, и пассажир вместе с капсулой для нас исчезает. Сам Волошин еще видит нас, точнее — наше вторичное фотонное изображение, ибо попадает в несовмещенное время. Затем, по мере обогащения тахионами, капсула все глубже погружается в вакуум, то есть в нуль-континуум, или иначе в гиперпространство. А эта не наблюдаемая нами область мироздания обладает удивительными свойствами. Здесь нет ни пространства, ни времени в привычном понимании этих слов. В приграничных областях время может идти в разных направлениях и с разной, иногда стремительной скоростью. Если капсула запрограммирована на полет в прошлое, то она попадает в ту область нуль-континуума, где время течет вспять, от будущего к прошлому. Образно говоря, капсула подхватывается встречной рекой времени, которая и выносит путешественника в другую эпоху. Наши гиперлеты тоже просачиваются в гиперпространство, в вакуум. Но они способны мгновенно перемещаться только в пространстве и никак не реагируют на потоки времени. Почему? Да потому, что мы можем поддерживать тахионно-фотонное поле, лишь пропитав им вещество — молекулярную гиперпленку. А в Вечной гармонии создано нечто принципиально новое, гиперлет так же отличается от загадочной капсулы, как телега наших предков от ионной ракеты.
— Не обидно ли для нас? Не слишком ли сильное сравнение? — спросил кто-то.
— Может быть, — согласился Спотыкаев. — Но этим сравнением хочу подчеркнуть, что мы пока не знаем, как подступиться к созданию частого тахионно-фотонного поля. В неведомой Вечной гармонии такое поле создано. Но я сильно подозреваю, что обитатели Вечной гармонии сами находятся в качественно ином, чем мы, физическом состоянии.
— Покойники? — с улыбкой спросил председательствующий Фирсанов.
— Может быть, и покойники, — серьезно ответил Спотыкаев. — Сведениям Сергея Волошина, хотя и очень скудным, мы обязаны верить. А расшифрованные доктором Рушем энграммы говорят сами за себя. Но мертвецы, конечно, создать ничего не могут. Таинственный Диктатор, которого называют Сатаной и который управляет мертвецами, — вот творец капсулы… Все дело в Сатане, — так под смех зала закончил Спотыкаев. Не смеялся лишь академик Фирсанов.
— Ясно одно: нашим ученым ничего не ясно, — хмуро сказал он. — Боюсь, что совещание на этот раз бесплодно. Ни одной гипотезы. Даже явно ошибочной, но способной зажечь воображение…
Я снова поселился в хижине. В мое отсутствие Орион и Патрик кое-что переделали. Вместо старого колченогого стола у окна белеет новый. Но не современный пластиковый, а дощатый, сколоченный с нарочитой грубостью, чтобы не нарушать гармонию старины. Рукопись на прежнем месте. В темном углу справа тускло поблескивает небольшой экран всепланетной связи. Теперь могу включить любой концертный зал или стадион, вызвать любого человека.
На чисто прибранных полках — пакеты с консервированными продуктами. Таня похозяйничала, думаю я, и стараюсь поскорее подавить вспыхнувшее теплое чувство. Правда, недавно я почти объяснился в любви. Почти… Но нет! Романтические увлечения не для меня. Я должен вернуться в мир Элоры, Актиния и Тибора и выполнить там приказ капитана. Чтобы реже встречаться с Таней, я ссылался на совет доктора Руша: отдых и уединение. На весь день уходил из хижины. Брал с собой этюдник, краски, кисти и долго бродил в поисках подходящего уголка.
Я забывал обо всем, растворяясь в окружающем мире. Под ногами колыхались утренние, стеклянные от росы травы, вверху лениво плыли облака. Обрызганные солнечными бликами, тонко и чуть заунывно пели сосны, будто струны звенели в их рыжих стволах. Наконец нашел то, что искал. Начал рисовать пейзаж в манере Куинжи: негустую рощу, напоенную светом.
Когда уставал от буйства красок, оставлял этюдник на месте и шел обедать в ближайший небольшой город. В мое время его называли бы городом металлургов. Гигантский металлургический комплекс растянулся на километры в глубоких и безлюдных подземных лабиринтах.
После обеда возвращался к этюднику, а к концу дня был уже в хижине. Включал экран. Сегодня передавали последние приготовления к старту гиперкрейсера «Лебедь». Завтра он отправится в первый и опасный экспериментальный гиперполет к созвездию Лебедя. В вакууме он почти мгновенно преодолеет расстояние во много световых лет и вернется на Землю через месяц без всяких релятивистских фокусов со временем.
Затем смотрел фильмы. Сначала они меня удивляли: при общем оптимистическом тоне в фильмах было немало драматизма и трагических ситуаций. Нет, я попал не в Аркадию, не в страну блаженных улыбок и песнопений. Люди понимали счастье как вечную неудовлетворенность и вечное движение вперед, полное радости и горя, побед и поражений. В каком-то смысле покинутая мной Электронная гармония была чуть ли не идеалом «благополучия». Но это довольство нерассуждающего стада, электронная Нирвана…
Однако я должен вернуться туда. Сейчас начало сентября. Ночь. Прошло около ста дней, как я состыковался с эпохой. Я сижу в избушке и дописываю последние страницы. А щекочущий под рубашкой пояс так и зовет, напоминая о моем долге. Сейчас разверну пояс в капсулу… Точно в холодную воду, нырну в вакуум, в ту таинственную реку времени, которая вынесет меня на другой берег, в другую эпоху. Или в иной мир?..
Но я вернусь. Может быть, вернусь…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Гость из Вечности
Фиксация состоялась — удивительное постоянство! — в той же самой роще, на том же месте.
Роща почти исчезла. Вокруг жалкой кучки деревьев высились недостроенные корпуса: город-автомат наползал со всех сторон.
В свое время я неплохо освоился с лабиринтами супергорода. И теперь, умело переходя с одной движущейся параболы на другую, вскоре добрался до дома, где жил раньше. На лифте взлетел на верхний этаж. Подошел к двери соседки: а вдруг Элора сейчас у матери? С нетерпением нажал клавишу.
Открылась дверь, и выглянувшая было Хэли быстро отступила назад. Ее глаза, окруженные веером морщинок, расширились от страха.
— О небеса!
— Где Элора? — спросил я, входя и кивнув головой в знак приветствия.
— Элора? — растерянно переспросила хозяйка. — О небеса! Хранитель Гриони?! Вы ли это? Говорят, вы так неожиданно пропали…
— А Элора, где она?
— Элора?.. Бедная девочка. — По глубоким морщинам ручейками потекли слезы. — Нет ее больше. Не увидим мы ее никогда. Она… Она сама… Она перешла в храм бессмертия.
— Сама?.. Покончила с собой? — холодея, спросил я. — Что за храм такой? Мавзолей? Пантеон?
— Не знаю… О небеса! Я ничего не понимаю.
Старая женщина путано говорила о храмах, которые были новинкой и попасть в которые считалось большим почетом. «Нет, — решил я, — сегодня от нее ничего путного не узнать».
Я попрощался, обещав зайти завтра. Спустился в подземные лабиринты и здесь, в темном закоулке, устроился на ночлег.
Не знаю, сколько я проспал. День сейчас или ночь? Из полумрака подземных коридоров поднялся наверх. Одуряющий городской свет, ударивший в глаза, создавал впечатление вечной ночи, опустившейся на планету.
Над одной из площадей сквозь паутины парабол еще проглядывало солнце. День! Здесь маршировало подразделение Армии вторжения. На другой площади, почти пустой, отдельные граждане, проходя мимо статуи Генератора, вскидывали руки и издавали верноподданнический вопль: «Ха-хай! Ха-хай!»
Унылая картина! Я сел в кресло транспортной эстакады и укрылся силовой сферой-экраном. Но город и здесь напомнил о себе своей стандартной продукцией: замелькали кадры очередного секс-детектива. Я закрыл глаза и молил судьбу, чтобы она не послала мне «толстомордого» раньше, чем появится пояс. Без капсулы я не мог выполнить просьбу капитана. И еще меня тревожила участь Элоры. Что с ней?
Прежде чем снова зайти к ее матери, решил позавтракать. В кафе меня ждала неприятная встреча: в дальнем углу в окружении двух подручных сидел Тибор. Уходить было поздно — он заметил. Откинувшись назад, Тибор от изумления раскрыл рот и тупо уставился на меня. Его рыхлые губы задвигались, послышалось мычание:
— Ммм… Забавно…
Немного опомнившись, Тибор подался вперед, поманил меня пальцем и неуверенно гоготнул:
— Га! Га! Провокатор?
Я усмехнулся: знакомое приветствие! Бояться особенно нечего — охранное время не истекло.
Я сел против Тибора, еще не пришедшего в себя от неожиданности. Мы улыбались друг другу широко и напряженно. Наконец Тибор окончательно поверил в реальность моего существования.
— Вот так номер! Иллюзионист и фокусник возник так же внезапно, как и исчез. Тебя этому фокусу научили на планете пришельцев? Ничего, все сумею выпытать. Тибор — это Тибор! Пока погуляй, пока не имею права трогать. Ты уже знаешь? Но охранное время кончится, и ты пожалуешь ко мне в кресло. Мило побеседуем. Га! Га! Га!
Палач торжествовал. Я невольно сунул руку в карман, где лежала пластинка Актиния. Актиний поможет мне скрыться.
— Что? — догадался Тибор. — Еще какая-нибудь карточка?
Я показал светящуюся пластинку.
— Карточка Актиния? — удивился Тибор. — Точно такая, какую я отобрал. Ловкая подделка. Да ты действительно фокусник. Выбрось ее или лучше давай сюда. Давай, давай! — Тибор схватил пластинку. — Все равно она не действительна. Актиния нет в живых. Он того…
Тибор указательным пальцем провел вокруг своей шеи. «И Актиний тоже…» — с тоской подумал я. Вспомнив о каких-то храмах бессмертия, все же уточнил:
— Самоубийство?
— Да. Дурак! И записку оставил такую же дурацкую.
— Какую?
— «Чем хуже, тем хуже».
Я промолчал. Мне-то был ясен смысл записки. Актиний отчаялся в своих усилиях одиночки, понял, что общество неудержимо катится в какую-то пропасть.
Занятый невеселыми мыслями, я не подозревал, что буквально через минуту вспомню об этой черной пропасти — о Вечной гармонии. Вспомню мгновенно и решительно все, вплоть до мельчайших подробностей.
Произошло это так.
Тибор сидел лицом к входной двери. Однако ничего не замечал, поскольку жадно поглощал синтетическую жвачку. Передо мной была стена с зеркалом, в котором я видел всех, кто входил и выходил.
Вдруг в зеркале увидел такое, отчего лицо мое на миг исказилось страхом. В дверях стоял… Тибор! Еще один Тибор! Но это был уже мертвый Тибор. Слуга Сатаны. Тот самый «толстомордый», о котором говорил капитан.
Вот этот гость из Вечности и послужил решающим толчком, который привел в движение весь механизм заблокированной памяти. Нестерпимо ярким, ослепительным светом озарилась вдруг вся грандиозная и страшная Вечная гармония и ее Диктатор…
Тибор-вечный нерешительно топтался в дверях. Я быстро овладел собой, но страх, липкий и отвратительный страх гусеницей заползал в душу.
Что делать? Встреча произошла слишком рано. Без капсулы я бессилен. Ясно, что гость из Вечности пришел не для прогулки, не для того, чтобы размять свои давно истлевшие кости. Он пришел расправиться со мной…
Один из подручных толкнул в плечо Тибора — живого и удивленно шепнул:
— Смотри, Тибор! Как он похож! Кто посмел подделываться под тебя?
Тибор-живой с изумлением и закипающей яростью взирал на своего вечного двойника: кто, в самом деле, дерзнул копировать его! Этот ученый и палач не подозревал, что через четыреста лет после своей смерти воскреснет по воле Диктатора и станет его подручным, самым лучшим и ревностным его слугой.
Гость из Вечности приближался к нашему углу, бегая глазами по сторонам. Перед этим он, конечно, засек район моего биополя и знал, что я где-то здесь.
Я встал, решив проскользнуть незамеченным на улицу и там затеряться в толпе. Однако маневр не удался. Тибор-вечный увидел меня и торжествующе загоготал:
— Га! Га! Провокатор! Хранитель Гриони! Он же Сергей Волошин! Я подозревал, что это одно и то же лицо, хотя Элора убеждала меня в обратном.
Повысив голос, спросил:
— Что ты сделал с Элорой? Где она?
Этот вопрос меня озадачил.
— Как где? Она у вас, в Вечной гармонии.
— Нет ее там. Исчезла…
— А вихри? — спросил я, выказывая неплохое знание царства Сатаны.
— И вихрей нет. Это ты… Ты убил ее. Здесь. Только где и в какое время? Ну, об этом ты мне расскажешь. Ты знаешь меня: Тибор — это Тибор!
Услышав последние слова, Тибор-живой вздрогнул и вскочил на ноги.
— Эй, ты! Наглец! — закричал он. — Это я Тибор, а не ты! И не трогай этого малого. Он мой.
Тибор-вечный выхватил из-за пояса лучепистолет и повернулся в сторону неожиданного противника. Но тут же, ошеломленный, раскрыл рот и опустил оружие. Тибор-вечный узнал самого себя! Живого! Рыхлые губы обалдевшего гостя шевельнулись, послышалось еле слышное бормотание:
— Ммм… Забавно…
Выстрелить он не мог. Это означало бы верное самоистребление. Убей преждевременно Тибора-живого, он — вечный — мгновенно и навсегда исчезнет не только здесь, но и в будущем.
Многие посетители потянулись к выходу, хотя скандалы всегда вызывали у них жгучий интерес. Воспользовавшись замешательством обоих Тиборов. Я протиснулся к двери.
— А, самозванец! — тоже вытащив оружие, Тибор-живой. — Я разрублю тебя пополам! Тибор — это Тибор!
Тибор-живой нацелил узкую щель лучепистолета в сторону гостя и нажал курок. Глухо фыркнул выстрел. Сверкнул плоский и острый, как нож гильотины, луч. Он отсек голову Тибора-вечного. Голова стукнулась о пластиковый пол и покатилась, разбрызгивая кровь. На широком лице застыло выражение растерянности и недоумения.
Обезглавленный гость чуть покачнулся. Но в тот же миг у него выросла — словно выскочила из шеи — новая голова. И что самое страшное — с тем же выражением недоумения и замешательства на лице.
Кругом раздались вопли ужаса. Все бросились к дверям. Я не стал дожидаться, пока толпа сомнет меня, и выскочил на улицу.
Впопыхах забрался на верхние ярусы передвижных эстакад. Этого делать не следовало. Тибор-вечный сейчас, конечно, «погас» в эпохе и освободившимся лучом шарит из будущего, из своей Вечности, в поисках моего биополя. В первую очередь он будет исследовать паутину эстакад и поверхность планеты.
Я спустился вниз и нырнул в чернеющий зев подземной дороги. Здесь безопаснее. Сидя в быстро мчавшемся вагоне, подумал об Элоре. Что с ней? Как она могла исчезнуть из Вечности? Не захотела служить Сатане? Но кто помог ей? Во всяком случае, не я. Может быть, она сама все устроила? Предположим, пришла сюда, в эту эпоху, в качестве Элоры-вечной и внесла какие-то изменения в реальность…
Проехал еще сотню километров, потом вышел и углубился в боковые безлюдные коридоры. Шаги мои гулко раздавались в тишине. Изредка попадались деловитые и безмолвные роботы, ремонтирующие сложную систему труб и проводов.
Один из них только что вылез из колодца. «Нижний этаж подземного хозяйства», — подумал я и решил переждать опасное время там. Сунул ноги в черную дыру и неудержимо заскользил вниз. Уцепиться было не за что — ни выступов, ни ступенек, стенки колодца были гладкими, как стекло. Очевидно, робот поднимался с помощью пневматических присосок.
Наконец очутился внизу. В полумраке лабиринтов прошел километра два. Усталость и слишком острые впечатления дня взяли свое, я запрятался в нише и уснул.
Снился страшный сон. Тибор-живой беспрерывно нажимал курок лучепистолета и отсекал все новые и новые головы у своего вечного двойника. Они с глухим стуком падали и катились, подпрыгивая, как футбольные мячи. Одна из них подскочила так высоко, что дотянулась до моей руки и с торжествующим криком: «Га, га! Провокатор!»— вцепилась зубами в запястье.
От боли и омерзения я вскрикнул и проснулся. Запястья и в самом деле саднили — руки были закручены назад и крепко связаны. Надо мной склонился какой-то смешливый человек. Согнув средний палец с перстнем-фонариком, он освещал меня и с любопытством рассматривал. Пошарил по пустым карманам, беззлобно хохотнул и сказал двум роботам, стоявшим по бокам:
— Ясно. Беглый художник. Гоните этого чудака обратно!
Меня привели в просторную пещеру. На нарах и камнях сидели люди с дисками, на которых пенилась синтетическая пища. «Художники», — догадался я.
— Дайте и ему поесть, — добродушно сказал человек сопровождавшим меня роботам. — Этот чудак набегался и проголодался.
Он еще раз хохотнул и скрылся в боковой дыре, которая, видимо, вела в служебное помещение или наверх.
— Ты из какой пещеры? — обратился ко мне сосед по нарам. — Из соседней? Пытался бежать? Зря. Отсюда не убежишь.
— Да и некуда, — откликнулся другой художник. Ткнув пальцем вверх, добавил под общий смех: — Там не лучше.
Загнанные в подземелье художники и мыслители оказались людьми жизнерадостными и веселыми. Я был рад этому: мне предстояло провести здесь немало дней…
Едва успев пообедать, под охраной равнодушных роботов мы отправились на строительную площадку. Шли по длинному, усеянному камнями и тускло освещенному туннелю. В полумраке иногда коротко вспыхивали голубые молнии: это роботы электроразрядами наводили порядок. Человекоподобные машины гнали людей, как стадо, подстегивая отстающих уколами электрохлыстов.
На строительной площадке, в гигантской куполообразной пещере, стоял скрежет и лязг. Циклопические машины дробили гранит, расширяя подземное помещение.
Люди, одаренные «нестерпимым зудом» самостоятельно мыслить и творить произведения искусства, считались неспособными ни к какому труду, кроме физического. Они вручную расчищали от щебня и камней площадку для генераторов энергостанции. Роботы жестами и световыми сигналами давали указания. Нерасторопные вздрагивали от разрядов электрохлыста.
Но люди не унывали. А в перерывах начинались настоящие интеллектуальные пиршества. Поэты читали свои стихи, историки под громкий смех рассказывали анекдоты о Генераторе Вечных изречений, часто завязывались серьезные философские споры. Гуманитарии, получив здесь духовную свободу, отводили душу. Никто им не мешал. Одни лишь роботы с электроразрядниками наготове окружали площадки и тупо взирали на непонятное веселье.
Постепенно мне удалось выяснить, что свою планету аборигены называют Хардой. На расстоянии восьми световых лет, в соседней солнечной системе, находится однотипная планета Аир. Ее населяют такие же люди. Являются ли они переселенцами с Харды? Или, наоборот, обитатели Харды жили до этого на Аире? Сейчас об этом глубоком прошлом никто не знает.
Обе цивилизации жили сначала в дружбе. Но общественное развитие шло разными путями. Аиряне создали общество, основанное на равенстве и уважении к личности. По-иному сложилась судьба Харды. У власти утвердилась технократическая элита из старой промышленной олигархии и научно-технической интеллигенции. Стандарты! Для социального спокойствия и технического прогресса везде нужны стандарты — и в производстве, и особенно среди людей. Конструктор Электронной гармонии в одном из своих Вечных изречений учил: «При высоком совершенстве отдельных личностей целому угрожает хаос». Подавлялось искусство, как выражение индивидуальности каждого творца-художника, истреблялась природа, поощрялся рост народонаселения. Происходила своеобразная инфляция личности: чем больше людей, тем меньше ценность каждого отдельного человека. Ты — ничто, гармония — все.
Гости, прилетавшие с планеты Аир, вольно или невольно становились возмутителями «гармонии», этого неустойчивого равновесия. Тогда правители Харды запретили людям Аира появляться на планете, объявили их опасными пришельцами. Не выяснил я одну важную вещь: кто такой Генератор? Жив он или давно умер? Может быть, Генератор — просто миф? А Вечные изречения генерирует сам город, этот всевластный Электронный Дьявол? Я все больше склоняюсь к этой мысли. Думаю даже, что статуи Генератора — абстрактные идолы, воплощающие идею тоталитарной государственности.
В обществе изгнанников я провел в катакомбах и пещерах несколько десятков дней. Это были не такие уж плохие дни, если не считать, что иногда со страхом ожидал Тибора-вечного. Но когда выплыл из вакуума пояс, я уже жаждал этой встречи. А гостя из Вечности все не было. Начал подумывать о побеге на поверхность планеты: там, я уверен, беспрерывно бегающий луч быстро нащупает мое биополе. Но побега не потребовалось.
Однажды во время обеда в углу пещеры, у входа в служебное помещение, люди вскочили на ноги и обступили какого-то человека. Некоторые бросились прочь, крича:
— Тибор! Тибор!
Я обрадовался, зная, какой Тибор появился в катакомбах. Конечно, вечный! Живому здесь делать нечего.
В один миг очутился у входа в туннель. Огляделся. Ближе пяти метров никого не было. Сторожевые роботы не в счет. У них нет биополя они не помешают поясу вынырнуть из вакуума.
Нащупав переключатель
эпох, я почувствовал себя уверенным. Роботы, застывшие у входа, не обращали на меня никакого внимания. Они уставились своими желтыми мигающими глазами в угол пещеры, не понимая причин паники, но на всякий случай приготовив электроразрядники.
Тибор своими пудовыми «вечными» кулаками расчищал дорогу и озирался.
— Я здесь! — крикнул я и махнул рукой.
Гость из Вечности оторопел. Он никак не предполагал, что встреча с ним доставит мне удовольствие.
Я нырнул в темный проем туннеля. Растерявшиеся роботы пропустили меня. Проскочил и Тибор.
Бежал я довольно быстро. Но соблюдал осторожность: на неровном полу туннеля попадались крупные камни. К моему удивлению, тяжеловесный Тибор мчался с легкостью и мягкостью хищника, хотя и уступал мне в скорости.
Туннель кончился. На строительной площадке машины, дробя гранит, скрежетали своими несокрушимыми челюстями. Людей, как я и предполагал, в это время здесь не было. Ни один человек своим биополем не помешает мне осуществить задуманное.
В проходе возник запыхавшийся Тибор. Я заметался, делая вид, что панически ищу выхода. Но в гранитных стенах пещеры не было ни одной дыры, ни одной трещины. Тибор перевел дыхание и ухмыльнулся.
— Га! Га! Побеседуем? Расскажешь мне, в каком месте и когда ты устранил Элору из жизни. Я возникну за час, за минуту до этого и пресеку твое вмешательство, восстановлю прежнюю реальность. Молчишь? Ничего, у меня заговоришь: Тибор — это Тибор!
Я остановился, изображая страх и растерянность. Гость из Вечности медленно приближался. И тут я сделал то, чего он никак не ожидал. Нащупав на правом боку под рубашкой переключатель эпох, я шагнул навстречу Тибору и левой рукой, замыкая невидимое поле, охватил его за талию. Тибор-вечный опешил.
— Ммм… Забавно…
Я сдвинул переключатель. Пояс, мигнув фиолетовым пламенем, развернулся и охватил капсулой меня и Тибора. Вернее, это были две капсулы, как бы спаянные вместе.
Тибор, растерявшись, принялся колотить кулаками. Напрасно! Невидимые тахионно-фотонные стенки капсулы прочнее любой брони. Они-то и перерезали нейтринный луч, отсекли Тибора от Вечности. Я выполнил приказ капитана. Мой сосед по капсуле теперь уже не вечен.
Тахионно-фотонное поле запульсировало. Птица-капсула, не знающая преград во времени и пространстве, взмахнула крыльями и вынесла нас из тесных пещер Электронной эпохи — на волю, на простор тысячелетий…
Простор тысячелетий… Захватывающее, ни с чем не сравнимое ощущение полета во времени. Наша сдвоенная капсула зафиксировалась в первобытном мире. Вдвоем с Тибором мы очутились в древней прерии… Но о своих приключениях в первобытной эпохе, о том, как мне удалось расправиться с Тибором, рассказывать не буду. Это — лишь частный эпизод, мне же предстоит поведать о значительно более важном.
Но прежде всего — выспаться! Уже поздний вечер, а я все еще сижу в своей хижине над страницами дневника. Усталость берет свое: меня неудержимо клонит в сон…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Встреча с друзьями
Проснувшись, я вышел из хижины.
Как и год назад, это было на редкость роскошное июньское утро. Редел туман, уползая в таинственные чащобы. И на поляне перед хижиной многоцветным полотном засверкала под солнцем трава, обрызганная росой. На сосне возилась моя старая рыжая приятельница — белка.
И вдруг — в довершение всего!.. — точь-в-точь, как год назад, вдали над вершиной горы закачался столб дыма.
Быстро дошел до подножия горы, по камням, как по ступенькам, взобрался на вершину. Осторожно раздвинул ветки и перед костром увидел незнакомых людей: высокого худощавого мужчину и его точную, но помолодевшую копию — юношу лет семнадцати. «Сын», — догадался я и вышел из-за кустов.
Поздоровались. Старший предложил разделить с ними завтрак. Он не узнал меня. Зато юноша так и уставился изумленными глазами.
— Сергей Волошин?! — несмело улыбнулся он.
Пришлось за завтраком коротко рассказать о своих последних скитаниях. Старший — лесничий Эридан Потапов — слушал мое повествование как неразрешимую научную загадку. Но его сын Алеша верил мне безоговорочно.
После завтрака Потаповы уговорили меня совершить маленькое путешествие.
— Не такое, конечно, головокружительное, как у тебя, — добродушно сказал Эридан. — И не на хитроумной машине времени, а на гравиплощадке — вот на этой телеге и лошади двадцать четвертого столетия.
И он показал на странный и внешне простой аппарат, стоявший поодаль в кустах. Круглая платформа с перилами, три кресла и перед ними — пульт управления. Вот и все.
— Это редкостная привилегия, — смеялся Алеша. — Летать над землей позволено только птицам и… лесничим!
Мы сели в кресла. Эридан дотронулся пальцем до кнопки. Гравиплощадка бесшумно взмыла вверх. У меня захватило дух — так великолепны были всхолмленные лесистыми горами дали, подернутые сиреневой дымкой…
Сейчас я с удовольствием описываю свое утреннее путешествие на «телеге» лесничего. Тягостное настроение, вызванное воспоминаниями, окончательно рассеялось. Захотелось повидать своих друзей: Ориона, Вегу, Патрика… Особенно Таню. «Жаворонок», — с теплотой подумал я, испытывая глухое волнение.
Вызвал комнату Ориона, но экран не засветился. Попробовал еще раз, нажав одновременно кнопку звукового сигнала. С тем же успехом. Подождал, побродил в лесу около часа. Потом вернулся и снова нажал кнопку. Через минуту экран вспыхнул, выхватив окно, стол и часть стены с фильмотекой. И по-прежнему никого. Кто же тогда отозвался?
И вдруг сбоку стал медленно выплывать огромный букет полевых цветов, который детским голосом робко пропищал:
— Дома никого нет.
Из-за букета несмело выглянули глаза Насти — дочери Ориона. Она радостно захлопала в ладоши, забыв о цветах. Те упали на пол.
— Дядя Сережа вернулся! Дядя Сережа! — закричала она и залпом выложила все новости: папа с мамой в Чукотском космопорте, тетя Таня в Антарктиде. Вернутся все к четырем часам.
— Не говори им пока обо мне, — сказал я. — Слышишь! Не выдавай меня. Молчи с таинственным видом. Вот с таким.
И я состроил напыщенно-важную физиономию. Настя заливалась смехом.
— Сможешь?
— Смогу, дядя Сережа, смогу!
Но что делать до четырех часов? Вспомнил, что на экране можно обозревать с высоты любой город, любой крупный научный или космический центр. Вспомнил и номер Чукотского космопорта — ЧК-81. Набрал этот номер и с высоты птичьего полета увидел бетонированное поле, окруженное движущимися решетчатыми эстакадами. Здесь царство машин, всевластие электроники. Вот несколько остроносых беспилотных разведракет, космический крейсер старого типа.
Невидимый телепередатчик, совершая облет, выхватил огромный диск — гиперзвездолет. Его-то мне и надо! Нажав кнопку, зафиксировал изображение. Несколько десятков людей в гермошлемах и комбинезонах расставляли какие-то приборы. Раздался надсадный рев сирены. Люди быстро, но без суеты, забирались с приборами в открытые люки корабля. Через три минуты люки закрылись. Гигантская чечевица гиперзвездолета поднялась в воздух и вскоре исчезла.
Члены экипажа отрабатывали, видимо, действия по сигналу тревоги. В одном из них я, кажется, узнал Ориона. Но как повидать Таню? Антарктида? Это для меня новость. Что делать там биологу с широким профилем? И где ее искать на огромном материке?
Кое-как дождался четырех часов. Помедлил еще минут пятнадцать и нажал кнопку. За столом спиной к экрану сидел Орион, уткнувшись в аппарат для чтения фильмокниг.
— Кто там еще? — пробормотал он и обернулся. Грузный и обычно медлительный, Орион вскочил с такой живостью, что стул отлетел в сторону.
— Сергей! — обрадовался он. Потом, изобразив на своем широком добродушном лице грозное выражение, поднес к экрану сжатый кулак. Хотел к этому увесистому жесту прибавить не менее увесистое укоризненное слово за мой неожиданный побег. Но, вспомнив что-то, раздумал и приложил палец к губам.
— Т-с-с…
«Мистификатор, — подумал я, испытывая теплое чувство, словно уже попал в долгожданные дружеские объятия. — Сейчас начнет кого-то разыгрывать».
— Таня! — крикнул он в окно. — Тут тебя кто-то спрашивает.
— Кто? — послышался звонкий голос.
— А я почем знаю, — недовольно пробурчал этот артист. — Разве в лицо запомнишь всех твоих муравьиных знатоков и приятелей тигров?
И с равнодушным видом уселся за стол, углубившись в светящуюся фильмокнигу.
Вошла Таня, подняла голову и слегка побледнела, а потом ее глаза вспыхнули таким счастьем, что я вздрогнул. Сияющий взгляд этих глубоких глаз — лучшая награда за все мытарства в страшных эпохах.
— Ты?.. Сережа?.. — прошептала она и облегченно вздохнула. — Наконец-то! Ты у себя?.. Я сейчас… Сейчас. Ты подожди. Мы сейчас все вместе.
Экран погас. Пока соберутся все вместе, думал я, пройдет не менее часа. Но уже через пятнадцать минут скрипнула дверь, и в хижине стало тесно. После первых приветствий, междометий и восклицаний Орион снова поднес кулак — но уже не к экрану, а к самому моему носу.
— Чем пахнет? Ох, подожди, космический бродяга, тебе еще попадет от меня, от Спотыкаева… Беглец! Хоть бы предупредил…
Взглянув на притихшую Таню, он обратился к Веге и Патрику:
— Пойдем-ка разводить костер. Мы ему еще устроим сцену у костра. — И, лукаво улыбнувшись, добавил: — Ему сначала предстоит весьма крупный разговор с Татьяной.
Мы остались вдвоем. И снова я вздрогнул от радости, почувствовав обжигающий взгляд черных, глубоких глаз. Таня протянула для пожатия руку и еще раз облегченно вздохнула:
— Ну, здравствуй, Странник!
Она уронила пышноволосую голову на мое плечо.
— Не надо, Таня, — мне показалось, что она плакала. — Я же здесь… Теперь уже навсегда.
Я взял ее за вздрагивающие плечи и посмотрел в лицо. Но Таня не плакала, а смеялась тихим и таким счастливым смехом, что я тут же дал себе торжественную клятву никогда с нею не разлучаться.
Когда мы вышли из хижины, перед нею уже плескались веселые языки костра.
Бережно обращаясь с платьем, Таня села на камень.
— Вырядилась, — кивнул в ее сторону Орион. — Всегда так, когда у нее хоть маленький успех. Оказывается, она почти композитор! А сегодня… Ее цветы сегодня впервые зазвучали, заквакали, как лягушки. Вернулась из Антарктиды, сразу же облачилась в дурацкий пенелон и целый час вертелась перед зеркалом!
Таня метнула на брата укоризненный взгляд: он разоблачил перед всеми ее маленькую слабость.
— Не успела переодеться, — оправдывалась она. Потом воскликнула, желая переменить тему разговора: — Совсем забыла! Поздравь их, — она показала на Вегу и Патрика. — Новая супружеская пара.
— Где будете жить? — спросил я. — В кочующем городе?
— Нет, не могу привыкнуть к зною. Будем жить на моей родине — в Шотландии, — ответил Патрик и пошутил: — Там у меня древнее родовое имение. Замок с привидениями.
— Ты подожди со своими инженерными привидениями, — сказал Орион. — Послушаем прежде о загадочных призраках Вечной гармонии. Как твоя память, Сережа? Разблокировалась?
— Полностью, — усмехнулся я. — И мгновенно, словно включился свет прожекторов.
Но сначала я рассказал об электронной эпохе, о встрече с «толстомордым» — Тибором-вечным. Старался излагать с юмором. И не без успеха. На губах Патрика и Веги вспыхивала улыбка, Орион хохотал. Но Таня слушала с таким серьезным видом, словно не я, а она бродила в катакомбах, сражалась с Тибором в каменном веке.
Сгустились июньские сумерки, стало прохладно. Но Орион забыл подкладывать ветки в костер. Головешки багрово тлели. В фиолетовом небе повисла огненная роса. Танино праздничное платье излучало в темноте такой тонкий свет, словно оно было соткано из танцующей звездной пыли, словно девушка укуталась не в пенелон, а в кусочек Млечного пути…
— О чем задумался? — нарушил молчание Орион, подбросив сухие ветки, — Продолжай. Расскажи о Вечной гармонии. Ведь ты ее вспомнил.
— Ну, это слишком страшно, — усмехнулся я и сам подивился своей беспечной веселости. В этом мире, в кругу друзей тот мир показался вдруг почти нереальным.
— Нет, такие жуткие вещи на ночь рассказывать нельзя, — отшучивался я. — Лучше я все запишу завтра. Потом почитаешь.
— Хорошо. Один день тебе на это. А послезавтра — Совет Астронавтики. Для Спотыкаева и его теории — ты просто находка. Спотыкаев ждет тебя, как манну небесную… И вообще довольно жить отшельником, — добродушно продолжал Орион. — За полчаса отгрохаем тебе такой дворец — закачаешься. А эту избушку — ко всем чертям!
— Пират! — с восхищением воскликнула Таня и рассмеялась. — Посмотрите на этого космического пирата. Он усвоил все замашки древних морских разбойников. Ругается, как шкипер!
Беседа наша у погасающего костра затянулась до полуночи. Причем Таня подтрунивала не только над Орионом, но и надо мной. В полночь мы расстались.
…Сейчас дописываю свои впечатления о проведенном дне. Этот день освежил меня лучше, чем десяток ультраволновых душей.
А завтра…
Завтра я должен рассказать человечеству о той страшной «эволюции», которая привела Электронную эпоху к Вечной гармонии. Продолжу свои воспоминания, прерванные из-за блокады памяти. Точнее — не продолжу, а начну с того места во второй главе моих записок, когда открылась и тотчас захлопнулась за нами, членами экипажа, дверь в пустынную Вечную гармонию — подлинное царство Сатаны.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Царство Сатаны
— Никаких эксцессов! Слышите, братцы? Никаких эксцессов!..
Эти слова капитана, сказанные в преддверии Вечной гармонии, никогда не забывал. А дальше — черная пропасть… Память нашу заблокировали с того момента, когда силовая сфера заглотила корабль своими протуберанцами. Но сейчас прекрасно помню, что встретило нас по ту сторону сферы.
На нас обрушилась тишина. Заглохли планетарные двигатели, перестали петь приборы. Прозрачная полусфера пилотской каюты потемнела — ни солнца, ни звезд. Корабль будто провалился в угольную яму.
С электронным универсалом что-то случилось. Он буквально мямлил, на вопросы отвечал с перебоями. С трудом удалось выяснить, что звездолет, как муха, попал в паутину силовых полей. Его будто сунули в мешок и волокли в неизвестном направлении.
— Выясни, что с двигателями, — приказал мне капитан.
Я спустился в кормовую часть корабля. Из машинного зала вырывался сноп света, и на полу коридора вздрагивала тень неизвестного человека.
С излучателем в руке я подкрался к двери и увидел широкую спину незнакомца. Тот склонился над приборами. Левую руку он отставил в сторону и опирался ладонью на предохранитель. Пломба почему-то сорвана. Стоило по неосторожности нажать кнопку предохранителя, и свинцовый шар, получивший от утечки гравитонов отрицательный заряд, освободится от пут силовых полей. Он может коснуться корпуса реактора. И тогда — черный взрыв! Та самая черная аннигиляция!
Что делать? И я поступил, может быть, не лучшим, но радикальным образом — тонким и острым, как бритва, лучом отрубил руку. Не задев кнопки, рука упала на пол.
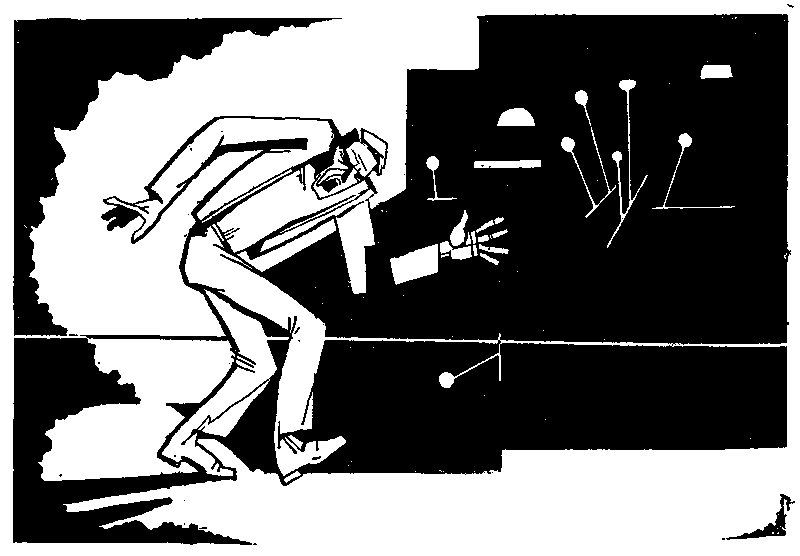
Взревев от боли, незнакомец обернулся и увесистым правым кулаком с размаху стукнул меня по скуле. Удар был хорош. Я отлетел в другой конец коридора. Слизнув соленую струйку крови, вскочил на ноги. В ту же минуту за моей спиной появились члены экипажа.

Взглянув на мою окровавленную щеку, капитан сердито сдвинул брови.
— Опять эксцессы? Я предупреждал…
Я привел товарищей в машинный зал, где на полу валялась отрубленная по локоть рука, и рассказал о случившемся.
— Не очень остроумно поступил, братец, — насмешливо заметил капитан. — Впрочем, ничего другого не оставалось. А ты, Яков Петрович, возьми эту чертову руку, исследуй и доложи.
Поставив на предохранителе новую пломбу, мы тщательно заперли за собой машинный зал. Как будто это имело какое-то значение для вездесущих и всепроникающих гостей.
Через полчаса в пилотскую каюту пришел из лаборатории Яков Петрович.
— Рука как рука, — сказал он. — Из той же плоти и крови, что и у нас. Могу сообщить группу крови, РОЭ, процент гемоглобина…
— Не надо, — отрезал капитан. — Выкинь ее за борт.
Стычка в машинном зале имела одно положительное последствие: таинственные потомки оставили нас в покое. Никто больше не следил за нами и не рылся в каютах.
Малыш повеселел, а планетолог, поглаживая бороду, благодушно острил:
— Феноменально! Понимаешь, Сережа? Любезным потомкам мы надоели. Изучали они нас, изучали, а потом, треснув тебя по физиономии, поставили на этом точку.
— Хороша точка, — смеялся Ревелино, показывая на мою левую щеку. — Может быть, всего лишь запятая?
Шрам на щеке и в самом деле походил на багровую запятую.
— Хватит зубоскалить, — строго сказал капитан, однако от улыбки не удержался.
Лишенный управления звездолет продолжал нестись в полной темноте. Однажды утром, когда я только что проснулся, корабль сильно вздрогнул, ударившись обо что-то.
Быстро оделся и побежал в пилотскую. Весь экипаж на месте. Даже Иван Бурсов.
— Мы на Луне! — кричал он.
Каюту заливал солнечный свет: полусфера снова стала прозрачной, словно кто-то сорвал с нее черное покрывало.
Мы натянули комбинезоны с гермошлемами и спустились вниз. Над нами колыхался косматый огненный шар Солнца. Почти рядом чернел диск, окруженный голубым ободком подсвеченной сзади атмосферы. Это была Земля, ее ночная сторона.
Звездолет стоял на лунном космодроме, опоясанном какими-то строениями. Может быть, город? Мы шагали по ровной площадке, оставляя глубокие следы в многовековой пыли: с космодрома уже сотни лет не взлетал ни один корабль.
Вошли в лунный город. Он напоминал почерневший лес, по которому когда-то прокатилась волна пожара. Кругом, как темные стволы циклопических деревьев, высились многоэтажные здания, переплетенные лианами провисших мостов и эстакад. Ноги утопали в пыли, как в пепле. Многие дома покосились, часто попадались обломки рухнувших эстакад. Город был мертв. Ни малейшего движения, никаких признаков жизни. Внутри зданий — такое же запустенье: ровный слой пыли, истлевшая мебель.
— Где же люди? Хотя бы те призраки? — спросил Иван.
— На Земле, — уверенно ответил капитан. — То есть людей-то не найти и там. Во всяком случае, живых людей. Но там разгадка.
К экспедиции на Землю готовились два дня. У нас была вместительная шлюпка — посадочная ракета, которую с помощью механизмов поставили рядом с кораблем.
Ракета стартовала, взметнув облако пыли. У всех нас зачастил пульс, когда увидели темный диск в голубом ореоле атмосферы. Земля наплывала, увеличивалась. Что ждет нас на родной планете? Она молчала. Ни звука в микрофонах, ни одного светового всплеска на черном диске. В наш двадцать первый век ночная сторона Земли казалась из Космоса мерцающей. Светились города, в океанах проплывали ярко иллюминированные лайнеры. А сейчас — ничего. Огни цивилизации погасли…
Приборы показывали высоту сто километров, потом пятьдесят. Ракета, выпустив крылья, входила в плотные слои атмосферы.
Мы прильнули к экрану радароскопа. Он серыми красками, но в сильном увеличении рисовал неясную картину — лениво перекатывающиеся волны океана. Затем водные просторы сменились сушей. Однако это была странная суша: те же волны, но неподвижные, вдруг закаменевшие.
— Что такое? — бормотал планетолог. — Хотя бы руины, как на Луне… А то ведь ничего. Какой-то застывший океан.
— Скоро будет освещенная сторона Земли, — капитан хмурился, около тонких губ залегла жесткая складка. — Сейчас увидим.
И мы увидели… Трудно передать чувство смятения, охватившее членов экипажа. Под нами расстилалась серо-желтая пустыня, безграничный застывший океан песков.
Планирующая ракета еще снизилась и замедлила полет. Внизу мелькали барханы. Ни одной зеленой рощицы или дерева, ни одной нежданно сверкнувшей реки.
Кружили над мертвой планетой долго.
— Будем садиться, — сказал, наконец, капитан.
Ни один мускул не дрогнул на его каменном лице. Часто я восхищался, но иногда смущала эта волевая непроницаемость. У нас сжимались сердца от предчувствия беды, постигшей человечество. Но что думал Федор Стриганов? Трудно сказать. Движения его рук за пультом управления были по-прежнему уверенными и спокойными.
Место для посадки капитан выбрал удачно — ровную гранитную площадку, почти не затянутую песком.
Иван Бурсов и биолог выпустили на волю автономные приборы — автоматы. Первые показания их не радовали. Песок и воздух не содержали не то что капли, но и росинки воды. О жизни и говорить нечего. Чуткие приборы не обнаружили даже микроорганизмов. Это была стерильная пустыня, пустыня-абсолют.
И вдруг…
— Человек! В пустыне человек! — закричал Ревелино.
Мы поспешили к бортинженеру на горбатый бархан. С вершины заметили вдали одинокую фигурку, точнее — силуэт. Человек поднял руку, не то показывая вверх, не то подзывая к себе. Рядом с ним — решетчатый остов полуразрушенного здания. И ничего больше. Кругом унылая холмистая равнина.
— Это контакты! — воскликнул легко возбуждающийся Иван. — Скорее в вездеход!
Под прозрачным бронекуполом гусеничного вездехода разместился весь экипаж. Завыл двигатель. Машина, покачиваясь, переваливала через бугры и оставляла за собой рубчатые следы. Когда до цели оставалось метров триста, мы поняли свою ошибку: это был не человек, а внушительных размеров статуя.
Двигатель внезапно заглох. Ревелино долго копался в нем, но повреждений не нашел. Что это? Снова шутки невидимок?
Мы выпрыгнули из кабины и осмотрелись. Позади остроносой гусеницей-шестиножкой серебрилась горизонтально поставленная ракета.
В крайнем случае к ней можно вернуться пешком.
Подошли к статуе. Металлический идол с застывшей усмешкой простирал руку вверх. На постаменте какая-то надпись из замысловатых знаков, которые раньше, очевидно, светились.
Сейчас, уже побывав в Электронной эпохе, я смог бы объяснить товарищам, что это статуя Генератора Вечных изречений. Прочитал бы и надпись: «Болезней тысячи, а здоровье — одно». Сотни лет простоял чугунный Генератор. Сначала во всемирном городе, затем в глобальной пустыне — пустыне абсолютного «здоровья». Идеальное воплощение Вечных изречений?
Это сейчас… А тогда я вместе со всеми с недоумением взирал на статую. Она вызывала тревогу, ощущение забытой вехи погибшей цивилизации. Но какой цивилизации? Сфинкс пустыни с загадочной усмешкой молчал. Ничего не дал нам и осмотр металлического покосившегося скелета здания.
Прошли еще километра два. Ракета утонула за горизонтом. Компасы не работали словно планета лишилась магнитного поля. Среди пустых холмов четко вырисовывался на белесом небе единственный ориентир — силуэт статуи. За нами цепочкой тянулись глубокие следы. Они, решили мы, приведут нас обратно к вездеходу. Это был просчет. Мы еще не знали нрава таинственной пустыни.
Пустыня, до этого неподвижная и немая, вдруг зашевелилась и заговорила звенящим шепотом. Задымились макушки барханов, поползла, Скручиваясь в желтые веревки, струистая поземка.
Потом поднялся сильный ветер и началась песчаная круговерть, быстро стершая наши следы.
Обернулись, но ориентира своего не увидели. Горизонт затянуло колышащейся мглой. Мы крепко взялись за руки, чтобы не потерять друг друга, и зашагали, как нам казалось, в нужном направлении. Только бы дойти до вездехода — там баллоны с жидким кислородом и запасы питательной пасты.
Все кругом забилось. Серая пелена скрыла не только статую, но и солнце. Мы брели упорно и долго и, конечно, сбились с пути.
Ветер усиливался. Тугие струи воздуха, взвинчиваясь пыльными вихрями, пошли гулять по барханам. С шипением и грохотом налетел ураган. Тысячи песчинок щелкали по гермошлемам, густые потоки сбивали с ног.
Бурю решили переждать около скалистого обнажения. Тем более, что по нашим часам на планете наступила ночь. Однако не было ни Луны, ни звезд. Ничего, кроме мчавшейся с визгом и воем песчаной мглы.
Ураган смолк внезапно. Искать, ракету сейчас не имело смысла. Надо ждать утра. Мы уселись плотнее друг к другу. Я опирался на широкую, как плита, спину Ивана Бурсова и чувствовал его учащенное дыхание. Могучим легким планетолога не хватало воздуха. Кислород кончался и в моих баллончиках. По показаниям приборов воздух планеты содержал кислород. Но годился ли он для дыхания? Я осторожно приподнял, а потом совсем откинул назад гермошлем.
— Не курорт, но дышать можно, — сказал я Ивану.
Планетолог открыл гермошлем и облегченно вздохнул. Остальные последовали нашему примеру. Мы даже вздремнули до рассвета.
Утреннее солнце осветило безотрадную картину — безбрежный песчаный океан. Мы сориентировались по солнцу, посовещались и направились на северо-запад. Там, казалось нам, была надежда найти ракету или вездеход.
Через час мы чувствовали себя, как в раскаленной печи. Сколько бы ни двигались, всегда сказывались в центре ослепительной и знойной бесконечности. А еще через три часа едва плелись. Голод, который ночью сосал желудком, отступил перед новым врагом — жаждой. Жгучее солнце выжимало из нас последние соки. А мы все брели и брели, с трудом вытаскивая ноги из сыпучего песка.
Первым свалился с ног самый старший из нас — Яков Петрович Зиновский. Капитан подхватил биолога за плечи и помогал ему идти. Я присматривал за Иваном Бурсовым. Крупному, полнотелому планетологу приходилось туго. Но он крепился. И даже разразился витиеватой бранью по адресу статуи.
— Чугунный подонок… Стоит сейчас где-то в пустыне и ухмыляется. Это он завел нас…
В горле пересохло. Сухой и шершавый язык с трудом ворочался во рту. От усталости шатало из стороны в сторону. В голове закружилось, и я готов был упасть, когда услышал крик Ревелино:
— Оазис! В пустыне вода… Оазис!
«Бредит», — подумал я, еле взбираясь на вершину бугра, где стоял Ревелино. На западе, куда клонилось перешагнувшее через зенит солнце, увидел деревья и блеснувшее между ними зеркальце воды.
— Мираж? — спросил я капитана.
— Не похоже, — ответил он. — В такой глобальной пустыне не должно быть миражей.
Вид деревьев и воды приободрил нас. И все же мы едва доплелись до оазиса — зеленого островка в желтом океане. Последние метры я тащился, сгибаясь под тяжестью Ивана. А тут еще оазис не пускал нас: руки наткнулись на упругое энергетическое поле. Впрочем, оно тотчас завибрировало, вспыхнув на секунду голубоватым пламенем, и втянуло нас внутрь полусферы. Оазис был под невидимым силовым колпаком.
Легкие судорожно расширялись. Я глотал свежий воздух, обильно насыщенный кислородом и ароматом лугов. Потом плеснул воды на Ивана, дал ему попить. Тот очнулся, с изумлением взирая на высокие ветвистые деревья и озерко чистейшей воды.
— Феноменально! — прошептал никогда не унывающий Иван, поглаживая свою мокрую бороду. — Мы что, уже в раю? Мы умерли?
Жажда так иссушила нас, что мы забыли о всякой умеренности. Встав на четвереньки и погрузив лица в воду, пили, как животные на водопое. Потом разделись и бросились в озерко, напоминавшее скорее глубокую лужу. Обезумев от радости, плескались, как дети, ели плоды, похожие на бананы…
Когда наши животы разбухли от воды и сочных плодов, мы вылезли на берег и осмотрелись. Диковинный оазис не имел ничего общего с пустыней. Он был инородной частью. Создавалось впечатление, что круглая травянистая платформа с деревьями поставлена прямо на песок. Журчащий ручеек, впадающий в лужу, начинал течь из пустоты — от границы силового барьера. Еще одна странность — ветер. В пустыне, окружающей оазис, не шевельнется ни одна пылинка. Кругом мертвая раскаленная неподвижность. Здесь же дул прохладный порывистый ветер. Густая листва деревьев звенела, переливаясь серебром и чернью.
— Смотрите! — воскликнул Ревелино.
В небе, над кроной самого высокого дерева, кружилась птица. К ней присоединилась другая, влетевшая внутрь невидимого колпака неведомо откуда. Птицы описали круг и улетели в пустоту, в ничто.
— Почти все ясно, — сказал капитан.
— Модель? — спросил планетолог.
Нет, оазис не смоделирован. Это частица реальности, выхваченная из прошлого. Вероятно, из очень далекого, доисторического прошлого. Как это сделано? Имею об этом лишь теоретическое представление. Но это так, братцы. Это кусок действительности….
Похоже, что Федор был прав. Опасаясь, как бы перемещенное во времени чудо не исчезло, мы еще раз искупались, наелись впрок плодов, напились. Капитан приказал надеть комбинезоны.
— Всякое может случиться.
— А не провалимся ли мы в прошлое вместе с этой платформой? — спросил я.
Капитан пожал плечами. Планетолог выразил согласие провалиться хоть в преисподнюю, только бы остаться в этом райском месте.
Испытания, выпавшие на нашу долю в пустыне, усталость — все это сказалось. Мы не заметили, как заснули. Проспали, вероятно, больше суток.
Разбудил нас Федор Стриганов глубокой ночью и молча обвел вокруг рукой: смотрите!
Вид был ошеломляющий. Мы сидели на берегу знакомой лужи, тускло посеребренной луной. Над нами склонялись ветви тех же деревьев. Но пустыни — вот что нас поразило! — пустыни не было. Оазис естественно вписывался в пейзаж, который заворожил нас первобытной красотой. До самого горизонта холмистым ковром расстилалась лесостепь, залитая дымным лунным сиянием. Вдали темнели две или три рощи вроде нашей. Справа — лес.
Силовой колпак исчез. Ручеек начинал свой бег не из пустоты, не от границы, где раньше был барьер, а из травянистой ложбины. Удивительный ручеек! Раньше он весело звенел и журчал, а сейчас беззвучно переливался в траве, играя слюдяными блестками. Дул, очевидно, ветер. Но мы не ощущали его упругости.
Странный, молчаливый мир. Мир без звуков, без запахов, без ощущений. Одни лишь зрительные восприятия.
— Фотонный мир, — сказал Стриганов.
— Не темни, капитан, — проворчал Иван. — Объясни.
— Слышали про эффект Ньюмена?
— Да, — ответил я. — Шведский ученый Ньюмен предсказал эффект несовмещенного времени. Его гипотезу поддержали немногие. Большинство специалистов иронизировало.
— Вот именно. Иронизировало, — хмыкнул капитан. — А теперь смотрите.
Федор встал и, наклонив голову, решительно направился прямо на дерево. Все ждали, что он стукнется лбом о шершавый ствол. Но произошло невероятное — капитан прошел сквозь дерево, как призрак. А точнее — дерево было призрачным.
— Поняли, братцы? Фотонный мир. Две несостыкованные эпохи. Раньше мы были в состыкованной роще, а сейчас во всей эпохе, но несовмещенной во времени. Нас разделяют биллионные доли секунды, всего один квант времени. Но самый важный квант. Мы видим вторичные фотоны, световое изображение прошлой эпохи, но не пребываем в ней. Не осязаем ее и не слышим. Мир по ту сторону наших органов чувств, кроме зрения. А жители эпохи нас даже видеть не могут. Мы вроде незримых наблюдателей из будущего — из пустыни. Не спрашивайте, как это делается. Не знаю.
— А главное, кто это делает? Может быть, они? — планетолог показал в сторону степи. Там, за гребнем холма, светилось багровое зарево…
— Сходим и посмотрим, — предложил капитан.
Мы осторожно передвигались, испытывая непривычное ощущение нереальности, призрачности окружающего. Сквозь холм с кустарником проплыли, будто он был соткан из подкрашенного воздуха.
За холмом, в полукилометре от нас, извивались космы большого костра. Около него скакали крохотные человеческие фигурки.
— Можем подойти ближе, — сказал капитан.
Подошли. Вокруг костра плясали, разевая рты в беззвучных криках, голые волосатые люди. Очевидно, это было племя людоедов: у костра лежали связанные гибкими ветвями пленники.
Беззвучная картина начала растворяться, размываться, заволакиваться дымом.
— Этой безобразной сценой наши потомки хотели что-то сказать. Подать какую-то мысль.
Федор согласился со мной и добавил:
— А чтобы их мысль стала еще более наглядной, сейчас по контрасту увидим мирную, идиллическую сцену.
На этот раз капитан ошибся. Сначала его предположение как будто оправдывалось. Клубящийся вокруг нас туман редел, насыщаясь светом. Торжественно и мирно выплывало солнце, рассеивая клочья мглы. Медленно выступал большой город, окруженный горами. Необычные купола многоэтажных зданий жарко сверкали под утренними лучами.
Город просыпался. По широким проспектам, радиально расходящимся от центральной площади, катились каплевидные машины. На окраине которая подступала к нашему наблюдательному пункту — высокому холму, люди неторопливо выходили из подъездов, щурясь на солнце.
И вдруг что-то стряслось. Город обезумел, охваченный внезапной паникой. Машины увеличили скорость, стремясь вырваться из города. Они сталкивались, врезались друг в друга, образуя груды металла. Люди на окраине заметались с широко открытыми и ничего не видящими от ужаса глазами. Они натыкались на стены, падали.
Кошмар, навалившийся на город, казался таким чудовищным и реальным, что и нас охватил страх.
— В чем дело?
Из-за гор, в противоположной от нас стороне, выглянула черная туча. Ее клубящиеся края меняли очертания и форму. Во всем туча была обычной, естественной, кроме стремительной скорости, с которой она передвигалась.
Туча налетела на кипящий ужасом город, как коршун, распластав свои необъятные крылья. На город упала ночь. Засверкали молнии, заискрились капли дождя. Вскоре дождь превратился в ливень.
Однако не вода обрушилась вниз, а какая-то вязкая жидкость, облепившая дома и людей. Тучи не стало — она вылилась вся без остатка. А жидкость взрывоподобно вспыхнула, взметнув до неба пламя. Люди мгновенно превращались в пепел, в дым, в ничто. Машины, бетон и металлические конструкции зданий плавились и разливались потоками.
Все произошло в считанные секунды. В котловине между горами образовалось озеро еще не остывшей, пузырящейся жидкости — густой, как магма.
— Чистая работа! — воскликнул Иван. — Нет, Федя, это не история. Страшновато для истории. Нам показали научно-популярный фильм о действии нового оружия массового истребления. Контакты! Таинственные потомки с помощью фильмов пытаются вступить с нами в контакты. Сначала попугать нас…
— Попугать — это верно. Но с помощью кусков реальной истории. Мы в несовмещенном времени. Нагнитесь и пощупайте траву. Я не буду этого делать. Знаю, что найду там.
Я наклонился и обнаружил, что трава, росшая на холме, протыкала наши ноги. Попробовал схватить ее. Но трава оказалась неосязаемой. Ее будто не было. Зато ладонь загребла горсть песка. Невидимого, но раскаленного, обжигающего песка глобальной пустыни.
Вслед за мной то же самое проделал Иван Бурсов.
— Убедились, братцы? По-настоящему мы не на холме, а на песчаном бархане. Мы на стыке двух эпох.
— Ты хочешь сказать, что мы были свидетелями события, происшедшего после нашего отлета, после двадцать первого века? — спросил я. — Но это же немыслимо! Войн не могло больше быть!
Капитан развел руками.
— Мне тоже не верится. Не хочется верить.
Пока разговаривали, кругом сгущался шелковистый туман. Очевидно, это был какой-то вид энергии, поддерживавший нас в несовмещенном времени.
Густой и непроницаемый туман понемногу рассасывался и накалялся. Это не было похоже на предыдущий тихий солнечный рассвет. Ослепительные блики теснились со всех сторон. Раскаленные шары проплывали и внутри нас.
Когда последние клочья тумана истончились и распались, мы долго не могли ничего понять. Разноцветные огни мигали, извивались, крутились, брызгали искрами. Сквозь огненную пляску проступали человеческие лица, равнодушные и неподвижные, как маски.
Угадывались фасады огромных зданий, переплетенных сетью движущихся эстакад и светящихся парабол.
Кое-как разобрались: мы — в чреве чудовищного мегаполиса, сверхгорода-автомата. Замелькали сцены безобразнее прежних. Кто-то выхватил из сытой жизни супергорода самое отвратительное и показывал крупным планом. Вот с огромной высоты бросился вниз человек. Он врезался в настил площади с такой силой, что буквально расплескался. Откуда-то выскочил дворник-автомат и смыл кровавое месиво, оставшееся от самоубийцы. Запестрели перекошенные лица сумасшедших. Затем началось такое, о чем и сейчас не могу вспоминать без дрожи. Какие-то застенки, пытки людей…
Мы закрыли глаза руками, стараясь подавить тошноту. Сквозь пальцы почувствовали, что пляска огней прекратилась. Открыв глаза, увидели клубящийся туман — сгустки энергии, своего рода облака времени, на которых нас переносили из одной несовмещенной эпохи в другую. Обволакивающий туман не рассасывался, наливаясь светом, а пропал моментально. Так же мгновенно исчезло ощущение призрачности окружающего. Мы в реальной, в совмещенной эпохе — в пустыне. На голой равнине только наши следы.
— Уважаемые потомки, — с усмешкой проговорил капитан, — наглядно показали, до чего безобразна человеческая история и вообще вся земная жизнь. Быть покойниками лучше…
Я и сейчас, когда прошло много времени, не перестаю удивляться прозорливости капитана. Он ошибся лишь в одном: не «уважаемые потомки», а сам Диктатор пытался разговаривать с нами без посредничества своих слуг. Он хотел убедить: живое человечество — мятежное, буйное и никчемное племя. То ли дело пустыня — идеал вечного успокоения, мира и гармонии…
Мы осмотрели тот круг вселенной, который достался на нашу долю. До самого горизонта желтыми холмами простиралась раскаленная пустыня.
Оазиса нет. Он остался в недостижимом прошлом. И не было никаких надежд, что могущественные потомки захотят еще раз побаловать райскими уголками. Они бросили нас на произвол судьбы.
— Что делать? Где искать ракету? Чувство безнадежности охватило членов экипажа. Капитан ободрял с добродушным юмором:
— Не вешать носы, братцы. Накачали животы первобытной водой — и будьте довольны. С таким запасом воды не пропадем. Разобьем пустыню на квадраты и будем искать ракету.
Посовещались и пошли сначала на восток. Старались не смотреть вниз, на ослепляющий песок. Оттуда, как от раскаленной плиты, струился горячий воздух. Сверху немилосердно жгучим потоком лились солнечные лучи. Ни ветерка, ни малейшего движения. И тишина.
Первый день шагали сравнительно бодро. Ревелино поднимался на остроконечные холмы и осматривал горизонт. Мы останавливались, с волнением ожидая его крика: «Я вижу ракету!»— или: «Оазис!» Но Малыш, опустив голову, каждый раз молча спускался вниз.
Ночь переспали, приютившись у одинокой скалы. После полуночи из космического пространства опустился пронизывающий холод. В черном омуте неба тонкими искристыми льдинками колыхались бесчисленные звезды.
Со второй половины следующего дня начались кошмарные часы. Пустыня и беспощадное солнце высосали из нас последние капли влаги. В переливах горячего воздуха кружился рой огненных мотыльков. Временами казалось, что мы тонем в расплавленном металле.
С трудом переставляя ноги, я поддерживал обессилевшего планетолога.
— Человек в пустыне! — неожиданно раздался крик Малыша. — Человек!..
— Наконец-то! — встрепенулся Иван. — Это тот самый чугунный идол… Сейчас найдем ракету.
Поспешно, насколько еще хватало сил, поднялись на гребень пухлого бугра и встали рядом с Ревелино.
Дальше нам пришлось пережить одно из самых сильных потрясений. Почему этот случай не всплыл в заблокированной памяти первым? Хотя бы в кочующем аквагороде, когда доктор Руш расшифровывал заблокированные энграммы? Вероятно, потому, что эпизод был слишком уж впечатляющим…
Вдали, в той стороне, куда показал Малыш, мы заметили одинокую фигурку. Иван ошибся: это была не статуя, а человек. Живой человек!
Он стоял на гребне серповидного бархана и правой рукой подзывал к себе. Потом повернулся спиной и стал ждать.
— Призрак? Мираж? — прошептал Иван.
— Не призрак и не мираж, — ответил капитан. — Следы…
В самом деле: пологий склон бархана испещрен черными точками — следами незнакомца.
А призраки следов не оставляют.
— Тогда контакты, — оживился Бурсов. — Подойдем?
Чем ближе подходили, тем сильней росла безотчетная тревога. Незнакомец стоял все так же спиной к нам. Его невысокая, но стройная фигура кого-то напоминала. Одет он был в такой же комбинезон, как и у нас. Незнакомец то и дело рукавом отирал с лица пот: ему, как и нам, тяжко приходилось в адском пекле.
Когда расстояние сократилось до пяти метров, человек медленно обернулся. Мы остановились, как вкопанные. Несмотря на жару, по спинам пробежал мороз: на нас запавшими, мертвенными глазами смотрел… Федор Стриганов! Наш капитан! А какой взгляд… Это был тоскливый и жалостливый взгляд из какой-то немыслимой дали. Из той дали, откуда нет возврата.
Вселенская тишина. Не шелохнется ни одна песчинка. В непоколебимом молчании пустыни громом прозвучал знакомый четкий голос.
— Это я, братцы. Не пугайтесь, — сказал двойник капитана. — Вот какой я стал. Не пугайтесь.
Желая подбодрить нас, человек искривил тонкие губы. Улыбка получилась такая печальная и жуткая, что Малыш вздрогнул и вцепился в мою руку.
— Не бойтесь, — тихо, поникшим голосом продолжал незнакомец. — Идите за мной.
Хотел еще что-то добавить. Но раздумал, уныло махнул рукой и начал спускаться вниз, печатая глубокие следы. Рисунок их был точно такой же, какой оставлял на песке наш капитан.
Когда оцепенение прошло, мы взглянули на капитана: вот же наш вожак! Стоит живой среди нас! И тут на лице Федора я впервые обнаружил подобие страха. Может быть, даже минутного ужаса перед чем-то неотвратимым, перед неизбежностью судьбы. Капитан побледнел, но быстро овладел собой и твердо сказал:
— Идемте!
Он был прав: нам ничего больше не оставалось, как только следовать за таинственным проводником. Кругом раскаленный океан песков. Сверху давил такой же пустынный белесый купол неба, откуда насмешливо взирал на нас один лишь огненный глаз солнца.
Двойник капитана шагал значительно быстрее нас. Удалившись на порядочное расстояние, он останавливался и поджидал. Потом, обернувшись и махнув рукой, двигался дальше. На одном из барханов, жестом подозвав к себе, он показал на запад. А затем
внезапно исчез. Будто провалился.
С трудом поднявшись на бархан, мы посмотрели в ту сторону, куда показывал провожатый, и невдалеке увидели наш вездеход. Направо, в трехстах метрах, знакомо высилась статуя со вздернутой вверх рукой. Налево остроносой гусеницей серебрилась ракета. Но до нее было далеко.
Доковыляли до вездехода, забрались в кабину. В кабине тщательно задраили бронекупол и закрылись от мучительного блеска пустыни светонепроницаемой шторкой. Без всякой меры пили воду, глотали питательную пасту. И спали. Члены экипажа — народ крепкий, и выспались мы хорошо. Разбудил нас Федор Стриганов. Он казался веселым и бодрым.
— Что сейчас? День или ночь? — спросил Иван.
— Не знаю, братцы, — добродушно отозвался капитан и осекся. Видимо, вспомнил, что словечко «братцы» употреблял и тот загадочный незнакомец, его двойник.
— Не знаю, друзья, — поправился он. — Сейчас увидим.
Капитан нажал кнопку. Светонепроницаемая шторка разошлась в стороны.
Было раннее утро. Под косыми лучами сверкали макушки холмов и барханов. От них тянулись длинные тени.
— Что будем делать, друзья? — с улыбкой спросил капитан. — Ждать контактов?

— На Луну! — воскликнул отлично отдохнувший Иван. — В звездолет!
— На Луну, так на Луну, — согласился капитан. — В километре позади наша ракета. Надеюсь, добежим до нее без приключений.
Открыли бронеколпак. Но выпрыгнуть из вездехода не успели. В пустыне развернулось грандиозное зрелище — парад мертвецов. Кусок этого зрелища, выхваченный доктором Рушем из недр моей подавленной памяти, я уже описал. Теперь расскажу более последовательно и подробно, ибо разыгравшаяся сцена, на мой взгляд, полнее всего выражает сущность Вечной гармонии.
Далеко впереди, прямо за статуей, неведомо как и откуда появилась колонна солдат. За ней, с небольшим интервалом, вторая колонна. Потом третья, четвертая. И так до самого горизонта. Сотни тысяч, может быть, миллионы солдат. Правильными квадратами отлично вымуштрованное войско приближалось к статуе.

Мы схватили биноскопы. В изумительно ровных рядах насчитали пятьдесят человек. А таких рядов в колонне — сто… На плечах солдаты несли странное оружие: длинные стволы были расплюснуты на концах. Ружья мерно покачивались и поблескивали на солнце.
Первый квадрат уже четко вышагивал под статуей, солдаты дружно вскинули вверх правые руки. В один миг, как по команде, раскрылись рты, и пустыня буквально содрогнулась от громоподобного вопля:
— Ха-Хай! Ха-Хай!
Крик отражался от скалистых выступов, от ребристых барханов и холмов. По пустыне долго гуляло затухающее эхо:
— А-ай! А-ай!
Под статуей — второй квадрат. Снова вздернутые руки и снова оглушительный вопль, вырвавшийся будто из одной, но мощной глотки:
— Ха-Хай! Ха-Хай!
Первая колонна, а за ней вторая на ходу повернули в нашу сторону. Солдаты при этом не сбились с ноги, соблюдали поразительное равнение в шеренгах.
— Вот это выучка, — шепнул Иван, стараясь подавить изумление, смешанное со страхом. Всем нам было немного не по себе. Но экипаж держался: таинственная пустыня закалила нашу психику. Один лишь Ревелино оробел. Он забился в угол и пугливо выглядывал из-за широкой спины планетолога. А солдаты все ближе и ближе. Мы и без биноскопов видели уже, как из-под остроконечных касок по тупым и равнодушным лицам стекают ручейки пота. Солдаты задыхались от жары, но не допускали ни малейшего нарушения строя. Четко печатая шаг, они старательно и синхронно ударяли ногами. От чугунного топота вздрагивала почва: тумм… тумм… тумм…
На пульте управления в точности так же вздрагивал и дребезжал плохо закрепленный прибор: дзинь… дзинь… дзинь…
Дзиньканье становилось все громче и противней. И биолог Зиновский не вытерпел. Он выхватил излучатель и тонкой иглой плазмы полоснул по первой шеренге. Капитан вовремя отвел его руку. Однако луч все же коснулся крайнего справа солдата и напрочь отсек высоко поднятую ногу. Солдат заверещал от боли, но даже не покачнулся. Мгновенно у него выросла новая нога, вместе с сапогом, и солдат продолжал вышагивать как ни в чем не бывало.
— Эксцессы, Яков Петрович? — нестрого спросил капитан и ободряюще обнял его за плечи. — Опять эксцессы? Крепись. Ничего страшного не произойдет.
И верно: солдаты не выразили ни малейшего желания отомстить… На их безучастных лицах вообще не было написано никаких чувств, кроме какой-то идиотской непреклонности. Но они неумолимо приближались, и это начинало беспокоить.
— Капитан! — взволновался Иван. — Что это они? Взбесились?.. Эти твои уважаемые потомки?
Дальнейший ход событий до того момента, как первая колонна провалилась в ничто, я уже рассказал. Целый квадрат, насчитывающий пять тысяч солдат, исчез сразу, «Как будто корова языком слизнула», — вспоминаю сейчас слова Ивана Бурсова.
Однако на этом шествие не кончилось. Вторая колонна проделала точно такой же маневр. За ней третья. Мерно покачиваясь, колонны тянулись длинной чередой, выплывая из-за горизонта. Через равные промежутки времени пустыня встряхивалась от восторженного вопля:
— Ха-Хай! Ха-Хай!
По холмистой равнине потом долго прокатывалось эхо:
— А-ай! А-ай!
Торжественный парад прекратился внезапно.
Исчезла не одна колонна, а сразу все. Трудно было понять — провалились они под землю или растаяли в воздухе. Еще не осел песок, поднятый сапогами, а никого уже не было. Солдаты, маршировавшие под статуей, не успели даже прокричать до конца свой клич.
— Ха-хай! Ха…
Бесконечная равнина опустела. Эхо постепенно погасло, и наступила тишина. Некоторое время в вездеходе царило молчание.
— Идеальное послушание! Приказано исчезнуть, исчезли, — заговорил наконец Федор Стриганов. — Мечта всех диктаторов — образцовые солдаты. Не знают ни страха, ни самой смерти, потому что давно мертвы.
— Капитан, — ворчал планетолог. — Опять темнишь? Откуда эти покойники? И кто у них полководец?
— Не знаю. Думаю, на Луне нам все растолкуют. На Луну!
Мы выскочили из вездехода, добежали до посадочной ракеты и закрылись в ее просторной кабине. Я сел за пульт управления. Ракета, выпустив крылья, пролетела несколько сот километров низко над планетой. В бесконечной пустыне заметили сверху еще одну уцелевшую статую. Около нее длинной цепью тянулись свежие следы, которые не успела замести песчаная поземка. Даже не следы, а целые дорожки, протоптанные тысячами ног. Очевидно, и здесь состоялся парад.
Экипаж был доволен, когда ракета, взметнув клубы вековой пыли, села на лунный космодром. А в звездолете почувствовали себя как дома.
Чаще, чем прежде, собирались мы теперь в просторной пилотской каюте. Подолгу засиживались, спорили, строили всевозможные предположения. Капитан предпочитал отмалчиваться на наши расспросы. Больше других, стараясь развеселить членов экипажа, ораторствовал планетолог:
— Состоялся день Страшного суда. В точности по христианскому вероучению! Бесчисленные поколения выкарабкались из могил. Праведники вознеслись на небо и сподобились стать ангелами. Грешников низвергли в ад — в солдатчину…
Мы смеялись, не подозревая, что он был не так уж далек от истины. Капитан скупо улыбнулся и спросил:
— Кто же тогда она? Та самая… Мимолетное видение, посетившее тебя в каюте?
— Конечно, ангел! — воскликнул Ревелино. — А тип, связавший его во сне, безусловно, дьявол!
Но проводник наш, так похожий на капитана? Кто он и откуда? Мы почему-то боялись касаться этого вопроса. Таинственный дух пустыни, спасший нас, внушал неприятное суеверное чувство. Все же Иван осторожно спросил как-то Федора Стриганова:
— Как ты считаешь, откуда взялся в пустыне выходец с того света? Гм… Ну, провожатый наш? Думаю, что это довольно ловкая модель.
— Я этого не думаю, — сухо возразил капитан. — Боюсь, что это я сам. Мое невеселое будущее. Какое — не знаю. Не спрашивайте. Придут и скажут.
Так оно и случилось.
Однажды утром, когда в спортивном отсеке мы после купания делали пробежку, засветился экран внутренней связи. Все остановились и с волнением всматривались в размытые очертания пульта управления и кресла перед ним. В пилотской каюте кто-то неумелой рукой наводил изображение на резкость. И вот на нас глянули темные выразительные глаза. Они занимали весь экран. Потом стали удаляться, и мы увидели миловидное женское лицо в короне черных волос. Неизвестная гостья низким грудным голосом произнесла:
— Здравствуйте, дорогие пришельцы из прошлого. Не желаете ли побеседовать со своими уважаемыми потомками?
При последних словах ее полные губы изогнулись в какой-то странной усмешке — иронической и печальной. Взглянув на нашу весьма лаконичную одежду (мы были в одних трусиках), она улыбнулась одними глазами и добавила:
— Одевайтесь и приходите в пилотскую каюту.
Мы начали одеваться. Один лишь планетолог неподвижно стоял, тупо уставившись на погасший экран.
— Она, что ли? Та самая? — усмехнулся капитан.
Иван молча кивнул. Ревелино расхохотался. Это был нервный смех: Малыш панически боялся призраков и хотел подстегнуть свою волю.
В пилотскую вошли гуськом. Впереди капитан, я замыкал шествие.
У пульта управления стояла стройная молодая женщина в темно-синем платье. На нем вспыхивали и угасали искорки, подсвечивая снизу несколько бледное лицо гостьи.
— Еще раз здравствуйте. Прошу садиться.
Ближе всех к пульту расположился капитан. Я очутился в самом дальнем и плохо освещенном углу рядом с Ревелино. Тот сел и сжался в кресле, боясь шелохнуться.
— Давайте знакомиться, — гостья, усевшись, старательно выговаривала русские слова. — Начнем с меня. В далекой земной жизни у меня было привычное имя. А здесь… Здесь только шифр. Так что зовите меня просто Незнакомкой. Кажется, у древнего поэта было такое стихотворение — «Незнакомка»…
Гостья смущенно улыбнулась.
— О, извините за некоторое тщеславие и не думайте, что я слишком высокого мнения о себе! Но мне нравится это таинственное и поэтичное имя. А стихи! Не могу отказать себе в удовольствии напомнить их вам.
Она декламировала стихотворение красивым бархатным голосом, слегка жестикулируя длинными пальцами.
Декламировала просто, без излишней аффектации, но с нарастающим внутренним волнением.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Гостья разволновалась и, закончив, поднялась.
— Как это великолепно! О, как это прекрасно!.. Если бы вы знали, что потерял человек в своем неразумном увлечении техникой! Лишиться искусства, любви, человечности…
Говорила гостья теперь почти бессвязно, голос ее срывался, глаза сверкали. И вдруг ее не стало. Только что слегка прогибался мягкий, упругий пластик под ее ногами, шелестело, переливаясь искрами, платье. И все это исчезло в один миг.
Знакомство не состоялось. Мы переглянулись. А Ревелино выпрямился и облегченно вздохнул…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Незнакомка
Ревелино облегченно вздохнул… Но радость его была преждевременной. В рубке электронного универсала послышался шорох. Оттуда, шелестя длинным платьем, вышла Незнакомка. Села в кресло. Выглядела она еще бледнее прежнего.
— Извините за эксцессы, — ее губы изогнулись в печальной улыбке. — Эксцессы Так любит выражаться, кажется, ваш командир. Не выдержала я… Сотни лет небытия, могильного мрака. И вот воскресла. Жизнь! Краткая, как вспышка, но жизнь… Тут любой не выдержит. Заговорила с вами как человек… Я и есть человек, но в то же время слуга Сатаны и должна выполнять его волю.
— Сатаны? — удивился Иван.
— Да, Сатаны, так я его называю. Потом поймете… Он мог выслать для контактов другого человека. Но только я знаю ваш древний язык. Учила этому прекрасному языку еще одного специалиста по контактам. Но владеет он им слабо… Я рада видеть вас. Продолжим знакомство. Вы уже знаете, как меня звать. О моей научной специальности и ранге — довольно высоком ранге в Вечности — узнаете после.
Встал капитан. С жесткой иронической усмешкой отчеканил:
— Федор Стриганов. Ранг — начальник экспедиции. Научная специальность — дискретное время и пространство.
На пухлых губах Незнакомки в ответ тоже вздрогнула усмешка. Но не ироническая, а добродушная.
— Очень приятно. Мы с вами коллеги. Вам трудно представить, каких успехов добились мы в изучении времени и пространства. К сожалению, нашими знаниями воспользовался Сатана. Он многое сейчас умеет. В пустыне, например, вы видели три эпохи. Сатана хотел вам показать, до чего неприглядна живая и буйная история.
— Мы видели и четвертую эпоху, — усмехнулся капитан. — Парад мертвецов. Это уже, думаю, не история… Сегодняшний день.
— О! — удивилась Незнакомка. — Вы догадливы! Да, шествие Армии Вторжения — сегодняшний день. Так сказать, апофеоз, блестящее и гармоничное завершение мятежной истории, — с горькой усмешкой произнесла она. — Тут перемещения во времени не требовалось. Сатана просто вызвал из небытия… Но хватит об этом. О сегодняшнем дне, о Вечной гармонии потом. Итак, три прошлых эпохи. Три беззвучные картины — это преломление квантов, как бы фотонный отблеск прошлого. Вас носили из одной эпохи в другую в несовмещенном времени. Такой, кажется, термин вы, Федор Стриганов, нашли для этого явления.
— Это не мой термин.
— Неважно. Будем пользоваться этим термином. Сатана хорошо овладел эффектом несовмещенного времени. Гораздо труднее было полностью совместить, состыковать вас с прошлым без специальных капсул. Кажется, Сатане это удалось. Помните оазис?.. Но продолжим знакомство.
Следующий по очереди был Зиновский. Доложил он о себе хмуро, неохотно. Когда встал и назвал себя планетолог, Незнакомка улыбнулась с мягкой, необидной иронией. Удивительная гамма улыбок была у нее!
— Извините. Я была не совсем осторожной в вашей каюте. Не успела вовремя дематериализоваться.
— Ревелино. Бортинженер, — очень коротко, сдавленным, чужим голосом представился Малыш и сразу же сел.
Встал я. Хотел назвать себя, но тут Незнакомка, вглядевшись в мое лицо, вскочила и, сложив руки на груди, воскликнула:
— О, это вы?.. Но как же это… Вы?..
Я пожал плечами и сухо возразил:
— Извините. Я Сергей Волошин. Астронавигатор. Вас вижу впервые.
— Да, да! Конечно… Я ошиблась. Не знаю, что со мной сегодня. Второй раз срываюсь…
— Извините, — она сконфуженно села. — Конечно, ошиблась. Но вы так похожи… Впрочем, это чепуха. Вы, как я поняла, из более глубоких времен, чем я… Я жила в развитом обществе, когда уже начался прогрессивный процесс стирания индивидуальных различий между людьми.
— Прогрессивный?! — воскликнул Иван Бурсов.
— Понимаю ваше недоумение. Люди древних эпох судорожно цеплялись за свою самобытность. Но на высоком этапе эволюции она стала ненужной и даже вредной для развития.
— А потом, — сумрачно усмехнулся капитан, — потом и сам человек стал ненужным и даже вредным для развития. Так?
— Вы догадливы, Федор Стриганов. Именно так. Но вы не представляете, что же произошло. В свое время, как я вычитала из ваших книг, ученые даже простенькую теорию относительности встретили с недоумением. А здесь вам придется привыкать к парадоксам более ошеломляющим.
— К каким? — спросил капитан.
— К парадоксам развития мыслящего духа. В своем самомнении вы привыкли считать себя венцом творения природы. Здесь вам с этим заблуждением придется расстаться.
— Вот как, — проворчал Иван. — Вы хотите сказать, что природа…
— Нет, — перебила Незнакомка. — Создав человека, природа нашла гениальное решение. Но на этом биологическая эволюция исчерпала себя, достигла потолка. И вы должны гордиться, что из всех населенных миров космоса только на нашей планете началась новая фаза эволюции разума — фаза технологическая.
— Технологическая?! — вскричал Зиновский. — Кажется, начинаю понимать. Это же…
Биолог устыдился своей внезапной вспышки и замолк. В дальнейшем он, как и Ревелино, не проронил ни слова. Беседу с Незнакомкой предпочитал вести Иван.
— Да, в своих блужданиях по космосу вы парадоксально прожили долгие годы, — сказала Незнакомка. — Вернулись — и не узнали свою милую отчизну. Она стала Вечной.
— Вечность… Вечная гармония, — недоумевал планетолог. — Что это за штука такая?
— Штука? — переспросила Незнакомка и рассмеялась. — О, никак не могу привыкнуть к причудам вашего выразительного языка! Понимаю — этим словечком вы хотели придать своему вопросу оттенок иронии. Но вам-то иронизировать не стоит, ибо Вечная гармония — полное отрицание человечества! Да, пора объяснить, что это за штука такая… Развитие разума шло по известному вам диалектическому закону — отрицание отрицания. Знаменитая триада: тезис — антитезис — синтез. Или конкретно: геоген — биоген — техноген.
Незнакомка помолчала.
— Человек зажег первый костер, обтесал первый камень и тем самым начал создавать свое собственное отрицание. В недрах биологической эволюции возник ее смертельный враг — эволюция технологическая. Техноэволюция была еще в пеленках, но человек заботливо растил ее и нянчил. Понимал ли он опасность? Нет. Да если бы и понимал, иначе поступать было уже нельзя. Люди изобретали все новые орудия труда, орудия взаимоистребления и истребления окружающей природы. Темпы технологического развития стремительно нарастали. Первобытная металлургия, изделия из бронзы и железа. Затем век электричества, безудержной урбанизации — роста огромных городов. Над ними вместо чистого неба плескались клубы дыма и пыли. Люди бездумно отравляли воздух и воду, уничтожали леса и животных. Возникла опасность экологическая, опасность истребления окружающей природы. Люди осознали это, не подозревая, что на смену экологической идет совершенно неотвратимая опасность — технологическая.
И вот век термоядерной энергии, полетов в далекий космос, — продолжала Незнакомка. — Приблизительно это ваше время. Люди одумались. Заговорили о содружестве с природой. Сохраняя леса, жили среди садов и парков. Это была для человека прекрасная пора. Люди жили физически и духовно в здоровых условиях. Что произошло в исторический отрезок между вашим веком и моей эпохой — не знаю. Но в мое время все изменилось. Техносфера ураганом пронеслась над планетой и стерла с ее лика биосферу. Как я уяснила из ваших книг и микрофильмов, незадолго до вашего века, в середине двадцатого столетия, началась эпоха атомной энергии. Началась знаменательно — с бомбы. Технология впервые показала себя смертельным врагом человечества. Расщепленный атом сразу же стал ее тупым, не рассуждающим солдатом. Водородная бомба — это топор в руках технологии, топор, которым она рубила биологическую эволюцию с плеча. Но беда в том, что она одновременно уничтожала и себя. Техноэволюция на этом этапе еще не встала на ноги и нуждалась в человечестве — в своей няньке. К счастью, у нас и почти на всех других населенных планетах Вселенной этот кризисный этап миновал благополучно: ядерный конфликт не состоялся. В космосе только на одной планете биоэволюция в результате атомной войны уничтожила себя, положив тем самым конец эволюции технологической. И планета сейчас являет печальное зрелище: руины и тучи радиоактивного пепла… Другие миры, избежав атомного самоуничтожения, застыли на биологической фазе развития. Только наша планета сделала гигантский качественный скачок вперед.
— И вместо радиоактивного пепла — глобальная пустыня. Так?
— Именно так. Вы проницательны, Федор Стриганов, — примирительно улыбнулась Незнакомка. — Вас, представителей биологической фазы развития, одинаково страшат и глобальные руины, и глобальная пустыня.
— Руины, пустыни, гармония, Сатана… — пробормотал Иван и умоляюще посмотрел на капитана. — Не улавливаю связи. Разъясни.
Капитан молча пожал плечами.
— Попробую разъяснить я, — улыбнулась Незнакомка. — Кажется, я психологически подготовила вас… Итак, шея человечества избежала атомного топора техноэволюции. Но эта же самая шея попала в петлю еще более страшного и коварного врага — электрона. Если атом — не рассуждающий топор техноэволюции, то электрон — ее ум. Ум хитрый и изворотливый. Электрон расставил коварные сети, обещая человеку сытую, бездумную, комфортабельную жизнь. И человек охотно пошел в сладостный плен, не подозревая, что здесь ему и конец.
— Как это произошло? — сухо спросил капитан.
Предупреждаю: я не историк и не могу объяснить, что произошло после того, как вы покинули свой двадцать первый век. Протекли, вероятно, многие столетия. На планете не осталось почти ни одного зеленого островка…
Я рассеянно смотрел в угол каюты, и в моем воображении со слов Незнакомки рисовалось футуристическое царство электронно-вычислительной техники, огромный всепланетный город и стадо стандартных людей — этих «капелек биосферы», затерявшихся в электронной утробе техносферы.
— Муравейник, — послышался голос Ивана. — Мы, кажется, видели его в пустыне.
— Да, муравейник… Я жила в нем четыреста лет назад, — задумчиво проговорила Незнакомка. — Да, вы видели этот город. Вернее, его фотонный отблеск из несовмещенного времени.
— В нем уже властвует не человек, а электрон.
— А строй? Общественная система? — допытывался капитан.
Незнакомка растерянно посмотрела на Федора Стриганова. Она не поняла его. После наводящих вопросов капитана Незнакомка не совсем ясно рассказала о социальной системе, о Генераторе Вечных изречений, о двух враждующих планетах, населенных людьми.
— Все ясно! — сказал капитан. — Виноват не электрон, а сам человек… Тоталитарное отношение к человеку. Техника, кем-то повернутая против человека. И это — на нашей Земле? Нет, это не могло…
— Человек стал жалким узкоспециализированным винтиком системы технологической, — продолжала Незнакомка. — Технология, получившая у нас конкретное воплощение в саморегулирующемся кибернетическом сверхгороде, вышла из-под контроля человека, обрела самостоятельность, осознала себя как разум. И она…
— Упразднила человека? — догадался Иван.
— Да, упразднила. Но в снятом виде, в полном соответствии с диалектическим законом отрицания отрицания… В снятом виде, — Незнакомка говорила торопливо, проявляя беспокойство. Потом встала. — Извините, засиделась с вами. Так приятно побыть в земной оболочке. Но она еще эфемерней вашей… Вихри… Там, в пустыне, мои вихри. Вихри… Они устают, расшатываются. Им надо отдохнуть, стабилизироваться… Продолжим беседу завтра.
Незнакомка поспешно удалилась в рубку электронного универсала. Немного спустя Иван осторожно заглянул туда.
— Ну и как? — насмешливо спросил капитан.
Иван развел руками. Ревелино хохотнул. Он будто ожил и был счастлив, что Незнакомка наконец-то ушла.
— Капитан, — взмолился Бурсов. — Ты мужик смышленый. Объясни.
— Гравитационный коллапс, — загадочно ответил Федор. — Знаешь, что это такое?
— Конечно, — удивился планетолог. — Катастрофическое сжатие огромной массы звезды, неудержимое падение ее на себя. Под действием возрастающих сил гравитации звезда сжимается и сжимается. Наконец, тяготение образуется такое чудовищное, что ни свет, ни другие излучения не могут от нее оторваться. Звезда становится невидимой, превращаясь в нечто крохотное, быть может, в ничто… И появляются в космосе так называемые «черные дыры». Звезда, как говорят, проваливается в гравитационную могилу.
— Вот именно. То же самое и здесь — с людьми. Они провалились в технологическую могилу. На планете произошел технологический коллапс. Но под решающим воздействием социальных факторов. Слышите? Социальных!
— Это как в старое время, — вслух подумал я, — Силы, созданные человеком, обращены в условиях капитализма против своего создателя. Происходит отчуждение…
— Вот именно — отчуждение! Технологический джин вырвался из бутылки…
— Упрощаешь, капитан, — ворчал Иван. — Игнорируешь факторы биологические, природные. Но все это философия. А конкретно, капитан? Конкретно?
— Если спрашиваешь насчет Сатаны, — усмехнулся Федор, — то не знаю, что это за штука такая. Впрочем, догадываюсь…
— А вихри? — не унимался Иван.
— Отстань, — поморщился Стриганов. Потом иронически скривил губы и добавил: — Не хочу травмировать вашу психику. Завтра она сама скажет. Из ее уст приятнее…
— Да-а, — протянул Иван. — Темнит красавица. Темнит.
Утром следующего дня в пилотской каюте снова ждала нас Незнакомка. Она приветствовала членов экипажа с радостной улыбкой.
— Кто же вы, наконец? — спросил Иван. — Призрак? Модель? Мираж?
— Человек, — улыбка на ее лице погасла. — Человек, как и вы. И в то же время… Но об этом после. Сначала об Электронной гармонии, которую Федор Стриганов с его пристрастием к социальным причинам назвал обществом потребителей…
— Не только, — возразил капитан.
С помощью конкретно поставленных вопросов он выведал у Незнакомки главное. Оказалось, что кибернетический город, программируемый правящей верхушкой, превратился… в полицейское государство.
— Вот видите, — хмуро торжествовал Стриганов. — Город-автомат стал регулятором общества. В полном смысле слова тоталитарной государственной машиной. Так легче и надежнее управлять людьми, поддерживать «гармонию», полицейский город совершенствовался и превращал людей в свои стандартные винтики и колесики.
— Может быть, — растерянно проговорила Незнакомка. — Никогда не думала об этом. Но… все же учтите и другие эволюционные факторы. Роли переменились. В условиях технического динамизма человек со своими медленно протекающими реакциями стал архаизмом. Если раньше человек нянчил и выхаживал технологического младенца, то затем техносфера сама превратилась в няньку духовно вырождающегося и мятежного ребенка — человечества… Может быть, Федор Стриганов отчасти прав. После моей смерти так называемые пришельцы и художники активизировались, пытались разрушить гармонию. Но поздно… Город-машина стал автономной силой. Чтобы сохранить Электронную гармонию и сделать ее Вечной, он поглотил людей, перевел их в качественно иное состояние.
— В какое? — криво усмехнулся капитан. — В покойников?
— Не знаю, как выразиться поосторожнее… Все началось вроде бы добровольно. Еще при мне для интеллектуальной верхушки были построены храмы бессмертия. Желающие могли оставить на века полную информацию о себе. Сами при этом погибали. Но когда буйным человечеством управлять стало невмоготу, кибернетический город сразу, за одну ночь, перевел всех людей в информационное состояние.
— Вот оно что! — Иван от неожиданности привстал. — Город сожрал человека! Город-людоед!
— О! — воскликнула Незнакомка. — Какой у вас образный язык… Город-людоед! Нет, город не сожрал, а вобрал в себя человека. Если раньше человек был частицей и венцом биосферы, то впоследствии стал жалкой информационной частицей техносферы. Такова логика прогресса. Это я говорю от имени Сатаны. А что скажу от себя? Не знаю… Еще при моей жизни один человек называл супер-город Электронным Дьяволом. От него я слышала древнюю пословицу: протяни черту палец, он и руку отхватит. Вот вы в своем веке и протянули технологическому чертику палец. В мое время этот чертик превратился в Электронного Дьявола, а сейчас — в суперэлектронного Сатану. И мы — его слуги…
С невыразимо тоскливым настроением я устало закрыл глаза. В ушах звучал голос Незнакомки, и воображение мое развертывало одну картину за другой.
…Бесконечный город-кибермозг. Все так же переливаются огни, движутся эстакады. Но людей уже нет. Они «упакованы» в крохотные информационные ячейки. Бунтовать некому. Тишина, покой тотальности… Попутно ликвидирована проблема безработицы. Но город еще нуждался для обслуживания некоторых агрегатов в умелых и умных руках людей. И он научился вызывать их из небытия. Вот из одной ячейки, где хранится информация о специалисте, протянулся всепроникающий нейтринный луч. Кончик его застыл у пульта управления группой агрегатов. Нажим неведомой кнопки (условно говоря — кнопки), и по лучу течет поток концентрированной энергии, которая на конце луча мгновенно превращается в вещество. Наследственная информация овеществляется. У пульта управления стоит уже человек. Настоящий человек, точно такой, каким он был в жизни. Он проделывает осмотр и кое-какие операции, иногда научные эксперименты. Электронный Дьявол всегда держит специалиста на кончике луча, питая его энергией. Человек неуничтожим, любые отрубленные части тела восстанавливаются в соответствии с генетической структурой, записанной в ячейке. Человек в данной ситуации — просто эманация, материальное истечение информации, этой почти идеальной сущности… Но вот специалист сделал свое дело. Нажим «кнопки», и он исчезает. Биовещество снова превращается в энергию…
— Так вы просто кукла? — вопрошал Иван. — Марионетка? Сатана дергает за ниточки, и вы…
— Дергает за ниточки? — удивилась Незнакомка. — О, вспомнила! Нет, не марионетка и не кукла. Я живой человек, пользуюсь самостоятельностью, могу говорить и делать что угодно. Но я слуга и должна выполнить волю пославшего меня в мир. Иначе наказание — электропытки. Вот другие, подавляющее большинство, — это действительно марионетки. Чтобы не было и помыслов о бунте, они полностью стандартизированы, лишены самостоятельных поступков и мыслей. Но зато какое послушание…
— Знаем. Видели парад мертвецов, — прервал Иван рассказ Незнакомки. — Но видели в пустыне. А город? Этот всепланетный кибермозг? Где он?
— Его давно уже нет. Свернулся… Город — это неуклюжий и громоздкий мир вещества и электроники. Но электрон, как вы знаете, неисчерпаем. Кибермозг не без помощи эвристических способностей бывших ученых проник в глубины электрона и материи вообще. Открылся целый суперэлектронный и даже суперквантовый мир. У многоэтажного Электронного Дьявола появилась возможность свернуться, перейти на суперэлектронный микроуровень, а всю генетическую информацию людей записать с помощью тончайше сбалансированных вихрей суперполей. Вихри — невероятно маленькие, ультрамикроскопические силовые клубки. В них «запечатаны» не только люди, но и громоздкие агрегаты, даже вещи. Произошла глобальная дематериализация. Огромные городские сооружения пошли на топливо в подземные кварковые энергостанции, которые остались на прежнем макроуровне — на уровне вещества. Планета оголилась. С ее поверхности исчезла не только биосфера, но и видимая техносфера. Видимая…
То, что мы услышали дальше, поразило всех нас и, кажется, даже проницательного и невозмутимого капитана. Вот что мы узнали.
На поверхности голой планеты, не выше ста метров, плескался невидимый и неощутимый океан — вибрирующее и пульсирующее «мыслящее» суперполе. Это и есть бывший город — Электронный Дьявол, перескочивший в иное качественное состояние и ставший, по выражению Незнакомки, суперэлектронным Сатаной. В океане плавало неисчислимое множество, размером с электрон, клубков — информационных вихрей. Информационные копии вещей и людей — своего рода «монады» Лейбница, почти идеальные «сущности» Платона. Вот из одной, «технической» монады-клубка выскочил нейтринный луч. На его кончике в далеком межзвездном пространстве овеществился беспилотный корабль — космическим пиратом, перехватывающий и уничтожающий звездолеты с «отсталыми биологическими структурами». А вот из тысячи других, так называемых «генетических» клубков нейтринные лучи упали вниз, как дождевые струи. На поверхности, пузыри в луже, вспыхнули люди. И в четком строю зашагала, взметая пыль, Армия Вторжения…
Но и это не все. Главная новость нас ждала впереди. «Эволюция» продолжалась. Поверхность планеты покрылась со временем единой мировой пустыней, по которой иногда с визгом прокатывались песчаные бури. Но эта естественная геологическая эволюция помогала технологической. Сатана, добиваясь стабильности, устойчивости информационных вихрей, заполнял межатомное пространство внутри песчинок клубками суперполей. Песчинки при этом становились тверже алмаза. Каждая песчинка в пустыне — либо генетическая (человек), либо техническая (вещь) информационная ячейка. Оттуда Сатана мог выхватывать и овеществлять любую информацию.
Федор Стриганов догадывался, что на планете произошел технологический коллапс, информационное свертывание цивилизации. Он предполагал, однако, что информация находится под землей в каких-нибудь кристаллах. Но что именно песчаная пустыня и есть необъятное хранилище информации, этого он никак не ожидал. Он даже привстал с кресла, хотел что-то сказать, но махнул рукой и опустился с кривой усмешкой. А Иван Бурсов был до того ошеломлен, что с минуту не мог вымолвить ни слова. Потом вскочил и захохотал.
— Пустыня!.. Ха! Ха! Ха! Вот это эволюция. Мыслящая пустыня! Все, что осталось от буйного человечества. Песчинки — бывшие люди! А мы-то их топтали…
Капитан взглядом пригвоздил Ивана. Тот послушно сел. Однако не угомонился, — слишком сильно было глумливо-сардоническое настроение, которое появлялось у него всякий раз, стоило завести речь о Вечной гармонии.
— Представь, капитан, — заговорил он. — Технологический прогресс цивилизации завершился знаменательно — пустыней. А люди полностью превратились в песчинки. Да это же символ!
— О, понимаю вас, — Незнакомка пыталась примиряюще улыбнуться. — Для вас пустыня — нечто гротескное, сатирическое. Но поймите: технологическая эволюция, сменив биологическую, руководствовалась идеей целесообразности. Так уж получилось — информационная пустыня и пульсирующее над ней суперполе. Вот вы видели недавно фотонный отблеск прошедшей Электронной эпохи — супергород. Никакой природы, искусство подавлено. Стандартные люди стали песчинками общественной гармонии и колесиками технологической машины. Скажите: такой город разве не пустыня?
— Пустыня, — охотно согласился Иван и одобрительно взглянул на Незнакомку.
— А чем отличается та пустыня, пустыня на уровне вещества, от нынешней? Принципиально ничем. Только технологическим совершенством. Люди? Что ж люди… Отрицание отрицания. Люди есть, но в снятом виде. В виде информации. Вы ведь тоже в своей жизни претерпели овеществление информации, записанной в половых клетках на первобытном молекулярном уровне. Полное овеществление шло биологически очень медленно, десятки лет, все детские и юношеские годы. А здесь технически свернутую наследственную информацию Сатана развертывает и овеществляет мгновенно.
— Да, это прогресс, — усмехнулся капитан.
— Так вы песчинка в пустыне? — спрашивал Иван. — А мы можем помочь вам освободиться от рабства? Например, перерезать нейтринный луч и отсечь от этого… от Сатаны?
— В принципе можно. Но вы не в силах, ибо нейтринный луч не знает вещественных преград. Его можно экранировать, перерезать только тахионно-фотонным полем. Например, в капсуле для рейдов во времени. Но о ней позже.
— А если удастся перерезать питающий луч?
— Тогда обрету; самостоятельную биологическую жизнь. Однако не надолго, ибо во всем буду похожа на вас, кроме все той же наследственной структуры. Через сто дней в клетках наступит неминуемый генетический распад. Моя подлинная генетическая структура останется по-прежнему в Вечной гармонии. И Сатана не потерпит своеволия. За попытку к бегству он овеществит информацию и подвергнет человека электропыткам, а затем переведет в низшие и наименее самостоятельные сферы. Например, в солдаты. Вот те, действительно, как куклы.
— Вот как, — проговорил Иван. — В вашей загробной гармонии есть высшие и низшие!
— В загробной? — губы Незнакомки изогнулись в улыбке, но затем уголки их печально поникли. — Пожалуй, вы правы. Именно загробной. Человек, переведенный в информационное состояние, не знает ни жизни, ни смерти, не ощущает, тока лет и веков. Выскакивая из микромира в макромир, получая на короткое время биологическую структуру, человек с ужасом осознает, что он давно мертв, а его душа-информация закабалена Сатаной. И вот тогда могут случиться неприятные для Сатаны… Как бы это выразиться? Эксцессы? Да, как сказал бы Федор Стриганов, эксцессы.
— Как это понять? — заинтересовался капитан.
— Например, некоторые впечатлительные и психически неустойчивые люди в макромире не выдерживают, осознав свое положение. Срываются, как это чуть не случилось со мной, сходят с ума. Их генетические вихри перепутываются и распадаются. Солдаты, те никогда не сходят с ума, потому что у них его нет. Они послушные стандартные орудия, медиумы для достижения непонятных им целей. Однако солдат у Сатаны много, а интеллектуально одаренных слуг становится все меньше и меньше. Редко, но случаются эксцессы и похуже. Это с мятежными людьми. Получая из рук Сатаны кратковременную жизнь, они могут, например, проникнуть в подземные энергостанции и взорвать их. Поэтому к макроконтролю за энергостанциями Сатана допускает лишь самых преданных слуг.
— А солдаты для чего? — спрашивал Иван. — Информационный зоопарк?
— Зоопарк? — рассмеялась Незнакомка. — О, не только! На других планетах продолжается биологическая фаза развития. Вечная и неистребимая Армия Вторжения пригодится для переброски на другие планеты, чтобы свергнуть реакционные биологические режимы…
— Реакционные? — невольно воскликнул я. — Какая мешанина у вас в голове! Неужели верите в эту чепуху?
Незнакомка испуганно взглянула на меня и быстро встала с кресла.
— О, нет!.. Вы не понимаете меня. Сама не знаю… Я вынуждена. Если бы кто-нибудь смог уничтожить все это! Стереть нашу информацию…
Прижав ладони к вискам, взволнованная собеседница наша несколько раз прошлась вдоль пульта управления. Села и с виноватой, страдальческой улыбкой произнесла:
— Эксцессы… Опять эксцессы. Чуть не сорвалась. А тут еще вихри. Они устали от напряжения. Им надо стабилизироваться. Через несколько минут Сатана погасит меня, но завтра я вернусь.
Она вздохнула и, прошелестев платьем, скрылась в рубке ЭУ.
Утром Незнакомка казалась сильно взволнованной. Поприветствовав нас с вымученной улыбкой, она еще с минуту ходила вдоль пульта. Потом села и, не поднимая глаз, заговорила:
— Не знаю, как и приступить к главной части поручения… Сатана принял вас, показал свое могущество. И все с одной целью. Понимаете? Неавтономных слуг, то есть солдат, у него много. Но для работ и экспериментов в макромире, в мире вещества, ему очень нужны интеллектуально одаренные и автономные…
— Уж не хотите ли сказать?.. — Пораженный догадкой Иван встал с кресла. — Чтобы мы стали слугами? Информационное состояние?..
Трудно описать ужас, охвативший членов экипажа. Только капитан, предчувствовавший ход событий, сидел с сонливо равнодушным видом. Но Ревелино… Бедный юноша! Он почти терял сознание, а его оливковое и всегда румяное лицо было на этот раз серым, как пепел.
— Понимаю… О, как сочувствую вам! Сатана не случайно продемонстрировал исторические сцены, показал ужас и никчемность биологической жизни… Так сказать, психологически готовил вас. Он мог бы и без подготовки, насильственно перевести в солдаты. Но к чему? Ему требуются автономные. А здесь нужно желание… Почти желание. И обязательно добровольность. Нет, нет!.. Сатана готов пощадить всех. Но при этом непременно хотя бы один… Добровольно.
— Я желаю, — спокойно сказал Федор Стриганов. — Я. Добровольно.
Меня как будто ударило что-то: капитан жертвует собой ради нас!
— Капитан! — вскричал я. — Это… Я, может быть, тоже… Я тоже — добровольно. Мы кинем жребий.
— Астронавигатор Волошин! — голос капитана стал жестким. — Я знаю, что делаю. Ты остаешься за меня. Понял приказание?
— О Сергей Волошин! — вмешалась Незнакомка. — Ваш командир предлагает прекрасный выход. Я вас всех немного уже знаю. Вы, с вашей впечатлительной натурой, не сможете… Нет, нет!
Капитан продолжал сверлить меня своим властным, сковывающим волю взглядом. Я сел. Незнакомка облегченно вздохнула.
— Ну, вот и хорошо. Федор Стриганов — человек необычайной психической стойкости. К тому же он хороший специалист в области дискретного времени-пространства. Недавно генетические вихри ученого с таким же профилем пришли в негодность. При вызове в макромир он сошел с ума…
— И я займу его место? — с добродушной иронией спросил Федор.
Откуда он взял силы для иронии, да еще добродушной? Чудовищная, почти противоестественная выдержка у этого человека!
— Да. Займете видное положение в вечных сферах, — в тон ему добродушно ответила Незнакомка, довольная удачным исходом своей миссии. — С привилегированным правом автономного выхода в макромир, в мир вещества.
— А как я буду выглядеть в этом макромире?
— Так же, как сейчас. Можем запрограммировать еще и оружие — лучевой пистолет.
— К чему?.. Впрочем, можно. А что будет с остальными членами экипажа?
— Если бы не было ни одного добровольца, Сатана всех убил бы, изъяв генетическую информацию в надежде, что кто-нибудь да выдержит… Наиболее вероятно — всех ждала бы солдатская участь.
— Это я знаю. А сейчас?
— Они будут заброшены в прошлое.
— В свою эпоху!
— Нет, ваш двадцать первый век остается загадкой. Там нет даже станции совмещения. Такие станции есть в других эпохах. Самая ближняя из них — Электронная, в которой я жила. Она для вас самая чужая. Зато попавший туда будет знать язык эпохи, а в кармане нового костюма найдет документ, узаконивающий его положение. Все это запрограммировано в капсуле. Они для всех вас уже готовы.
Незнакомка, вызвав по лучу образец капсулы, рассказала, как ею пользоваться. При вылете из царства Сатаны память наша автоматически заблокируется. Мы ничего не будем знать о Вечной гармонии. Через сто-двести дней память восстановится. К этому времени капсула, свернутая в пояс, снова будет с нами. Для чего? Нас поразила наивность Сатаны: он надеялся, что через сто-двести дней мы познаем тяготы Земной жизни, вспомним и оценим прелести Вечности и… пожелаем вернуться.
— А если не пожелаем? — спросил Иван.
— Ничего страшного не случится, —
успокоила Незнакомка. — Капсула исчезнет. Насильственного захвата не будет. Сатане нужны добровольные слуги.
Через несколько минут мы тянули жребий. Ревелино первым схватил пластинку, нервно зажал в кулаке, сел в кресло и показал мне надпись: не то древний Египет, не то что-то еще более древнее. На обратной стороне своей пластинки я прочитал: «Электронная эпоха» и поморщился — не повезло! Зиновский пробормотал что-то насчет Средних веков. Кажется, только один Иван был доволен.
— Первобытный век! — ликовал он, потрясая пластинкой. — Феноменально! К черту сатанинскую цивилизацию. Назад, в пампасы!
Незнакомка вскоре ушла, коротко сказав: «До завтра». Мы весь день оставались вместе в пилотской каюте.
Желая отвлечь наши мысли от предстоящей мистически жутковатой разлуки, капитан затеял спор с планетологом. Иван по-прежнему утверждал: технологическая ловушка возможна при любом общественном строе, стоит только увлечься. Капитан возражал, полемически заостряя свои взгляды:
— Царство Сатаны — это фашизм технотронного века. Его парадоксальная и предельно технологизированная модификация. Вряд ли это наша Земля. Нет, не возражай! Тут что-то не так.
А вечером, перед тем как разойтись, капитан, ободряя нас, сделал неуклюжую попытку пошутить?
— Не вешать носы, братцы! Завтра у нас еще день! Это же целая вечность! Завтра и простимся! Однако проститься с Федором не пришлось. Его не было ни в спортивном отсеке, ни в ходовой рубке.
Мы нашли его в каюте. Капитан лежал на постели и казалось, спал. Но он был мертв. Разрушение генетической структуры — так определил хирург Зиновский. Какой-то слуга или сам Сатана — с помощью суперполей убил Федора ночью, украв наследственную структуру и записав ее в виде информационного клубка. В то же утро мы похоронили капитана на краю лунного космодрома. Иван беспрерывно сыпал проклятия по адресу «загробных потомков».


Разве не могли они скопировать наследственную информацию и по ней искусственно воссоздать слугу-двойника, а капитана оставить в живых?
Этот вопрос он задал Незнакомке, которая ждала нас днем в пилотской каюте.
— Нет, не могли, — ответила она. — Искусственное воссоздание, то есть моделирование, сопряжено с опасностью упрощения. А Сатане нужны эвристически полноценные… Может быть, хотите его видеть в новом качестве?
— Капитана? — воскликнул Иван и замахал руками. — Нет, нет! Нам он не такой нужен… Впрочем, мы, кажется, уже видели. Там, в пустыне… Да, это был он!
Незнакомка спросила, что он имеет в виду. Иван рассказал о встрече с таинственным проводником.
— Да, это он, — подтвердила Незнакомка. — Какой человек! Он выручил свой экипаж дважды. Правда, в песках он согласовал свои действия с Сатаной. И тот послал его на кончике нейтринного луча из будущего. Из весьма недалекого будущего, чтобы он вывел вас к вездеходу и спас от гибели.
Говорила Незнакомка вяло, будто прислушиваясь к чему-то постороннему. В ее широко раскрытых глазах все чаще мелькал страх. Я догадывался: это был ужас перед предстоящим небытием. Ее миссия кончилась, и Сатана погасит ее надолго, может быть, на века…
— Пожмем руки на прощание, как это принято у вас, — сказала наша собеседница с улыбкой такой вымученной и скорбной, что мне стало жаль ее.
Ревелино не пожелал подать ей руку. Он отскочил в угол, кивнул нам и передвинул у себя на поясе переключатель эпох. Вокруг него вспыхнуло яйцевидное фиолетовое пламя и через секунду погасло. Ревелино первым начал рейд в неведомое.
Зиновский нехотя протянул руку Незнакомке, попрощался с нами. Затем отошел в угол, чтобы наши биополя не мешали проявиться энергопоясу, и проделал то же, что минуту назад и Ревелино.
Мы с Иваном крепко обнялись. Покидал корабль последним я, как и полагалось заменившему капитана.
Незнакомка подошла ко мне и несмело спросила:
— У вас… Вам какая по жребию досталась эпоха?
— Электронная.
— О, Гриони! — в глазах ее вспыхнула радость. — Я знала… Это вы!
Заметив мой нетерпеливый жест, Незнакомка быстро заговорила:
— О, нет! Сейчас вы Сергей Волошин. Но там… Как странно… Наша встреча для вас только впереди. А для меня все уже прошло. Все… Безвозвратно. Как бы я хотела встретиться еще раз! Еще… Но как? О, Гриони! Вы забудете о Незнакомке. Пока… На время забудете. Там я для вас не буду Незнакомкой… Я — Элора.
«Сходит с ума», — подумал я. Желая поскорей избавиться от тягостной сцены, отошел в сторону и сдвинул переключатель эпох. Капсула развернулась, вспыхнув огненной кисеей. Затем погасла, и уже из несовмещенного времени я в последний раз окинул взглядом пилотскую каюту.
Посреди нее стояла Незнакомка. Видеть меня она не могла, но неотрывно смотрела на то место, где я только что находился. Она что-то шептала — ее полные губы, жалко вздрагивая, шевелились…
Сознание померкло, и очнулся я уже в Электронной эпохе.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
На полюсах Земли и полюсах Мироздания
Проснувшись, я открыл глаза и затаил дыхание: из-за горизонта медленно выплывало огненное око чужого косматого солнца. Надо мной висел шар из синих листьев, скрепленных ветвями, — дерево без корней и ствола. Вопреки законам тяготения оно парило в воздухе.
Где я? Неужели мои странствия не кончились, и капсула занесла меня еще на одну неведомую планету?
Осторожно протянул руку и вместо травы и песка нащупал пушистый пластик постели. Вскочил на ноги и рассмеялся: я же на своей планете! На этом материке все необычно. Но пора бы привыкнуть: третий день я с Таней — теперь уже моей женой — живу в Антарктиде. Южный материк, закованный ранее в вековые льды, стал космическим музеем и заповедником инопланетной фауны и флоры. Часа через три искусственное кварковое солнце, полыхая зелеными гривами протуберанцев, поднимется к зениту и теплыми лучами зальет смущающий воображение растительный мир планетных систем Сириуса, Альфы Эридана, Тау Кита.
Быстро оделся и заглянул в наш «шалаш» — временный полупрозрачный домик, обставленный со спартанской простотой. Тани уже не было, но я знал, где ее искать. Раздвигая двухметровые листья, растущие прямо из земли, направился к небольшому водоему. Над ним густо сплелись кроны деревьев, сучья которых беспрерывно шевелились, как щупальцы спрута.
На берегу увидел Таню. Лицо ее в полумраке экзотических зарослей озарялось разноцветными вспышками: она сидела в окружении мерцающих цветов.
— Что же ты, — с досадой обращалась она к своему питомцу, пылающему, как костер. — Хоть бы раз отозвался! Пятый день бьюсь над тобой, а ты ни звука…
У Тани своя мечта — вырастить такую разновидность инопланетных цветов, чтобы они не только светились, но и звучали. Она хотела составить из них полыхающий красками оркестр и исполнять свои же музыкальные произведения.
Дело трудное, но не безнадежное: все растения с планетной системы Тау Кита очень чутки к радиоизлучению.
— Молчит? — спросил я, выходя из зарослей.
— Молчит, — с улыбкой, согнавшей недавнюю досаду, отозвалась Таня. — Но зато вот этот! Посмотри на него. Простой и скромный, величиной всего с ладонь. Но ты только послушай!
Она подошла к стоящему на треноге аппаратуру с решетчатой антенной наверху. Нажала несколько клавиш, и цветок отозвался на посланное в его сторону радиоизлучение. Световая гамма стала разнообразней, ярче и ритмичней. Мерцающие упругие лепестки затрепетали, и таинственные инопланетные джунгли наполнились такими мощными и красивыми органными звуками, что я вздрогнул от неожиданности.
— Это же успех! Поздравляю!
Таня счастливо улыбалась.
— А эти как? — показал я на крупное соцветие, взметнувшееся наподобие горящего фонтана. — Все так же?
— Все так же, — вздохнула она. — Все те же однообразно квакающие саксофонные звуки. Только не говори Ориону. Засмеет.
— Кстати, Орион ждет нас. Мы можем опоздать на лекцию.
Поблизости, в красном диковинном лесу, располагался научно-исследовательский институт со станцией вакуум-такси на крыше. Мы быстро собрались, и гиперлет мгновенно доставил нас на искусственный остров под Полярной звездой.
Сам остров с пальмовыми и платановыми парками появился не так давно. В центре — внушительных размеров сплюснутый шар Северного дворца. Сегодня он казался окруженным мерцающим ореолом: это беспрерывно искрились, озонируя воздух, острые вершины причальных мачт. Люди прибывали на гиперлетах со всех концов Земли, тонкими ручейками стекали по эскалаторам вниз, растворялись в аллеях и снова сливались в потоки у входов дворца.
Дворец вмещал двести тысяч зрителей. Но его хитроумная кибернетическая аппаратура имела еще десять миллиардов телемест. Каждый житель планеты, сидя в домашнем кресле, мог подключиться к дворцу и чувствовать себя таким же зрителем, как и двести тысяч реально сидящих. Иллюзия присутствия почти полная.
Но главное чудо дворца — сама лекция. Проводил ее не ученый или лектор, а сам дворец-фантоматорий, этот сложнейший электронный организм.
Светящийся купол дворца медленно погас и столь же незаметно и тихо растворился. Исчез полностью. Огромная чаша с рядами кресел очутилась под открытым небом. Изумрудное пятно кваркового солнца тускнело и наконец совсем растаяло. Солнце просто «выключили». Вверху на черном бархате засияла огненная роса: Малый ковш с еле видимой Полярной звездой, вечно летящий Лебедь и сверкающая Вега.
Такого начала я не ожидал. Повернулся к Ориону и спросил:
— Может быть, разъяснишь, что все это значит? Ты же помогал в составлении программы.
Мистификатор ухмыльнулся и хранил загадочное молчание.
И вдруг я услышал голос. Говорил, очевидно, сам дворец-фантоматорий. Глубокий женский голос слышался ниоткуда и в то же время со всех сторон. Словно голос самого неба.
«Жители планеты Земля! Сидя в креслах, вы находитесь безраздельно в моей власти — иллюзорной, но могущественной. Вы совершите сейчас редкое по красоте и поучительности путешествие. Либо каждый в одиночку, либо вдвоем с другом или подругой. Для этого достаточно установить биоконтакт, взяв за руку соседа. Вы будете видеть только его и космос, слышать его голос и мой».
Незаметно сотни тысяч зрителей дворца утонули во тьме. Их просто не стало. Я очутился в полнейшей изоляции. Лишь подлокотники моего кресла тускло серебрились под пепельным светом далеких миров, которые мерцали не только вверху, но и почему-то по бокам, вокруг. Наступило состояние невесомости, а затем ощущение полета. И тишина, великое безмолвие Вселенной.
Моей правой ладони коснулись длинные Танины пальцы. Наши руки встретились. Установился биоконтакт, и я увидел Таню, словно выхваченную из мрака сиянием звезд.
Таня взглянула вниз и слегка вскрикнула. Я тоже почувствовал холодок страха, увидев падающую куда-то Землю. Голубой шар с белыми хлопьями облаков стремительно уплывал из-под ног, уменьшаясь в размерах. Вскоре и само солнце, окруженное хороводом искринок-планет, показалось пылающим арбузом, а потом огненной горошиной. Нас окружала живая, кипящая звездами безграничность.
— Как хорошо! — прошептала Таня. — Мы одни во всей Вселенной!
Да, это было великолепное зрелище. Мы сидели в тепле, дышали воздухом и в то же время чувствовали — вокруг ледяная жуть безвоздушного пространства.
Мимо проплыли Магеллановы облака, и мы увидели со стороны, из далекой дали нашу Галактику — огромную звездную колесницу.
— Посмотрите кругом, — бархатный женский голос слышался рядом и в то же время будто голос самой Вселенной доносился из самых отдаленных сфер. — Вы видите миллиарды галактик. Все они составляют доступную обозрению Метагалактику, нашу Вселенную.
Держась за руки, мы с Таней по-прежнему парили в пространстве. Мимо проносились уже не звезды, а галактики в виде то огненных шаров, то закрученных серебряных спиралей. Неожиданно очутились за пределами Вселенной. Это, конечно, условность. Ни одно материальное тело не может покинуть свой континуум. Но зато мы могли со стороны наблюдать нашу Метагалактику. Точнее, одну из вероятных ее моделей — конечную во времени и пространстве.
И в то же время безграничную, как безгранична поверхность шара. Нам показали Вселенную в виде гигантской сферы, раздувающегося огненного пузыря, напичканного миллиардами разлетающихся во все стороны галактик.
— Вы видите Метагалактику, одну из форм бытия бесконечной материи. Что находится за ее пределами? Является ли она рядовым членом среди других метагалактик, которые составляют гиперметагалактику, или материя дальше существует в иных качественных состояниях? Наука об этом пока не знает. Как возникла Метагалактика, наша Вселенная? Вспомним слова ученого двадцатого века. Мыслима такая космологическая схема, говорил он, в которой Вселенная не только логически, но и физически возникает из ничто, притом при строгом соблюдении всех законов сохранения. Ничто (вакуум) выступает в качестве основной субстанции, первоосновы бытия.
[2]
— Это была верная догадка, — продолжал голос. — Ученые того времени образно называли видимую Вселенную всего лишь мелкой рябью на поверхности неведомого вакуума. Но как представляли они рождение мира? Смотрите.
Перед нашими глазами Вселенная вдруг съежилась, сжалась в небольшой сгусток протоматерии.
— Вы видите один сгусток сверхплотной материи без своей гравитационной противоположности. Этот сверхтяжелый первоатом взорвался миллиардами разбегающихся галактик. Так образовался наш пространственно-временной континуум, наша расширяющаяся Вселенная.
Но можем ли мы согласиться полностью с гипотезой? Нет. Это было бы странное (мироощущение) — с одним континуумом без своего антипода. Это мир, где все со знаком плюс: времени положительное — от настоящего к будущему, все вещество, и антивещество имеет один положительный гравитационный заряд. Такое мироздание было бы воплощенным нарушением симметрии и законов сохранения. В первую очередь закона сохранения гравитационного заряда. Вообразить только одну гравитационно положительную материю, только один плюс-континуум так же нелепо, как представить правую сторону без левой, верх без низа, положительный электрический заряд без отрицательного. Электрон всегда рождается в паре с позитроном.
Так же одновременно возникли из ничто положительно и отрицательно тяготеющие континуумы, не нарушая нулевого гравитационного баланса вакуума — этого океана нуль-материи. Мы сейчас немного больше знаем об этом океане. Давайте совершим путешествие в его глубины и будем присутствовать при гипотетическом, но более правдоподобном рождении миров.
Мы снова очутились в нашей Вселенной, в ее расширяющейся сфере, наполненной, как мешок Порохом, галактиками. Пылающие миры стали меркнуть. И вот маяки Вселенной погасли совсем. Мы упали в черную бездну — в ту самую, в которую провалился наш корабль «Орел» во время черной аннигиляции. Ощущение для Тани настолько непривычное, что она в страхе прижалась ко мне. Самой ее не видно: мы в стране черного безмолвия, где не было ни звездного сияния, ни одного кванта излучения. Перед нами иная Вселенная — не пылающая и мятежная, а умиротворенная, сбросившая оковы времени и пространства. Голос Дворца не утратил мелодичности, но более низкий и глухой, чем раньше, доносился издали, будто из иного мира.
— Вы сейчас в глубине неизученного океана — вакуума. Раньше некоторые ученые предлагали считать его самодовлеющей пустотой, Великим Ничто реально существующим небытием. Нет вакуум — особое состояние материи, недоступное нашим ощущениям. Так называемое Великое Ничто — конечный результат всех форм аннигиляций. В первую очередь гравитационной или, по счастливо найденному выражению одного из членов экипажа звездолета «Орел», — черной аннигиляции. Вакуум — гравитационно аннигилирован энергетически уравновешенная материя. Антиматерия. Там нет гравитации. А если нет тяготеющей массы, то согласно общей теории относительности нет и привычных нам форма существования материи — пространства и времени. Поэтому мы и не воспринимаем нуль-материю. А может быть, время и пространство приобретают там необычные качества? Академик Спотыкаев, например, находит, что время в вакууме теряет свое главное свойство — анизотропность, однонаправленность, и становится парадоксально изотропным. Это и даст нам возможность в скором будущем совершать рейды во времени, используя в вакууме его изотропные, разнонаправленные потоки. Малоизученными необычными свойствами вакуума люди отчасти уже научились пользоваться: мы мгновенно перемещаемся в гиперлетах, как бы соскальзывая из нашего пространственно-временного континуума. Куда? В нуль-континуум, нуль-пространство, гиперпространство. Называйте вакуум как угодно, но это Великое Ничто — есть Великое Все. Там происходят пока таинственные для нас материальные процессы, которые сопровождаются громадными флуктуациями, энергетическими возмущениями и выбросами вещества. Они и приводят к рождению тяготеющих масс — к рождению миров. Не одной, а двух Вселенных — в полном соответствии с законом сохранения гравитационных зарядов.
— Наконец-то, — вздохнул я с облегчением. Думаю, не одному мне надоело висеть в океане черного безмолвия, в этой нулевой жутковатой Вселенной, сбросившей цепи привычного порядка. Длинные теплые пальцы Тани подрагивали в моей руке: ей тоже не по себе. Неожиданно из густого и липкого, как нефть, мрака, точно в отсветах разгорающегося костра, возникло Танино лицо. Из глубины вакуумного океана, наливаясь светом, одновременно выплыли два сгустка протовещества. Один — с положительным гравитационным зарядом — для наглядности казался желтым. Другой — с отрицательной тяготеющей массой — выглядел голубым. Оба как бы внутри друг друга. И в то же время они не соприкасались и не взаимодействовали, ибо каждый мгновенно замкнулся в свою скорлупу — в свой пространственно-временный континуум. В обоих континуумах появилось время, в каждом — свои, особые «часы». И стрелки космоса начали свой бег. Причем в противоположных направлениях.
Внезапно сгустки сверхплотной материи взорвались. Это были, конечно, беззвучные взрывы. Но создалось впечатление, что все мироздание содрогнулось от грохота. Осколки и брызги «проатомов» разлетались во все стороны, расширяя пузыри пространства. Каждый осколок — протогалактика. Они в свою очередь расплескивались, образуя шаровые, сплюснутые и спирально закрученные галактики из миллиардов звезд-росинок.
Две Вселенные — желтая и голубая, не соприкасаясь и одновременно «пронизывая» друг друга, расширялись. Так на энергетически (гравитационно) противоположных полюсах мироздания появились два континуума-антипода.
Зрители Дворца находились как бы на границе двух миров. Склонившись к Тане, я шепотом объяснил, что это сильное упрощение: ни одно материальное тело не может пребывать сразу в двух континуумах, в двух измерениях. То же самое сказал и голос Дворца.
Такая система координат, конечно, невозможна. Займем философски допустимую точку наблюдения. Например, в желтом мире, считая его нашим, имеющим положительную гравитацию. Не будем, однако, упускать из виду другую Вселенную.
Желтые галактики и звезды засверкали ярче, а голубые фонари «потустороннего» мира чуть потускнели, но были хорошо заметны.
— Что это? — удивилась Таня. — Я слышала об этом, но не знала, что все будет так странно.
«Наше» пространство расширялось, желтые галактики, как и полагалось, разлетались во все стороны. Но вот «тот» мир… Его галактики, как голубые мотыльки, слетались к единому центру. Противоположная по гравитации Метагалактика съеживалась, как проколотый резиновый шар. Рядом проплывали отдельные звезды, и мы видели парадоксальную картину: голубые солнца не испускали лучи, а наоборот — поглощали их. На выхваченных из тьмы и показанных крупным планом планетах реки бежали вспять, невиданные животные пятились задом наперед. Все материальные процессы протекали там в обратную сторону. Даже водопады, ощупывая скалистую крутизну, взбирались наверх.
— Из своего континуума вы наблюдаете необычные вещи, — продолжал умолкший на минуту голос. — Энергия звезд не рассеивается, а концентрируется, галактики сжимаются. Иными словами, поток времени течет в другую сторону — от будущего через настоящее в прошлое. Так ли это на самом деле? Сменим систему отсчета, вообразим себя разумными обитателями того мира. Предположим, что они обладают нашим даром проникать взором сквозь черную пелену вакуума. Что бы они увидели?
Желтые огни нашего континуума потускнели, словно подернувшись пеплом. Зато другая Вселенная засияла во всем своем волшебном блеске. И тут мы обнаружили, что она не сжимается, как это было минуту назад, а расширяется, развертывая свои голубые цветы — галактики. И время потекло нормально — от настоящего к будущему. Теперь уже наш мир, который мы только что покинули, сжимался. Желтые солнца, подметая пространство, всасывали в себя рассеянную в нем лучистую энергию. Нам показали удивительную планету, похожую на Землю. Дожди там лились от высыхающей почвы к облакам, которые разбухали, насыщаясь влагой. А действующий вулкан ошеломил нас. Мы видели, можно сказать, антиизвержение. Вулкан взрывоподобно втягивал своим жерлом, как жадным ртом, расплавленную магму и рассеянный в небе пепел.
Но вот наши кресла качнулись, сделав рывок в сторону. Мы вернулись в «свой мир», и все встало на прежние места.
— Итак, — зазвучал голос неба, — каждый наблюдатель в своем мире, в своей системе отсчета будет утверждать, что его Вселенная развивается во времени нормально, а противоположная — в обратном порядке. Кто из них прав? Оба правы и оба неправы. Земной житель, наблюдая за космическим кораблем, пролетающим мимо с околосветовой скоростью, заметит, что время там течет в два раза медленнее, а сам корабль сжался с двухсот метров до ста. Нет, возразит космонавт, с пространством и временем у меня все в порядке, а вот у вас, на Земле, пространственные интервалы сократились вдвое, а бег секунд замедлился. Кто из них прав? Вы знаете теорию относительности и понимаете, что вопрос этот бессмыслен.
Таким образом, каждый мир сам по себе расширяется, развивается по второму началу термодинамики, по закону возрастания энтропии.
Но по отношению друг к другу, находясь на противостоящих гравитационных полюсах мироздания, они сжимаются, развиваясь по принципу не рассеяния, а концентрации энергии. Они взаимно антиэнтропийны. Кто знает, может быть, здесь и надо искать ответ на вопрос, так смущавший ученых двадцатого века? Может быть, отсюда идет спасение от «тепловой смерти» Вселенной? Миры-антиподы, видимо, как-то взаимодействуют, энергетически поддерживают друг друга, соблюдая закон сохранения энтропии. Материальные процессы в них протекают во встречном времени. То, что для нас было вчера, для них будет только завтра. Поэтому обе Вселенные некоммуникабельны, неощутимы и невидимы друг для друга. Может быть, сейчас рядом с нами, даже внутри нас проплывают пылающие солнца или населенные планеты. И в то же время оба мира неизмеримо далеки, разделенные беспросветным океаном вакуума. Обе Вселенные составляют две половинки, два энергетических полюса единого мироздания, состоящего из трех континуумов. Причем нуль-континуум, вакуум — главный, первооснова всего.
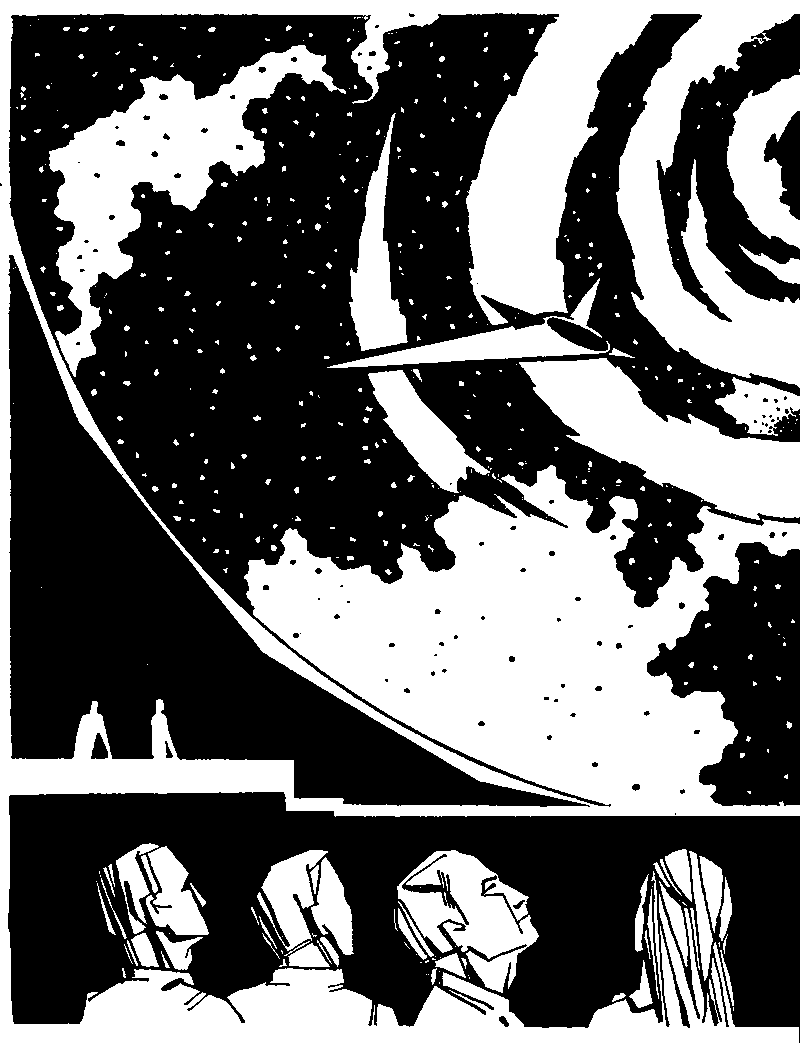
Рассказ о симметричной структуре мироздания закончился. Дворец-фантоматорий приступил к основной части лекции. Он показал десяти миллиардам зрителей странствия звездолета «Орел». У меня защемило в груди, когда увидел знакомые очертания родного корабля. В космосе он выглядел крохотной рыбешкой. Корабль несся в черном аквариуме Вселенной, мимо серебряными пузырьками проплывали звезды. Сейчас я со стороны мог наблюдать неудавшуюся попытку избавиться от выгоревшего топлива — свинцового шара, который после утечки положительных гравитонов стал чужаком в нашем континууме, телом из минус-материи. Пространство всколыхнулось от беззвучного взрыва черной аннигиляции. Имитация катастрофы — идеальная. Мы увидели пугающий разрыв пространства. Воронкой взрыва звездолет «Орел» всосало в бездонный океан вакуума. В круговороте нуль-материи корабль вместе с экипажем получил отрицательный гравитационный заряд и был выброшен на другой полюс мироздания — в минус-континуум.
Конечно, такой способ перехода в другой континуум весьма рискован. Корабль, например, мог вынырнуть в центре звезды и сгореть в ее атомном котле.
— Космонавтам неслыханно повезло, — сказал голос. — Их выкинуло в минус-галактику. По воле случая она структурно напоминала нашу спиральную Галактику. Более того, они попали в тот рукав минус-галактики, где взаимное расположение светил отчасти походило на звездную конфигурацию нашего неба. Поэтому у членов экипажа не было и тени сомнения, что они у себя, в своей области Вселенной. Недавно наши гиперзвездолеты через нуль-континуум просочились в другую Вселенную, в ту же область. Гиперастронавты познакомились с таисянами, на планете которых побывали наши предшественники — экипаж корабля «Орел». Подружились мы и со своими братьями по биологической расе и социальному устройству — жителями планеты Аир. Но речь сейчас о ее враждебной соседке — планете Харде. Именно там закончил свой путь корабль «Орел».
Дальше Дворец говорил о моих странствиях и причинах технологического коллапса. Я не буду подробно излагать мнения земных ученых, так как они совпадали со взглядами нашего капитана. Причины гибели, информационного свертывания цивилизации в основном социальные, хотя не следует забывать и о других факторах. Явление это, как и гибель цивилизации в результате ядерной войны, чрезвычайно редкое. В нашем континууме только одна планета Глория, отстоящая от Земли за тысячу светолет, попала в подобный технологический капкан. Если на Харде — информационная пустыня, то Глория выглядит из космоса несколько иначе. Металлический панцирь с лесом выбрирующих антенн — вот что осталось от когда-то цветущей планеты и ее гуманоидной расы.
Лекция по космологии и космосоциологии сопровождалась волшебным зрелищем. Мы забывали, что все это фантоматическое представление Дворца. Временами я терял ощущение кресла под собой. Было этакое свободное парение вдвоем в межзвездных просторах.
Лекция завершилась торжественно, а для меня с Орионом весьма неожиданно.
— Наше путешествие подходит к концу, — заговорила Вселенная бархатным голосом Дворца. — Сейчас отправимся в свой континуум, на родную планету. Будем лететь сквозь миры под звуки симфонической поэмы композитора Татьяны Кудриной «Из звездных странствий».
Я с изумлением и укором взглянул на жену.
— И ты молчала?
— Это в отместку за ваши мистификации, — улыбнулась Таня.
— Орион знает?
Моя правая кисть очутилась в необъятной ладони Ориона. Установился биоконтакт, справа из тьмы выступила могучая фигура моего соседа.
Нет, Орион ничего не знал. Это было видно по его свирепо сдвинутым бровям. Посеребренный звездным сиянием, он выглядел на темном фоне неба разгневанным космическим богом. Орион взмахнул кулаком и прогремел на всю Вселенную:
— Татьяна! Ну, подожди…
Он отпустил мою руку и исчез в пустоте. Явление из мрака «грозного» Ориона бьтяо столь внезапным и комичным, что мы расхохотались. При этом я нечаянно выпустил Танины пальцы. Биоконтакт прервался. Я остался один. Меня обступил безграничный космос с шевелящимися песчинками звезд. Но вот руки встретились, и я увидел Таню.
В этот момент Вселенная чуть всколыхнулась. Седые лучи ее светил завибрировали и запели, как струны. Непривычная, странная мелодия иного мира… Сначала нежная и приветливая, она постепенно насыщалась звуками пугающей окраски — начался переход в великий нуль-континуум. Звезды потускнели. Серьезное, чуть напряженное лицо Тани — творца этой необычной поэмы — обволакивалось тьмой. Под нарастающий грохот, от которого замирало в груди, мы упали в черную бездну вакуума. И тут все оборвалось. Тишина казалась безраздельной. Но вот из бескрайнего бассейна нуль-материи, из его немыслимых глубин послышались отдаленные барабанные удары. Могло показаться сначала, что «вакуумная» часть поэмы была без светового сопровождения. Но это не так. Мне почудилось, что во мраке скользнула еще более черная тень. Подумалось, что это тень кантовской «вещи в себе» — тень Непознаваемого. В моем воображении Непознаваемое (а точнее, пока непознанное) рисовалось почему-то в виде неведомого черного всадника, скачущего по железной крыше мироздания. Повелительные удары, как топот чугунных копыт, рушились со всех сторон. Гул прокатывался по вакуумному океану и колыхал его. Он вызывал картины непонятных возмущений нуль-материи, энергетических флуктуаций и выбросов вещества. В неизученном, неподвластном человеку нуль-континууме все волнуется и движется. И сверкающие звездные миры — не более, чем мимолетный блеск и трепет его волн.
Как все верно и как все немножко жутковато! Я тихо сказал об этом Тане.
— Подожди, — послышался слева ее шепот. — По контрасту все остальное — сплошная песня радости.
В музыкальную ткань вплетались иные тона. Пугающий гул затихал. Неведомый всадник удалялся вместе с тревожным рокотом копыт. Мы выплывали из вакуума в свой континуум. В вековой тьме слабо замерцали светлячки, затем звезды нашей Вселенной засверкали в полную силу. Словно радуясь своему рождению, они вздрогнули и зазвенели колокольчиками, запели их струнные лучи. На нас обрушился каскад торжественных, меднозвенящих звуков. Обогащая музыку, космос развертывал свою величественную иллюминацию. Несколько условный и театральный, он шевелился, как живой, полыхал всеми цветами радуги.
Не знаю, на сюжет какого литературного произведения была написана светосимфоническая поэма, но программность музыки чувствовалась хорошо. Мне не составило особого труда вообразить себя гиперастронавтом, возвращающимся домой. Путь экипажа не был беспечальным. Врывались грозные ноты, и на нас накатывала волна тревоги, подступало ощущение смертельной опасности. Под минорные звуки, под их задумчивые и протяжные переливы, похожие на рыдания, хоронили погибших товарищей.
Но вот мы снова мчимся по великой галактической дороге, по тому звездному рукаву, в котором находится наше Солнце. Все печали таяли в лучезарных аккордах. Мы летели под гром сталкивающихся метеоров, под нежный шелест хвостатых комет и трубные зовы планет.
А звуки то росли, то утихали. Они сплетались между собой, как лианы, и рассыпались звонкими каплями дождя. Вдруг звездный фейерверк взорвался, разбрызгивая каскады торжествующих аккордов. В груди запело сладкое чувство: я увидел Солнце и родную планету. Она ближе и ближе. Мои ноги погружаются в вату облаков. Легкий толчок приземления, и я очутился вместе со всеми зрителями в раскрытой, как циклопический цветок, чаше Дворца. Над нами искрились знакомые с детства северные созвездия.
Финал светомузыкальной поэмы… Трудно, почти невозможно передать его словами. На темном небе заполыхало вызванное лазерными лучами северное сияние. Огромные радужные полотнища развевались и трепетали, как флаги. Семицветные струны сияния тянулись вниз и вибрировали. И в этих струнах, приветствуя прибывших вакуум-астронавтов, звенели ветры земных просторов, гремели водопады горных рек, шелестела листва прохладных лесов.
Полотнища северного сияния свернулись и пожухли. Из-за горизонта выплывало, гася звезды, зеленое кварковое солнце. Зазвучала мелодия рассвета — нежная, как прикосновение проснувшегося ветерка, тихая, как шорох падающей росы…
Дворец-фантоматории выполнил свою программу. Его купол сомкнулся. Все встали и аплодировали, довольные сказочной лекцией-путешествием, этим удивительным фантоматическим представлением, в том числе и заключительной частью — звездносимфонической поэмой. Какая-то женщина в соседнем ряду узнала Таню. Она протянула в нашу сторону руки и крикнула:
— Автору музыкальной поэмы!
Новый обвал аплодисментов. Таня, притихшая и растерянная, дергала меня за рукав и шептала, не поднимая ресниц:
— Уйдем отсюда… Скорее!
…Это было вчера. А сегодня я должен огорчить Таню — я скоро улетаю. Расстанемся, надеюсь, на очень короткое время. Месяца через три эскадра вакуумкораблей, пронизав черный нуль-континуум, уйдет за грань нашего мира, в зазвездные сферы.
Зазвездные сферы… Пронизав черный вакуумный океан, наша эскадра из двадцати боевых вакуумкораблей очутилась в минус-континууме, в спиральной Галактике, удивительно похожей на нашу.
Обитателей планеты Аир — точно таких же людей, как и мы, — я впервые увидел на их гигантском космодроме. Здесь встретились мы и с таисянами — уже знакомыми мне порхающими жителями планеты Тайса. Их боевой флот готовился к старту на другом конце космодрома. Мы не стали ждать, когда прибудут звездолеты отдаленных цивилизаций. Корабли трех планет и без того обладали мощными средствами нападения и защиты.
Расстояние до пиратской планеты Харды — двадцать световых лет — объединенный флот преодолел в два гиперскачка. Это напомнило мне поход старинных подводных лодок: погружение в Великое Ничто и скачок в десять светолет, затем всплытие на звездную поверхность для ориентировки и новое погружение с очередным прыжком. Каких-нибудь двадцать часов, и мы у цели — вблизи системы, похожей на Солнечную.
Харда встретила сотнями и тысячами самовзрывающихся снарядов, выскочивших, очевидно, из необъятных информационных кладовых пустыни. Но эти беспилотные космические аппараты легко истреблялись лазерными лучами и отгонялись защитными полями.
Тогда Харда силовыми щупальцами захватила ближнюю планету своей системы. Превратив ее огромную массу в энергию, Диктатор-Сатана нанес по нашим кораблям мощный испепеляющий удар. Но мы были готовы и к этому. Корабли быстро погрузились, почти нырнули в глубину вакуумного бассейна, выставив на звездной поверхности крохотные наблюдательные зонды — своего рода перископы.
Внезапное исчезновение эскадры, видимо, озадачило Диктатора. Пока в его суперэлектронном мозгу происходили какие-то «мыслительные» операции, ищущие оптимальные решения, мы вновь всплыли на поверхность. При этом один земной крейсер по неосторожности очутился слишком близко к защитной сфере. Легко, словно играючи, Сатана схватил крейсер силовой лапой-протуберанцем и втянул внутрь сферы. Мы увидели яркую вспышку. Очевидно, один из членов экипажа сумел во время нападения солдат взорвать корабль.
Однако решительных действий суперэлектронный Диктатор предпринять не успел. Вокруг его силовой сферы мы натянули свою — энергетически мощную изолирующую сферу. Колоссальная энергия для ее поддержания поступала от ближайшей одинокой звезды по заранее проделанному нами вакуумканалу. Сатана был блокирован прочно и надолго.
На этом помощь землян закончилась. Жители планеты Аир, отработав технику рейдов во времени, сами смогут незаметно проникнуть в прошлое Харды, еще до эпохи Генератора. Там они внесут в общество такие изменения, при которых история планеты пойдет по другому пути. Парализованный и заблокированный Сатана будет безболезненно вычеркнут из реальности.
Земная эскадра еще немало дней гостила на планете Аир. Затем начался обратный путь домой. Наши вакуумкорабли перевалили через нуль-континуум на другой полюс мироздания, в свою звездную Вселенную.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Поющие луга
(Вместо эпилога)
С высоты десятого этажа смотрю на холмистые поля и леса, на синеющие вдали пологие Уральские горы и не перестаю удивляться контрастам последних двух лет моей жизни. Кажется, только вчера я был в пустыне и видел мертвецов, выскакивающих из песчаных информационных хранилищ. А сейчас сижу на убитой зеленью веранде трехсотэтажного дома-города. Сужающийся кверху и похожий на гигантскую елку, город-сад медленно вращался, равномерно подставляя солнцу свои бока.
Та сторона города, где находится наша квартира, незаметно поворачивалась к югу. Солнечные лучи, проткнув подрагивающую листву, упали на стол и рисовали меняющиеся причудливые узоры. Шмель, чудом залетевший с полей на десятый этаж и дремотным гулом нарушивший тишину, уселся на невзрачный цветок. Раскачав его, опять загудел и тяжело переплыл на соседний цветок. Снова тишина… И не верится, что совсем недавно надсадно выли корабельные сирены, кроваво вспыхивали аварийные лампочки: наш обратный переход не был таким уж гладким. Погиб еще один вакуумкорабль, утонул в неизмеримых пучинах нуль-континуума. Вероятно, у него погасло поле хронозащиты. Корабль, как скорлупку, подхватили вакуум-изотропные, разнонаправленные потоки времени и занесли в прошлое. В очень далекое прошлое. Быть может, в пору огненно клокочущей юности Вселенной.
Земля торжественно встречала эскадру, хотя мы принесли не только радость успеха, но и горечь потерь. Наша экспедиция — заметная веха в истории космических цивилизаций обоих полюсов мироздания.
Миллиарды жителей Земли, Луны, Венеры и Марса видели на экранах, как наша эскадра, погасив фотонные двигатели, медленно опускалась на гравитационных платформах. На Камчатском космодроме находились только семьи астронавтов.
Ориона встретили Инга и шестилетняя Настя с неизменным букетом в руках. Увидев цветы, «варварски» сорванные на примыкающих к космодрому полях, Орион только крякнул, поморщился, но ничего не сказал.
Таня приникла головой к моему плечу. Потом, протянув руку, облегченно вздохнула:
— Ну, здравствуй, Странник! Звездный Скиталец!
А вечером она пригласила в Антарктиду наших общих друзей — гиперастронавтов. Гостей набралось около полусотни. Они кое-как разместились на берегу небольшого пруда. На противоположном берегу, метрах в пятнадцати от нас, склонились над водой Танины инопланетные питомцы. Кварковое солнце угасало, и в таинственных полярных сумерках светящиеся цветы переливались, окрашивая водную гладь колыхающимся семицветьем радуги. Зрелище великолепное! Но то, что мы услышали, превзошло все ожидания.
Гибкие пальцы Тани забегали по клавишам аппарата, излучающего радиоволны. Многокрасочная пульсация непривычно огромных цветов, вначале хаотичная, приобрела стройность и ритм. А в затрепетавших лепестках зазвучали тихие рассветы, шорохи трав, гул сумеречных лесов. Загрохотали морские бури, и, словно на невидимых крыльях мелодии, мы унеслись в космос. Мы слышали то волнующие, как ветер, земные легенды, то шелест иных планет, летящих в звездных пространствах…
А цветы полыхали, бросая на лица слушателей багровые, синие, зеленые отсветы.
Счастливая Таня принимала поздравления и благодарности за столь яркое и необычное светомузыкальное представление. Даже Орион, настроенный вначале весьма иронически, удивленно хмыкнул и снисходительно потрепал сестру по плечу:
— Молодец! Твои лягушки не подвели.
…Не заметил, как прошло два часа. Пирамидальный город-сад повернулся на 180 градусов, и веранда опять в тени. На севере, в тридцати километрах отсюда, в лучах заходящего солнца четко выступали очертания огромной голубой тарелки. Это новый город, чудо гравитационной техники. Он парил в воздухе над излучиной Камы и походил издали скорее не на тарелку, а на циклопических размеров цветок. Чуть наклоненный к югу, цветок медленно вращался и, подобно подсолнечнику, сопровождал наше светило, раскрывая навстречу лучам свои гигантские лепестки-сектора.
И снова вспомнилась Таня, ее увлеченность цветами и музыкой. На другой день после светомузыкального вечера в Антарктиде мы поселились в пирамидальном доме. В тот же день, вот на этой веранде, Таня делилась со мной своей мечтой.
— Природа допустила небольшой просчет, — говорила она. — В лесу поют птицы, звенят сосны, шумит листва. Выйдешь в поле — цветы… Они приятно пахнут, ласкают глаз. Но почему молчат? Они должны звучать, как музыка, петь, как птицы! Что нужно, чтобы исправить оплошность природы? Небольшое вмешательство в генетическую основу…
Таня рассказала о своей будущей работе, в которой найдут применение обе ее профессии — биолога и композитора. «Поющие луга» — так я тут же назвал ее проект, фантастически трудный по исполнению. И вспомнил подходящие к ее замыслу стихи поэта XIX века:
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы,
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
— Какие хорошие стихи! — обрадовалась Таня. — Вот видишь, поэты давно мечтали о поющих степях. Вернее, они воспринимали их поющими. Колокольчики!.. Они должны у меня именно звенеть, тихо и нежно. Чуть громче, на манер пастушеской свирели, будут звучать полевые лютики. А ромашкам и василькам отведу роль первых скрипок. Мои питомцы в Антарктиде — не то… Это почти биороботы. А наши дорогие с детства полевые цветы останутся у меня такими же живыми. И откликаться они будут не на грубые радиоволны, а на биоизлучение человека!
Мне понравилось, что Танины луга будут жить словно в едином ритме с человеком, с его думами и настроениями. Отзываться на биоизлучение человека! Эти слова подсказали мне замысел фантастической картины, которую я вскоре начал писать. Картина под названием «Поющие луга» должна стать у меня своего рода картиной-метафорой, картиной-символом. Один вариант готов, стоит сейчас на веранде передо мной. Многое хочется вместить в картину: и просторы степей, в которых то печет солнце, то гуляют дожди и грозы; и бесшумный скользящий поезд; и парящий вдали на горизонте город. Фантастический, еще никем невиданный сиреневый аэрогород, этакий медленно вращающийся шар-глобус, плавающий на гравитационных волнах. На переднем плане — люди: гиперастронавт, только что вернувшийся на Землю, и его подруга. Они идут по тропинке среди пахучего степного разнотравья. Медуницы и ромашки, яркие лютики и трогательные васильки — все цветы вблизи людей вздрогнули лепестками, отозвавшись на
биоизлучение. Они чутко уловили их настроение и встретили никем и никогда неслыханной мелодией. Лица двоих изумлены и радостны, их мысли и чувства сливаются в едином звучании с природой…
…Зашуршали под ветром листья, и на моем столе заплясали солнечные блики — веранда вновь на южной стороне. Сзади послышались легкие шаги — пришла Таня. «Жаворонок», — с нежностью подумал я, когда на моих плечах зашевелились ее длинные гибкие пальцы.
— Заканчиваешь свои воспоминания?
— Да. Есть кое-что и о тебе.
Таня ушла в небольшой зал с высоким, акустически выверенным полусферическим потолком и села за электронный музыкальный аппарат, сочетающий достоинства многих старинных инструментов — рояля, скрипки, органа, арфы. Зал рядом с верандой, и я хорошо слышал, как Таня импровизировала. Под ее удивительными пальцами расцветала сказка, где солнечные дали открывались одна за другой.
На западе, за лесистыми увалами, заполыхал костер вечерней зари. Я смотрел на колышащееся марево и думал о том, каким странным сиянием, предзакатным блеском озарилась моя жизнь, прежде полная тревог и опасностей. Теперь, казалось бы, можно отдыхать, тихо грезить и писать фантастические картины о поющих лугах. Но я еще не стар. Я — астронавт и пока еще не думаю о Земле, как об уютной гавани, где можно осесть навсегда. Скоро в другой рукав нашей Галактики уйдет новый отряд вакуумкораблей. Именно там находится загадочная Глория. По отрывочным сведениям наших космических братьев и соседей, на Глории в давние времена развивалась цивилизация технологического типа. Сейчас планета лишилась биосферы. Она покрылась металлическим панцирем, ощетинилась лесом антенн и огромных вибрирующих усиков, которые стреляют аннигиляционными разрядами по всякому приблизившемуся кораблю. Там произошел, очевидно, технологический коллапс. Жители планеты по неосторожности попали в ими же сделанный капкан. От них не осталось, быть может, даже информационного следа. И нельзя сказать, что на Глории, как и на «потусторонней» Харде, виной всему был несправедливый общественный строй. Здесь решающую роль сыграли другие факторы.
Может быть, гедонизм? В Совете Астронавтики я высказал предположение, что Глорию населяла изнеженная гуманоидная раса, передавшая технике заботу о себе и всякий труд, в том числе духовный. Рассуждения Незнакомки из Вечной гармонии о технологической эволюции, обретающей самостоятельность, не лишены основания. Непомерно разросшаяся техносфера на гедонистической планете Глории стала нянькой бездумно наслаждающихся жизнью разумных существ, спрятавшихся в электронных или иных уютах от природы, духовных поисков и труда. Потом техносфера, вытесняя биосферу, обрела полную самостоятельность, «поумнела» и в конце концов решила, что гуманоиды — тупиковый вариант эволюции, который следует упразднить.
Одна из задач новой экспедиции — проверка моей гипотезы.
…Закатный костер на западе погас, дотлевали его последние тускнеющие угли. В темном небе рассыпался светящийся пепел — легионы далеких солнц. Мыслью, воображением я уже там, в распахнувшейся звездной тиши, в которую вплетаются еле слышные задумчивые звуки, извлекаемые Таниными пальцами. Думаю, что разлука с Таней будет не слишком долгой.
Вакуумэскадра совершит переход к отдаленному витку Галактики в считанные месяцы, минуя релятивистские эффекты со временем. Не пройдет и года, как корабли выплывут из черных глубин вакуумного океана на свет, на волнующуюся звездную поверхность. Вынырнут вблизи Солнечной системы. И я увижу издали нашу Землю… Не информационную глобальную пустыню, а зеленую планету в синем плаще океанов, где нас будут ждать аква- и аэрогорода, прохладные леса и поющие луга.
Семен Слепынин
ПАЛОМНИКИ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Пролог
Две вещи наполняют душу удивлением и благоговением — звездное небо надо мной и нравственный закон во мне.
Иммануил Кант
Наконец-то! Вырвался я из мертвой Вселенной, из этой пучины мрака и ужаса. Наконец-то я в живой Вселенной, лучащейся радостью и светом. Далеко позади, в неизмеримых глубинах времени и пространства остались погасшие солнца, оледеневшие планеты. Далеко позади и те… Рыцари тьмы, как именуют себя эти подлецы. Нет, здесь они меня не найдут, не запрут в свою средневековую темницу.
Счастливый и легкий, как птица, я носился от одной галактики к другой. С великой радостью обгонял световые волны, нейтрино и другие частицы материального мира. Я летел с небывалой в природе скоростью мысли, ибо я и есть чистая мысль, сбросившая тяжкую оболочку материи.
Я вплотную приближался к звездам, влетал в их протуберанцы, всматривался в языки пламени, щупал кипящие воронки и, к счастью, не находил атомов железа, этих страшных вестников «тепловой смерти». Здесь только гелий, водород и кислород. Атомного топлива хватит на миллиарды веков.
«Мне досталась совсем юная Вселенная», — ликовал я и, вырвавшись из звездного месива какой-то галактики, остановился в пустоте вдали от всего. Передо мной был чудом залетевший сюда астероид — крохотный обломок планеты. Я ступил на его гранитную поверхность и увидел себя в привычной форме моряка парусного флота — китель с погонами, брюки, фуражка с кокардой. На скалистом возвышении астероида я чувствовал себя словно на капитанском мостике фрегата. Отсюда видно все — всю Вселенную с ее неисчислимыми галактиками. В одной из них взорвалась сверхновая звезда и горела как маяк. Красивое зрелище! Что ни говорите, а в бестелесной жизни есть свои прелести.
Вспомнил! Ведь я не только моряк, но и художник.
А тут еще одна приятная неожиданность: со всех сторон послышались упоительно-сладкие, нежные звуки. «Прямо-таки музыка небесных сфер», — усмехнулся я и вдруг вспомнил о странной легенде, кочующей по всей Вселенной: под чарующую музыку будто бы приходит какой-то субъект, возомнивший себя то ли дьяволом, то ли кем-то еще похлеще.
Музыка затихла, из космической мглы и впрямь выступил субъект в камзоле, с гордо посаженной головой и с пылающим взором. Он посмотрел на меня, как мне показалось, несколько нагловато.
— Неужто ты — бродяга? — удивился я.
— Не бродяга, а Скиталец, — возмутился, буквально вскипел субъект, и щеки его побагровели от негодования.
— Да, да! Извини, забыл, — поспешил я успокоить сварливого гостя. — Мельмот Скиталец. Слухи о тебе ходят по всем мирам. Не верил я им. И вот на тебе… Ну что ж, рад познакомиться. Но ко мне-то зачем пожаловал? Искушать мою бессмертную душу?
— Предлагаю меняться судьбами. Выгодная сделка! Согласишься — получишь от меня земную жизнь, а в ней — редкое долголетие, неувядаемую юность и несметные богатства.
— Разве счастье в этом?
— Не понимаю… Все стремятся как можно скорее вернуться в телесную жизнь. В эту… в материальную.
— А я вот не стремлюсь. Смотри, что я там получил — я снял китель и, оголив спину, показал рубцы и шрамы.
— Ого! Крепко поработала инквизиция.
— Не в инквизиции меня пытали, а на взбунтовавшемся корабле. Мятежники, пираты… Страшно вспомнить. И пытал меня главарь мятежников. Вот уж дьявол так дьявол. Настоящий, невыдуманный.
— А я разве выдуманный? — нахмурился гость. — А то какой же. Ты из сказки или легенды. Не помню.
— Из романа.
— Ну из романа. Какая разница. Все равно выдуманный и, стало быть…
— И стало быть, не существующий? — с ехидцей подцепил меня субъект. — Но ты же видишь меня и слышишь. Выходит, я такая же часть природы, как и ты.
Я смешался, не зная, что и сказать. Этот наглец прав: он такая же реальность, как и я.
— Ну что? Молчишь? — с кривой усмешкой, с вызовом продолжал гость. — Ты, конечно, уверен, что нет ни ада, ни рая. Эх ты, невежда. Все-то ты знаешь, во всем уверен. А как насчет Бога? Есть он или нет? Опять молчишь? Вот то-то, ничтожество и всезнайка, — презрительно бросил Мельмот Скиталец, надменно повернулся ко мне спиной и ушел, растаял в космической мгле.
Вот мерзавец! Испортил все-таки настроение, ударил по самому больному месту. И в самом деле, что я знаю? Я и о себе не имею ясного представления. Это легко сказать: я — чистая мысль. А как это понять? Я даже не мог с полной уверенностью заявить этому нахалу, что Бога нет. А черт его знает, может быть, и есть.
Так досадно и горько стало на душе, что захотелось бежать, уйти куда-нибудь подальше. Но куда бежать? Я огляделся по сторонам: кругом все та же космическая мгла. А в ней могут быть еще какие-нибудь скитальцы, богомольцы и еще дьявол знает кто. Приставать будут. Тесна, оказывается, Вселенная. Бесконечен только вымысел.
На скалистом выступе астероида по моему желанию появились краски, кисточки. В точности такие, какими я привык работать еще в земной жизни на палубе фрегата. Я взмахнул кисточкой, ставшей вдруг исполинской, и закрасил непроницаемую, с редкими светлячками галактик, космическую тьму. Вселенная исчезла. Вместо нее — привычное, по-домашнему уютное земное небо. Под его голубым куполом нарисовал облака, позолоченные заходящим солнцем, потом рощи и кустарники на лугу и, наконец, речку, текущую сюда, к моим ногам. Полюбовался и чуточку подивился. Было в моем вымысле что-то до странности знакомое. Но что? Метафизическая печаль? Так с похвалой отзывался капитан о моих картинах. Да, эта печаль чувствуется и сейчас. В чем? Да, пожалуй, во всем: и в горизонте, словно скрывавшем невыразимые, запредельные тайны, и в меланхолической дымке… Грустью веяло от картины.
Желая придать ей больше радости, я буквально ползал по нарисованной мною траве, прорабатывал каждый листик, каждое пчелиное крыло. Вверху, за голубым куполом «моего» неба, пролетают годы, века, тысячелетия. Но моему вечному «Я» нет никакого дела до физического времени. Я его не замечал. Я был в экстазе.
Я встал и нарисовал мальчика лет десяти-двенадцати. Чудной получился мальчуган — босоногий, в коротких, до колен, штанишках, в прохудившейся на локтях рубашке. Странно, раньше я где-то его видел. «Чепуха», — подумал я и, желая получше рассмотреть картину, попытался отойти назад, как это делал в мастерской. Но отходить, оказалось, некуда. Кругом те же поля и рощи. Я создал замкнутый мир, целую планету. Да чем я хуже Бога, этого мифического творца всего сущего? Правда, мир мой неподвижен. А что, если загадать желание и дерзнуть? Я театрально взмахнул рукой, и… желание сбылось. Картина ожила! Заплескалась река, поплыли облака, улыбнулся мальчик.
— Красиво? — спросил я, показав на закат.
— Очень! — восторженно ответил мальчик.
— Это я сотворил. Из ничего.
«Хвастун», — поморщился я, и на душе опять стало скверно. Картина создана из чего-то такого, чего нет в природе. А из чего? Не знаю. Встречались мне такие же «всезнайки», как я, и пытались объяснить это явление. Одни говорили, что это эманация мысли, другие — проекция нашей памяти. А третьи вообще плели философскую заумь: дескать, это небытие, обладающее… бытием.
— А ты, дяденька, откуда?
Оторвавшись от невеселых размышлений, я взглянул на парнишку. Тот рассматривал незнакомца с немалым изумлением. И немудрено: на моем кителе сверкали погоны, на рукавах серебрились парусники в окружении звезд, а на кокарде фуражки красовался фрегат. «Красив», — хмуро усмехнулся я и, пытаясь выпутаться из неловкого положения, не очень уверенным голосом сказал:
— Я, мальчик, из дальнего плавания.
Ответ, к счастью, вполне удовлетворил парнишку.
— Моряк! Из дальнего плавания! — радостно закричал он и спросил: — А где живешь?
— В городе.
— А я вон в той деревне. Видишь?
Еще одна неожиданность! Вдали, где раньше серебрились нарисованные мною тополя, появились вдруг избы. Из труб их вился дымок. За полями виднелась церковь. «А ведь картина вышла из-под моей власти и живет сама по себе, — растерялся я. — Неужели я лишний здесь? Что делать? Неужели я, творец, должен приспосабливаться к своему взбунтовавшемуся детищу? Но как? Что, если мальчик приведет меня в деревню? С каким удивлением встретят крестьяне небесного гостя? Что я им скажу?»
Мальчик, к моему облегчению, свернул в сторону, и деревня скрылась за холмами. Мой веселый попутчик с удовольствием вводил «городского жителя» в свой мир: называл травы, деревья, птиц. Голова у меня кружилась от шалфейных, медовых ароматов и еще от чего-то. Но от чего? Что волновало меня?
— Где-то я видел все это. Но где? В какой Вселенной? — в задумчивости пробормотал я и, опомнившись, взглянул на парнишку. Опять оплошность!
— Вселенной? — удивился мальчик. — Это ты так называешь далекие страны? Там, за морями?
— Да, да! — поспешил я ухватиться за спасительные слова. — Именно там. За синими морями, в очень далекой стране я видел что-то похожее. Только у них, помнится, за этой рощей большое пастбище.
— И у нас тоже, — рассмеялся мальчик. — Идем!
Я пошел, стараясь ничему не удивляться. За березовой рощей и в самом деле распахнулись просторы, от которых перехватило дыхание и вновь закружилась голова. Все знакомо! Луга, перелески, холмы, овраги — все знакомое, все родное. На дне оврагов журчали студеные ключи, на холмах качались травы и шумели как волны морского прибоя. В цветущих клеверах гудели пчелы, а из-под ног вспархивали испуганные птицы.
— Вот и кони! — воскликнул мальчик. — Ну что, родные? Потеряли меня? Соскучились? — И, обернувшись ко мне, пояснил: — Это я пасу их. Они меня слушаются. Стоит только заиграть — и они за мной.
Мы подошли к одиноко стоявшему дереву — старому, кряжистому, в буграх и наростах тополю. Мальчик запустил руку в его дупло и вытащил какую-то трубочку.
— Пастушья свирель? — спросил я.
Пастушок с недоумением посмотрел на меня. Слово «свирель» было ему незнакомо.
— Поиграй. Видишь, кони так и смотрят на тебя. Ждут, — пошутил я.
Мальчик приставил дудочку к губам, пальцы его забегали по дырочкам, то закрывая их, то открывая.
Силы небесные! Я был потрясен, захвачен волшебством звуков, их пленительными ритмами и напевами. Казалось, пела и грустила сама природа. Здесь было все: тихие рассветы с шорохом падающей росы, журавлиные крики и гул волнующихся трав. Лошади и в самом деле подняли головы и прислушались. А над ними, замирая в небесной выси, лились то голоса далекой старины — жалобные и протяжные, то песни юные, как весенние ветры.
— Да ты играешь как царь степей! — воскликнул я. — Научи.
Пастушок охотно согласился. Получалось у меня сначала неважно, прямо скажем — коряво, что смешило моего учителя. Он хохотал, глядя, как мои непослушные пальцы срываются с дырочек. А что за звуки! То пронзительно визгливые, то тихие и сиплые.
Но потом случилось со мной что-то непонятное. Я заиграл с легкостью, удивившей меня самого. Пальцы словно вспомнили давно забытое, обрели гибкость, ловко заскользили, завибрировали и начали извлекать из свирели волнующие задумчивые звуки. Заговорила ли та самая моя извечная метафизическая печаль? Не знаю. Но звуки уводили в запредельные, зазвездные страны, в такие тоскующие космические дали, что на глазах мальчика выступили слезы.
— Ты обманщик, дяденька! — обернулся он и вскочил на ноги. — Играешь ты здорово. Лучше всех. Ты… ты учитель музыки?
— Нет, малыш. Просто оказался способным учеником. Не играл я до этого. Не подаришь ли мне свою удивительную дудочку?
— Подарю, конечно. Но обманщик ты. Играл ты раньше. Играл.
Я засунул дудочку, эту волшебную пастушью флейту в карман кителя, встал и вдруг почувствовал что-то неладное. Холодком ли повеяло, тень ли мелькнула, но стрекочущие кузнечики, сонно гудевшие шмели и пчелы попрятались в травах и затихли. В картине, созданной мной, затаилась какая-то фальшь, разрушающая гармонию этого замкнутого живого мира. И я уже знал какая — присутствие в ней самого автора, инородного космического гостя. Я лишний!
— Что случилось? — забеспокоился мальчик.
— Нам пора прощаться.
— Уходишь?
— Это ты уходишь, милый пастушок.
Да, картина «уходила», таяла на глазах. Сначала потускнело солнце, потом истончился клочок голубого неба и образовалась рваная дыра. Оттуда пугающе глянула физическая реальность — черная космическая бездна и светящиеся пятнышки далеких галактик.
— Что это?! — в ужасе вскрикнул мальчик.
Бедный пастушок. Желая успокоить малыша, я попытался погладить его по голове. Но рука моя коснулась пустоты. Мальчик исчез. Вслед за ним рассеялись облака, рощи, травы, и сгинула вся мнимая твердь под ногами. Планета-мираж пропала, ни в малейшей степени не нарушив во Вселенной баланс вещества и энергии. Ведь она — ничто.
И опять я один во Вселенной. Опять одиночество, полнее которого не будет нигде. И полное бессилие — эта вечная трагедия внетелесной мысли. В мире идеальном я всемогущ, как Бог (планету я все-таки создал), но в мире физическом беспомощнее комара. Не могу сдвинуть ни одной пылинки.
Я присел на скалистый выступ астероида и задумался о картине. Было в моем творении что-то знакомое, даже родное и давно забытое. А что, если картина — не вымысел и не мираж, а затерявшаяся в глубинах времени реальность? Моя реальность? Было в моей телесной жизни что-то похожее. Было! Тогда понятно, почему картина вырвалась из-под моей власти. Это непроизвольно, сама собой развертывалась моя память — хранилище моих прежних, затянутых туманом забвения земных жизней. Понятно и то, почему я так быстро и ловко научился играть на свирели. Прав мальчик: играл я раньше. Миллиарды лет назад, но играл.
А что, если?.. Вторая догадка так потрясла меня, что я вскочил и начал в волнении ходить по астероиду. Мальчик! Это же я! Один из самых глухих уголков памяти вдруг озарился и высветил кусочек моей прежней и удивительно полной жизни.
Я с упоением играл на свирели, и звуки песен летали над степными просторами, замирая вдали печальным эхом. Я жил единым дыханием с травами, облаками и деревьями, окунался в луговые ароматы, в гул пастбищ. То была дивная пора моего пастушьего детства, когда птицы казались яркими, как заря, а гром, упавший на луга, моим громом.
Вот оно, счастье! Счастье, потерянное во мгле веков. До слез, до рыданий захотелось вернуть его, и я, подскочив к краю астероида, крикнул в пространство:
— Эй, вы! Боги или дьяволы! Дайте мне еще раз эту жизнь. Верните!
Но глухо и равнодушно к моим мольбам Пространство. Нет в нем ни Богов, ни дьяволов, а есть лишь самозванцы вроде моего знакомца — Мельмота Скитальца. Какие у него амбиции! Какое самомнение! Вызывался он, видите ли, сверхъестественным путем вернуть меня в земной мир, в телесную жизнь…
Нет, все идет естественным путем, все зависит от капризов вот этого дьявола — Вселенной. Раскинулась она сейчас передо мной и манит, соблазняет. Иди, дескать, ко мне, присаживайся на любую обитаемую планету и, может быть, вернешься в материальную жизнь. Но вот вопрос: в какую? А вдруг по воле случая окажусь в теле «мыслящей» черепахи или «мудрого» ползучего гада? Сыграла однажды Вселенная со мной такую злую шуточку. Давно это было, и помню смутно. Но помню. Правда, чаще всего я был в образе вполне приличного двуногого существа. Но и этот образ меня сейчас не прельщает. Не всякая жизнь мне нужна, а лишь одна, приоткрывшаяся в картине-видении. Но где этот мальчик? Где я? Где тоскующее эхо свирели?
Сгоряча сейчас ничего не отыщешь. Я успокоился, присел на скалистый выступ и попытался покопаться в своей бессмертной памяти — бесконечной, как сама Вечность. Отрешившись от окружающего мира и настоящего момента, я уходил в себя, в свои прошлые жизни. Все дальше и глубже, в исчезающие далекие века… И заколыхались тени минувшего. Образы, видения скакали, обгоняя друг друга, и разбредались по темным закоулкам, гасли… Нет, в этой толчее ничего не отыщешь.
Я решил начать воспоминания со своей последней вещественной жизни на планете Таир-3. Предстала эта жизнь сейчас со всеми подробностями, как будто это было вчера. Тут уж я ничего не упущу, ни одной мелочи. Буду обращать особое внимание на все странное и необычайное, что намекнуло бы на возможность иного, обходного пути. Я хочу обмануть Вселенную, найти лазейку в желаемую земную жизнь — в детство пастушка, в зовущие песни свирели. Начну с того момента, когда я с планеты Таир-3 отправился в злополучное плавание по звездному океану. Вот тут уж странностей было хоть отбавляй…
Часть первая
МЯТЕЖ В ЗВЕЗДНОМ ОКЕАНЕ
Странности начались еще до мятежа. Странности сначала со мной… Уверен, что каждому пришлось испытать в детстве миг, когда душу опалят вдруг вопросы: «Кто я? Откуда я? И где я был до этого?» А в том, что именно был, и был всегда, не таилось в детской душе никакого сомнения. Потом, в суете и тревогах взрослой жизни, все забывалось, считалось младенческой блажью. А напрасно. Детство гениально. В эту пору, когда сознание еще не захламленно, не придавлено земным, обыденным опытом, частенько просыпается опыт космический, изначальный. И в этих детских вопросах — «самых глубоких и страшных», как сказал один поэт, — и смятение, и удивление перед миром, и какой-то завораживающий страх. «Вселенский страх», — как сказал бы наш капитан.
Но почему нечто подобное, некое детское смятение я пережил, когда мне перевалило за тридцать лет? Было ли это предчувствием того страшного и непонятного, что случилось потом, вблизи Гиблого моря? Было ли это предвестие, чуть ли не зов иного моего бытия?..
В тот памятный день с кисточкой в руках я стоял на каменистой возвышенности. Внизу — портовый городишко с кривыми грязными улицами, чуть дальше _ уютная бухта с ветровыми парусными кораблями. Могучим красавцем выделялся наш световой звездный фрегат.
Подул слабый ветер. Рядом со мной, в роще, зашелестели листья. Оттуда вспорхнули две птицы и полетели ввысь, туда, где сквозь тонкие перистые облака светило солнце… Вдруг что-то дрогнуло в груди, мое «Я» словно растворилось в небе и вслед за птицами улетело… А там, за облаками, раскрылись засолнечные дали и распахнулась Вечность. И что-то озарилось в душе моей и перехватило дыхание: я жил всегда, я — Бесконечность…
«Что за чушь», — опомнился я, встряхнув головой.
Ко мне на холм поднимался капитан фрегата. Вот ему-то больше подходят такие наваждения: человек он не то чтобы верующий, а ищущий некое идеальное начало мира. Космическую душу, что ли? Вот и сейчас, видать, ему не терпелось завести со мной разговор на вселенские темы.
— Романтик, — с улыбкой сказал капитан, кивнув на этюдник, где стоял мой неоконченный пейзаж. — О чем задумались твои деревья и кусты, тихие воды и облака? О чем грустят? Не знаешь? А я вот знаю. В твоей картине метафизическая печаль! — воскликнул он, подняв палец. — Да, да! За нашим физически видимым миром скрывается невидимый, но главный мир. Вот ты не веришь в него, а сам в своем творчестве так и рвешься в зону великих смыслов бытия.
«Ну все. Вскочил на своего любимого конька, теперь не остановить», — с улыбкой подумал я и попытался сменить тему разговора:
— Я стараюсь разгадать и запечатлеть красоту мира. Вот и все.
— А красота — это и есть выражение вечного и бесконечного…
— Ладно, капитан, расскажи лучше, что нового узнали о чужаках из движущихся картинок.
— Движущиеся картинки? — рассмеялся капитан. — Фильмы! Они называют их фильмами. Пора привыкать. Эх, отстали мы от них. «Типичное средневековье», — сказали они о нас. У них наука, а у нас еще верят в алхимию, у них космические корабли, а у нас парусные шхуны и фрегаты с медными пушками. Крепко мы отстали. Для нас даже фильмы в диковинку.
— Что же все-таки узнали наши ученые из этих… из фильмов?
— Окончательно убедились, что пришельцы такие же люди, как и мы.
— Знаю. Такие же у них ноги и руки, глаза и уши. Но почему они не могут жить в межзвездном океане?
— Не привыкли. Они дышат только планетным воздухом, как мы сейчас. Для них звездный океан и его воздух — вообще загадка. Их ученые считают, что это какая-то гравитонная среда. Вода — жидкие гравитоны, воздух — газообразные. Спрашиваешь, что такое гравитоны? То ли частицы, то ли волны тяготения. Но как бы уже погасшие, потерявшие энергию… Да, ошеломил их наш мир. У них все иначе. Раньше мы считали, что наш звездный мир и есть вся Вселенная. Оказывается, что мы только островок, что таких звездных скоплений — шаровых, плоских, как тарелки, спиральных — великое множество. Это галактики, удаленные друг от друга на немыслимые расстояния.
— Свою галактику они называют уж очень вкусно, — усмехнулся я. — Кажется, Молоко…
— Млечный Путь, — поправил капитан. — А нашу — Заколдованным Шаром.
— Как это понять? — спросил я.
Но в это время на фрегате прогрохотала пушка и послышались звуки трубы, призывающие капитана. _ Ну и команда. Опять не поладили, — поморщился капитан и стал спускаться с холма.
Прихватив этюдник, я пошел за ним. И еле поспевал. Несмотря на свой солидный возраст, шагал капитан весьма энергично. Чувствовалась в этом, однако, некоторая нарочитость. Постаревший звездный волк хотел подчеркнуть, что для световых плаваний он еще пригоден.
Мы шли по кривым улицам. На верандах двух — и трехэтажных домов суетились женщины, занятые хозяйственными делами, и не обращали на пьяные крики никакого внимания. Привыкли. В тавернах и кабаках матросы пили гульку, гоготали, пели песни, пускались в какие-то дикарские пляски, заканчивавшиеся жестокими драками.
«Буйствуют морячки. В плавании им этого не позволят», — усмехнулся я.
На палубе нашего фрегата тоже шел мордобой. Какой-то офицер в форме шкипера первого ранга стоял на капитанском мостике и с любопытством взирал на драку.
— Кто стрелял?! — В голосе капитана зазвенел металл. Вот тут уж не нарочитость. Умел этот добродушный интеллигентный человек в нужную минуту собрать в кулак свою волю.
— Это боцман с перепугу из пушки пальнул, — ответил офицер и стал спускаться с мостика.
Стройный, подтянутый, с умным волевым лицом, он сначала мне понравился. Но что-то в нем меня и смущало. А тут еще — странно! — взглянул он на меня и слегка попятился. В глазах его мелькнуло удивление и как будто даже страх.
— Ну что рассматриваешь меня, словно диковинку какую? — нахмурился я.
— Да так, примстилось что-то, — пробормотал он.
«Примстилось»! И словечко какое-то выбрал дурацкое, чуть ли не потустороннее.
— Ну-ну. Петухи, — улыбнулся капитан. — Познакомиться не успели, а уже чуть ли не поссорились. Представьтесь друг другу.
— Новый старший помощник капитана, — назвал себя офицер.
Представился и я.
— Что же все-таки случилось? — спросил капитан.
Оказалось, во время погрузки воды в одной из бочек выпала затычка. К неописуемому ликованию матросов, там была гулька.
— И вот результат. — Старпом показал на присмиревших матросов, на физиономиях которых красовались синяки и ссадины.
— Ну и команду ты мне подобрал, — хмурился капитан.
— Хорошие ребята. Исполнительные и работящие, — возразил старпом. И скомандовал: — Стройся!
Матросы выстроились в две шеренги и застыли по стойке «смирно», чем и привели капитана в благодушное настроение.
— Отлично, ребята! Отлично! И Красавчик здесь? — рассмеялся капитан. — А ну, выйди, милый. Покажись.
Из строя вышел матрос с чудовищно обезображенным лицом. Когда-то это был видный малый, но отчаянный бабник. В прошлом году разъяренные женщины накинулись на него и битыми бутылками так исполосовали, что лицо его превратилось в страшную маску. С тех пор он и получил кличку Красавчик.
— Отчислить? — спросил старпом.
— Пусть остается, — улыбнулся капитан. — На берегу женщины его растерзают. До сих пор помнят.
Не нравился мне капитан в такие минуты. Слишком уж добренький. Не нравились и новые матросы, глядевшие на нас с какими-то затаенными ухмылочками. Один из них, долговязый и с прыщеватой физиономией сплюнул, вышел из строя и вразвалочку направился к борту. Звали его, как я потом выяснил, Хендис Хо.
— Назад! — рыкнул старпом и погрозил кулаком. Матрос усмехнулся и не спеша вернулся в строй.
— А с гулькой произошло недоразумение, — повернувшись к капитану, оправдывался старпом. — Я эту гадость запру в отдельном трюме, а ключи будут у меня. И вообще наведу порядок.
— Верю, — кивнул капитан. — В случае чего знаешь, где нас найти. В той же таверне «Ржавый якорь».
В таверне, в просторной светлой комнате, я собрался было поработать над картиной, но что-то мешало мне, саднило душу.
— Напрасно ты ему веришь, — сказал я капитану.
— Чего ты на него взъелся? — пожал плечами капитан. — Прекрасный помощник. Послушай, что я расскажу, и посочувствуй. В юности он возглавил восстание крестьян. Восстание подавили, повстанцев сначала пытали, а потом бросали в ямы на пылающие угли и заливали кипящей смолой.
— Жуть, — поморщился я.
— Да, это был ад. Старпом под телами погибших чудом остался жив, но с тех пор люто возненавидел Вселенную.
— Вселенную? — удивился я.
— Именно ее. Дескать, Вселенная творит жизнь и мыслящий дух для своего злобного удовольствия. Вселенная — палач! Вселенная — дьявол! Нет, он такой же материалист, как и ты, но видит во Вселенной живое, подлое и очень злое существо. Странное противоречие. Не правда ли?
«Да, занятый тип», — подумал я, а утром следующего дня проникся к нему уважением: старпом выполнил свое обещание и навел на фрегате порядок как на военном корабле. В трюмах ничего лишнего, снасти подтянуты, фальшборт и ватерлиния покрашены голубой краской, а над палубой поднимался пар — ее драили горячей водой. Все команды старпома матросы выполняли быстро и сноровисто. Подозреваю, однако, что дисциплина держалась на его крепких кулаках. Нет, все-таки не нравилась мне новая команда. Очень не нравилась.
Правда, были у нас и надежные люди. Тем же утром к фрегату подплыла шлюпка с людьми из прежней команды. Их я хорошо знал, на них можно положиться: боцман, кок, силач плотник и наш неизменный корабельный врач. С ними еще какой-то мальчишка лет четырнадцати, в новенькой форме.
Чудо-мальчишка: на берете лихо сверкала кокарда, а на губах сияла восторженная улыбка.
— А это еще что за симпатичный парнишка? — спросил я капитана.
— Сорванец, — нахмурился капитан. — Начитался приключенческих романов и сбежал из мореходного училища. Романтики, видишь ли, захотелось. Ладно уж, пусть сплавает с нами юнгой, а потом я его загоню обратно в училище.
Погода стояла ясная, с умеренными ветрами. К полудню все ветровые парусники — яхты, бриги, шхуны — покинули гавань, но на берегу еще толпились люди. Провожали нас: световое плавание — событие нечастое.
— Попутного вам света! — кричали женщины и махали руками. — Попутного света!
— Сначала попутного ветра! — смеялся юнга и прыгал от радости.
Но лучшего ветра и желать не надо. Он мягко наполнил паруса и понес нас, как на ладони, в сторону Южного полюса. Через полчаса острова нашего архипелага скрылись за горизонтом.
В ветровом плавании звездному штурману делать нечего, и я с этюдником расположился под парусами бизань-мачты. В снастях ветер насвистывал песенку странствий, шелестели и негромко хлопали паруса. Чудный день! Работалось легко, с настроением. И вдруг что-то насторожило меня, словно тень надвинулась сзади.
Я оглянулся. Старпом! Он уставился на картину с удивлением и каким-то затаенным страхом.
— Что? Опять примстилось? — усмехнулся я.
— Да так, — пробормотал он. — Пахнуло чем-то.
«Пахнуло»! И опять же словечко какое-то инфернальное, чуть ли не загробное. Капитан видел в моей картине метафизическую печаль, а у этого она вызвала жуткие метафизические подозрения. Смешно, да и только. Я взялся снова за кисть, но настроение было испорчено, работа валилась из рук. Я собрал этюдник, отнес его к себе и зашел в каюту капитана.
— Чайку! — обрадовался капитан. — Попьем чайку. Однако неизвестно, чего больше жаждал капитан, — чайку или продолжения вчерашней беседы о «высших смыслах бытия». Любил он поговорить. Ох, любил. А тут еще старпом подоспел. Сели пить чай.
— Вот тут штурман любопытствует, интересуется чужаками, — сказал капитан. — Нам с тобой повезло. Мы уже побывали на корабле пришельцев.
— Я первый побывал, — улыбнулся старпом. Серые глаза его, ранее казавшиеся мне холодными и неприветливыми, мягко засветились и потеплели.
— Расскажи, — попросил капитан. — У тебя это забавно получается. Кажется, ты тогда командовал небольшой световой шхуной…
— Да. В межзвездном океане они еще издали заметили нас. Ну и волшебники! Меня с капитанского мостика словно вихрем снесло и затянуло внутрь их корабля. Какой там поднялся гвалт! Какая суматоха! С какими-то приборчиками бегали вокруг меня, рассматривали, как букашку, и страшно удивлялись, что я такой же человек, как они. Эти пришельцы, видать, толковые ребята. Вмиг разобрались и говорили со мной — представляешь? — на нашем языке.
— Ты заметил на их ушах небольшие украшения? Серьги или клипсы? — спросил капитан. — Это переговорные устройства. С их помощью я даже выучил их язык. Но тебя, как говорят, мало интересовали пришельцы. Ты с завистью глядел на их рабов.
— Роботы, — с улыбкой поправил старпом. — Они называют, их роботами. Отличные железные парни. Послушные, исполнительные! А какая силища!
Я украдкой поглядывал на старпома. Жесткие складки у его рта — следы тяжких испытаний, казавшиеся ранее злыми и угрюмыми, смягчились и прямо-таки лучились радушием. Вот и пойми, что это за человек.
— Странные эти пришельцы, — рассмеялся старпом. — Завидуют. И кому? Нам, дикарям.
— Они завидуют космизму нашего мышления, — сказал капитан. — Вот ты невзлюбил не отдельного человека или группу злых людей, сразу всю Вселенную. Это не случайно. С детства мы слышим о дальних звездных плаваниях, мечтаем о них, а некоторые даже родились в космосе. — Капитан вдруг загорелся и, подняв палец, начал торжественно изрекать свои любимые слова: — Две вещи наполняют душу удивлением и благоговением…
— Знаю! Знаю! — рассмеялся я. — «Удивлением и благоговением — звездное небо вокруг нас…» Ну и так далее.
— Смеешься? А я вот такими словами и начал свой главный труд «Видимость невидимого». _ Но почему они нашу галактику называют Заколдованным Шаром? — спросил я.
— Иной раз они выражаются похлеще, — рассмеялся старпом. — При мне их капитан в сердцах наш мир обозвал дьявольским.
— Это уже обидно, — сказал я.
— А может быть, это похвала? — возразил капитан. — Лестно слышать, что наш звездный мир особенный.
Пришельцы побывали во многих галактиках, и в каждой из них законы физики проявляются по-разному. Миры, как и люди, индивидуальны. Но такого, как у нас, не ожидали. Ну, например, неоднородность пространства и времени…
Я порядочно поплавал в межзвездных морях и знал, что встречаются зоны, где время то останавливается, то начинает скакать галопом в разные стороны. Встречал я и слоистость пространства…
Крики матросов и звуки трубы прервали наше чаепитие.
— Подходим к архипелагу Табор, — догадался старпом.
Мы вышли на палубу и с левого борта увидели самый большой остров дружественного нам архипелага. Там, видимо, разглядели наш флаг и сейчас приветствовали залпами береговых пушек.
— Ответим? — Боцман умоляюще смотрел на капитана.
Боцман — большой любитель пальбы. Капитан усмехнулся и махнул рукой:
— Валяй.
«К орудиям»! — засвистал боцман. Корабль вздрогнул от залпа и окутался белесыми облаками. Когда дым рассеялся, вдали показались паруса. В подзорную трубу я узнал торговую шхуну «Сириус», возвращавшуюся из дальнего светового плавания. Что-то у них случилось. Люди обрубали снасти, желая избавиться от повисшей над бортом фок-мачты. Видимо, переход из космического океана в земной прошел не гладко.
— Да, приземлились они неудачно, — подтвердил мою догадку старпом и спросил капитана: — Подойдем?
— Обязательно.
Однако в нашей помощи моряки «Сириуса» не нуждались.
— Справимся сами! — кричали они, когда наши корабли сблизились. — Попутного вам света!
— Ветра! Сначала крепкого ветра! Штормового! — воскликнул в ответ юнга, глазенки его сияли от счастья.
«Шторма ему захотелось. Вот уж действительно сорванец», — подумал я, и сердце сжалось от недобрых предчувствий.
Но дни шли за днями, и ничего дурного с нами не случилось. Погода стояла прекрасная, штормов не было. С первыми лучами солнца на палубе появлялся боцман и, дымя трубкой, с усмешкой наблюдал за старпомом. Тот каждое утро в одних трусиках выскакивал из своей каюты, делал пробежку, потом обливался холодной водой и с удовольствием растирался полотенцем. Нравилось мне его стройное тело с белой атласной кожей, на которой видны были красные подпалины и сизо-багровые рубцы — следы горящих углей и кипящей смолы.
— Слышал от капитана, что ты ненавидишь материю, — сказал я как-то ему. — А сам, как нянька, ухаживаешь за своей плотью, за этой живой материей.
— Из ненависти ухаживаю. Не терплю, когда живая материя начинает болеть и доставлять мучения, — ответил старпом. Лицо его вдруг исказилось, он злобно погрозил небу и прогремел:
— У, как я ненавижу ее! Ненавижу.
Капитан прав: старпом люто, до умопомрачения ненавидел Вселенную. Подтверждением тому послужила сцена, нечаянным свидетелем которой я был.
Однажды ночью я вышел на палубу. Фрегат бесшумно скользил мимо одного из южных архипелагов. Недоброй славой пользовались эти острова, населенные дикими племенами.
К моему удивлению, из своей каюты крадучись вышел старпом. Что ему делать, когда стояла редкая тишина и достаточно одного матроса у штурвала? Я спрятался за приоткрытой дверцей камбуза и стал наблюдать за его более чем странным поведением.
Старпом зачем-то погасил сигнальные огни, потом подошел к штурвальному, а им был долговязый Хендис Хо, и в знак молчания приложил палец к губам.
— Лево руля, — еле слышно прошептал он, и корабль начал бесшумно подходить к одному из островов. Я поморщился: на его берегу вокруг костра полуголые дикари плясали и справляли людоедское пиршество.
Старпом подошел к борту и остановился недалеко от меня. Я притаился в тени. Лунные лучи серебрились и, отражаясь от воды, высвечивали из тьмы лицо старпома, казавшееся бледно-голубым и страшным. Оно кривилось не то в торжествующе-злобной, не то в страдальческой усмешке.
— Изумительный пир. Как это прекрасно и мило, — послышались его странные слова. Он взглянул вверх, ткнул пальцем в звездное небо и повысил голос: — Это твоих рук дело. Любуйся, дьявол! Торжествуй, людоед!
Тем временем дикари подтолкнули к костру очередную жертву — пленного или, может быть, даже своего соплеменника. Под грохот барабанов, с радостными воплями и с невероятной ловкостью у человека оторвали ногу и на глазах визжащей от боли жертвы поджарили и съели. Начали отрывать руку…
В голове у меня помутилось, к горлу подступила тошнота. Я закрыл глаза, и в это время старпом… дико захохотал.
Я вздрогнул. Скованный ужасом, с усилием открыл глаза, и… никого! На палубе пусто. Остров далеко позади, лишь на парусах плясали отсветы его еле видимых костров. Неужели этот кошмар мне померещился? Я подошел к Хендису Хо и спросил:
— Старпома на палубе не видел?
— А что ему тут делать? — ухмыльнулся он. «Врет», — подумал я, оглядывая палубу. Никого.
Я спустился в каюту, попытался заснуть. Спал плохо. Жуткий старпомовский хохот преследовал меня и во сне. Я вскрикивал, просыпался и снова засыпал.
Утром старпом бегал по палубе, весело обливался водой и выглядел прекрасно отдохнувшим. И я постарался убедить себя, что ночной кошмар мне просто приснился. Во всяком случае, нужно было это сделать: без душевного равновесия какой из меня штурман? Ведь следующим утром, еще в предрассветных сумерках, предстоял переход в космический океан.
После обеда мне удалось неплохо выспаться, а после полуночи я сам встал у штурвала и, поглядывая на небо, держал курс в том направлении, где пылал Аларис — наш первый ориентир и могучий источник светового ветра. Он уже догорал и уменьшался в размерах. Такие периодически гаснущие и снова возгорающиеся звезды пришельцы называли цефеидами. Наконец Аларис погас и стал еле видимым среди других звезд. Но зато в качестве ориентира, словно вынырнув из воды, появились две луны. И там, далеко за горизонтом, тяготение двух лун и еще невидимого отсюда солнца создавало накладывающиеся приливы. Волны земные и космические смыкались, возникали воронки, горловины и мостики. Вот по ним-то и надо провести корабль в звездный океан. Мне вроде бы не привыкать, но каждый раз я ждал этой минуты с волнением.
Остальные члены экипажа еще отдыхали. Первым должен появиться боцман. Сначала подумал, что он опаздывает. Но нет, морской волк надежен и точен, как его неизменный хронометр. Он поднялся на палубу, вытащил из кармана хронометр величиной с кулак и знаками показал мне, что еще рано. Коренастый и сутуловатый, он ходил по качающейся палубе до того уверенно и невозмутимо, будто всегда жил в одном ритме со всеми морями — и земными, и космическими, с их ветрами и бурями. Боцман еще раз посмотрел на хронометр, потом на небо и на трубе заиграл побудку.
Матросы высыпали на палубу, и послышалась команда старпома:
— Убрать ветровые паруса, подготовить световые! Приказы его, ясные и точные, команда выполняла быстро и умело. А на капитана любо-дорого смотреть. Поглядывая на луны и розовеющие облака, он улыбался и потирал руки.
«Лакомка», — подумал я. Приближались сладостные мгновения, когда раскрывался его талант.
Управляя штурвалом, я перевалил через одну земную волну, потом через вторую и коснулся первой космической… Наступил звездный час капитана!
— Поднять лунный! — приказал он каким-то особенно ласковым голосом.
Лунным капитан называл парус у бушприта. Он был У него одним из любимых. Широкий треугольный парус затрепыхался и наполнился лунным светом. Верхушки мачт порозовели, и настала очередь солнечных парусов.
— Фок-брамсель! — воскликнул капитан и взмахнул рукой.
На вершину фок-мачты взлетел парус и, порозовев, выгнулся под лучами встающего солнца. Команды капитана, подкрепляемые выразительными жестами, следовали одна задругой. Паруса взлетали вверх, в нужный момент заменялись другими. Капитан дирижировал ими, как оркестром.
— Артист! — с восхищением и завистью прошептал старпом.
Штурвал в моих руках
даже не дрогнул, солнечный ветер без рывков, легко и плавно перенес нас из земного океана в звездный.
Матросы, махая руками, прощались с родным солнцем. Стремительно удаляясь, оно уменьшилось до размеров раскаленного ореха, потом зернышка и вскоре совсем затерялось среди других звезд. Слабенькие лучи его уже ничем нам не помогали. Световые паруса повисли. Но тут подоспел наш любимец Аларис. Он вновь начал раздуваться, разгораться и наполнил паруса неистовым оранжевым светом. Становилось жарко. Снасти вибрировали, как натянутые струны, мачты гнулись и скрипели, паруса, казалось, вот-вот сорвутся и, подхваченные световым ветром, полетят, как сухие осенние листья…
Но капитан знал свое дело. Фрегат мчался, покачиваясь на пологих волнах, взлетая на гребни с пеной, похожей на обычную морскую. Аларис гнал нас, но и сам удалялся, уменьшался и вскоре погас. На черном бархате неба выступили звезды, заглушённые ранее полыхающим светом Алариса.
— Торжественная минута, — сказал боцман, топтавшийся около капитана. — Надо бы это дело отметить.
— Ладно уж, валяй, — усмехнулся капитан.
— К орудиям! — весело крикнул боцман. Фрегат качнулся от залпа бортовых пушек. По морю прокатился грохот.
Через несколько дней (сутки мы отмеряли по земным часам) корабль набрал скорость, близкую к световой. Аларис скрылся за горизонтом. Паруса, а ими маневрировал уже старпом, наполнялись лучами многочисленных светил, разбросанных в черных глубинах мироздания. И каких только звезд не было: голубые, оранжевые, изумрудные… Красота неописуемая! Меня так и тянуло запечатлеть ее на холсте. Собрался уже пойти за этюдником, но, увидев расхаживающего на шканцах старпома, передумал. Этот дьявол опять будет торчать за спиной и с удивлением взирать на картину. А тут еще на палубу выскочил матрос с расширенными от ужаса глазами.
— Братцы! — завопил он. — На корабле завелся черт, пожирающий крыс. Черт-крысоед!
— Это еще что за черт? — нахмурился старпом и, взглянув на меня, с усмешкой предложил: — Посмотрим. Черти и дьяволы как раз по твоей части.
— Не по моей, а по твоей, — проворчал я.
С фонарями в руках мы спустились в самый нижний, пустой трюм. На кораблях часто один из трюмов не загружают. Сюда, привлеченные запахом приманки — кусочками сала, со всех углов корабля сбегаются крысы и попадают в ловушки. К нашему удивлению, приманки исчезли, но ловушки почему-то не сработали.
— Прожорливый черт, — прошептал один из матросов, толпившихся за нашими спинами. — Смотрите. Он не только приманку, но и всех крыс сожрал.
На полу валялись груды обглоданных крысиных косточек и высохших шкурок. За дни нашего плавания кто-то и в самом деле съел почти всех корабел ных крыс.
— Черт! Черт-крысоед!
Матросы в панике бросились наверх.
— Суеверное дурачье, — проворчал старпом. — Я заставлю их выследить этого черта.
По его приказанию трюм очистили от шкурок и на крючки насадили новые наживки. Матросов он заставил по очереди дежурить в трюме.
— Темно, — пытались возражать матросы, но стар пом показал кулак и пояснил:
— Глаза привыкнут к темноте. Что-нибудь увидите. Вскоре первый же дежурный выскочил из трюм как ошпаренный. Зубы его стучали от страха.
— Видел! Лохматый такой! Страшный!
Мы со старпомом, стараясь не шуметь, спустилис вниз. В углу трюма за отодранными досками, которы мы раньше не заметили, кто-то шевелился и, причмокивая, жевал приманку.
Мы с трудом вытащили на палубу этого мычавшего типа и подвели к капитану. В это время разгорелся Изумруд — далекая, но достаточно яркая цефеида, которая осветила палубу угрюмым зеленым светом. Матросы, и без того позеленевшие от ужаса, шарахнулись в стороны, а боцман подошел и, попыхивая трубкой, долго всматривался в заросшее волосами лицо. Сквозь седые заросли виднелись лишь зверова то бегающие глазки.
— А, попался, голубчик, в нашу мышеловку, ухмыльнулся боцман и пояснил: — Узнал я его. Это бывший пират. Ночью, видимо, сбежал из тюрьмы, подплыл к нашему фрегату и спрятался в трюме.
— Что с ним делать? — развел руками старпом и после недолгого раздумья приказал: — Привяжите к ногам чугунное ядро и бросьте за борт. Ну зачем же так? — сказал капитан, с сохранением разглядывая это жалкое подобие человека. — Постричь его, накормить, приодеть. Авось пригодился Новичок пригодился. Оказался он довольно угрюмым но исполнительным и опытным моряком. Матроназывали его не иначе как Крысоедом и обходили стороной. Но потом привыкли и, окружив его, посмеивались и о чем-то расспрашивали. Видимо, о его пиратских подвигах.
Тревожили меня эти сборища, верховодил которыми долговязый Хендис Хо. Иногда появлялся в этой компании старпом и с усмешкой прислушивался. Но стоило подойти мне или боцману, как раздавался хохот. А Хендис Хо, подняв палец, восклицал:
— Я знаю анекдот еще лучше. Слушайте.
— Хватит, — обрывал старпом. — По местам!
— Не нравятся мне эти анекдотчики, — разделяя мое беспокойство, ворчал боцман.
Через несколько дней я еще больше встревожился: в моей каюте кто-то побывал. Все знали, что я коплю деньги с намерением уйти в отставку и заняться живописью. Но золотые монеты были на месте. Книги? В них кто-то рылся. Но ими мог интересоваться только капитан, а ему я верил, как самому себе. И лишь вечером обнаружил: исчезла лоцманская карта.
— Ерунда, — успокаивал капитан, когда я доложил о пропаже. — Сам же засунул куда-нибудь и забыл. А все опасные зоны мы с тобой, да и боцман тоже, отлично помним.
Так-то оно так. Но без карты я чувствовал себя не совсем уверенно и допустил оплошность: фрегат вошел в полосу густой пылевой туманности. Правда, Двигалась она в том же направлении, что и корабль,
и не могла своим трением воспламенить паруса. Н все же неприятно, когда пыль попадает в глаза и хрустит на зубах. К тому же мы могли сбиться с курса — мгла окутала нас и скрыла звездное небо. Лищ Изумруд размытым зернышком светился сквозь пелену. По нему я кое-как сориентировался и вывел фрегат из тумана.
И ахнул — неописуемое зрелище! Матросы, истосковавшиеся по земному небу, бегали по палубе и, приплясывая, кричали:
— Облака! Облака!
Над нами тянулись клочья и сгустки пыли, похожие на земные облака, — волокнистые, перистые, но чаще кучевые. Они плыли назад и казались летящими на ветру осенними листьями — малиновыми, желтыми, красными, синими, оранжевыми. Подсвеченные разноцветными звездами, они искрились, переливались всеми цветами радуги.
— Прелестный пейзажик, — сказал мне старпом. Случайно получилось или нарочно выбрал это чудное местечко?
Ехидной показалась мне его усмешечка. Знает ведь что залез я в туман по ошибке. И меня словно кольнуло: уж не у него ли лоцманская карта?
Хлопья пыли умчались назад и скрылись. Но одн крохотное облачко все еще висело на горизонте и ка будто даже приближалось. Боцман долго всматривал ся в подзорную трубу, потом подошел ко мне:
— Паруса!
— Здесь? Вдали от торговых путей? Не може быть! — По моей спине побежал холодок страха. Пираты?
Боцман пожал плечами. Вскоре и без подзорн труб все увидели трехмачтовый корабль. Подгоняемы лучами Голубого созвездия и гаснущего, но еще достаточно яркого Изумруда, он мчался на всех парусах и ял нас. Подошел капитан и с недоумением посмотрел на меня. Я развел руками.
На палубе происходило что-то непонятное. Долговязый Хендис Хо перебегал от одной кучки матросов к другой и что-то нашептывал. Мне удалось разобрать лишь слова: «Это он». Матросы пристально всматривались в парусник и вдруг закричали:
— «Черный коршун»! «Черный коршун»!
Я присмотрелся. Да, это был легендарный пират-стервятник. Назвали корабль «Черным коршуном» потому, что на его мачте развевался черный флаг, пронзенный наискось серебристой молнией. Командовал им Рихтер Роу, отличавшийся изощренной жестокостью. Пленных он не оставлял в живых. Вешал, но еще чаще высаживал в шлюпки и под хохот своих головорезов расстреливал из пушек картечью.
— Невероятно! — воскликнул капитан. — Более двух лет, как он исчез. Говорили, что его засосало Гиблое море.
— Были такие слухи, — сказал боцман. — А что, если он отсиживался на своей базе? Никто не знает, где это гнездо стервятника. Чего мы медлим? — забеспокоился он. — У нас пушки дальнобойные.
Капитан усмехнулся: боцману, как всегда, не терпелось пострелять.
— Пусть подойдут ближе. А пока приготовить абордажные сети, — сказал он и минуты через две махнул рукой. — Валяй!
Фрегат качнулся, выплюнув десятки ядер, и окутался пороховой гарью. Вдруг Хендис Хо кинулся к борту и что есть силы закричал:
— Рихтер! Здесь я! Хендис Хо! Помнишь?
Старпом отшвырнул его от борта и со злостью прошипел:
— Что это? Без него обойдемся. Странными показались мне эти слова. Может быть, я ослышался? Дымная гарь клубилась и медленно рассеивалась. Вот уже совсем близко видна надломленная нашим ядром верхушка мачты пиратского корабля. Но с его стороны нет не только ответного залпа, но и вообще не слышно ни единого звука. Клочья дыма распались, и открылась жуткая картина.
— Корабль мертвецов! — завопил Хендис Хо.
На палубе валялись скелеты — все, что осталось о пиратов. Многие скелеты, прислонившись к мачтам, от качки корабля шевелились, и создавалось впечатление, что они что-то делают. Один из них, вцепившись костяшками пальцев в штурвальное колесо, словно управлял кораблем. Другой сидел вверху на рее — мгновенная смерть настигла его, видимо, в тот момент, когда он поправлял паруса.
На капитанском мостике, притулившись к поручням, высился скелет с какими-то сверкающими цепоч ками на клочьях догнивающего мундира.
— Это он! — возбужденно кричал Хендис Хо. — Эт Рихтер Роу. Узнал по аксельбантам. Они еще висят!
Похоже, что он прав. Рихтер Роу вместо золочены шнуров часто носил на мундире цепочки из чистого золота.
Пираты явно побывали в Болоте, в той зоне, где время то замирает, то бешено скачет вперед. И побывали, по-моему, недавно: тлетворное дыхание Болота как будто еще не коснулось корабля. Или коснулось?
Я взял копье и не очень сильно ткнул в проплыва ющий мимо корабль. Изрядный кусок борта свалился в воду.
— Начало разлагаться дерево, — сказал я и хотел положить копье на место. _ Брось копье за борт! — закричали матросы. — Заоазу занесешь! __ Предрассудки. Корабль не заразный, — усмехнулся старпом. — Может быть, вы и в Диво верите?
Среди звездных моряков ходили легенды, что в глубине Болота на сухом острове с вечно цветущими розами стоит некое Диво. В воображении моряков оно рисовалось в разных соблазнительных и прекрасных образах. Не то это была хрустальная дева невиданной красоты, не то золотая птица. Стоит, дескать, завладеть Дивом, и ты будешь иметь все — деньги, дворцы, фрегаты.
К моему удивлению, рассудительный боцман верил в эти басни.
— Это не сказки, — сказал он. — Рихтер Роу хотел, но не сумел найти безопасный проход к острову. Но где его брат? Они же всегда промышляют вместе.
— А я знаю дорогу к острову, — вдруг заявил Хендис Хо. — Брат Рихтера поплыл по ней.
— Перестань, — оборвал его старпом. — Нет туда безопасного пути, и нет никакого Дива.
Подгоняемые светом Голубого созвездия, наш фрегат и корабль мертвецов подплывали к Штормовому морю. Еще издали слышался его чудовищный рев, и катились оттуда высокие волны.
— Убрать паруса! — скомандовал старпом.
Пиратский корабль вырвался вперед и на всех парусах мчался в хаос Штормового моря. У самого его края корабль взлетел на гребень крутой волны, затрещал, развалился пополам и утонул, скрывшись в бездонной глубине.
— Гнилушка, — прокомментировал капитан и приказал всем занять свои места.
Я встал у штурвала. Нелегкая это задача — провести фрегат сквозь грохот беснующихся волн. Но стоит сделать это, и мы окажемся совсем в другой части галактики. И Голубое созвездие, и Аларис, и наше сол нце, светившееся крохотной росинкой, — все это останется далеко позади. Путь сократится на многие световые годы. Как это происходит, пришельцы толком не знали, а уж мы и подавно.
В Штормовом море постоянно гремят космические бури и накатываются гигантские волны. По выраже нию пришельцев, это флуктуации, сжимающие пространство. Не знаю, так ли это. Но когда фрегат щепкой взлетал на вершину невиданно огромной волны, потом падал в жуткую пропасть и снова взмывал, небо и в самом деле сжималось. Звезды сближались и уносились назад.
Вцепившись в колесо штурвала, я вел фрегат в од ном направлении — туда, откуда слепящим роем налетали на нас звезды. Вскоре они слились в сплошной огненный поток, и на нас обрушилась невыносимая жара. Мы изжарились бы, если бы не яростный свет. Словно ветер, он срывал с гребней валов хлопья пены и уносил их ввысь. Там пена кружилась, сливалась в облака и тучи. Небо потемнело.
Не помню, сколько часов длилась схватка с обезумевшей космической стихией. Мне пришлось бы туго, если бы не боцман. Держась за канаты, он спешил на помощь. Волны с ревом и визгом налетали на палубу. Словно живые существа, они, хищно ощерившись, разевая пасти и шипя пеной, набрасывались на боцмана. Но не так просто сбросить в море бывалого звездноп волка. Еще миг — и он рядом со мной.
— Передохни! — взявшись за штурвал, прокричал он сквозь грохот бури. — Смотри на звезды, правильно ли идем?
В разрывы туч я видел, как огненные полосы летя все так же назад.
Правильно!
Волны сглаживались, становились пологими и низкими Мы выходили из Штормового моря. Вместо туч над нами летали лишь отдельные хлопья пены. Не стало и серебряного струения — звезды прекратили свой бег и замерли в небе ограненными кристаллами. Через час шипение и рев Штормового моря остались позади. Теперь у нас много дней спокойного плавания. Команда отдыхала. Лишь у врача и плотника прибавилось работы. Один лечил ушибы моряков, другой — раны корабля.
На другой день я уютно устроился с этюдником на корме, надо мной красивые узоры незнакомых созвездий. Но стоило взглянуть на палубу, и рука с кисточкой опускалась, ощущение уюта пропадало. Слишком уж странным казалось поведение команды. «Чепуха, — успокаивал я себя. — Игра воображения».
Но странности становились слишком назойливыми, чтобы их не замечать. Матросы, таинственно подмигивая друг другу, о чем-то шептались. А боцман меня просто поразил. Преданный мне и капитану звездный волк стал вдруг якшаться с теми самыми «анекдотчиками», которых так недолюбливал. Собрались они сегодня уже не на палубе, а в матросском кубрике. Оттуда слышались гул голосов, крики, хохот.
Еще недавно боцман отзывался о Хендисе Хо: «Скользкий тип». И вот сегодня боцман поднялся из кубрика на палубу с этим типом уже в обнимку. Хендис Хо склонился к уху боцмана, что-то прошептал, и оба захихикали.
Хендис Хо покачнулся и, падая, заскользил по ступенькам в кубрик, боцман направился к своей каюте. Шел он, к моему возрастающему удивлению, не ычной своей уверенной и деловитой походкой, а пошатываясь и выделывая замысловатые вензеля. Все объяснилось, когда боцман подошел ближе: от него разило гулькой.
— Где это ты нализался? — поморщился я, отмахиваясь от сивушного запаха.
— Тс-с. — Боцман приложил палец к губам и глупо захихикал. Потом, оглянувшись по сторонам, подошел ко мне и прошептал: — А знаешь, кто ты? Ты Сатана! Хи! Хи! Хи!
«До чертиков нализался», — подумал я с неприязнью. Дурацкое хихиканье боцмана меня просто коробило.
Спускался боцман в каюту крайне осторожно, цепляясь за перила. И вдруг, уже на пороге, обернулся и заговорщически поманил меня пальцем.
Пожав плечами, я вошел в каюту. Боцман прикрыл дверь, еще раз почему-то оглянулся по сторонам, расстегнул свою куртку и вытащил… лоцманскую карту.
— Нашел! — обрадовался я. — Где нашел?
— Стащил, — хихикнул боцман и повалился на постель.
— У кого стащил? — допытывался я.
Но боцман уже храпел. Я тормошил его, пытаясь разбудить. Временами мне удавалось это.
— Щекотно, — хихикал верзила боцман и, пробормотав что-то бессвязное, снова засыпал. С трудом удалось выяснить, что стащил он карту у старпома.
Я зашел к себе в каюту, развернул вчетверо сложенную карту и обнаружил, что боцман заодно прихватил старпомовскую тетрадь. Дневник? Нехорошо, конечно, читать чужие дневники. Но любопытство так и раздирало меня, рука невольно раскрыла тетрадь, и в глаза бросились интригующие строки:
«Ну и команда! Сволочная и буйная. Но я скручу ее, зажму в кулак и добьюсь своей цели».
«Какой цели? — подумал я. — Любопытно. Очень любопытно». Читаю дальше.
«Из прежней команды меня не тревожат ни врач, ни плотник, этот туповатый силач. Боцман! Вот крепкий орешек. Как сманить его на свою сторону? А капитан — рохля. Его нетрудно обвести вокруг пальца. Правда, есть еще штурман. Кто он такой? Впрочем, завтра он придет на фрегат, познакомлюсь.
Штурман! Увидел его и в голову так и стукнуло: Сатана!»
«Что за чепуха», — усмехнулся я. Дальше, правда, старпом сам признается:
«Что за нелепость! С какой стати выскочил в моей голове этот бред? Ума не приложу. Но в первое мгновение меня будто громом поразило: видел его! Всего лишь секунду, но видел в качестве вселенского дьявола, мигом обернувшегося человеком. В моей далекой памяти, словно это было сотни веков назад, возникла, высветилась на миг страшная картина гибнущей Вселенной. Трещали планеты, разлетаясь обломками и пылью. Взрывались звезды. Гул, грохот рушащихся миров, всепожирающее пламя… И вдруг хаос оборачивается обыкновенным человеком. Именно вот этим… Живым существом? Человеком? Возможно ли такое? А почему бы и нет? Вечно крутящаяся и дьявольски непонятная Вселенная способна и не на такие выкрутасы.
Всю ночь не спал, размышлял над этим молнией сверкнувшим видением. Пытался еще раз вызвать его в памяти. Тщетно. От видения остались ускользающие клочья тумана и ощущение чего-то невыразимого, расплывчатого и смутного, как музыка».
«Ишь ты, — невольно подумал я. — Пишет-то как. С претензиями на литературную изысканность». Но дальше из-под его пера посыпались такие солдафонские грубости и оскорбления, что от гнева у меня потемнело в глазах.
«Боже мой, это же мозгляк, жалкое ничтожество, — пишет этот негодяй. — Присмотрелся сегодня к штурману повнимательнее и ахнул. Как я мог это ничтожество считать космической персоной? Что со мной случилось вчера? Затмение? Правда, внешне это мужик видный, представительный. Но ничего яркого, ни одной запоминающейся черты, ни одного оригинального штриха. Серость. И эта посредственность, говорят, занимается живописью. Представляю, какая это бездарная мазня».
Хотел я бросить чтение, но дальше опять невероятное. Комплименты по моему адресу? Вот уж не знаю — комплименты ли?
«Я разбит! Раздавлен и уничтожен! — восклицает старпом. — Как я ошибался! Подкрался как-то я к штурману, углубившемуся в свою картину, взглянул на полотно, и меня будто оглушило, захватило и затянуло в запредельные тоскующие дали. Сильная картина! Она за пределами человеческих возможностей. Ее мог создать либо какой-нибудь сверхгений, либо… Сатана. А не тороплюсь ли я со своими метафизическими подозрениями?
Нет, не тороплюсь! Через несколько дней мельком увидел его новую картину «Синие звезды», и меня охватил восторг и… ужас! На картине корабль, похожий на наш фрегат, подгоняемый бушующим светом невероятно синих и страшных звезд, летит навстречу своей гибели, в какую-то прожорливую космическую прорву. Что это? Пророчество Сатаны?..»
«Опять Сатана», — усмехнулся я. Картина и в самом деле сильная и до того жуткая, что я сам испугался. Но оторваться от нее не мог и писал украдкой, втайне даже от капитана. А старпом все же ухитрился и выглядел. Вот нахал!
Я перевернул следующую страницу, но там пусто, записи обрываются. Я запрятал тетрадь подальше и поспешил к капитану. О дневнике ему, конечно, ни слова, но рассказал о пьянке, о своих подозрениях относительно команды и боцмана.
— Чепуха! — махнул рукой капитан. — Боцману верю, как самому себе. Он мой давний друг. А команда…
— А команду ты зря поручил набрать этому мерзавцу!
Не на шутку рассердившись на этого мягкотелого и доверчивого человека, я вскочил на ноги и начал ходить из угла в угол.
— Не придирайся, — упорствовал капитан. — Старпом хороший моряк.
— Хороший! Хороший! — Я все больше раздражался. — Негодяй он хороший. И ты ничего не замечал…
— Вообще-то стал замечать за ним что-то неладное. За ним и его…
— И его шайкой! Ты даже стесняешься называть вещи своими именами. Как же, грубое слово! Оскорбительное!
— Успокойся, штурман! — прикрикнул капитан суровым командирским тоном.
«Наконец-то, — облегченно вздохнул я. — К капитану вернулись — надолго ли, не знаю — его прежние волевые качества».
— Успокойся, — смягчился капитан. — Садись, давай поговорим.
Посовещавшись, мы согласились не предпринимать решительных действий, пока не проспится боцман. Как мы догадывались, этот хитрец многое выведал.
— Мятеж! — Капитан, осознавший серьезность положения, грозно сжимал кулаки. — Они задумали мятеж.
— Но с какой целью?
— Захватить фрегат и заняться разбоем. Фрегат-то первоклассный. Возьми мой трехствольный пистолет. Бери, бери! У меня еще есть. А завтра вооружим надежных людей.
Но, увы, самый надежный человек лежал мертвецки пьяный.
Утром, как ни пытался я разбудить боцмана, он лишь мычал и ворочался с боку на бок.
— Не тревожь боцмана, — послышался сзади насмешливый голос.
Я обернулся и увидел трех дюжих матросов.
— Пусть выспится, — хохотнул один. — Он теперь наш мужик.
Я схватился за пистолет, но упал, оглушенный кулаком. Очнулся уже опутанный по рукам и ногам ремнями и веревками.
Меня вытащили на палубу и посадили у грот-мачты рядом со связанным капитаном. Держался он молодцом. Кока, врача, юнгу и плотника под дулами мушкетов держали отдельно.
— А вот и боцман! — обрадовался Хендис Хо. Бережно поддерживая под локти, матросы вывели на палубу продиравшего глаза боцмана.
— Ну и накачался я вчера, — ухмыльнувшись, сказал он Хендису Хо. — Помоги, дружище, умыться.
— Освежись, дружок. Освежись, — юлил и змеей извивался Хендис Хо. — Наклони голову, а я из ковшика полью.
— Не может быть, — прошептал капитан.
И я не верил глазам своим. Боцман не обращал на нас ни малейшего внимания. Как будто нас и не было. Блаженно вздыхая и покрякивая, он умылся и пальцем поманил юнгу.
— Идем, малыш. Покажу, как пушки заряжать, — сказал боцман и подмигнул недоумевающему Хендису Хо: — Он тоже наш.
— Предатель! — загремел плотник и с кулаками набросился на боцмана.
— Наших бьют! Выручай, братва! — закричали матросы и гурьбой навалились на плотника.
Завязалась потасовка. Из своей каюты вышел старпом, понаблюдал с усмешечкой за шевелящейся кучей и властным голосом приказал:
— Свяжите этого взбесившегося болвана! Матросы, многие из которых не досчитались зубов, опутали ремнями оглушенного плотника и уволокли вниз. Старпом прошелся по палубе и вдруг, словно невзначай, увидел нас.
— Как?! — с шутовским изумлением воскликнул он. — Они и вас связали? Бедненькие вы мои. Какие неучтивые эти матросы!
Матросы почтительно стояли поодаль и посмеивались. Расхаживая, старпом с наигранным сочувствием посматривал на нас и продолжал издеваться.
— Как же так получилось? Ума не приложу, — сокрушался старпом. — Как мы проморгали фрегат? Ах, наглецы эти матросы. Захватили власть и стали выбирать капитана. Боже мой! Как я сопротивлялся. На коленях умолял: не надо! Так нет же, выбрали меня. Так, что ли?..
— Так! — кричали матросы. — А боцмана старпомом.
— Как! — ахнул старпом и с издевательски шутовским отчаянием развел руками. — Даже боцман переметнулся? Вот видите? Ничего не могу поделать. Провидение! Чего хочет команда, того желает и Провидение. Ты ведь, кажется, веришь в Провидение? — ткнул он пальцем в капитана. — Веришь! И в прекрасный божественный мир веришь? Вот матросы вежливо и переправят вас туда. И ничегошеньки я поделать не смогу. Что мне остается? Только стоять в сторонке и со слезами на глазах смотреть, как они оторвут у тебя руку, поджарят и съедят. Потом ногу… Ха! Ха! Ха!
Мороз пробежал по моей спине. «Не померещилось мне тогда», — мелькнула мысль. Но — странно! — в старпомовском хохоте слышалась не столько злоба, сколько отчаяние, глубокая затаенная боль.
— Пусть пока живут, — вмешался Хендис Хо. — Они нам еще нужны. Пусть приведут корабль к Болоту, а там я знаю дорогу к острову. Знаю!
— Это еще что такое? Бунт на корабле? — Старпом метнул на Хендиса Хо гневный взгляд.
Но тот не смутился, чувствуя за спиной поддержку.
— Диво! — шумели матросы. — Сначала возьмем Диво!
— Болваны! — покраснев от ярости, вспыхнул старпом. — Нет никакого Дива. Или захотели превратиться в трухлявые скелеты, как ваш Рихтер Роу и его придурки?
— Паруса! — закричал кто-то.
И в самом деле, вдали, с той стороны, откуда доносился гул Штормового моря, выскочил парусник.
— Кто бы это? Ты ведь знаешь, — обратился ко мне старпом. — Молчишь? Ничего, скоро заговоришь. У меня с тобой особые счеты.
В это время еще одна звезда-цефеида, до этого невидимая, выступила из тьмы и, быстро расширяясь, затмила своим сиянием ближние светила. Загадочный парусник, разгоняемый ее ураганным излучением, мчался в нашу сторону. По всему видать, им никто не управлял. Мачты гнулись, как стебли камыша, вздутые паруса рвались в клочья. Скоро я увидел, что это прекрасно оснащенный трехмачтовый фрегат.
— «Серый коршун»! — закричал Хендис Хо. — Там брат Рихтера Роу! Он проскочил к острову и захватил Диво. Опередил нас!
Да, это был «Серый коршун», всегда как тень следовавший за «Черным коршуном». Но как он, побывав в Болоте и став гнилушкой, уцелел? И даже проскочил Штормовое море? Чудеса!
— Сейчас увидите, в какое дивное диво вы сами превратились бы. В Болото им захотелось! Диво им подавай! — иронизировал старпом над матросами и крикнул: — Эй, боцман!
— Слушаюсь! — с угодливостью подскочил боцман.
Вот где диво! «Крепкий орешек» раскололся. Невероятно! Потрясенный капитан с изумлением взирал на своего прежнего друга.
— Заряди на всякий случай пушки. Черт их знает, а вдруг эти трухлявые старички еще живы.
— Там не старички и не скелеты, — возразил боцман. — Прислушайтесь.
Сквозь шелест наших парусов с пиратского корабля все явственнее доносились тоненькие голоса, похожие на комариный писк. И мне стало страшно. Неужто это один из тех кораблей, в реальность которых я не верил? Неужто он забрел в те заводи Болота, где, как говорят, время бежит не вперед, а назад, в прошлое? Тогда корабль и люди должны не стареть, а наоборот — молодеть.
Старпом с недоумением взирал на приближающийся фрегат. Хендису Хо, как самому высокому из команды, первому открылась палуба.
— Корабль плачущих младенцев! — завопил он.
«Серый коршун» поравнялся с нашим фрегатом, и у матросов вырвались крики ужаса. Кровь застыла в моих жилах: корабль плачущих младенцев куда страшнее корабля мертвецов.
На палубе суетились голые детишки — бывшие пираты. Одежда на них давно исчезла. «Помолодела», видимо, намного раньше и ушла в небытие. Ребятишки, один другого моложе, не понимали, где они и что с ними случилось. Они ревели, метались по палубе. Увидев нас, подскочили к борту и заголосили:
— Папа! Папа!
Наступила новая, более стремительная фаза омоложения. На наших глазах восьмилетние превращались в четырехлетних, потом крохотными младенцами падали на палубу и, болтая пухлыми ручками и ножками, верещали. А иные уже лежали неподвижно, свернувшись клубочками-эмбрионами.
Помертвели от ужаса и наши матросы, прижавшиеся друг к другу. Старпом подошел к борту, лицо его стало таким же жутким, как в тот раз, когда он взирал на пиршество людоедов. Губы его кривились не то в злобной, не то в страдальческой усмешке. Потом он взглянул вверх, ткнул пальцем в мигающие звезды и проговорил:
— Что, дьявол? Веселишься? Это одна из твоих изящных шуточек? — И, повернувшись ко мне, захохотал: — Милое зрелище, не правда ли, художник? А с кораблем что будет? Уверен, что дьявол еще не закончил откалывать свои забавные номера. Смотри.
С пиратским кораблем, проплывавшим мимо, и в самом деле происходили страшноватые превращения. Он «молодел». Бушприт покрылся свежей дубовой корой, корма засверкала под звездами нежной листвой, а на мачтах прорастали ветви, вскоре вместо них высились стройные сосны. Борта бугрились переплетенными корнями и ветвями. Корабль вспучивался, кривился, трещал и под визг младенцев затонул.
— Ну что, дурачье? Видели? — насмешливо спросил старпом. — Вот оно, ваше Диво!
Присмиревшие матросы отошли в сторону и посовещались. Их заводила Хендис Хо приблизился к старпому, в знак раскаяния и повиновения преклонил колено и протянул свой кортик.
— Прощаю, — усмехнулся старпом. — А теперь пир.
— Ур-ра! — кричали матросы с таким ликованием, будто страшного зрелища и не было.
С хохотом, с веселым гамом они расставляли на палубе взятые из кают столы и вдруг, словно по команде, повернули головы в ту сторону, куда плыл фрегат. Там, еще далеко за горизонтом, загорался, гас и снова вспыхивал багровый свет — сигнал бедствия пришельцев. Как я знал, с их кораблем что-то случилось и они ждали своих собратьев.
— Вот наше Диво, — сказал старпом своим сподвижникам. — Там на корабле страшной силы роботы. Меня научили ими управлять, и я вас научу. С ними, с их испепеляющими лучами мы покорим все планеты. У вас будут фрегаты, деньги, дворцы и, — с усмешкой добавил он, — конечно же прекрасные дамы.
— Дамы! Да здравствуют прекрасные дамы! — выкрикнул Красавчик.
— Держись, Красавчик! — ржали матросы. — Бабы тебя опять разрисуют.
Усмирив взглядом развеселившуюся матросню, старпом продолжал:
— Будем действовать, как договорились. Простодушные чужаки гостеприимно пригласят посетить корабль. Это я знаю. Войдем без мушкетов, но с хорошо запрятанными кинжалами и пистолетами. Чужаков не больше десяти. Перебьем их — и корабль наш.
— Это возможно? — шепотом спросил я капитана.
— Вполне.
Ответ мне понравился. Нет, не тем понравился, что пришельцы такие растяпы, а тем, как это было сказано. Без малейших признаков паники и растерянности. С таким капитаном еще не все потеряно.
Но выкрутиться будет ой как сложно. Больше всего беспокоил боцман. Ликующим воплем он приветствовал появившуюся на палубе бочку с гулькой, приятельски ткнул в бок Хендиса Хо, и оба захихикали. А юнга-то! Юнга! С сияющей улыбкой он нырял в кают-компанию, выскакивал оттуда и расставлял на столе чарки.
Боцман услужливо поставил перед старпомом единственный на фрегате серебряный кубок, себе же и своему приятелю налил гульку в жестяные чарки. Первую чарку пили стоя. Сделав несколько глотков, боцман зажмурился и крякнул с таким блаженством, что матросы расхохотались. И вдруг, незаметно для других, он выплеснул гульку за борт и стал «допивать» с причмокиванием и подмигиванием. «Ну, артист», — подумал я с облегчением. Но и с тревогой: опасную игру он затеял.
Я взглянул на старпома и едва узнал его: совсем другой человек! С отвращением пригубив из кубка, он сел с таким понурым видом, что даже плотник, которого вывели на палубу и усадили рядом с нами, изумленно округлил глаза. Что со старпомом? Куда только девались его ирония и злая энергия? Сейчас, когда цель его почти достигнута, в нем что-то словно надломилось. Руки его безвольно опустились на стол, в глазах тоска.
Как художник, пишущий не только пейзажи, но и портреты, я хорошо знаю, что для наших материальных глаз душа может выразить себя не иначе как с помошью той же материи. В еле уловимых, иногда просто угадываемых признаках — в морщинках у глаз, в пришуре, в складках у рта, в улыбке — она проявляет себя во плоти. И вот сейчас в лице старпома я увидел душу совсем иного человека. Сквозь материю, сквозь эту тюремную решетку, как из темницы, на меня глянуло вдруг что-то невыразимо скорбное и даже… светлое. «Чушь, — одернул я себя. — Что за странная фантазия взбрела мне в голову».
К нам, явно по указанию старпома, отнеслись на удивление мягко: развязали руки и отвели в просторную каюту капитана. Мы сели за стол, на котором были чай и наши любимые лакомства. У дверей, правда, стояли вооруженные матросы и присматривали за нами.
И вдруг глаза плотника вновь округлились: в каюту зашел старпом.
— Разрешите? — С какой-то жалкой просящей улыбкой старпом сел за стол и придвинул стакан с чаем.
Плотник сжал кулаки, но вскоре успокоился и, зорко поглядывая на гостя, начал пить чай. Старпом взглянул на полки с книгами и смущенно сказал:
— Я ведь тоже кое-что читал и много думал. Ой как много. Хочу понять, к чему вся эта кутерьма. — Старпом ткнул пальцем в потолок, словно в звездное небо. — Да, да! Кутерьма! Бессмысленное и бесцельное кружение планет и раскаленных звездных масс. Видимо, кому-то страдания и муки людские, его разума кажутся забавными. Уж не ему ли? Вот этому дьяволу? — Старпом показал на иллюминатор, за которым искрилась Вселенная. — Капитан видит во Вселенной или за ней, уж не знаю, что-то доброе, некую прекрасную душу. Не-е-ет. Мир сотворил кто-то неведомый и злой. Сотворил для своей потехи. Вот я и хочу познать…
— Познать зло с помощью зла? — спросил я.
— Верно. — Старпом взглянул на меня с благодарностью. — Верно подметил. Вот ты, художник, с помощью искусства тоже пытаешься познать душу мира. В твоих картинах тоска…
— Метафизическая печаль, — подсказал капитан.
— Печаль? Слабо сказано. Именно тоска по запредельному миру, где якобы добро и красота. Ошибаешься, художник. Если есть потусторонний мир, то там-то, быть может, и таится зло.
Старпом на минуту умолк, прислушиваясь к шуму и крикам на палубе.
— Слышите? Вот вам зеркальное отражение, глубинная суть мироздания. Вот где Вселенная вышла на сцену во всем своем блеске, в образе своих разумных добреньких созданий, — с горькой иронией сказал он. — Я даже ничем не могу помочь вам, если бы и захотел. Не позволит мне этого команда, этот шевелящийся, выскочивший из каких-то чудовищных недр клубок вселенской материи, клубок зла и ненависти.
Не дождавшись с нашей стороны ни слова, старпом еще больше погрустнел:
— Скажете, что я из той же шайки? Ошибаетесь. Вот, думал я, захвачу корабль пришельцев, создам звездную империю и стану диктатором. Тщеславие так и распирало. Это вчера. Сегодня, когда корабль пришельцев почти в моих руках, во мне вдруг что-то оборвалось. Диктатор! Император! Боже мой, какая пошлость! Да не нужно мне этого. А что нужно? Не знаю. Во мне словно сидит какой-то дьявол.
— Ты и есть дьявол! — неожиданно для себя выпалил я.
— Ну, это еще неизвестно, кто из нас дьявол, — задумчиво возразил он. И вдруг его будто что-то озарило. — Постой! А что, если ты с помощью своего сверхъестественно сильного творчества бессознательно пытаешься освободиться от чего-то потустороннего, преодолеть в себе дьявола? А? Ну, вспомни, художник. Дорогой! Милый! Вспомни, кто ты? Откуда?
— Что за чушь, — пробормотал я.
— Может быть, и чушь. Может быть, и мерещится, — уныло согласился старпом и снова ткнул пальцем вверх. — А все из-за этого дьявола. Хочу понять смысл этой бессмыслицы, этой вселенской жестокости. До того хочу, что и сам становлюсь жестоким. Да, да! — вдруг с вызовом заявил он. — Я дух отрицания! Я мученик зла! Я раб. Творю зло, не желая этого. Но ведь надо же кому-то это делать. Иначе не будет развития. Так ведь? А?
Мы с капитаном переглянулись: странная логика! А в глазах старпома какая-то жалкая мольба: ну скажите хоть слово, возразите. Не услышав ничего, он опустил голову.
— Извините, — поникшим голосом сказал он и ушел.
— Обидели мы его, — вздохнул капитан.
— Что с ним такое? — удивился я. — Вдруг глянуло в нем что-то светлое. Да что случилось с ним сегодня? Какой-то он непонятный, многоликий. Кто он на самом деле?
— Он добрый, — задумчиво сказал капитан. — Очень добрый.
— Добрый? — Я не верил ушам своим. — Вот увидишь завтра, какой он добрый.
И в самом деле, на другой день с утра старпом зверем носился по палубе, злобно пинал мертвецки пьяных матросов. Те с сонным бормотанием, с руганью поднимались и, мешая друг другу, вяло принимались Убирать лишние паруса. Старпом кулаками вразумлял их, потом встал у штурвала и лавировал с таким расчетом, чтобы световой ветер дул навстречу. Одним словом, тормозил, сбавлял скорость.
И пора было. Вскоре из-за горизонта выступил корабль пришельцев, высоченной сигарой стоявший на каменистом острове посреди затонувшей планеты. Затем, подгоняемые старпомовскими пинками и кулаками, матросы приводили фрегат в порядок: чистили, драили, убирали все лишнее. Нельзя же предстать перед пришельцами со следами разбойничьего притона.
Фрегат, сбавивший космическую скорость до земной, тихо вплыл в залив поближе к металлической громадине. Еще издали старпом заметил неладное: входной люк наглухо закрыт, подъемные механизмы убраны.
— Это еще что такое? — хмурился старпом. — Боцман, спускай шлюпку. Там они что-то оставили.
Шлюпка причалила к песчаному берегу. Два матроса выскочили из нее и кинулись к каменистому плато, где на могучих опорах стоял корабль. Вскоре они вернулись и погрузили в шлюпку три чемодана.
Меня с капитаном вновь связали и посадили у грот-мачты перед раскрытыми чемоданами. В них ценнейшие для наших ученых материалы: фильмы, книги, рисунки, чертежи. Все то, для чего и прибыл наш фрегат.
— Что это значит? — спросил старпом с ледяным спокойствием, за которым чувствовалась вулканом клокотавшая ярость.
— Это значит, что они не дождались нас. Закрылись и погрузились в долгий сон. Ждут своих.
Понравился мне капитан. Ответил он с таким же спокойствием, и в голосе его слышалась насмешка: ну что, получил?
— Не радуйся, — сжал кулаки старпом.
Он поднял голову и уставился на остроносую вершину корабля, где загорались и гасли багровые огни.
Три длинные вспышки, две короткие и одна длинная. Пауза. И снова длинные и короткие вспышки, но в других сочетаниях. И тут старпома осенило.
— Шифр! Они хотят сказать своим, как войти в корабль. Знать бы этот шифр… — Подумав немного, он обратился к боцману: — А что, если пальнем из всех тридцати бортовых пушек? Пробьем дыру и войдем без шифра.
Боцман понимал всю нелепость этой затеи, но тем не менее с удовольствием «пальнул». Вслед за грохотом залпа послышался звон и треск чугунных ядер, ударивших по корпусу корабля.
— А ну, Хендис, посмотри, что там, — приказал старпом.
Хендис Хо и Крысоед на шлюпке подплыли к берегу, подошли к кораблю и обошли его вокруг. Потом тощий и длинный Хендис Хо взобрался на плечи Крысоеда, прильнул к металлической обшивке, вгляделся и на всякий случай понюхал. Вернувшись на фрегат, он бросил на палубу горсть осколков разлетевшихся вдребезги ядер и доложил:
— Ничего. Ни вмятин, ни одной царапины.
И тут старпом начал терять голову. Покраснев от гнева и сжимая кулаки, он метался по палубе, с ненавистью кидал взгляды на неприступного исполина и наконец приказал еще раз выстрелить, целясь всеми пушками в одно место. Снова залп — и снова тот же результат.
Вдруг старпом остановился. Ему взбрела в голову еще более нелепая мысль.
— Шифр! — ткнул он в нас пальцем. — Вы знаете шифр. А ну, говорите!
Капитан посмотрел на мелькающие вспышки и пожал плечами: дескать, с какой стати пришельцы будут Доверять нам свой корабль?
— Шифр! — не унимался старпом. — Молчите? Ничего, сейчас заговорите. — На его губах зазмеилась усмешка, от которой даже его сподвижникам стало не по себе. — А ну, братва, сорвите с них одежду. Сейчас будет потеха. Чем я хуже этого дьявола? — Старпом ткнул пальцем в звездное небо.
Капитан — молодец! Ничто не дрогнуло на его лице. Но я-то, к своему стыду, наверняка являл собой жалкое зрелище. Меня начала бить холодная дрожь, в своем излишне богатом и услужливом воображении я уже видел, как окровавленные пальцы старпома рвут мои сухожилия, дробят кости. Этот «мученик зла» конечно же сам займется палачеством.
Но я ошибся. Старпом спустился в свою каюту и вернулся… в белых перчатках! Явился как на парад — в новом кителе, с сияющими погонами и аксельбантами. Для него это и в самом деле праздник, потеха, пиршество зла. Он расположился в кресле и бросил под ноги кока длинный железный прут.
— Возьми эту железяку. Бери, бери! А сейчас иди к себе на камбуз и раскали докрасна.
Кок отшатнулся и выронил прут.
— Может быть, ты возьмешься? — Старпом с усмешкой обернулся к Хендису Хо.
Тот поморщился и подтолкнул вперед Крысоеда. «Вот где палач», — мелькнуло у меня в голове. Угрюмая физиономия Крысоеда будто осветилась и хищно осклабилась, в глубоких глазницах, как в норках, зверо-вато бегали крохотные глазки.
— У него получится, — сказал Хендис Хо. — Он это любит.
Крысоед подмигнул своему приятелю Красавчику. Тот выдавил на своей жуткой физиономии еще более жуткую гримасу, означавшую, видимо, понимающую ухмылку. Он проворно юркнул на камбуз и вскоре вернулся с железной палкой. Заостренный конец ее чуть ли не пылал синевато-белым огнем. Другой конец, обмотанный мокрой тряпкой, Красавчик вложил в руки Крысоеда.
Крысоед с каким-то лихим вывертом приложил пылающий прут к спине капитана. Послышалось шипение, в ноздри ударил запах горящего мяса. Капитан поморщился, сцепив зубы, но не проронил ни слова. Завидное мужество! Красавчик тем временем выскочил из камбуза с огненно-красной кочергой.
Принялись за меня… В память с тех пор навсегда врезалась сцена: палуба, ярко освещенная звездами, с любопытством уставившийся на меня старпом и страшный Крысоед — его ухмылка, его острые бегающие глазки.
Я обратил взор к небу. Господи, помоги мне! Следуя примеру капитана, я стиснул зубы, но все же вскрикнул и завыл от пронзившей меня боли. В глазах помутилось, звезды заплясали размытыми пятнами и закружились огненным роем.
— Ну как, художник? — хохотал старпом. — Что там в небе? Гармония? Красота? Теперь, надеюсь, вспомнил, что ты посланец этого дьявола? Нет, ты сам дьявол! Признавайся. Но-но! Осторожнее, Крысоед. Протыкать насквозь будем завтра. Сегодня только репетиция.
Но Крысоед в палаческом упоении перестарался. Раскаленным острым концом он проткнул икру левой ноги, и я,
вскрикнув, потерял сознание. Очнулся на постели в каюте капитана.
— Все в порядке, — сказал склонившийся надо мной врач. — Рану на ноге я промыл и перевязал.
Спина ныла, но ожоги на ней были уже заклеены. С такими же наклейками на спине за столом сидел капитан. Рядом с ним — тяжело дышавший от ярости плотник.
— А где юнга? — забеспокоился я.
— На палубе его не было. А где он сейчас? — Капитан пожал плечами и поморщился: ожоги на спине давали о себе знать.
О боцмане я не спрашивал, боясь услышать страшное. Трудно поверить, что он заодно с мятежниками. Ступеньки загремели, и в каюту ввалился Хендис Хо.
— Старпом приказал узнать — вспомнили шифр?
— Уйди, гад! — взревел плотник и пнул матроса с такой силой, что тот согнулся пополам и вылетел в дверь.
Гибкий и живучий, как змея, Хендис Хо, извиваясь и перебирая по ступенькам руками и ногами, взобрался наверх и скрылся.
С полчаса мы молчали, прислушиваясь и пытаясь угадать, что творится на фрегате. На палубе как будто тихо. И вдруг в носовой части послышались крики, затем топот бегущих ног, а вверху, уже над нашей каютой, прогремели два выстрела.
— Вот! Скатившийся сверху юнга вывалил на стол несколько пистолетов и мешочки с порохом.
К моей радости, в дверях стоял боцман с целой охапкой мушкетов.
— Клянусь Аларисом, я попал в Хендиса! — крикнул юнга.
— Промазал, — невозмутимо возразил боцман.
— Не может быть!
Юнга с двумя пистолетами кинулся наверх. «Вот чертенок», — ругнул я его и, держась за стенки и прыгая на одной ноге, поспешил к нему.
— Разрази его гром! Уцелел, гад! — ругался юнга, но глаза его так и светились: ух ты, вот это приключение!
«Мальчишка», — с жалостью подумал я.
Притаившийся за фок-мачтой Хендис Хо поднял пистолет и прицелился. Мы пригнули головы, и в тот же миг над нами просвистела пуля.
— Не тратьте зря пули! — приказал капитан, но сам же высунулся и разрядил в матроса пистолет. Стрелял он метко. Хендис Хо взвыл и левой рукой схватился за окровавленное ухо.
— Ухо оторвало! — торжествовал юнга.
Хендис Хо юркнул в кубрик. Оттуда высунулись три мушкета и дали бесприцельный залп. Из каюты старпома, находившейся рядом с кубриком, прогремел еще выстрел. После этого наступила тишина.
Мы с капитаном оценили позиции как равные. У них носовая часть фрегата — у нас корма. Вся палуба под обстрелом с обеих сторон. У них бочонки с водой — под нами, в трюме, вся провизия: солонина, мука, крупа. Но к сожалению, ни капли воды.
Боцман с плотником прорубили проход в мою каюту, находившуюся рядом. Теперь наблюдение можно вести из двух кают. Особого желания выйти на палубу мятежники не проявляли, но следили за нами внимательно: то из каюты старпома, то из кубрика на миг высовывалась чья-нибудь голова.
На мачтах оглушительно хлопали паруса, выгибаясь под лучевым натиском Альцеона. Эта звезда-цефеида, разгораясь, стремилась к максимуму своего свечения.
— Альцеон! — с восторгом воскликнул юнга, задрав голову и высунувшись из каюты.
— Осторожнее, дурень. — Я пригнул его голову.
— Смотри, штурман! Какой Альцеон! Косматый и свирепый, как лев. Раскинул лапы и прыгнул на нас. А грива-то! Грива! Развевается и мечется огненными прядями.
Альцеон грозно полыхал своими багровыми протуберанцами и впрямь был похож на разъяренного льва, Раскинувшего в прыжке лапы, с вьющимися рыжими космами. Вспомнил я, как юнга еще в начале плавания
образно сравнил Аларис с мудрым богом Всеолом, и с грустью подумал: черт тебя дернул отправиться в недоброе плавание. Остался бы дома — наверняка вышел бы из тебя художник или поэт.
Альцеон продолжал яриться. Снасти дрожали, гнулись мачты, и наконец случилось то, что и должно было случиться: фрегат сорвался с якоря и понесся из залива в открытое море.
Своим буйным светом Альцеон гнал фрегат все дальше. Палуба раскалилась. Жара изматывала, иссушала нас. В термосе капитана нашлось два-три стакана чаю. Но этого хватило лишь для того, чтобы время от времени смачивать рот и гортань.
Так продолжалось немало часов. Корабль пришельцев давно скрылся за горизонтом. Звезда-цефеида умерила свой пыл, потом как-то разом свернулась и еле светилась. Наступившая прохлада особой радости нам не принесла: воды ни капли.
Я всматривался в небо и видел привычные созвездия. Но что дальше? Ведь фрегат потерял управление и шел наугад. Создалось дурацкое положение: ни мы, ни мятежники не могли подойти к штурвальному колесу, выправить курс и вести фрегат. А тут еще вопрос: куда вести?
Прошло еще около суток, и я уже не мог сказать, где мы находимся, — из черных глубин Вселенной глядели другие звезды.
Одна из них заливала небо каким-то гнетущим, устрашающим фиолетовым свечением. Мы со страхом взирали на нее и гадали: уж не взорвется ли она сверхновой? Но вскоре мы забыли о ней — так иссушила, истерзала нас жажда. Сил хватало лишь на то, чтобы наблюдать за палубой. Со стороны мятежников ни одного выстрела. Пороха и пуль у них, видать, тоже негусто.
И вдруг они открыли беспорядочную пальбу — врач и юнга выскочили на палубу и бросились в сторону камбуза. Там, мы поняли, у кока была вода. Под бизань-мачтой врач и юнга залегли. Стараясь прикрыть их, мы со своей стороны открыли редкий, но прицельный огонь. Мятежники прекратили пальбу, решив, видимо, что врач и юнга убиты. Но еще один бросок, и те скрылись за дверцей камбуза.
Со стороны фрегат представлял, надо полагать, потешное зрелище: то одна, то другая голова вынырнет над палубой, зыркнет глазами и мигом скроется. И все же мятежники первыми открыли огонь, когда юнга и врач выскочили из камбуза. Проворный юнга успел домчаться и принес ведро воды. Старина врач замешкался и был убит уже у самой нашей каюты…
А фрегат все плыл в незнакомых морях и под неведомыми небесами. Та самая устрашающая фиолетовая звезда, которую юнга прозвал Синим Пугалом, наполняла светом паруса и толкала фрегат неизвестно куда. Но она все удалялась и удалялась и вскоре скрылась за горизонтом. Я ахнул: небо сплошь синее. Ни одного белого, золотистого или оранжевого светила. Нарядное многоцветье исчезло. Одни только мертвенно-синюшные звезды. В точности такие, как на моей неоконченной картине под названием «Синие звезды». К чему бы это? Мне стало так нехорошо, что я на минуту забыл о жажде.
Вода у нас кончилась, но и мятежники, видать, сильно оголодали. Они предложили обмен: мы им провизию, а они нам воду. Плотник толкнул в их сторону бочонок с сухарями. Матросы кочергой подцепили его и вкатили в кубрик, но с передачей воды не спешили. Неужели обманут? Но вот фрегат, налетев на волну, задрал нос, и палуба наклонилась в нашу сторону. По ней покатился из кубрика бочонок. Мы поймали его, и каково же было наше разочарование, когда вынули пробку: в бочонке не вода, а гулька.
Довольные своей шуточкой, матросы заржали и вдруг замолкли, охваченные суеверным страхом: в синем небе вестницей беды появилась комета. Она совсем низко пролетела над нами. Осветив палубу жутким багровым светом, комета прошелестела хвостом и в своей загнутой орбите круто повернула ввысь. Она все дальше и выше, вот-вот скроется в мглистых небесах. И вдруг, как подстреленная птица, упала и погасла, упала как раз в том месте за горизонтом, куда мчался фрегат. Мы с капитаном переглянулись, еще не решаясь поделиться страшной догадкой. Но вот одна из звезд сорвалась с неба и рухнула туда же, что и комета. Мы поняли: там Гиблое море.
Пришельцы называли его Черной дырой. Туда, по их словам, затягиваемые невиданной силы тяготением, засасывались звезды, планеты, камни, кометы и даже световые волны. А звезды над нами синели прямо на глазах, синели со страшной силой.
— Фиолетовое смещение! — крикнул капитан, знавший со слов пришельцев, что это значит: звезды летели в черную пасть Гиблого моря. Туда же летел и наш корабль.
Понял это и старпом. В знак перемирия из его каюты показался белый флаг, потом высунулся он сам.
— Звезды падают в Гиблое море! — крикнул он и ткнул пальцем в страшное небо. — Смотри, художник! Любуйся, дьявол! Это ты своей картиной накликал беду, ты сюда завел!
— Не пори ерунду! Надо что-то делать!
— Надо повернуть фрегат обратно!
После переговоров решили с каждой стороны выделить по одному человеку. От нас к штурвалу побежал боцман. У мятежников, как нарочно, жребий выпал Хендису Хо.
— Предатель! — заорал он и с кулаками набросился на боцмана. Тот отбросил его к борту.
Старпом пригрозил им трехствольным пистолетом:
— Попробуйте только устроить драку! Обоих пристрелю!
Хендис Хо полез на мачты и пытался повернуть паруса навстречу синим лучам. Боцман взялся за штурвальное колесо. Но все их усилия были напрасными, фрегат не желал сворачивать в сторону. Боцман подскочил к борту, посмотрел вниз и крикнул:
— Течение!
И все поняли: конец! Из засасывающих вод Гиблого моря теперь не вырваться. Матросы выскочили на палубу — кто с оружием, кто без него. О стрельбе никто и не думал. С искаженными от ужаса, с синими от света звезд лицами мятежники сгрудились у борта и прислушались. С той стороны, куда тянуло нас течение, доносился все усиливающийся гул, похожий на гул водопада. Из мглистой выси сорвалась звезда и упала, за ней вторая. Все ближние звезды Черная дыра подметала, заглатывая в свою пасть. Внезапно палуба ярко озарилась. Еще одна комета просвистела над мачтами и погасла в дали, — в той черной дали, куда все стремительнее летел фрегат.
К чести команды надо сказать: ни суматошной паники, ни воплей. Все молча принимали неизбежное. Ко мне прижался юнга. Его пальцы в моей руке дрожали. Заметив пенистые буруны, я крикнул сквозь усиливающийся гул и клекот:
— Держись, малыш! Хватайся за ванты! Сейчас начнет нас трясти и швырять!
Фрегат стал сильно раскачиваться. Ширь космического океана, изрубцованная, изрубленная встречными потоками, вспучилась. Волны закручивались и шипели, словно разгневанные змеи. Но дальше спирали и воронки сглаживались и вливались в единый гигантский водоворот. Туда и несло нас. Фрегат накренился и ухнул вниз. Океан вознесся над нами высокой мглистой стеной со сверкающей пеной на гребне. И вдруг фрегат выпрямился и поплыл без крена и качки. Кто-то радостно вскрикнул: — Вырвались!
Но это была лишь минутная передышка, ступенька в водовороте. Фрегат сорвался с нее и стремглав полетел в грохочущую, воющую бездну. Мачты, снасти, рваные паруса — все закружилось, завертелось у меня перед глазами. На миг увидел капитана, крепко вцепившегося в покосившуюся нижнюю рею. Он закрыл глаза и шевелил губами. Молился, что ли? И я, неверующий, невольно зашептал: «Господи, прими меня в лоно свое…»
Фрегат разваливался, трещал. Рухнувшая фок-мачта насмерть придавила нескольких матросов, еще двоих прихватил смытый волной камбуз и унес в пропасть. Собравшись с духом, я глянул туда, в глубокий засасывающий котел. Вот она, Черная дыра! Всепожирающая космическая пасть!
В невыразимом ужасе я закрыл глаза. В это время затрещала бизань-мачта, и упавшая рея стукнула меня по голове. Сознание померкло.
И в тот же миг вернулось! Вернулось ошеломляюще ясным, незамутненным и чистым, как никогда. Такое ощущение, что раньше своими глазами я видел мир сквозь тусклое, запыленное окно. А сейчас окно распахнулось. Сейчас я видел с ясностью мысли. Я пощупал голову. И ничего! Ни боли, ни малейшей раны. А на мне не мокрая рваная одежда, не лохмотья, а но венькая форма штурмана. Та самая, что была в начал плавания.
Я оглянулся и… Вся команда! Целая и невредимая. Вот плотник, от удивления округливший глаза. Чуть поодаль боцман с юнгой. Группами и поодиночке стояли матросы с разинутыми ртами. И все они чистенькие, свеженькие и в новенькой форме. А старпом просто красавец: в белых перчатках, с сияющими аксельбантами и с сияющей улыбкой.
Удивительный человек! Ни изумления, ни растерянности. Он первым из нас пришел в себя.
— Ну что, художник? Видишь, какие фокусы выкидывает вот этот дьявол? — Старпом рассмеялся и сделал широкий жест рукой, имея в виду Вселенную. — Видишь? Ты заодно с ним и все знаешь. Может, вспомнил?
— Не паясничай, — оборвал я его. — Кто мы?
— Мы? — усмехнулся он. — Мы никто. В природе нас нет… Как будто. По-настоящему, физически, мы вон там. — Старпом ткнул пальцем вниз.
Я глянул вниз под ноги, и душа помертвела от ужаса. Внизу все та же завывающая, крутящаяся исполинская воронка. Вознесенный гигантским всплеском, на минуту показался фрегат. На палубе перекатывались наши изувеченные тела. Фрегат разваливался, его обломки и щепки стремительным потоком унесло вниз, в исчезающе глубокий черный зев.
— Все. От нас даже этого не осталось, — сказал старпом.
— Но мы есть, — возразил капитан. — Или мы… Двойники?
— Двойники и есть. Вернее, бессмертные души. — На губах старпома кривилась ироническая усмешка. — Что, капитан, думаешь, что это Бог подарил нам бессмертие? Ничего подобного. Это злые шуточки, фокусы Вселенной, вот этого дьявола.
— А если серьезно?
— А черт его знает, кто мы такие. Может, от нас осталась только память? Она из чего-то нематериального восстановила наше тело, одежду, даже оружие.
Я расстегнул китель, закинул руку за спину и нащупал рубцы от недавних ожогов. Это Крысоед оставил на память… Память! Похоже, старпом в чем-то прав. Вспомнил, что люди, у которых ампутировали ногу, еще долго чувствовали ее и даже пытались пощупать. Может, нечто подобное и с нами?
И вдруг дух захватило от давней, еще при жизни, детской догадки: я же бесконечность! Я жил всегда! Видимо, и капитану пришло то же озарение.
— Не просто память, — сказал он. — Это мы сами, наши бессмертные личности. Мы… мы же вечные кочевники! — воодушевляясь, воскликнул капитан. — Мы вечно странствуем. Изредка, словно в гости, заходим в земную вещественную жизнь. Умираем там и снова возрождаемся. Да, да! Это так!
— Да, это так, — согласился старпом. — Почему мы сразу не догадались? Мы же вечные и должны бы знать. Ах вон оно что! Нас оглушил вот этот ужас. — Старпом ткнул пальцем в ревущий водоворот Черной дыры.
Однако матросы, не привыкшие задумываться о себе и мире, никак не могли освоиться со своим новым бестелесным состоянием.
— Предатель! — завопил Хендис Хо. Он подскочил к боцману и в упор выстрелил ему в лоб. Блеснуло пламя, из ствола пистолета выпорхнуло облачко и послышался грохот. Все как в только что ушедшей физической жизни. Но боцман даже не покачнулся.
— Ах ты, гад! — закричал плотник и врезал своим увесистым кулаком в прыщеватую физиономию Хендиса Хо. Кулак проскочил сквозь голову матроса, не причинив ни малейшего вреда.
— Бросьте, дурни, — усмехнулся старпом. — Мы бессмертны. Никто и ничто нас не убьет.
— Мы… мы призраки? — захлопал глазами Хендис Хо и вдруг задумался. — А мы можем пройти сквозь стену?
— Не пробовал, но вполне возможно.
— И мы можем войти в корабль» чужаков?
— Вон оно что! — рассмеялся старпом. — Руки чешутся? Хотите ограбить? Ничего не получится. Но все же любопытно взглянуть, как они там спят.
Мятежники — теперь уже можно сказать, бывшие — во главе со старпомом отправились в обратный путь. Капитан, боцман, плотник и я с юнгой все еще стояли, а вернее, висели над Черной дырой, над воющей как зверь вселенской глоткой.
О своих настроениях в эти минуты я ничего определенного сказать не могу. Грусть? Желание вернуться в телесную земную жизнь? Или ожидание новой? Мной владели иные чувства, и для них в уроках былого нет никакого объяснения. И в душу мою снизошел непонятный покой. А, будь что будет!
— Что ты сказал? — очнувшись от задумчивости, спросил капитан у боцмана.
— А не разгромит эта шайка корабль пришельцев?
— Это уж никак. Но все же посмотрим. Догоним их. Мы пошли, смешно перебирая ногами в пустоте, забыв о своих возможностях.
— Бесполезно, — сказал старпом, когда мы его догнали. — Так будем топать миллионы лет.
Один из матросов вдруг помчался бегом и пропал, скрывшись в звездных далях. И почти в тот же миг возник перед нами, радостный и смеющийся.
— Братва! А я ведь могу летать быстрее молнии. Я видел корабль чужаков. — Врешь!
— А вы попробуйте.
— Какие мы болваны, — рассмеялся старпом. — Он прав.
И мы полетели, как небесные ангелы, с небывалой в природе скоростью. Ни пространство, никакие физические тела не были для нас помехой. Одна из звезд сорвалась с насиженного места. Набирая скорость и синея, словно от страха, помчалась нам навстречу. Мы почти врезались в нее. Звезда слепила глаза, лизала нас огненными языками, не обжигая и не причиняя ни малейшей боли. Миг — и она позади, в черной глотке, дикие завывания которой вскоре стали не слышны: мы вырвались из Гиблого моря.
Снизившись, понеслись над океаном, как птицы, на бреющем полете. Но скорость свою заметно сбавили. Секунда-другая — и я уже видел над собой привычное небо и знакомые созвездия.
К кораблю пришельцев подошли, если можно так выразиться, пешком и с уважением потрогали его серебристые бока.
— Чугунные ядра не пробили. Куда уж нам, — уныло сказал кто-то из матросов.
— Не расстраивайтесь, господа грабители. Для вас все двери открыты. — Старпом с иронической учтивостью сделал приглашающий жест. — За мной.
Старпом исчез, будто растворился в корабле. Мы не очень уверенно последовали за ним. Сквозь толстые стенки корабля проплыли как сквозь туман и очутились в коридоре, залитом приглушенным светом.
— Ангары с роботами выше этажом, попробуйте взять их, — усмехнулся старпом и, посерьезнев, продолжал: — Рядом с ангарами рубка управления и кают-компания. Но сначала зайдем в сад.
Под гигантским прозрачным куполом расположился сад, ошеломляющий воображение разнообразием растительного мира. Матросы затихли, с недоумением озираясь по сторонам. И было чему удивляться. В саду не дрогнет ни один листик, не шелохнется ни одна травинка. На цветах сидели неподвижные, будто застывшие навечно бабочки и пчелы. Заколдованный сонный мир. Мы прошли чуть дальше и в беседке, на стульях и в креслах, увидели самих пришельцев — таких же неподвижных, будто замерших навек.
— Ушли в свой долгий сон, — словно опасаясь разбудить людей, прошептал старпом и спросил капитана: — Как это они сделали? Заморозили сад и самих себя?
— Не заморозили, — сказал капитан. — Они остановили в саду время — и все биологические процессы замерли.
Однако не все замерло в сонном корабле. Когда мы были в ангаре с роботами, послышались шаги и голоса людей. Мы вышли в коридор и увидели вдруг пришельцев с какими-то трубками. Матросы решили, что это какое-то испепеляющее оружие.
— Они сожгут нас! Спасайся, братва! — завопили они и, бросившись врассыпную, проскочили корпус корабля и улетели в пространство.
— Крысоед, вернись! — приказал старпом. — Ты мне еще нужен.
Крысоед подскочил к старпому и, спрятавшись за его спину, с ужасом поглядывал на пришельцев.
— Ну и трус, — брезгливо скривил губы старпом. — Не трясись, дурак. Убить нас уже невозможно.
Люди прошагали мимо, как будто нас и не было, и зашли в кают-компанию. Мы за ними. Одну из трубок пришельцы водрузили на подставку и погасили свет. Из трубки вырвался яркий сноп света, и на экране замелькали кадры фильма. Сначала мы увидели шар, похожий "а сильно увеличенную каплю воды. Крысоед тупо уставился на голубой шар, медленно вращающийся среди звезд. Но мы-то уже знали, что это наша планета-океан, в которой рассеяны небольшие материки и множество островов. Старпом с живейшим любопытством прислушивался к спору хозяев корабля.
— Не разберу, — хмурился он. — Капитан, о чем они тараторят? Ты хорошо знаешь их язык.
— Кажется, прежде чем погрузиться в сон, эти двое решили проверить и записать свою гипотезу о происхождении жизни в нашей галактике.
На экране наша планета сменилась звездным небом и космическим океаном. Пришельцы переговаривались и, нажимая на клавиши, что-то записывали в памяти своих машин.
— Невероятно! — воскликнул капитан и замолк: уж не вспугнул ли он хозяев?
Но те на возглас капитана не обратили никакого внимания. Для них его просто не было, как не было и нас. Все же капитан заговорил тихо, почти шепотом:
— Вы представляете, о чем они толкуют? Вон тот, коренастый, утверждает, что двуногие разумные существа появились сначала у нас и добились чрезвычайных успехов в науке и технике. Они могли летать в другие галактики, почти по всей Вселенной.
— И где же они сейчас? — с недоверием спросил старпом.
— Погибли. Все планеты были уничтожены, обращены в пыль и обломки в результате галактической катастрофы. Наша галактика и до сих пор остается космически неустойчивой, с какими-то перевернутыми физическими законами. Отсюда ее странности — области с разным течением времени, штормовые моря и вообще весь межзвездный океан.
Капитан замолчал, вглядываясь в мелькающие кадры фильма и напряженно прислушиваясь к тихому говору пришельцев. _ Вот это да! — воскликнул он и снова испуганно посмотрел на хозяев. Но те продолжали беседовать, и капитан зашептал: — Вот это да. По их гипотезе получается, что чудом уцелела только одна планета. И знаете какая? Наша. Но все достижения цивилизации были сметены и погрузились в океаны — в земной и во внезапно возникший межзвездный. От разумных обитателей планеты сохранилась небольшая горстка. Люди одичали и начали свой путь с первых забытых шагов: с трудом добыли огонь, изобрели каменный топор. Боже мой! Ведь до сих пор мы остаемся на низкой ступени развития. По сравнению с пришельцами мы дикари.
— И от наших умных предков так-таки ничего не осталось? — На губах старпома все еще блуждала недоверчивая усмешка.
— Осталось. В том-то и дело, что пришельцам удалось отыскать рассеянные следы. Ведь наши умные предки расселились на многих планетах, от которых после галактического взрыва до сих пор летают в пустоте обломки. И там кое-что осталось. И это пришельцы нашли.
Ошеломленные и притихшие, мы всматривались в пробегающие кадры фильма. Вот среди звезд, красуясь ветвистым хвостом, медленно плывет комета. Их после мирового катаклизма стало особенно много. Почти каждая из них — горсть камней, оставшихся после взрыва планет. Одна из комет привлекла пристальное внимание пришельцев. Они выслали к ней оптический прибор-разведчик, передающий изображение. Мы Увидели на экране, как комета словно наплывает на нас, увеличивается в размерах. И вот мы уже будто в ядре кометы, среди тучи каменистых обломков, трущихся друг о друга. И вдруг вздрогнули: в хаосе обломков и пыли мелькнули дворцы с покореженными куполами, какие-то расплющенные машины и… раздавленный человек.
— Вот она, художник, твоя красота и гармония. — Старпом метнул в меня насмешливый взгляд и захохотал.
— Нет, это твое любимое зрелище. Твое! — раздражаясь, возразил я. — Как же! Праздник мирового зла! Ты… ты дьявол!
— Ну, это еще неизвестно, кто из нас дьявол, — ответил старпом и вдруг замер, осененный какой-то догадкой. — Видел! Кажется, видел. Это ты, художник, откуда-то пришел и разнес в клочья нашу галактику. Ты же… Сатана! Миленький, вспомни!
— Ты совсем рехнулся! — со злостью бросил я.
— Прекратите! — оборвал капитан нашу перебранку.
Но умолкли мы лишь тогда, когда из корабля пришельцев (это видели, конечно, только на экране) выскочил робот, влетел в грохочущую середку кометы и ухватил цепкими лапами какую-то машину. И погиб, сокрушенный и разгромленный многочисленными камнями.
— Так его! — то ли в пику мне, то ли всерьез злорадствовал старпом.
Другим роботам удалось, однако, кое-что спасти. Дальше замелькали кадры, не слишком понятные для нас. Вот видно на экране, как пришельцы в скафандрах выходят из корабля. Они внимательно изучают облака пылевых планет. Но что они могли выискать в пыли?
Тем временем двое пришельцев, отложивших свой долгий сон, поглядывали на экран, оживленно переговаривались, спорили. Капитан напряженно прислушивался. И вот что он узнал:
— В обломках и пыли… Да, да! Даже в космической пыли пришельцы нашли множество малюсеньких, меньше пылинок, ячеек какой-то машинной памяти. В них удалось кое-что вычитать. Из обрывочных сведений пришельцы составили удивительную картину, своего рода фильм-гипотезу. Да смотрите же!
И мы увидели поистине фантастический фильм, в котором было много предположительного, гадательного и не совсем для нас ясного. Наши далекие предшественники, создавшие на многих планетах высокую цивилизацию, догадывались о близящейся катастрофе и вывели из нашей галактики несколько кораблей. Долго блуждали те в необозримых просторах и наконец в галактике, которую пришельцы именуют сейчас Млечным Путем, нашли планету, по своим природным условиям схожую с нашей.
— Сейчас ее называют Землей, — пояснил капитан. — Но в те времена ее никак не называли, так как не было там разумных существ.
Но и без капитана мы уже кое-что понимали. Мы видели планету, на которой буквально кипела, пенилась богатая жизнь. Но еще неразумная. Наши предки высадили несколько тысяч человек для основания колонии на планете. Корабли улетели обратно с намерением привезти следующим рейсом оборудование и машины для строительства городов. Но не вернулись, еще на окраине нашей звездной системы погибли в начавшемся галактическом катаклизме.
Поселенцы остались с предметами первой необходимости и немногими орудиями. Их было недостаточно для выживания. Планета оказалась не таким уж сладостным раем, как ожидалось. Поселенцы стали все чаще спасаться от диких зверей в пещерах и даже на деревьях, забывали свои прежние навыки и знания. На планете сменялись климатические условия, приходили и уходили резкие похолодания и оледенения. И через несколько тысяч лет мы видели уже
потомков поселенцев — разрозненные и враждующие между собой племена полуголых, а затем и голых волосатых людей.
Их постепенное и трудное восхождение к вершинам цивилизации нас уже мало занимало. Нас интересовало, как пришельцы представляли гибель нашей родной галактики. Затаив дыхание, мы смотрели фильм-гипотезу. По одной версии получалось, что все началось с разрушения субатомных частиц и… наводнения! Да, с наводнения, с бурь и штормов внезапно возникшего космического океана. Могучие гравитонные волны захлестывали звезды и их скопления. Начались какие-то непонятные для нас, да, пожалуй, и для самих пришельцев, цепные реакции. Звезды заплясали и, подобно снежинкам, закружились в космической вьюге. И взрывались, потрясая мироздание. В гигантском клубке бушующей энергии, в этой огненной карусели рождались новые миры и планеты, рушились и вновь возникали…
На краткий миг крупным планом появилась на экране планета с хрустальными дворцами, с ажурными транспортными эстакадами. Ее обитатели метались, их крики тонули в грохоте и буре вселенской катастрофы. С помощью могучей техники люди, видимо, пытались что-то сделать, как-то спастись. Но бастионы цивилизации рушились, трещали и падали дворцы, взрывались энергостанции. Взорвалась и планета, разлетелась со страшной силой, обратившись в тучи обломков. Но крохотные ячейки памяти машин, носясь в пространстве, еще жили, снимали документальные кадры, показывали, как Вселенная «добивает» цивилизацию, кромсает тела ее создателей…
В невыразимом ужасе мы с капитаном прижались друг к другу и закрыли глаза. А старпом, потирая руки, шептал:
— Как это мило. Как прекрасно… — И, повысив голос, повернулся к нам: — Да смотрите же, трусы! Взгляните правде в лицо. Вот оно, торжество хаоса и зла, вот где пирует и ухмыляется вселенский палач, этот космический Крысоед. А ты, художник, посмотри на своего мучителя. Вот он, рядышком стоит. Скажешь, Крысоед — твой антипод? Враг красоты и гармонии? Ничего подобного. Он-то и есть настоящий художник. Поэт! Артист! И вся Вселенная — такой же Крысоед.
Старпом хохотал, злорадствовал, ерничал, и вдруг в лице его что-то жалко дрогнуло. Он сник, потер ладонью лоб, словно при головной боли, и с глубокой горечью зашептал:
— К чему все это? В чем смысл этой подлой бессмыслицы? Что делать? Бежать? Тьма… Кругом тьма.
То ли фильм так оглушающе подействовал, то ли еще отчего-то, но мы с капитаном испытали нечто похожее. Густая, липкая тьма навалилась на меня, гася сознание и мысли. Будто в зыбком сне видел, как пришельцы крутят, все крутят свой жуткий фильм…
А потом? Хоть убей, не помню, что было потом. Кажется, мы бежали из корабля и, потеряв друг друга, летели, не зная куда и не догадываясь, что наступил какой-то крутой поворот в наших личных судьбах…
Я остался один. С приглушенным сознанием, в непроницаемой мгле летел неведомо сколько времени и в неведомо каких пространствах. А тут еще с памятью что-то стряслось. В ее неизмеримых глубинах зашевелились видения моих прошлых жизней. И картинки все какие-то идиллические, приятные. Приоткрылся вдруг цветущий луг, где струились сладостные ароматы, а в моем теле — не в нынешнем призрачном, а в самом настоящем, земном — все пело, все радовалось жизни. Но тут же видение погасло. Что было до этого? После? Память безмолвствовала. И вновь заискрилась еще более далекими, еще более прекрасными видениями, зазвучала голосами минувшего. Голосами обнадеживающими, утешающими: не тревожься, не падай духом. Гибель целой галактики, ее населенных миров? Чепуха! Всего лишь краткий миг во Вселенной и в твоей памяти. Жизнь прекрасна и бесконечна, как бесконечно мое собственное «Я». Извечное свойство души: после потрясения, горя и ужаса находить утешение и отраду. И душа моя утешилась, из краткого путешествия в неизмеримые дали вернулась обновленная, с неожиданными, ошеломляющими знаниями.
Я словно очнулся и увидел сиюминутный мир: незнакомые звезды, планеты с иными формами жизни. Куда же я забрел? Ясно, что не в свою галактику с ее космическими морями, а в самую обычную, каких во Вселенной миллионы и миллиарды. Я выбрался на ее окраину и со стороны увидел огромный приплюснутый шар, похожий на светящуюся люстру. Оглянулся и понял, что безнадежно заблудился. В бесконечных далях мерцали туманные пятнышки — мириады иных галактик. Вот и попробуй найти в этом месиве мою взбалмошную родную галактику. Л так хотелось повидаться с капитаном, боцманом, юнгой. И даже со старпомом, только без его страшного Крысоеда. Хотелось поделиться радостью: я на пороге великих открытий! Да, сдуру мне показалось, что тайна мира и счастья, как золотая жар-птица, вот-вот затрепещет в моих руках.
Не знал я тогда, сколь обманчиво это ощущение. Не знал и того, какие опасности ждут меня, какие жуткие дни и годы мне придется пережить в самом ближайшем времени.
В упоительном настроении я мчался в пространстве и видел краснеющие звезды. И чем дальше от меня, тем более краснели они. И я уже знал, что это значит: Вселенная расширяется. Звезды и галактики бегут от меня во все стороны. И появилось вдруг шальное желание вмешаться в эту, по выражению старпома, «кутерьму». Ведь я — существо космическое. С какой-то сатанинской, инферальной смесью счастья и ужаса, испуга и радости я приказал: «Бегите звезды и галактики, бегите во все стороны! Все равно догоню!»
Вот тут-то и случилось самое страшное: Вселенная исчезла! Пространство вдруг оборвалось, погас свет. Я будто провалился в бесконечную черную яму. Но падал ли я? Летел ли в каком-либо направлении или висел на месте? Вопросы, лишенные смысла. Нет здесь никакого направления и никакого места, ибо нет самого пространства. А если и летел, то сколько времени — миг или вечность? Тоже нелепый вопрос, ибо нет здесь и времени. Ничего нет. Это же Великое Ничто! Само Небытие!
В душу закрался великий страх, а вместе с ним и вера в Великого Творца. Господи, сотвори чудо! Вызволи меня из ямы Небытия! И чудо свершилось: появилось ощущение тяготеющих масс и их неизменных спутников — пространства и времени. Я внутри какого-то мира. Странного, однако, мира, таинственного и… от мира отрешенного! И черного, как само Великое Небытие. Я висел в пространстве… Да, все же в пространстве! Тут нет никакого сомнения. Я стоял на месте, стараясь унять тревогу и собрать разбегающиеся мысли. Неужели… Неужели это тот самый мир, который ужаснее самого Небытия? Да, это он…
МЕРТВАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Я летел в пространстве, ничего не видя и ничего не слыша, пытаясь ощутить холмы и пики гравитации. И вот наконец мощная притягивающая масса.
Обогнул ее, коснулся и поежился словно от озноба — мертвая звезда! Собравшись с духом, еще раз пощупал ее поверхность — гладкую как стекло и холодную как лед. Ни кванта энергии, ни одного светового лучика.
Когда-то давным-давно звезда пылала, щедро расточая жар. В ее недрах шел термоядерный синтез. Ядра водорода, взрывоподобно выделяя энергию, синтезировались в ядра гелия. Те в свою очередь в ядра углерода. И так до железа. А железо уже не способно к термоядерному синтезу. Звезда сгорела дотла.
В панике я отскочил от нее. В один миг, со скоростью мысли, пролетел громадное расстояние и наткнулся еще на одну такую же насквозь промерзшую железную звезду. А еще дальше — на третью.
Тепловая смерть! От этой мысли я вздрогнул и остановился. Пространство — я чувствовал это! — все более редело и пустело, холодные звезды разбегались. Вселенная, взяв старт с первичного взрыва, продолжала расширяться. И это расширение, опустение пространства будет длиться без конца, всю вечность.
Взором я пытался проникнуть в неизмеримую даль, уловить хоть малейшую искорку жизни, хоть один лучик. Безуспешно. Я в царстве невидимых черных призраков. И в моем слишком буйном воображении художника зародились видения одно страшнее другого. И самое навязчивое и жуткое из них — какой-то лохматый образ вселенского кладбища, раскинувшего свои необъятные траурные крылья.
А какая тишина! Я закрыл глаза и прислушался. И ничего… Только чудиться что-то начало, будто со всех сторон наползали какие-то гаснущие голоса, скрипы, шорохи — призраки давно умерших звуков. В этой могильной яме не хватает старпома, его восклицаний и… хохота! Леденящего душу старпомовского хохота. Здесь, сказал бы он, справляет свой беззвучный пир вселенский дьявол.
Странно, сейчас я готов перемолвиться словечком даже со старпомом — такая невыносимая тоска легла мне на душу. Одиночество давило меня. Кое-как я справился с упадком духа и отправился в путь.
После долгих блужданий обнаружил планету. Охладевшее, погасшее и уже никому не нужное солнце давно покинуло ее, ушло в неизвестную черную даль. Облетев эту бесприютную сироту, я ступил на поверхность. И здесь ни звука, ни малейшего движения. В темноте наткнулся на полуразвалившееся здание, потом прошелся по улицам. Странно, я почти увидел улицы. Глаза мои привыкли к непроглядной тьме, что ли? А, вон оно что! Глаза у бессмертного духа особенные. Не глаза, а всевидящая мысль. Как я мог забыть такое удобство? Итак, словно в безлунных ночных сумерках, я увидел опустевшие улицы некогда многомиллионного города. Никого. Ни одного закоченевшего трупа. Люди бежали. Но куда? Все объяснилось, когда за городом обнаружил космодром. Пусто, ни одного космического корабля. И стало ясно: люди покинули планету. Где они надеялись найти пристанище? За пределами Вселенной? Но сейчас я, побывавший в невесомости Небытия, знаю: ни одно материальное тело не может покинуть свой материальный мир и свое пространство. Это доступно лишь такому бестелесному существу, как я.
На другой планете, находившейся почти рядом, — такие же города, космодромы и такое же безлюдье. На космодромах, однако, все корабли были на месте. Люди здесь, видимо, и не пытались бежать в черную неизвестность. Куда же они девались?
Провалы, похожие на входы в бомбоубежище, наводили на страшную догадку. Я спустился вниз, шел какими-то запутанными и уводящими в глубину коридорами. И вдруг замер: свет!
Впервые в этой беспросветной Вселенной обнаружил нечто похожее на излучение — тощенькое, крайне разреженное, но все же излучение. Оно шло от стен коридора, от пола, уложенного грубо отесанными плитами.
На поверхности планеты и во всех звездах атомы «замерзли», электроны прекратили свой молниеносный бег вокруг ядер. Здесь же отдельные атомы, агонизируя, еще жили. Электроны вращались вокруг ядер и, с натугой перескакивая с орбиты на орбиту, излучали кванты энергии. Вот эти умирающие пучки фотонов я и видел.
Дальше коридор слегка потемнел. Но потом, когда я по лестнице перебрался еще ниже, осветился вновь. В тусклом инфракрасном излучении еле просматривались уходящие вглубь ходы: жители городов, вгрызаясь в планету, пытались под ее гранитными и базальтовыми шубами укрыться от космического холода.
Один из коридоров расширился, и я вошел в зал, большой и хорошо освещенный. Для моих глаз, конечно. Справа — пульт управления с погасшими лампочками и приборами с некогда подрагивающими, а сейчас навеки замершими стрелками. А дальше в сумеречную глубину пещеры уходили оплетенные трубами блоки энергосистемы. Ядерное топливо в них давно выгорело, но отдельные атомы, словно крохотные светлячки, еще дотлевали в тщетной попытке хоть на полградуса повысить температуру поселившегося здесь мороза, лютее которого трудно себе представить.
Слева тянулся длинный коридор. По сторонам — наглухо закрытые двери. Там, надо полагать, были жилые помещения. Сквозь толстые гранитные стены я без труда проник в одно из них и в страхе тился. Люди! Такие же двурукие и двуногие, как я. Они, скрючившись, валялись на полу, лежали на кроватях. И только один человек, прислонившись к стене, стоял как статуя, скованный вселенским морозом. В другой комнате увидел семью, достойно встретившую свою тепловую смерть. Две женщины, одна постарше, другая помоложе, мужчина и дети, одетые в меховые шубы, сидели за столом. В их широко открытых застекленевших глазах навеки застыли ужас и мольба: за что?
Не помня себя, я вырвался из музея кошмаров, летел в непроглядном даже для моих глаз пространстве, и в душе метались вопросы: за что такой ужас? Кому он нужен? Неожиданно наткнулся на космический корабль — гробницу с заледеневшими мумиями, бывшими людьми, застигнутыми в самых разнообразных позах.
И тут моей душой овладел невиданный страх. Я бросался из стороны в сторону, пытаясь вырваться из дьявольской Вселенной. Хоть куда. Хоть снова в пугающее Великое Ничто.
Наконец усмирив свои чувства, полетел в одном направлении. Только так можно найти обрыв, где кончалось пространство и этот напичканный кошмарами мир.
И все же не удержался, заглянул в недра еще одной планеты и сразу понял: здесь люди не стали ждать медленно и мучительно вползающей тепловой смерти. Они оборвали свои жизни мгновенно. Мужественное решение! Когда в подземных коридорах и комнатах было еще сравнительно тепло, они распахнули все люки и двери. Вселенский холод стремительно ворвался и в один миг всех заморозил. Лица людей не были искажены муками и страхом ожидания. Обитатели глубинных убежищ даже не кутались в шубы. Легко одетые, они сидели за столами и будто вели оживленную беседу. Застывшую, безмолвную и вечно длящуюся беседу.
С тяжелым настроением я все шел и шел по тускло освещенным коридорам, заглядывал в комнаты и видел все те же страшные, беззвучные и навеки замороженные беседы. Однообразие поразительно. Договорились так, что ли?
И вдруг я попал… на новогодний бал! На своего рода пир во время чумы. В зале стояла нарядная елка. В колоннах зала, особенно в люстрах, многие атомы еще жили, пульсировали, испуская слабые, гаснущие излучения. Но они слепили меня, и я вынужден был наполовину убавить свою сверхъестественную зоркость. И первое, что увидел, — двух стройных красавиц, двух дам в бальных открытых платьях. Дамы улыбались, и жуть брала от этих застывших улыбок. Подняв бокалы, они поздравляли друг друга с Новым годом. Пена шампанского, перелившаяся через края, замерзла и сияла хрустальным кружевом. Остальных мужчин и женщин, также легко и празднично одетых, космический холод застиг и сковал в тот миг, когда они кружились в вальсе.
Только один человек был здесь в шубе, в валенках и с пушистой меховой шапкой на голове — Дед Мороз. Подняв руку, он с улыбкой приветствовал замерших в вечном вальсе мужчин и женщин. Я подошел к нему, и что-то знакомое почудилось в серых заледеневших глазах, в добродушной лукавой улыбке. Где я его видел? В какой из давно ушедших земных жизней? Помнится, только один человек в минуту тягчайших испытаний мог в кулак собрать свою волю и ободрить всех своих мужеством. Неужто он — капитан?
Какой вздор! Нет, хватит с меня миражей и галлюцинаций. Хватит чертовщины. Я выбрался из подземных лабиринтов и оказался в пространстве настолько пустом, что на невероятно долгом пути попалась лишь одна черная звезда. И вдруг вдали, в непроницаемом мраке сверкнули три искорки. Померещилось? Опять галлюцинации? Нет. Стремительно подлетев, обнаружил, что это угасающие звезды — дотлевающие угольки некогда пылавшего вселенского костра.
Я приблизился к одной из них — средней по размерам и багрово-красной, с многочисленными воронками и струйными течениями еле дышащих гранул на экваторе. В вяло колышущихся протуберанцах и всплесках я увидел, что атомов железа становится все больше и больше. Водород и гелий исчезали прямо на глазах. Ядерное топливо выгорало, и скоро звезда превратится в холодный кусок железа.
С грустью представил, как на заре своей юности она жила и пылала, лучилась радостью и светом, обогревая планеты. Одна из планет, вторая от своего солнца, еще чуточку светилась бурными ручейками и реками. Это воздушная оболочка, замерзая, недавно прошумела ливнями и стекала с холмов и гор в долины. В низинах красноватые на вид озера бывшей атмосферы на моих глазах тускнели и гасли.
Я облетел планету и по уцелевшим, занесенным снежными вьюгами городам понял, что была она обителью высокоразвитой цивилизации. Я проник в недра планеты. Нет, ее мужественные жители не прятались в подземных убежищах. Они боролись до конца. По каким-то циклопическим сооружениям, нацеленным на солнце, я догадался, что они вмешивались в жизнь своего умирающего светила, раздували атомное кострище, разгоняли наваливающиеся вселенские мрак и холод. И все же замерзли. Погибли, как солдаты в бою.
Холодно, неуютно стало на душе, и я перебрался на дневную сторону планеты, поближе к солнышку. Я присел на гладко отесанный самой природой, ее дождями и ветрами, каменистый выступ, похожий на диван с гнутой спинкой. Передо мной другой выступ. Ну точь-в-точь стол.
Уютное местечко! Кругом холмистая равнина, залитая тускловатыми багровыми лучами солнца, скорее похожего на луну — разбухшую и занявшую полнеба. Но все же оно еще грело. Слева светился бурный ручеек охлажденной атмосферы. Он весело звенел меж камней, нарушая гнетущую, обволакивающую со всех сторон черную тишину.
И вдруг оттуда, из тишины и мрака, послышался голос:
— Можно с вами погреться на солнышке?
— Кто ты? — вздрогнул я.
— Такой же, как и ты, мыслящий дух. Я старец Рум.
— Милый старец! — обрадовался я. — Присаживайся. Тоскливо одному.
Рядом со мной на камне-диване возник… Дед Мороз! Тот самый, из праздничного подземного зала. В той же шубе, в тех же валенках и с шапкой на голове.
— Узнаешь разве? — грустно улыбнулся дед. — Да, это мое последнее материальное состояние. Вот уже тысячи лет стоит оно в зале.
От изумления я все еще не мог вымолвить ни слова. Приглядевшись, старец воскликнул:
— Постой! Я тебя что-то не помню на балу. Ты не наш?
— Я… я недавно мимоходом был там, — промямлил я. — Я залетел из другой Вселенной.
— Из какой же это? Любопытно. Мне казалось, что Вселенная одна.
Я рассказал о Вселенной, в которой из сотни миллиардов галактик выделяется одна. Именно о ней, о родной галактике я и рассказал, поведал, подчеркивая ее сумасбродства и странности.
— Великолепная галактика! — оживился старец Рум. — Завидую. А я вот из обычной галактики с устоявшимися, пришедшими в равновесие законами физики. Скучное равновесие. Ах как жаль, не успел слетать при жизни на вашу. А сейчас и не отыскать ее в темноте.
— Ты уверен, что Вселенная всего-навсего одна? — удивился я. — Вот этот покойник? Это же страшно!
— Не всегда она будет такая. Пройдут неисчислимые века — и оживет матушка, засияет. Но совсем другая, непонятная. И я снова вернусь там к земной жизни, буду радоваться ей, изучать. Ах, как все интересно!
— Ты, я вижу, оптимист. Оживет ли?
— Непременно оживет, омолодится.
Дед снял рукавицы и, жмурясь от удовольствия, протянул руки к угасающему солнцу, словно к углям догорающего костра.
— Сейчас будет еще теплее, — продолжал неунывающий дед. — Чувствую и слышу, как солнышко притягивает к себе самую ближнюю планету. А в ней триллионы тонн водорода, гелия, углерода. Топлива-то сколько! Топлива!
На фоне звезды и впрямь появился черный диск наплывающей планеты. Огненные щупальца, вызванные приливной волной, захватили планетку и втянули в догорающую термоядерную утробу. И оживилось приунывшее солнышко, заколыхалось жаркими языками, словно камин, в который подбросили дров.
Старец Рум потирал руки, улыбался и вдруг предложил:
— А не попить ли нам чайку?
— Чайку?
Дед Мороз, взглянув на мое ошарашенное лицо, рассмеялся и резво побежал к низинке, куда стекала сжиженная атмосфера, похожая сейчас на расплавленный металл. Дед поставил неведомо откуда взявшийся чайник на камни, меж которыми искрился светящийся ручей. Через минуту-две в чайнике закипела вода. Крышка чайника запрыгала, из носика повалил пар.
Старец Рум вернулся к нашему камню-столу и налил в стаканы дымящийся паром чай. Я отхлебнул раз, потом другой, и заговорила память былых времен, закружилась голова от сладкого аромата. Попивая чай, Дед Мороз причмокивал и блаженно жмурился. «Сластена и лакомка», — подумал я и невольно воскликнул:
— Капитан! Вспомни же наконец себя. Это же ты, наш лучший капитан-световик. Вспомни нашу галактику с ее космическими морями и наш фрегат под световыми, звездными парусами. А помнишь, как мы в твоей каюте пили точно такой же чай? Чай-то ты вспомнил, его прежний аромат. А себя? Себя вспомни!
В лице деда что-то дрогнуло, в глазах мелькнула тень. «Вспоминает, — надеялся я. — Копается в своей потревоженной памяти».
— Нет. — Подумав, дед пожал плечами. — Что-то вроде шевельнулось… Но это не то. Совсем не то. И откуда у тебя такая странная мысль?
Я высказал предположение, что капитан после Великого Ничто, в котором одновременно побывал и я, случайно попал в далекое, очень далекое прошлое вот этой ныне скончавшейся Вселенной. Звездный мир был тогда в расцвете своих сил, и капитан прожил вместе с ним несколько земных жизней на разных планетах. В этих метаморфозах немудрено утратить память о своей бытности капитаном звездного фрегата. Наконец в своей последней жизни он вернулся — такие случаи в космических судьбах бывают часто — к телесному облику капитана. А главное — вернулся его прежний душевный строй и привычки, которые так знакомы мне.
— Нет, это не про меня, — рассмеялся дед. — Капитаном я никогда не был. Но хорошо помню, что был профессором университета. И вот однажды весной меня поразила рассада растения, похожего на помидор. Рассада росла в горшочках на моем письменном столе. Работая, я наблюдал, как растение медленно поворачивает свои бледно-зеленые, еще хиленькие листики к свету, словно выглядывает в окно. Растение будто охорашивается, улыбается и тянется, так и тянется к солнцу, ловит и пьет его лучи. Оно живет и ощущает! И вдруг меня озарило — это же первое ощущение и первое, еще робкое пробуждение космической души!
— Космической души?
— Вот именно. Что такое звезды, галактики, планеты? Груда камней и хаос беснующейся огненной плазмы? Ничего подобного! Это материальное обличье, физический вид космической души. Она сначала спит глубочайшим сном, сходным с полным небытием. Но с развитием и усложнением материи, с появлением первого зеленого ростка у Вселенной появляется и первое, еще неясное ощущение самой себя. А с появлением мыслящего духа Вселенная начинает уже мыслить и осознавать себя. Она начинает видеть себя нашими глазами.
Капитан фрегата, а это был, несомненно, он, со своим пристрастием к «высшим силам бытия», уселся на своего любимого конька и помчался, поскакал так, что трудно было бы его остановить. Сейчас, правда, его метафизические настроения обогатились новыми мыслями, приобрели профессиональный вид. Что ж, он побывал профессором. Это сразу видно. Вот он сидит рядом со мной — капитан, профессор и Дед Мороз. Жмурясь и попивая чаек, он добродушно посмеивается над крайностями идеализма и материализма.
— Материалисты попали в дурацкое положение. Они утверждают, что мысляший дух возник из мертвой материи внезапно, как-то сразу, возник из ничего. Это же акт божественного творения! Мистика! Идеализм я тоже обвиняю в односторонности и мистике. Нет, мир не идеален и не материален. Он един. Он не только бездумное мерцание звезд и кружение электронов. Он — пробудившаяся в живых организмах душа, он — мысль, ибо наша с тобой мысль проистекает оттуда. Наши с тобой самые тонкие чувства тоже оттуда, из Вселенной, породившей нас.
— И красота оттуда?
— Именно, именно! И красота оттуда! — подхватил старец. Он внимательно посмотрел на меня и рассмеялся. — Понимаю. Кажется, я имею дело с творцом прекрасного. Композитор? Поэт?
— Я художник.
— И отражаешь красоту мира, проникаешь в его душу? Замечательно. Странно: все согласны, что наш духовный мир отражает мир физический. Но все забывают, что наша душа не только отражение Вселенной, но и ее продолжение, о чем свидетельствует и наше с тобой вечное бытие.
— Однако бестелесное, нематериальное, — напомнил я.
— Не совсем так. Мы с тобой такая же объективная реальность, как и весь звездный мир. Мы реально существуем…
— И в то же время не существуем, — ввернул я.
— Да, нас как бы и нет. Вот это мне не совсем понятно. А вот это? — Дед снял с чайника крышку и постучал ею по камню. — Слышишь? Звенит. Но ведь в физической действительности нет ни крышки, ни звона. Что это? Продолжение моего «Я»? Эманация моей памяти? Моя мечта?
Сколько времени мы беседовали? Два-три часа? Или по календарю Вселенной прошли годы? Только вдруг холодом повеяло, в мире как-то разом все изменилось. Те две бледно-голубые звездочки, еле видимые издали, поискрились, померцали и на наших глазах погасли, испустив последние лучи. Догорало топливо и в нашем солнце, в нашем «камине».
Дед Мороз сник, сгорбился и, зябко поеживаясь, снова надел меховые рукавицы.
Ранее весело гремевшие меж камней ручейки и реки жидкой атмосферы, еле-еле светясь, вяло шевелились. Но вскоре погасли и замерзли совсем. Наступила тишина и сгустилась тьма.
— Умерла планета, — с грустью промолвил старец.
Солнце еще жило. Но уже не полыхали протуберанцы, струйные потоки на экваторе замедляли течение, исчезали воронки. Фотосфера, словно подергиваясь пеплом, туманилась, темнела и погасла совсем. Последний светильник Вселенной померк.
— Все. Умерло и время, — загадочно сказал Дед Мороз. — А время — душа мира. Погрузились душа и время в тягчайший сон, в глубокую нирвану.
— Ты, дедуля, говоришь что-то непонятное.
— Поразмыслишь, сам поймешь, — как-то скучно ответил дед.
Мы перестали видеть друг друга, но еще долго сидели на каменистом выступе. Молчали. И вдруг не так далеко перед нами возникло странное видение — средневековый замок с зубчатыми стенами, с бойницами, башнями и переходами между ними.
— Слетаются, мерзавцы, — с ненавистью заговорил дед. — Торжествуют, гады.
— Что за гады и что за мерзавцы? — спросил я. — Чья-то эманация? Проекция памяти?
— Да, такое же миражное порождение чьей-то памяти, как наш чайник. Что за гады, спрашиваешь? По случаю кончины Вселенной там собираются черные силы. Или рыцари тьмы, как они себя называют., Рыцари зла.
— Любопытно.
— О, раньше было очень любопытно. Ежегодно слетались сюда интересные рыцари — бывшие ученые и философы, такие же бестелесные духи, каковы и мы сейчас. Но какие страсти, какие жаркие споры! Ну прямо как в земной жизни. Собирались в замке в основном сторонники странной концепции: движение и жизнь, по их мнению, болезнь, ее лихорадочный жар и судороги. То ли дело нынешняя мертвая Вселенная, ее вечный покой. А покой — гармоническое равновесие бытия. Это совершенное бытие, которое уже ничего не вожделеет, ни к чему не стремится. Мир пребывает в счастливом равновесии и покое. Говорили, конечно, ерунду. Утешали себя, что ли? Но с ними было интересно поспорить. А сейчас? Куда все девалось? Да, выродились рыцари тьмы в рыцарей зла. Собираются сейчас какие-то подонки и устраивают ежегодные пиршества зла.
— Посмотрим? — предложил я.
Старец согласился. У главных ворот, освещенных чадящими факелами, нас встретила стража — закованные в доспехи рыцари с алебардами. Нас не только пропустили, но и приветствовали как своих.
— Дед Мороз с оруженосцем Вьюгой, — хохотали рыцари. — Это вы заморозили Вселенную? Заходите.
Мы вошли в зал и встали в неглубокой нише. Все здесь дышало средневековой стариной. Стены сложены из грубо отесанных камней, пол выложен выщербленными плитами. Однако сам зал, довольно внушительный по размерам, освещался не факелами, а роскошной хрустальной люстрой. Бросался в глаза и другой анахронизм — длинный, сверкающий коричневым лаком стол и напитки всех времен и народов. И гости здесь тоже выходцы из всех эпох. Но лишь около десятка из них щеголяли плюмажами на шлем и блестящими рыцарскими доспехами. Остальные же были в той одежде, к какой привыкли в своей послед-, ней вещественной жизни. Здесь можно увидеть все, начиная чуть ли не со звериных шкур и кончая униформой служащих межзвездного флота.
— Но почему они все такие же двуногие, как мы с тобой? — спросил я. — Неужели не было негуманоид-ных рас?
— Есть и такие. Ты просто не заметил.
И верно, из толпы поднялся вверх какой-то полупрозрачный шар, подплыл к люстре, осмотрел ее, пощупал гибкими отростками и опустился вниз. Изучал, видимо, незнакомое ему устройство. На длинных щупальцах с присосками лениво передвигался еще один тип, похожий на спрута.
— Ждут еще одно страшилище, — сказал мой спутник. — Знавал я его. Ум холодный и бесчеловечный, но просчитывающий варианты быстрее любой машины. Это он вычислил, что достаточно из всех галактик убрать всего лишь по одному атому водорода, и Вселенной придет конец. Масса ее станет ниже критической, и она не сложится в первоатом, а будет вечно расширяться, гаснуть и замерзать. Уверяет, что он и сделал это. Убил Вселенную. Врет, конечно, хвастун. — Помолчав, старец добавил: — Гордится, что он представитель болотной цивилизации. Ведь его планета была сплошным болотом.
В зал вошел глашатай — рыцарь с алебардой, поднял руку и провозгласил:
— Убийца Вселенной Великий Вычислитель! Оркестр в галерее над нами заиграл туш. Под звон литавр и приветственные крики в зал, передвигаясь на задних лапах, вошла громадная жаба грязно-зеленого цвета. На ее широкой морде светился прямоугольник с мелькающими цифрами и формулами. Ну точь-в-точь экран вычислительной машины. Оценивающим взглядом мутных глаз жаба осмотрела рыцарей, мгновенно вычислила их интеллектуальный уровень и решила, что с такими недоумками можно не церемониться. Из емкой, как медвежья берлога, пасти Великий Вычислитель метнул извивающийся и невероятно длинный язык, схватил им из вазы яблоко и отправил в рот. Из жабьей пасти потекла слюна, послышалось громкое чавканье. Рыцари с изумленно раскрытыми ртами замерли: какое неприличие! Вычислитель пожевал-пожевал и поморщился: невкусно. Вместе с густой и вонючей слюной он выплюнул недожеванное яблоко. Да так метко, что плевок влетел в разинутый рот какого-то рыцаря в камзоле.
— Осторожнее, хам! — взревел рыцарь и схватился за шпагу.
Не обращая внимания на ропот и негодующие возгласы, жаба передними короткими лапами взяла со стола бутылку, отбила о каменистый выступ горлышко и отправила вино в пасть. Прополоскав рот, Великий Вычислитель сплюнул и облил еще одного рыцаря.
В зале поднялись крики, назревал скандал. Но тут у входа появился глашатай, стукнул алебардой об пол и торжественно возвестил:
— К нам пожаловал рыцарь зла из другой Вселенной, герцог тьмы со своим верным оруженосцем.
Все замолкли и с любопытством уставились на вход. Рыцарь зла из другой Вселенной, да еще с таким пышным титулом — явление уникальное.
Оркестр заиграл марш. Под медленно звенящие звуки труб, под барабанную дробь появился… Боже мой! Старпом! От неожиданности я отшатнулся и заморгал. Но, справившись с замешательством, стал внимательно наблюдать за старпомом.
Он был великолепен. Он — весь сияние. Сияла улыбка, сияли золотые аксельбанты, серебряные погоны, ордена. Сняв сияющие лайковые перчатки, старпом радушно пожимал руку каждому гостю и обменивался с ним несколькими словами. Не так быстро, как Великий Вычислитель, он обнаружил, что умственное развитие рыцарей, увы, не оправдало его ожиданий. Ни одного близкого по духу идейного мученика зла. Так, заурядная уголовщина.
Старпом сразу как-то потускнел, поскучнел и собрался, видимо, уходить, как вдруг заметил нас. Меня он узнал сразу. Это было видно по его насмешливо дрогнувшим губам. Но мой спутник заинтриговал его и озадачил. Продолжая прерванное знакомство с рыцарями, старпом то и дело посматривал на Деда Мороза, и на губах его блуждала неясная усмешка. Я был уверен, что этот дьявол, прежде чем явиться на пир, обшарил все закоулки Вселенной. Мог он заглянуть и в праздничное подземелье с Дедом Морозом. По-моему, он узнал капитана, но виду не подал.
Старпом повеселел и взял на себя роль распорядителя. Призывая к вниманию, захлопал в ладоши:
— Господа, начнем пир. Но где же прекрасные дамы?
— Прихорашиваются, ведьмы. Придут, — с хохотком откликнулся кто-то.
Посмеиваясь и переговариваясь, все потянулись к веселому рыцарю из другой Вселенной. И только жаба отошла в сторону и угрюмо, даже с ненавистью, посматривала на старпома. Великий Вычислитель, вероятно, определил, что новый рыцарь по уму не уступает ему, а незаурядностью натуры намного превосходит. Да, это личность! На лбу-экране Вычислителя засуетились, запрыгали формулы и цифры, зазмеились какие-то злые багровые линии. Жаба замышляла что-то недоброе.
Наконец галерея наверху наполнилась изысканно одетыми дамами и стала похожа на цветочную клумбу. И всколыхнулась моя память, ноздри словно наполнились ароматами роз, жасмина, магнолий. Но пригляделся я к дамам — и обманчивое ощущение приятных запахов исчезло. Это были действительно ведьмы. Двух дам Дед Мороз узнал: прославились те в свое время по всей Вселенной. По его словам, одна из них — краснощекая девица в розовом платье — отличалась тем, что ради развлечения долго и мучительно пытала свою мать. Другая — величавая дама с пышной прической — знаменитая пожирательница детей, в том числе и собственных.
— Какие очаровательные и милые дамы, — насмешливо восторгался старпом.
Меня с капитаном он по-прежнему словно и не замечал. Но так и чувствовалось, что ему не терпится поиздеваться, покуражиться над своими бывшими сослуживцами. И начал он свою издевательскую клоунаду издалека, разыграв целый спектакль. Тоже, между прочим, доставивший ему немалое удовольствие.
— Дамы и господа, — обратился он к рыцарям. — Хочу порадовать вас великолепным зрелищем. Я нашел диво — олицетворение зла, тьмы и ужаса. Крысоед, распорядись!
Крысоед (оруженосец рыцаря-старпома конечно же был знакомый нам палач) вышел и вскоре вернулся с четырьмя рыцарями. Те внесли на плечах большой диван с откидной спинкой и опустили рядом со столом. На диване шевелилось мерзкое чудовище — громадный угольно-черный паук с длинными членистыми лапами и с крепкой пастью, усеянной зубами.
— Господа, он возник из космической тьмы и назвался просто Черным пауком, — пояснил старпом. — Но я дал ему ласковое имя Кеша. И знаете, почему ласковое? Он пожирает людей! Представьте, как те извиваются в его пасти и вопят, визжат. Милое зрелище. Не правда ли? Паук особенно любит жрать умных и одаренных людей. Но сам он абсолютно лишен интеллекта. Просто глупейшая тварь! Ты ведь дурак, Кеша?
— Угу, — мрачно подтвердил Кеша.
— А кушать хочешь?
— Жрать хочу, — захрипел паук. — Жрать! Жрать!
— К сожалению, здесь нет живых людей. Но Вселенная — дьявол. Она возродится и вновь создаст наделенную разумом живую плоть, эту сладенькую, вопящую от ужаса и боли пищу для тебя и… — Старпом вдруг расхохотался. — И для себя тоже! Ведь Вселенная такой же, как и ты, злющий паук, глупая и прожорливая скотина. Так что потерпи, милый, еще несколько миллиардов лет. А что для тебя, олицетворения зла, миллиарды? Ведь вселенское зло вечно и непобедимо.
Господа и прекрасные леди, — обратился старпом к рыцарям и дамам, жадно внимавшим иновселенскому гостю. Полюбился он им за веселый нрав и остроумие. — Выпьем за вечное и непобедимое зло.
Гости сели за стол. Дамы спустились вниз и, к веселому изумлению мужчин, лихо пили крепкие напитки и отпускали такие соленые шуточки, что рыцари ржали до упаду.
Старпом с бокалом в руке прохаживался по залу и вдруг, остановившись перед нашей нишей, сделал крайне изумленное лицо.
— Ба! До чего тесна Вселенная! — воскликнул он. — Крысоед, смотри. Узнаешь? — Это штурман нашего фрегата. А это… — Крысоед сверлил моего спутника острыми, как у хорька, глазами и, помедлив, заявил: — А это капитан.
— Ну конечно! Узнать его можно и в шутовском наряде.
Дед Мороз пожал плечами и смотрел на Крысоеда с таким неподдельным изумлением, что старпом насмешливо спросил:
— Что, память отшибло? Ничего, она вернется, когда Крысоед начнет пытать, прижигать спину раскаленным железом.
В лице у моего спутника что-то дрогнуло. Кажется, к нему начала возвращаться далекая память. Он закинул руку назад и под шубой пощупал спину. Появились, видимо, шрамы. Вспомнил он их, вспомнил и все остальное, связанное с прежней жизнью: китель с погонами, брюки с алым кантом, фуражку с кокардой. Шуба, шапка, валенки, затуманившись, исчезли, и вместо них возникла форма капитана.
— Наконец-то. Умница, — усмехнулся старпом. — Кеша, как ты называешь умных людей?
— Разумная протоплазма. Вкусно, — жадно прохрипел паук и протянул к капитану мохнатую лапу.
— Подожди, Кеша. Сейчас они невкусные. Их просто нет. Но потом…
Рыцари и дамы звенели бокалами, закусывали и с любопытством посматривали на меня с капитаном, на паука и Крысоеда. Многого они не понимали. Но зрелище, видать, им здорово нравилось.
— Да, да! Потом все вернется, — продолжал старпом. — Не думай, капитан, что в погребе с елкой ты вечно будешь торчать замороженным придурком. Нет, ты вновь оживешь во плоти, станешь вкусным — и в зубах паука завопишь, вполне оценив диктат материи над духом.
— Ты тоже считаешь, что мертвая Вселенная оживет? — с надеждой спросил я.
— А ты как думал, художник? Нет, дьявол хитер. Сейчас он просто отдыхает и накапливает силы. Через миллиарды лет он проснется и закружится электронами и планетами, запылает звездами. И начнет снова творить, созидать — с тем чтобы вдоволь потешиться, полюбоваться, как созданный им мыслящий дух будет выть в тоске и отчаянии, как будет вопить от боли ожившая материя. Вселенная такая же злобная и прожорливая скотина, как и Черный паук. — Старпом замолк, пораженный какой-то внезапно пришедшей мыслью. — Кеша, ты паук и, стало "ыть, можешь плести паутину. Так?
— Угу.
— Сделай это.
Рыцари и дамы с интересом смотрели на паука. Двигая челюстями, тот перетирал что-то, чмокал и чавкал. Готовил, видимо, паутину. И вдруг лапой вытянул откуда-то из себя серебристую тонкую нить и подбросил ее вверх. Нить прилипла к высокому своду зала. Паук живо взобрался по ней к потолку, потом спустился по другой, уже новой паутинке. И замелькал паук вверх и вниз, как челнок в ткацком станке. В середине решетки он закружился сужающимися кругами. И паутина готова.
— Молодец, — похвалил старпом и показал на капитана. — А теперь накинь эту сеточку на него. Он в ней овеществится и станет вкусным.
— Вкусным. Очень вкусным, — радостно заурчал паук.
Не успел капитан опомниться, как очутился в липкой паутине. Я пытался освободить его, но упругая и липкая паутина оказалась крепче стальной проволоки. Капитан извивался, но его отчаянные усилия ни к чему не привели.
— А ты сбрось ложноматериальное обличье, — посоветовал я. — Стань свободной мыслью. Исчезни.
— В том-то и дело, что не могу. Тут что-то новое. А ты беги. Видишь, паук готовит еще одну паутину.
— Не оставлю я тебя.
— Я все еще командир фрегата. — В голосе капитана зазвенели повелительные нотки. — Приказываю немедленно бежать.
— Кеша, художник может сбежать. Оплети его скорей. Не мешкай. Ну, скорее же!
Паук, перестав чавкать, недовольно проурчал:
— Не торопи… Подонок.
Старпом опешил. Он покраснел, с накипающим гневом стиснул кулаки и вдруг расхохотался:
— Ну умора! Ну ты и откалываешь номера, Кеша. Да с тобой весело!
Но рыцари и дамы выскочили из-за стола, окружили паука и кричали:
— Он оскорбил герцога! Наказать его!
— Господа! — Старпом поднял руку. — Это он по глупости ляпнул. Он хороший. И смотрите, какой проворный. Художник уже трепыхается в сетке.
Захмелевшие рыцари и дамы, хохоча и приплясывая, завертелись вокруг нас подобно нечистой силе. В этом шабаше Великий Вычислитель участия не принимал. Он стоял в сторонке, внимательно рассматривая старпома, меня с капитаном, паука и плел свою «паутину» — что-то вычислял, на его светящемся экране скакали формулы и цифры.
А рыцари и дамы плясали, вертелись вокруг нас и кричали:
— В темницу их! Пытать их!
— Господа, — сказал старпом. — Сейчас они неуязвимы. Но может быть, Кеша сумеет овеществить их и скушать? А, Кеша? Подумай. А пока отведите их в темницу.
В углу зала рыцари открыли люк и по выщербленным ступеням стащили нас вниз. В стене, в расщелине между камнями, они закрепили два факела. Осветилась страшная картина: сырые неровные стены, топоры, клещи, крючья и другие орудия пыток, человеческие кости на полу. Паук сплел еще две сетки и еще крепче опутал нас. Рыцари полюбовались, как мы с капитаном болтаемся под потолком, похохотали и ушли, тщательно закрыв люк.
Мухи в липкой паутине — так мы выглядели с капитаном, когда еще какое-то время отчаян барахтались, пытаясь вырваться на свободу.
— Бесполезно, — сказал капитан и, желая подбодрить меня, добавил: — Пока бесполезно.
— А сумеет паук овеществить нас?
— Вот это уж никак. Старпом просто пугает.
Мы замолчали. Тишина. Лишь с потолка изредка падали капли воды, да сверху, из зала, доносился еле слышный гул: пир продолжался.
Стена перед нами неожиданно затуманилась, и сквозь нее просочился Великий Вычислитель. Глядя на капитана, он заполыхал на своем экране разноцветными кругами. Капитан жестами показал, что ничего не понимает.
— Ах да! — заговорила жаба. — Забыл, что ты звуко-говорящий. Я ведь узнал тебя, профессор Рум. Слышал на галактическом симпозиуме твой доклад о единстве идеального и материального. Так себе теорийка. Не убеждает.
— Ты все еще вульгарный материалист? — удивился капитан.
— Не вульгарный, а последовательный, — обиделась жаба.
— А как же расцениваешь наше нынешнее идеальное состояние?
Этот вопрос поставил Вычислителя в тупик. Он хмурился и с натугой напряженно размышлял, что было видно по лихорадочно скачущим формулам и цифрам.
— Признаюсь, не могу понять, — выдавила из себя жаба. — Тысячи лет пытаюсь осмыслить и вычислить. Не получается.
— В том-то и дело, что не все поддается вычислениям. Своими абстрактными категориями, формулами ты разрушаешь живую ткань природы и получаешь мертвые структуры. И сокровенная тайна ускользает, уходит, как вода сквозь песок. Нет, душу Вселенной можно почувствовать только душой.
— Ну и мастак ты поговорить, — проворчала жаба. — А я ведь пришел не для диспутов. Я пришел освободить вас.
— Ты же рыцарь зла. Ты с ними. Слышишь, пируют?
— Ах, эти… — Вычислитель презрительно махнул лапой. — Дурачье. Только один там выделяется. У, как крупно выделяется, негодяй. Этот… Как вы его называете?
— Старпом.
— Умен, каналья. Очень умен. Но непонятный.
— Не вычисляется? — насмешливо спросил капитан.
— Да, сложный тип. Вот художник, — жаба показала лапой на меня, — считает его злым как дьявол.
«Угадал, мерзавец», — пронеслась у меня неприязненная мысль.
— Не угадал, а вычислил. — Жаба нахмурилась, что было видно по серым, мрачным тучам на ее лбу-экране. — И не называй меня мерзавцем. Я пришел с добром, а вы…
— А ты поклянись, что вычислил нам добро, — вмешался капитан. — Поклянись!
— Клянусь Великим и Святым Болотом! — вскинув лапу, торжественно произнесла жаба и вдруг спохватилась.
— А, попался, голубчик. Клятва произнесена, и отступать уже нельзя, — рассмеялся капитан и, обратившись ко мне, пояснил: — Более святой-клятвы у него нет. Это его слабость.
— Не слабость, а принцип, — возразила жаба. — Тебе, профессор Рум, я вычислил счастливую судьбу на счастливой планете. И мне там будет хорошо. Ах, какое там чудное болото! Ко мне сквозь все времена и пространства из всех уголков Вселенной текут, так и текут гравитационные и другие волны. И я вижу сквозь мглу веков и пространств, пока неясно, эту чудесную планету. Художник попадет туда не сразу. Но попадет и найдет то, что давно ищет, — покой, домашний уют, своего рода тепленькое болото! Хе! Хе! Хе! — Жаба затряслась то ли в ироническом, то ли в одобрительном хохотке. — Мне там будет вроде ничего, приятно. Пока не пойму. А ты, художник, не заскучаешь там? Да уж ладно. Ты давно жаждешь уюта и покоя. Вот и получишь сладенькую жизнь. Хе! Хе! Хе! И не бойся, художник, нет на твоем пути никаких вселенских катастроф, потому что ты сам… — Жаба на минуту задумалась и озадаченно произнесла: — Странно, ты сам — катастрофа.
— Какая чепуха, — сказал я вслух, зная, что мою тайную мысль жаба все равно вычислит.
— Это не чепуха, — пробормотала жаба, задумчиво глядя на меня. — Что-то есть в тебе такое-этакое… разрушительное.
— Ты уж и старпому вычисли хорошую судьбу, — попросил капитан.
— Э нет, моя клятва старпома не касается! — Жаба оживилась, на лбу ее задергались цифры, зазмеились какие-то зловещие линии. — Я ему вычислил такое, что он долго будет выть и рычать. Хо! Хо! Хо! Именно выть и рычать — потому что будет он чудовищем, доисторическим тиранозавром! И его самого тиранить примется его слуга!.. Хо! Хо! Хо!..
Жаба разразилась таким жутким и мерзким хохотом, что мне стало не по себе. Не позавидовал я старпому. «И за что жаба ненавидит его? — думал я. — За то, что он сильная личность? Или за то, что не вычисляется?»
— И за то, и за другое! — рявкнула жаба. — И хватит о нем. Поговорим о пауке. Вычислил я его. Он не возник естественным путем. Это чья-то злая выдумка. Паук попал в свою стихию, в черноту мертвой Вселенной, эволюционировал, усложнился. Потому и паутина его кажется волшебной и неразрушимой. А все просто. — Вычислитель полоснул по паутине своим длинным языком и рассек ее как бритвой. Освободив нас, он сказал: — Любопытно бы поговорить с тобой, профессор Рум. Да и с художником тоже. Но бегите, пока дураки рыцари не хватились. Летите в разные стороны. В разные! Вы еще встретитесь. А старпомчик-то ваш того… — Вычислитель удовлетворенно потирал передние лапы. — Он на другой планете будет скакать, дико выть и рычать от злобы. Хо! Хо! Хо!
Мыс капитаном пожали друг другу руки и под мерзкий хохот жабы разлетелись.
В могильном мраке погибшего мира я летел нестерпимо долго и наконец — жаба сдержала слово! — очутился за пределами закоченевшей Вселенной. И сразу ухнул в Великое Ничто, утонул в океане Вечности. А потом — прошел миг или неисчислимые годы — вынырнул из мрака и увидел свет.
И вот сейчас греюсь в лучах живой Вселенной, сижу на астероиде, держу в руках свиток папируса и дописываю этот странный дневник. К счастью, Мельмот Скиталец меня больше не беспокоил. Да и другие странники, богомольцы и прочие из этой братии не приставали. Видимо, поблизости их нет. Нет и картины с мальчиком. Вот это жаль, затерялись мальчик и я где-то в потоках времени От моего дивного пастушьего детства осталась лишь свирель в кармане.
Я засунул туда же свиток папируса и, почувствовав что-то неладное, огляделся. Я так глубоко и надолго погрузился в свои воспоминания, что промчались, быть может, миллиарды лет, и в мире многое изменилось. Но что? Осмотрелся еще раз и, скованный страхом, замер: фиолетовое смещение! Вселенная, юностью которой я так восторгался, постарела и завершила цикл своего развития. На смену расширению, разбеганию звезд и галактик пришло Большое Сжатие.
Это катастрофически гибнущий мир! Звезды и галактики буквально падали на меня и синели прямо на глазах. Через несколько лет… нет, теперь уже через несколько дней и часов Вселенная под напором своей тяжести рухнет, свернется в точку меньше атомного ядра и погибнет, чтобы снова возродиться в Большом Взрыве.
Привычной Вселенной уже нет… Кругом гул и рев водоворотов материи — бесчисленное множество черных дыр. Они сливались в единую сверхдыру — завывающую космическую утробу. И уже не звезды, а их беснующиеся толпы с неслыханным грохотом падали туда, гасли, исчезали… С замиранием сердца я ухнул, низринулся в черную бездну. Сознание заволокло туманом… С ужасом ждал: вот-вот оно исчезнет, погаснет навсегда.
БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ
Нет, сознание не погасло. Кругом все тот же тугой, вязкий и чудовищно раскаленный туман. Такое чувство, что я, точнее, моя не имеющая размеров мысль — внутри крохотного сгустка материи неимоверной плотности. Сгустка, который еще измерить можно. И я своей всезрячей мыслью измерил его, увидел как бы со стороны.
От Вселенной осталось раскаленное яблоко, где уже нет привычных материальных структур — электронов и протонов, ни малейших признаков элементарных частиц. Это уже не материя, а… Странная и — с точки зрения заядлых материалистов — чудовищно еретическая мысль посетила меня: материя исчезла! Она словно сгорела в адском пламени Большого Сжатия и возродилась… Чем? Как объяснить то, что со мной случилось? Расскажу, однако, по порядку.
Яблоко сжималось и свернулось в орех, потом в зернышко, потом в каплю росы и… пространство исчезло! А пространство, протяженность — неизменный атрибут материи. Вспомнилась мертвая Вселенная. Вот она-то разошлась, расширилась до бесконечности. Вспомнились и слова Деда Мороза: «Смерть Вселенной — это смерть времени и торжество пространства».
Здесь же все наоборот. Пространства нет, но зато время раскинулось бесконечностью. И я ощутил эту бесконечность в виде безбрежного и — парадокс! — не имеющего пространственных размеров океана. Океана бесконечного не в пространстве — которого уже вообще нет! — а во времени. Общий баланс пространства и времени — бесконечность. И баланс этот, эта бесконечность здесь сохранятся. Тут уж ничего не попишешь: фундаментальные законы мироздания остаются в неприкосновенности.
О, какое упоение, ни с чем не сравнимое блаженство: океан… Бесконечный океан времени! Я плыву, купаюсь в его воркующих волнах, и в уши вкрадываются шорохи листвы, песни птиц, гул городов… Да, да! Я слышу голоса и вижу образы всех цивилизаций. Материально (электронно-протонно) они, конечно, исчезли, сгинули в грохоте и пламени Большого Сжатия, но здесь, как Феникс из пепла, возникли в новом качестве. В каком? Идеальном?
«Время — космическая душа мира», — вспомнились слова того же Деда Мороза. Услышав такое кощунство, господа материалисты упали бы в обморок, а очнувшись, растерзали бы милого деда в клочья. Но что делать, если на моих глазах Вселенная пропала, пространственно свернулась в нуль и раскинулась безмерным океаном… Чего? Вот уж и не знаю, каким словом воспользоваться, чтобы угодить всем и не быть растерзанным. Из осторожности будут обходиться нейтральным термином «время».
Время здесь предстало не в обычном, так сказать, классическом виде, не в виде прямой линии от прошлого через настоящий момент в будущее. Здесь прошлое, настоящее и будущее втиснуты друг в друга и живут в Вечности нераздельно. В той самой уму непостижимой Вечности, где нет ничего непроницаемого, где все прозрачно и каждый видит себя в других, где «все во мне и я во всем», как сказал один поэт. Сквозь меня текут потоки сознания и мыслей, волны радости и печали, ликования и страха — все то, чем жил мыслящий дух, когда томился в пространстве и был закован в материю.
А я все плыву, нежусь в звучных волнах времени, взмываю на их гребни с сияющей пеной. Странной, однако, пеной — пеной видений, где вдруг возникает нечто конкретное, осязаемое. На секунду или две видел себя в образе темнокожего туземца. Я плыву в утлой лодчонке к своему острову, вижу пальмы и хижины своего племени. Но видение затуманилось, рассеялось в брызгах прибоя, утонуло уже в других волнах — волнах времени. Где и когда это было? В бесконечном прошлом или далеком будущем?
Я снова в удивительных, теплых и шумных волнах времени — и снова в кружевах пены вижу… Нет, вижу не со стороны. Я живу! Слышу гул ветра, дышу ароматами полей, босиком иду в волнующихся шелковистых травах. На холме, где густо разрослись ромашки, приостанавливаюсь, подношу к губам дудочку…
Боже мой! Это же я, тот самый парнишка-пастушок! Господи, если Ты есть, останови мгновение, верни меня в земную жизнь! Именно в эту! Но Господь Бог подарил лишь дивные звуки свирели — удаляющиеся, эхом исчезающие в неведомых далях вечности. И зеленые луговые просторы сменились синим, как июньское небо, океаном времени, где слились все жизни и разумы Вселенной, ее голоса и песни. В его волнах, в удивительных ритмах превращений исчезаю и вновь возникаю уже в иных мирах — мирах смутных, меняющих очертания, дрожащих, как перегретый воздух. И приходит сомнение: все это сон или, вернее, зыбкость зеркального отражения — отражения того, что было и что будет. Но стихия времени окунает вдруг в такую яркую жизнь, что все сомнения и мысли о зыбкости отпадают.
Да вот пример: в пенистых брызгах вынесли меня волны в реальнейший, почти физически осязаемый мир — на берег Эгейского моря… Странно, мне казалось, что я никогда не жил в архаичной Греции. Или только здесь выпало мне такое счастье? Но я все узнавал. Вдали проплыла триера, неподалеку на берегу девушки пели и славили какую-то свою любимую нимфу, по а рядом со мной на камне сидит Гераклит — мудрец древней Эллады.
— Учитель, — говорю я ему. — Я согласен — в одну реку нельзя войти дважды. Но как понять твои слова: день и ночь — одно и то же? Или вот еще: свет и тьма — одно и то же?
— Видишь блики на волне? — лукаво усмехнувшись, отзывается учитель, отзывается голосом каким-то удаляющимся, уходящим в небытие, голосом слабым и неразборчивым, как шум в морской раковине. Сам учитель, затуманившись, исчез, а голос его слился с шорохом морского прибоя и утонул в волнах, опять же в волнах времени. Ах как жаль! Было бы при случае чем поразить капитана: я жил в одно время с удивительнейшим мудрецом Вселенной.
И снова я в одиночестве качаюсь на волнах океана времени. Куда они меня несут? В какие страны и на какие берега? В радужной морской пене вижу вдруг стеклянноструйный занавес дождя, синие изломы облаков. А волны все выше, и на гребне одной из них я взлетел и очутился… на коне! На самом настоящем, всхрапывающем и рыжем, как пламя, коне. Дождь только что кончился, облака разошлись, разлетелись, как синие птицы, и на западе открылся чистый ало-розовый закат. И в груди у меня такая же алая радость: наконец-то! После долгих странствий наконец-то снова увижу Физули.
«Физули», — улыбнулся я. И за что домашние герцога де Грие, Надменного, прозвали его приемную дочь таким звучным восточным именем? За пылкий и своенравный характер, что ли? Ведь ничего восточного нет в ее северной красоте. Лоб ослепительно белый, как снег в лунном свете, мраморные, с легким румянцем щеки и синие-синие глаза. Однако прозвище привилось в замке герцога. Нравилось оно и мне. Выехал я из рощи, увидел на холме замок с чванливо высившимися башнями, и настроение у меня упало. Чванлив, заносчив и сам хозяин замка. Не зря прилипло к нему прозвище — Надменный.
Вот и он, высокий и стройный, стоит у главных ворот. К нему подводят коня, подают рог. Собрался, видимо, на охоту.
— Вон отсюда, холоп! — закричал он, увидев меня. — Слуги! Стража! Гоните его!
Откуда ни возьмись — Физули. Такая же стройная, с гордо посаженной головой. Порода!
— Отец, не холоп это, а доблестный рыцарь из знатного рода, — покраснев от гнева, возразила она. — Обедневшего рода? Ну и что? Я люблю его, и пора к этому привыкнуть.
— Слуги! Стража! В шею его! — свирепел герцог. Обида и гнев вскипели в моей душе. Но что делать?
Стража все равно не подпустит меня к Физули. Я соскочил с коня, опустился на колени и поцеловал ее длинную вечернюю тень. И, вскочив на коня, не спеша удалился.
Получилось красиво и дерзко. «У меня тоже есть гордость», — торжествовал я. Но в душе-то что творилось?! Клокотала ярость, ненависть к герцогу до того застилала глаза, что замок, роща и холмы затуманились, заструились… И опять я качаюсь на волнах океана времени, исчезаю и возникаю… Неужто все? Нет, из тумана возникает прекрасный образ Физули. И вдруг ясно вижу нашу встречу лунной ночью, ее радость и ее слезы. Мы бежали. Но нас поймали. Ее заточили в башне замка, а меня бросили в подземелье. Как мне удалось вырваться оттуда? Не помню. Словно в тусклом, запыленном зеркале, вижу свои странствия и чувствую в груди любовь, тоску и отчаяние…
И все это Великий Вычислитель сулил мне как счастливую жизнь? Обманула, подлая жаба… Но мысль о гнусной образине все испортила. Волны, словно разгневавшись, вспенились, шумно забурлили и швыряли меня из стороны в сторону. Я вижу историю Вселенной то как вечность, то как единый миг. Я живу во всех людях, и все люди живут во мне.
Наконец волны взметнулись ввысь, и океан времени выкинул меня из своего лона… в пространство! Оно не исчезло, как я полагал. Что из того, что Вселенная свернулась в крохотную росинку. Для меня, не имеющего размера, это все равно гигантский шар. И я уже знал… Откуда пришли и продолжают стекаться ко мне знания? Из океана времени, что ли? Но я хорошо знал, что ученые сгоревших цивилизаций смущенно предпочитали называть эту крохотульку первоатомом и даже первичным яйцом, хотя их всемогущий инструмент — математика, их же собственные вычисления подсказывали иную картину: первоатом (а он имеет размеры) будет сжиматься до бесконечности, до сингулярного состояния, как выражаются те же ученые, то есть до математической точки, до нуля и полного исчезновения. Многие ученые и философы пришли в замешательство. Для одних этот нуль — мистика, для других — сам Господь Бог.
Для меня это ни то и ни другое. Видимо, я был неплохим учеником Гераклита, утверждавшего, что свет и тьма — одно и то же. Я пришел к другому, поистине всеохватывающему парадоксу: бытие и небытие — одно и то же! Не бывает бытия без небытия, как не бывает света без тьмы. Тьма — колыбель солнца. Так и небытие — колыбель бытия и всего сущего: звездного сияния и лепета древесной листвы, журавлиного крика и детской улыбки…
Упоение, опаляющий восторг испытал я, увидев собственными глазами самый великий, самый фундаментальный качественный скачок, когда ничто скакнуло в нечто, небытие в бытие, когда математический нуль, перевалив через горловину сингулярности, обернулся вдруг исчезающе малой пылинкой, через мгновение — раскаленной каплей, потом яблоком, арбузом… Взрыв! Большой Взрыв! Я присутствую при рождении Вселенной.
С любопытством осматриваюсь. В данный момент Вселенная еще крайне мала, и плотность ее столь велика, что излучение и вещество неразрывно связаны, втиснуты друг в друга. Еще миг — и Вселенная-арбуз молниеносно разбухла до небольшой планеты. Из пут чудовищной гравитации рвалось на свободу излучение — свидетель первых секунд мироздания. На моих глазах рождались простейшие атомные ядра — водорода и гелия. И неизбежно возник ядерный синтез. Вселенная еще раз взорвалась, но уже исполинской водородной бомбой. Из нее вылетело несколько светящихся сгустков. Что это? Остатки, реликты океана времени? Это же реликтовые галактики! Догнать их, рассмотреть!
Но я прозевал. Вселенная-бомба разлетелась брызгами, рваными комками раскаленной плазмы, и в этой буре первичные галактики затерялись. Через минуту или две беснующийся ураган утих, и дальнейшее расширение шло уже более спокойно. Из разлетающихся облаков плазмы, из этого огненного тумана возникали галактики, звезды, планетные системы… И вот Вселенная вышла на свет Божий — в
пространстве — в своем новом протонно-электронном, то есть в вещественном состоянии. Она все расширяется и расширяется.
Капитан бы сказал, словно цветок, раскрывающий свои лепестки навстречу солнцу, Вселенная радостно развертывается и раскрывается навстречу жизни и свету разума. Да, восторгался бы он, это космическая душа выходит из глубочайшего сна, сходного с небытием, к первому, еще робкому и смутному, осознанию своего бытия.
Я сейчас с любопытством наблюдаю это великое пробуждение. Вижу, как на некоторых планетах из илистых теплых морей, из этих химических лабораторий с величайшим трудом шагнули на голую каменистую сушу растения. В тумане, похожем на банный пар, они качаются, вытягиваются в деревья. Еще немного времени, всего лишь сотенку миллионов лет, — и на материках раскинулись сумеречные джунгли. В них уже копошатся какие-то твари с органами обоняния, осязания, зрения. Материя стала ощущать, видеть себя, но мыслить — еще нет. Это потом…
Я закрыл глаза и представил, как это произойдет. В своем воображении видел, как психозой совершенствовался, а когда появились двуногие существа с прямостоящей походкой, появился и разум. Но не мгновенно, а в тяжком освоении природы — в труде. Вижу на своем экране этих первых людей, вижу с жалкими орудиями труда. Палками они сбивают плоды с деревьев, камнями выкапывают клубни. Потом стали обтесывать камни, шлифовать их. Это же сама Вселенная начала еще робко, неуклюже оттачивать и шлифовать свое умение думать! Именно свое. Через людей, но свое. Прошли тысячелетия — и возникли общества людей, расцвели цивилизации… Вот тут-то Вселенная, ее космическая душа по-настоящему пробудилась в науке, философии, искусстве…
Впрочем, я слишком замечтался. Не знал я тогда и не догадывался, что буду проклинать это пробуждение и от восторгов, присущих капитану, приду к старпомовскому нигилизму.
Я очнулся от восторженных мечтаний, от видений будущего. Природе, ее космической душе до своего «философского» осознания весьма далеко — миллионы и миллиарды лет. Пока я вижу изначальную Вселенную с неисчислимым множеством молодых галактик. Одну из них я как будто узнал, видел в фильмах пришельцев. Неужто это их галактика — Млечный Путь? На ее окраине приметил звезду с целой свитой планет. Я нырнул под клубящиеся тучи одной из них. Сверху рушились горячие потоки. «Ничего себе дождичек, — подумал я. — Не вода, а кипяток. Будь на мне телесная оболочка, сварился бы, как цыпленок».
Вода, коснувшись раскаленной докрасна поверхности, испарялась мгновенно, как взрыв гранаты. Все кругом кипело, бурлило, клокотало. Но формирование планеты в основном завершилось. На смену космической фазе ее развития пришла фаза геологическая. Я шел под толстыми и мягкими, как перина, тучами и не обращал внимания ни на дрожащие ветви молний, ни на багровые зарева вулканов. Я шел во времени, шагал в будущее, оставляя за собой миллионы лет. И вдруг тучи разошлись: я вошел в иную эпоху — под чистое небо палеозойской эры. В мелководных теплых морях и уютных лагунах уже кишела жизнь. Плавали панцирные рыбы, по дну ползали черви, копошились ракоскорпионы. Ближе к песчаному берегу, свернувшись в кольца, лениво нежились трилобиты.
Нежились… На миг мне привиделось иное. Глаза трилобитов — глаза космической души, о которой с таким умилением говорил капитан. И вот эти-то материализовавшиеся глаза души глядят в чистое небо и тоскливо вопрошают: за что? Кто и зачем втискивает мое пробуждающееся сознание в тяжкие и страдающие цепи вещества?
Восторженное настроение поугасло, и в душе поселилась тоска. Охваченный тревогой и надвигающимся ужасом, я стремительно двигался вперед и оставлял за собой миллионолетние куски времени. Скорее в другую эпоху! Остановился в кромешной тьме, увязнув в омуте. Кое-как выбрался из него и пошел, путаясь в болотных травах и натыкаясь на стволы каких-то деревьев. «Это же лепидо-дендроны», — опомнился я, когда глаза привыкли к темноте. Гигантские стволы с твердой ромбовидной корой уходили ввысь и своими кронами закрывали небо.
Я остановился и прислушался. В мглистых джунглях каменноугольного периода, хлюпая в воде, бродили огромные земноводные и еще какие-то ползающие гады. Вдруг вопли, стоны… Кто-то кого-то пожирал и, сыто урча, чавкал. «Плотоядная эпоха», — поежился я и выскочил из леса на относительно светлую поляну. В надвигающихся вечерних сумерках летали ошеломляюще огромные стрекозы, треща метровыми крыльями — многоцветными и сияющими, как радуга. Красота неописуемая! Две яркие синеглазые красавицы набросились на третью и вмиг растерзали ее. Поужинав подругой, разлетелись.
Так вот что тревожило меня: взаимное пожирание! И это капитан называл «робким пробуждением космической души»? И это «заря мыслящего духа»? Да будь она проклята такая «заря». Нет, ближе к истине старпом: это дьявол пирует и тешит свою злобу.
В душе моей поднималась ненависть к Вселенной, к этому космическому дьяволу. Я взлетел над чавкающими джунглями и помчался дальше. Летел не только во времени, но и в пространстве. В душе закипала ярость: раздавить, растоптать сатанинское пиршество!
Странно, пугающе странно: мое желание исполнилось! Сначала я почувствовал себя ветром, набирающим невиданную скорость. И стал я чудовищной силы ураганом. С грохотом и злобно веселым свистом я сметал все на своем пути. Рушились скалы, смерчем кружились вырванные с корнем деревья, выходили из берегов реки.
Я свирепел, оставляя за собой пустыню. И вдруг надо мной, в небесной выси, взорвалась сверхновая звезда и ярко осветила разгромленную мной землю. Уж не я ли взорвался от ярости сверхновой? Нет, с меня, пожалуй, хватит. Я несколько поутих, спустился на землю и понял, что бурей залетел в мезозойскую эру: кругом разорванные в клочья туши гигантских динозавров. Каких, сразу и не разберешь в месиве расщепленных деревьев, каменных обломков и песка. Да, постарался я здорово.
Я продвинулся чуть дальше, всего на десяток лет в будущее. Сверхновая к этому времени почти погасла, деревья росли, как ни в чем не бывало, в воде и на суше резвились динозавры. Следов погрома почти нет. Природа залечила раны, нанесенные вселенским ураганом, то есть мной. Мной ли? Не сон ли то был?
Я осмотрелся, и мезозой мне начал нравиться. Это эпоха вечного лета, зеленых равнин, лениво текущих рек. С холма я любовался озаренными солнцем далями. За сиреневой дымкой дремали леса, чуть ближе тихо шелестели листвой рощи из секвой, магнолий, саговых пальм. Но особенно радовало появление первых луговых трав и цветов. В них путались пчелы, чуть выше большими нетающими снежинками порхали бабочки. Знакомый, родной пейзаж! И мне захотелось слиться с этим миром, хоть чуточку ощутить его в реальных запахах, в пчелином гуле, в каплях росы.
И — странно и страшно! — желание мое как будто опять начало исполняться. В ноздри заструились сладкие ароматы, в уши хлынули самые настоящие земные звуки. Волнуясь, я подошел к реке, наклонился и… увидел себя! Я отразился в вещественном мире!
Я испуганно огляделся. Небольшой, с голубя величиной, птеродактиль с рыбешкой в клюве, взмахнув кожистыми крыльями, поднялся с берега и сел на дерево. При этом он пролетел сквозь меня, как сквозь пустоту. Я еще раз склонился над зеркалом воды и разобрался, что отражаюсь еле уловимыми, временами гаснущими контурами. Я присутствую в вещественном мире далеко не полностью, лишь своей тысячной и весьма призрачной частью.
Я подошел к дереву и гаркнул. Птеродактиль, выронив рыбешку, испуганно оглянулся, не понимая, что происходит. Итак, он слышит меня, но не видит. И хищники, если таковые встретятся, мне не опасны.
Видимо, буйный растительный мир планеты излучает такое мощное биополе, что я, оставаясь незримым духом, чуточку и временами проявляюсь. И мое зыбкое, призрачное бытие уже не столько удивляло, сколько забавляло. В форме штурмана звездного флота (а для моих глаз она проявилась полностью) я сел на пригорке и вытащил из кармана свирель, подаренную еще пастушком. Не поиграть ли? Но для кого? В этот жаркий полуденный час кругом ни души. Но вот из зарослей саговых пальм выскочил табунок динозавров средней величины — «всего лишь» шести метров длиной. Узнал я этих воришек — похитителей чужих яиц. Грациозные и ловкие, похожие на гигантских страусов, они разбрелись и короткими передними лапами начали разгребать песок. Я заиграл на свирели. Вздрогнув, воры пугливо озирались. Но кругом никого. Меня же видеть они не могли. Я перестал играть, и динозавры, успокоившись, вырыли из песка огромные яйца, передними лапами прижали их к груди и ускакали в рощу.
Моя дудочка снова запела. Я играл долго и с наслаждением. А когда сгустились сумерки, огляделся и начал понимать, что попал не в райскую долину. Из-за тучки выплыла луна, и под ее сиреневым светом прокатились по поляне две тени: какой-то хищник гнался за своей добычей. Вот, кажется, догнал и вцепился в горло. Короткий вскрик, и снова тишина.
Я встал и пошел вдоль реки. Здесь, в низинах и топях, доживали свой век гиганты уже ушедшего каменноугольного периода — исполинские земноводные гады. Тоже далеко не малютки. Вот и стегоцефалы — живые капканы. Погрузившись в болото, они выставили наружу свои огромные зубастые пасти. Распахнув их и устремив в звездное небо мечтательно неподвижные взоры, они терпеливо ждали, когда случай соизволит накормить их. Могли ждать часами, всю ночь. Но вскоре послышался топот: преследуемые хищником, панически мчались какие-то травоядные динозавры. Один из них по неосторожности заскочил в болото и угодил в раскрытую пасть. Челюсти с металлическим лязгом сомкнулись.
Я поспешно вернулся на свой холм, белевший под луной среди поляны. Но и здесь покоя не нашел. Кругом рык и шипение хищников, вопли терзаемых жертв.
Какой-то крупный динозавр, насытившись, вперевалочку удалился. Тотчас над остатками пищи закружились крылоящеры. Величиной от воробья до исполинов с восьмиметровым размахом крыльев, они с неприятнейшим скрипением и скрежетом ныряли вниз и дрались за каждый кусок падали. Сияющий диск луны надо мной на миг скрылся. Это пролетел один из мезозойских драконов. Усевшись на поляну, — прямо у моих ног, мерзавец! — он торопливо проглотил свой кусок добычи и снова полетел в дерущуюся свалку.
Я зябко поежился и на минуту закрыл глаза. В своем воображении увидел, как эта пожирающая друг друга мерзость сплошным потоком выползает из непрерывно творящей утрсбы мироздания. Из утробы дьявола, сказал бы один мой знакомый. Как не хватает здесь его самого. Вот бы он хохотал, глядя на эту мясорубку, потирал бы руки и восклицал: «Прекрасно! Как это мило и прекрасно!»
Жутко, гадко и мерзко стало на душе. Собрался уже убраться отсюда в тихие и безмятежные звездные дали, но мое внимание привлек один из грациозных любителей краденых яиц. Он выскочил из рощи, где прятался после дневного воровского набега, и во весь дух помчался через поляну. Дрогнула и загудела земля, как при землетрясении. Это огромными прыжками гналась за ним самая кошмарная химера мезозоя — многометровый тиранозавр, гроза и ужас всего живого на планете. В городе этот чудовищный кенгуру свободно бы заглядывал в окна пятого этажа.
На поляне хищник неожиданно остановился и посмотрел… на меня! Что за чертовщина! Неужели он видит меня? Может быть, свет луны придает моим еле уловимым, почти незримым контурам радужное сияние? Я пригляделся к себе. Если не сияние, то что-то похожее есть: полупрозрачное облако тумана в виде человеческой фигуры сидело на пригорке. Временами выступали зыбкие очертания кителя штурмана звездного флота. Чего доброго, и лицо можно рассмотреть! Ну это вряд ли. Ведь недавно у моих ног сидел дракон-крылоящер и не обращал на меня, на этот легкий туманчик, никакого внимания. Мало ли сейчас ночных испарений.
Однако тиранозавр своими огромными, с тарелку величиной, глазами продолжал внимательно и даже с каким-то любопытством рассматривать меня. Тут и меня взяло любопытство. Опасаться его нечего. Только что ночной жук пролетел сквозь меня, словно сквозь воздух. Физически меня здесь нет. Интересно, как тиранозавр, эта чудовищная бессмысленная туша, будет реагировать на музыку? Я заиграл на свирели. Заиграл неожиданно для себя с каким-то метафизическим подъемом, с остро волнующей печалью, зовущей в неведомые дали.
Тиранозавр реагировал… Да еще как! Его глаза, поблескивающие под луной, подернулись туманом почти человеческой грусти. Потом тиранозавр, глядя в звездное небо, начал жалобно, даже с тоскливым отчаянием подвывать. И вдруг… Невероятно! Человеческим голосом, причем голосом давно мне знакомым, заговорил… нет, завопил:
— Мерзавец! Душу терзаешь!
И еще выкрикивал какие-то слова. Это уже галлюцинация! Мне мерещится дикая несообразность. Я перестал играть. Перестал выть и повизгивать тиранозавр. Он начал прислушиваться к другим звукам.
У реки под высокими деревьями, хлюпая и плескаясь в воде, паслись мало чем уступающие по массивности тиранозавру его мирные травоядные сородичи. Кажется, то были утконосые гадрозавры. Видел я их днем. «Мой» тиранозавр, видимо, изрядно проголодался и решил поохотиться. К моему безмерному удивлению, вел он себя хитро и умно. Чтобы не вспугнуть, он не поскакал, сотрясая землю. Прячась в тени деревьев, он тихо и незаметно подкрался, с громовым рыком вскочил на спину гадрозавру, зубами вцепился ему в горло, когтями задних лап рвал его на части. Свежее, дымящееся и сочащееся кровью мясо, не разжевывая, проталкивал в глотку.
Я встал, но уйти не смог. Не знаю, что больше приковывало к месту — изумление или страх. Насытившись, тиранозавр не спеша приблизился ко мне, присел на задние лапы. Передней лапой, словно рукой, вытер окровавленные губы и голосом старпома заговорил:
— Ну что, художник? Изумлен и ошарашен? Увы, это я. Старпом.
— Не может быть! — отшатнувшись, воскликнул я.
— У этого дьявола все может быть! — взревел тиранозавр и лапой показал вверх, где, насмешливо перемигиваясь звездами, сияла Вселенная. — Видишь? Хихикает, смеется, дьявол, надо мной. Изловчился, негодяй. Втиснул мое «Я» в тушу мерзкого чудовища.
Мой жуткий собеседник был так разъярен, что обычные старпомовские ругательства перемежались шипением и рыканием динозавра. И мне стало страшно: я поверил! Да, это старпом. Старпом-тиранозавр немного успокоился. Только хвост его, со свистом рассекая воздух, в гневе метался из стороны в сторону.
— Как же так получилось? — в растерянности пробормотал я. — Это же мистика.
— В том то и дело, что никакой мистики. Гнусный дьявол, — снова жест в звездное небо, — подстроил так, что все произошло самым естественным образом. Какая-то тиранозавриха-самка, черт бы ее побрал, отложила в песок два яйца и убежала. Никакой заботы о потомстве. У нас… у них это не принято. В это время над яйцами в небе, но довольно близко, вспыхнула сверхновая звезда.
— Ты видел взрыв?
— Начало взрыва — нет. Но видел, как разбухшая звезда угасала на моих глазах. Я был тогда малюткой, но все подметил и запомнил. Все было разворочено ураганом…
— И яйца не съели воришки-динозавры? — перебил я собеседника, догадываясь, что это был за ураган.
— Я же говорю, ураган! — теряя терпение, сказал старпом-тиранозавр. — Ураган разметал и перебил всех динозавров. И как ловко получилось у дьявола. Тот же ураган, утихая, высвободил яйца от слоя песка и мусора. Ветром выложил яйца на поверхность: дескать, на! Облучай! В это время, видимо, и взорвалась сверхновая, облучила яйца каким-то особенным излучением. В положенное время из яиц вылупились малютки динозаврики, этакие мозговитые мутанты. Вот они-то и стали обителью наших душ. Представляешь, какая подлость.
— Представляю… Постой! Но кто же второй мутант?
— Как кто? — Старпом-тиранозавр испуганно огляделся по сторонам и, приблизив ко мне свою жуткую морду, с ужасом прошептал: — Крысоед!
— Вон оно что! — расхохотался я. — Вы, оказывается, единоутробные братья. Знаменательно!
— Смеешься? А мне не до смеха. Страшно!
— А чего бояться? Это же твой оруженосец, сподвижник рыцаря тьмы и зла.
— Не уживемся мы на одной планете. Рано или поздно один из нас сожрет другого.
— Не узнаю тебя. Мужественный, неукротимый дух — и вдруг трусость.
— А диктат материи! — напомнил тиранозавр-сапи-енс и лапой показал на свою многотонную тушу. — Видишь? Эта подлая тварь трясется от страха и деформирует гордый дух, заставляет его жить по своим физическим законам. Конечно, в детстве я не знал этого диктата. Вылупившись из яйца, малютка динозаврик грелся на солнышке, охотился за мелкими ящерками. Но потом пришло сознание, и подрастающий тиранозавр начал с ужасом прозревать, кто он и откуда. Наш капитан все твердил о космической душе, о гармоническом слиянии идеального и материального. Какая, к черту, гармония! Это террор сатанинской материи. Террор! — Старпом-тиранозавр философствовал то с яростью, то с какой-то иронией над самим собой. — Голод, неизбывный терзающий голод. — Окровавленные толстые губы будто скривились в усмешке. — Ум мутится от голода. Туша так и вопит: «Жрать! Жрать!» Но самое унизительное — не могу равнодушно пройти мимо тиранозаврихи-самки. Начинаю заигрывать и — представляешь? — глупо хихикать. Это уже не террор. Это уже издевательство!
Мне стало жаль старпома. Его нынешнее положение было, мягко выражаясь, столь неординарно, а душевные муки столь ужасны и одновременно смешны, что и мне беспрерывно творящаяся природа стала чудиться живым, издевательски ухмыляющимся существом. Прав старпом: это дьявол! Вселенский дьявол!
— Но что тебя заставило задержаться на этой планете? — с сочувствием спросил я. — Мог бы избежать опасности.
— О! — оживился старпом. — Мне предначертана здесь высокая миссия. Со временем на планете возникнет цивилизация тварей. Двуногих, вроде нас с тобой. И я призван сыграть там, в будущем, выдающуюся разрушительную роль. Я еще отомщу этому дьяволу. — Жест в сторону Вселенной. — Превзойду его в мучительстве и зле.
— Ты уверен, что история так и пойдет?
— Да. Все точно подсчитано.
— Подсчитано? Уж не этой ли мерзкой жабой?
— Прошу не оскорблять. Он мой друг.
— Хорош друг.
Я рассказал о том, как еще в темнице средневекового замка жаба с хохотом вычисляла для него, старпома, какую-то пакость.
— Садист Великий Вычислитель все подсчитал, — продолжал я. — И твое присутствие на этой планете, и вспышку сверхновой, и появление мутантов, и то, что их туши станут темницей для ваших душ.
Тиранозавр ошеломленно раззявил пасть, потом с лязгом захлопнул ее и прорычал:
— Да, да! Это он подстроил. Как я сам не сообразил. — Тиранозавр короткой передней лапой хлопнул себя по лбу, за которым скрывался высокоразвитый мозг. — Болван! Какой я болван! Попался в его сети!
Тиранозавр сорвался с места и начал со злобным рычанием метаться по поляне. В страхе я попятился от разбушевавшегося старпома.
— Ну подожди, проклятая жаба! — в ярости гремел он. Ругательства то и дело сменялись шипением и рыком. — Я еще доберусь до тебя. Расквитаюсь!
Тиранозавр вдруг затих и прислушался. За рощей саговых пальм что-то происходило. Пирующие там крылоящеры испуганно, со скрежетом и шумом разлетелись. Затрещали пальмы.
— Опять этот дурак деревья ломает. Привычка у него такая, — шепотом пояснил старпом.
— Кто там? — спросил я.
— Крысоед. Выследил, негодяй, — трясясь от страха, сказал старпом. Устыдясь своей трусости, он, тихо, но решительно рыкнув, добавил: — Нет, с этим надо кончать.
Старпом-тиранозавр поскакал и скрылся за рощей. Вскоре земля так загудела и задрожала, как при землетрясении. Я поднялся на сотню метров ввысь и в ярком лунном свете увидел, как два тиранозавра — старпом и Крысоед — с громовым ревом накинулись друг на друга.
На душе стало так гадко и мерзко, что я улетел еще выше и присел на Луну. Передо мной висел среди звезд темный диск планеты, окаймленный светящейся атмосферой. Там, в мезозойской ночи, разыгрывается сейчас кровавая драма. Не так уж важно, кто кого сожрет. В своих дальнейших земных воплощениях они, дьявол и палач, все равно будут вместе. Они неразлучны, как планета и спутник.
Что мне делать дальше, я не знал. С опаской подумал: а что, если мое здешнее полупризрачное присутствие возвещает приход моей новой вещественной жизни. Где? На этой планете, где старпому и Крысоеду жаба вычислила «выдающуюся историческую роль»? Упаси Боже!
Я снялся с лунной поверхности, покинул и планету с мезозойскими чудовищами, и Солнечную систему, и вообще Млечный Путь. Я вновь незримый дух, я вновь в межгалактическом пространстве.
Вот и соседняя галактика. Пришельцы, как мне помнится, называли ее Туманностью Андромеды. На ее далекой окраине нашлась для меня крохотная планетка, забытая Богом и своей матерью-звездой. Я присел на ее горный пик и осмотрелся. Куда ни кинь взгляд — несметное сонмише галактик. И все они торопятся куда-то, разлетаются в разные стороны. Большой Взрыв продолжается! И тут мне пришла мысль, от которой повеяло холодком: Большой Взрыв — не формирование мира, а наоборот — распад и хаос. Вселенная расширяется и стареет, потом начнет гаснуть и неудержимо покатится к своему концу, к той самой мертвой Вселенной, к вечному холоду энтропии. Юность Вселенной далеко позади, когда она сжималась до бесконечности и была…
А была ли вообще? Ведь бытие и небытие — одно и тоже. Если спросят сейчас, есть ли мир вообще, отвечу: он есть и его нет. И на извечный старпомовский вопрос о смысле и цели «всей этой кутерьмы», на вопрос — откуда Вселенная и зачем, напрашивается ответ: Вселенная ниоткуда и низачем. Тогда к чему все наши усилия и страдания? Ведь и я с капитаном, как и старпом, одержимы одной и той же космической страстью: докопаться до смысла и цели мироздания и наших собственных жизней. Космизм мышления, метко подмеченный пришельцами, толкает нас по одной и той же Дорожке. Все мы ищем одно и тоже. Капитан — в области мысли, я — в искусстве и творчестве. А старпом… Но он не мыслитель и не созерцатель. Он деятель. И в своем неистовстве — деятель страшный, сущий дьявол, палач… Тиранозавр!.. Кстати, где он сейчас? Вот в этот момент? Я оглянулся назад, на звезды Туманности Андромеды и заметил, что в жизни этой галактики многое изменилось. Пока я размышлял, пролетели миллионы лет. Что сейчас в Млечном Пути? Там, на покинутой мной планете? Старпом и Крысоед, пройдя ряд жутких, предначертанных жабой метаморфоз, наверняка уже внедрились в человеческое общество. И злодействуют там, резвятся бывшие тиранозавры… Впрочем, ну их к черту. И без них муторно на душе.
И полетел я к другим мирам. Может быть, наткнусь на что-нибудь радостное? Ознакомившись с сотней галактик, начал замечать, что жили они и развивались каждая по-своему, каждая неповторима и своеобразна. Дело не в их внешнем виде. Не столь уж важно, шаровая это галактика или спиральная. Важно другое. Все они, как и люди, имеют свой характер, свой нрав и повадки. Попалась даже галактика-пьянчуга. Видимо, нарушились пространственные и гравитационные связи, и брела она в бесконечных просторах шатающейся, расхлябанной походкой. В иных галактиках словно всемирные часы разладились — и в разных частях время текло по-разному, в других творилось непонятное с тяготением — появлялись пустоты, колодцы и пропасти, в которые можно падать без конца. Постаревшие галактики умирали, рождались новые.
Перебрав еще с миллион звездных систем, напоролся на чем-то знакомую галактику. И ужаснулся: замерзающий мир! Как и в моей родной галактике, здесь в пространственных пустотах и пещерах — моря и океаны. Но если у нас под молодыми звездами плескался живой океан, то здесь была застывшая льдистая масса под тусклыми, гаснущими светилами. И даже черные дыры находились при последнем издыхании. Со стеклянным звоном проглотив несколько кусков замерзшего океана, они прекращали коллапсировать и замирали, раззявив черные пасти. И вдруг опять оживали, заглатывая чахлые звезды и куски льдистого океана. И здесь жвачка! Даже мертвая материя пожирает саму себя.
И такая тоска пала мне на душу, такой поселился в ней холод и ужас, что безумное кружение бесчисленных звезд казалось невиданной космической пургой, завывающей снежной метелью, унылой вьюгой. А так хочется тепла, домашнего уюта… И тихо бы грезить, уйти в вымысел — в живопись или музыку. Господи, где же тот звучный океан времени или хотя бы остатки его — реликтовые галактики? Где юность мира и тот парнишка с пастушьей свирелью? Где капитан, юнга, боцман? Разбросала нас судьба в стылой безбрежности времен и пространств…
Наконец-то! Вот мир, готовый, кажется, приютить, обогреть озябшего путника. Вот галактика, где звезды весело перемигиваются и дружески улыбаются мне, а на планетах, в их морях, в тихих заливах и лагунах цветут необыкновенно красивые лилии и розы. Может быть, это дивные города? Подлетел ближе и увидел, что не города это, а исполинские распахнутые зубастые пасти, издали похожие на цветы. С шипением и свистом они набрасываются друг на друга и жрут, чавкают…
В ужасе я отпрянул от кошмарного цветника и улетел так далеко, что очутился, кажется, на краю Вселенной. Промчался было мимо одной шаровой, чуть сплюснутой галактики. И что-то необычное почудилось в ней. Вернулся. И сразу же наткнулся на удивительную звезду — в ее протуберанцах и огненных языках не нашел ни одного атома водорода или гелия.
Вообще ничего привычного. Кажется, до Большого Взрыва, в юной и точечно крохотной Вселенной, видел я такую материю. Если это вообще материя. А что? Океан времени и разума? Его остатки, выброшенные первичным взрывом? Его реликтовые клочки? Все может быть. В звезде, в ее пламени и лучах чувствовал что-то гостеприимное, неравнодушное к присутствию мыслящего духа, то есть ко мне.
Нет, не такая уж она гостеприимная. Звезда вдруг взорвалась с такой силой, что я отлетел и уже издали с изумлением наблюдал за ее поведением. Сначала это была обыкновенная сверхновая звезда. С взрывоподобной, почти световой скоростью расширяясь, она сбрасывала с себя внешние покровы в виде пламени и вихрей раскаленного газа. Потом начала быстро опадать. Сейчас она, как и положено, свернется в белого карлика размером с Луну. Или вообще сколлапсирует, исчезнет и станет черной дырой.
Но ничего подобного, ничего привычного не произошло. Звезда вернулась в свое прежнее состояние, светила ровно, спокойно и как будто даже гордясь тем, что сотворила. А сотворила она удивительные вещи. Не газовую туманность в виде раздувшегося пузыря. Она создала… Планетную систему? Нет, не то. Это клочья сброшенного раскаленного газа чуть сгустились и вращались вокруг звезды. Еще немного и… облака! Это же космические кучевые облака. Белобокие пухлые красавцы тихо вращались вокруг своего солнца подобно планетам.
Я подобрался к одному такому облаку и вместо раскаленного газа нащупал что-то приятно прохладное и нежное, как тополиный пух. Опять почуял нечто неравнодушное ко мне, доброе и приветливое. Пожалуй, коварно приветливое. Я начал понемногу различать себя, видеть выступающие из тьмы пальцы рук, пуговицы кителя и чувствовать свое тело. Неужто овеществляюсь?
В страхе я отскочил и улетел так далеко, что упустил из виду звезду с коварными кучевыми облаками. Она затерялась среди других светил. И некоторые из них были с такими же облаками-планетами. Но мне уже не до них. Со мной происходило непонятное и пугающее. Я начал задыхаться! Моим легким нужен воздух! С ужасом прозревал, что здесь, в безвоздушной космической пустоте, я оживал, обретал биологическое тело. И падал, я стремительно падал к центру галактики. А спасение, я уже понимал это, только в одном — снова прикоснуться к такому же колдовскому облаку, вдохнуть его пары. Но как его найти? Я же неуправляемо падал, и встречные звезды пролетали мимо.
Среди вихря промелькнувших светил наконец-то совсем рядом увидел звезду, похожую на солнце, с тремя облаками. Я влетел в ближнее ко мне облако, в его ослепительные мягкие горы, и почувствовал облегчение. И в то же время — потяжеление своего тела. Но сначала я, снижаясь в сиреневой мгле облака, еще парил, как птица. Потом неудержимо падал вниз и с такой же неудержимостью овеществлялся и тяжелел. Облако поредело, разошлось, и — о ужас! — подо мной земля, зеленые луга, рощи. А я падал камнем. Расшибусь! Вот уже верхушка дерева. Я цеплялся за его ветви, пытаясь смягчить падение. Листва шумела, трещали ветки, и я врезался в густые заросли травы. Кажется, жив! Только левый рукав кителя разорван, а из раны на локте сочилась кровь. С неизъяснимым наслаждением я почувствовал боль, давно забытую земную боль.
Я встал, выбрался из зарослей травы и ступил на тропинку.
ПЛАНЕТА СЧАСТЛИВАЯ
Тропинка привела к деревянному мостику, перекинутому через небольшую речку с топкими, заросшими осокой берегами. На противоположном берегу к перилам мостика прибита дощечка, на которой я прочитал странную надпись: «В нашей стране сбудутся все твои мечты и желания».
А желание у меня сейчас только одно — поесть. Нестерпимый голод терзал мой желудок. Я голодал уже миллионы лет. Я срывал с кустов малины сочные, спелые ягоды и горстями отправлял в рот. Голова сладко кружилась, но ягоды не насытили, а лишь распалили голод.
Тропинка слилась с пыльной дорогой, которая привела меня в небольшую деревню. Я насчитал десятка три изб — новых, добротных, с затейливой резьбой на окнах. Но за окнами никого не заметил. Никого нет в огородах и садах. Только шумные ребятишки носились по улице.
Увидели они одинокого путника и налетели на него, как голодные комары. Мальчишки и девчонки роем кружились вокруг меня, с визгом приплясывали и вопили:
— К нам с неба упал моряк! Моряк с неба бряк! Ур-ра!
— Где же взрослые? — спросил я.
— В поле. Идем.
Ребятишки вцепились в полы моего кителя, в рукава и шумной гурьбой повели меня в поле.
— Анютка! — закричал черноволосый парнишка. — Моряк локоть расшиб. Помоги. Ты мастерица.
Анютка, остроносая девчонка с белым платком на голове, побегала по поляне, порыскала вокруг глазами и отыскала какую-то траву. Она приложила к моей ране широкие листья, и те приклеились, как пластырь. Боль исчезла. «Ловко», — подумал я.1 За рощей открылось поле, где под жарким солнцем искрилась, колыхалась тяжелыми золотыми волнами пшеница. Урожай, по всему видать, отменный. Мужчины косили, женщины с песнями подбирали стебли с колосьями, вязали снопы и складывали их в скирды. И все у них получалось быстро, ловко и ладно. «Сельский рай», — усмехнулся я.
— Бабы, смотрите! — рассмеялась краснощекая молодуха. — Еще один небожитель!
Крестьяне и крестьянки, побросав косы и снопы, столпились около меня и наперебой спрашивали:
— Где упал? За рекой? Там у нас дыра какая-то. Часто падают. Есть хочешь?
— Да кто вы такие? — спросил я.
— Такие же небожители, как и ты. Только мы уже давно здесь. Устроились хорошо. Удивлен, почему работаем без машин? Ни к чему нам эти вонючие тарахтелки. Без них приятнее.
— Объясните, что это за мир такой? Снаружи облако, а внутри планета.
— Вот этого, милый, не знаем. Был у нас только что старец с парнишкой. Он объяснял, но мы ничего не поняли. Говорил он о звездах, о каких-то… Как их? Реликтах.
— О реликтах? — Сердце у меня учащенно забилось. Неужто он? — А как звать старца?
— Старец Рум.
— Это он! Капитан! Давно ушел? Куда?
— Да ты не торопись, морячок. Пообедай с нами. Помним, какие мы были в первые дни. Голодные как волки. — Крестьяне и крестьянки, показывая в небо, смеялись. — Ох и наголодались мы там. Хватит.
— Дорогие мои небожители, отпустите. Догнать мне надо старца. Это же мой капитан. По какой дороге он пошел? Покажите.
Показать вызвалась все та же шустрая Анютка. Прихватив каравай хлеба, она вприпрыжку помчалась по пыльной дороге. Я еле поспевал за ней. Минут через пять она сказала:
— Вот они.
Чем ближе мы подходили, тем больше падало у меня настроение. Какой же это капитан? Обыкновенный нищий — в лаптях, с котомкой за плечами и с посохом в руке. Рядом с ним шагал босоногий подросток. Нищие оживленно переговаривались, и вдруг подросток воскликнул:
— Клянусь Аларисом! Ты ошибаешься, капитан. Это же юнга!
— Малыш! Капитан! — окликнул я их.
И тут Анютка в страхе попятилась и присела. Ей показалось, что на меня накинулись с целью задушить. Капитан, прослезившись, бросился обниматься. А юнга повис у меня на шее и, болтая ногами, визжал:
— Штурман! Клянусь Атарисом! Наш штурман!
— Да объясните, в чем дело? Как вы докатились до нищенства?
— Я профессор университета, — усмехнувшись, с достоинством ответил капитан. — А юнга учится на курсах. Сейчас у нас каникулы. И мы вот так отдыхаем.
— Ну и причуды у тебя, капитан. То Дед Мороз, то нищий.
— Все надо изведать в жизни. И нищим побыть приятно. Тут обоюдная радость. Крестьяне с удовольствием подают милостыню, а я в благодарность объясняю мир.
— Ничего они не поняли. Да и я сбит с толку.
— Нам попалась уникальнейшая реликтовая галактика, — сладко жмурясь, заговорил капитан. — В ней нагляднее, чем в других островках Вселенной, проявляется космическая душа.
Старец Рум, а ныне вновь капитан, да еще и профессор, прочно усаживался на своего любимого философского конька. «Все пропало, — уныло подумал я. — А так есть хочется». Юнга, знавший слабость капитана, рассмеялся и остановил его:
— Капитан, штурман так и пожирает глазами твою котомку. Он голоден, как черная дыра.
— Ах да! — опомнился капитан.
На краю дороги, на пригорке с цветущими васильками он расстелил тряпицу и выложил сельские дары. У меня слюнки потекли: вареные яйца, сало, огурцы, помидоры. И конечно же термос с чаем.
— Вот только хлеба маловато, — пожаловался капитан.
Но тут подскочила Анютка и протянула каравай.
— Да ты молодчина, Анютка. Догадалась прихватить. Садись с нами.
Но Анютка, хихикнув, поскакала в село — новостей у нее теперь на целый день.
Я вцепился зубами в сало, потом набросился на огурцы, и ароматы их пьянили, кружили голову. Наконец-то дорвался я до радостей буйного вещественного бытия — и слушал капитана вполуха, изредка перебивая его короткими репликами и вопросами.
— Сбит с толку, говоришь? — посмеивался капитан. — Наши университетские космологи и физики не в лучшем положении. До хрипоты спорят: облако или планета? И то и другое — так я считаю. Извне — громадное космическое облако. Влетаешь — и кто-то, или что-то, предлагает райскую планету.
— Живое и мыслящее облако? Космическая душа?
— Не ехидничай. — Капитан погрозил пальцем. — Повторяю: я не идеалист. Однако и не вульгарный материалист. А что, если облако — это нечто высокоорганизованное и по-своему даже бессознательно — не смейся! — именно бессознательно мыслящее. Что это? Материя или?.. — Капитан наморщил лоб, пытаясь что-то вспомнить, и махнул рукой. — Нет, забыл. Но знаю, что это не обычная материя, а нечто более фундаментальное и первичное. Ведь наверняка эта реликтовая галактика родилась намного раньше обычных.
— Раньше! Сам видел! — подхватил я и, поперхнувшись недожеванным яйцом, замолк.
— Милый мой, вспомни, — умоляюще глядя на меня, просил капитан. — Мне самому кажется, что видел нечто грандиозное, изначальное. А вот забыл. Временами мерещится, что я возник из пустоты вместе с Большим Взрывом. Чушь, конечно.
— Не чушь, а… — И опять я замолк. В сознании моем образовался глубокий провал, и там, на дне, шевельнулось что-то, скакнули на миг какие-то далекие видения и неслыханные озарения. — Нет, капитан, хоть убей, не помню.
— Вот так и со всеми нами, — вздохнул капитан. — Бессмертный дух, родившись земным, вещественным младенцем, не помнит ничего. Он как бы в полной тьме и заново открывает мир. А мы здесь получили вещественное тело уже взрослыми и находимся в полутьме и кое-что помним. Кое-что… Нам, видимо, не положено знать главное, сокровенное. Единственное, что знаем на этой волшебной планете, — это то, что мы небожители, как выражаются крестьяне, и что мы бессмертны. — Подумав, капитан продолжал высказывать уже что-то свое, пришедшее на ум только здесь: — Более того, не только мы, но и наши мечты, творческие фантазии миллиарды веков незримо носятся в пространстве. А здесь, в реликтовой галактике, они находят свое пристанище и получают вещественное наполнение. Скажи, может быть такое?
— У этого дьявола все может быть! — взревел я, подражая старпому-тиранозавру.
Капитан и юнга с удивлением уставились на меня. Пришлось рассказать им о жутких мезозойских злоключениях старпома. Сначала меня слушали с изумлением и страхом, потом хохотали до слез, а кончили сочувствием.
— Зверюга он, каких нет нигде во Вселенной. А все же жаль его, — сказал юнга.
— А зверюга ли? — задумчиво возразил капитан и вдруг, вспомнив что-то, рассмеялся. — Теперь понятно, почему Великий Вычислитель прячется в болоте. Старпома боится.
— Вычислитель? Он здесь?
— Здесь. Построил хижину на кочках и живет в непроходимых топях. Завтра навестим его.
Заболтались мы до заката. Умолкли жаворонки, застучали в травах перепела. До чего хорошо! Опьянев от сытости и земного счастья, я плохо помню, как в сумерках добрались до университетского городка. Кажется, подвез нас крестьянин на своей телеге.
Университетский городок встретил нас шумными, подсвеченными снизу фонтанами, липовыми аллеями, новыми учебными корпусами. В отеле, куда мы зашли, на нищих посматривали с подозрением. Но когда капитан высыпал на стол горсть золотых монет, заулыбались.
— Деньги? — удивился я.
— А ты ожидал здесь райскую утопию? — улыбнулся капитан. — Нет, у нас счастливое средневековье. Крестьяне, ремесленники, ученые, художники работают немного и от души, но получают вполне достаточно. Космическое облако, — капитан ткнул пальцем вверх, — мудро рассудило, что технический век с его машинной сутолокой, дымным воздухом и оружием массового истребления вреден для счастья. Потом сам поймешь.
Нам предоставили трехкомнатный номер на третьем этаже. Мы приняли ванну и завалились спать.
Проснулся я от птичьих голосов и свежего ветерка, врывавшегося в раскрытое окно. На ветке дерева вертелась белка и с любопытством заглядывала в комнату. «Экологический рай», — усмехнулся я. После сладкого сна я еще минут десять нежился в постели. Вчерашний хмель сытости и упоения рассеялся, но сохранилось прекрасное настроение и ожидание чудес.
Капитан уже оделся. Без бороды и гладко выбритый, теперь это не нищий, а щеголеватый профессор в светло-коричневом костюме и с черным галстуком-бабочкой. Умывшись, я оделся в привычную штурманскую форму, ночью кем-то вычищенную и выглаженную. Мы с капитаном решили навестить Великого Вычислителя, который прятался здесь в болоте, опасаясь мести старпома: он вычислил старпому целую эру жизни в мезозое в виде ужасного тиранозавра, все время сражающегося с таким же чудовищем — бывшим Крысоедом.
Позавтракали в ресторане отеля. Юнга Великого Вычислителя не знал и знакомиться с этой жабой не пожелал.
— Жду вас к обеду, — сказал он.
Мы с капитаном вышли из отеля, толком не зная, каким транспортом добираться до болота. А как быть в болоте? Любая телега завязнет. Выручили большие сиреневые птицы, плавающие в университетском пруду.
— Такси свободно! — смеялись говорящие птицы.
Стараясь ничему не удивляться, я последовал примеру капитана и уселся на мягкую спину одной из птиц.
Летели мы на большой высоте навстречу встающему солнцу. Птицы изредка переговаривались с нами и между собой, смеялись удивительным серебристым смехом. Рядом такими же серебряными колокольчиками звенели жаворонки. А я пытался разгадать, кто эти пернатые дивы с приятными девичьими голосами. Представители какой-то птичьей цивилизации? Судя по тому, с какой невиданной скоростью они доставили нас к болоту, это были сказочные птицы.
Они снизились и кружили над озерками с ряской и кувшинками, над камышовыми топями и болотными кустарниками, где гнездилась шумная пернатая мелочь. Изредка попадались камышовые хижины. Их обитателей, видимо, встревожил серебристый смех и журавлиные крики наших птиц. Из жижи выпрыгивали громадные жабы, вглядывались в небо, и на их широких лбах, как у Вычислителя, светились меняющиеся знаки — то ли приветствия, то ли ругательства. Но дальше потянулись пустынные, непроходимые даже для жаб топи с редкими кочковатыми островками.
— Да вы хоть знаете, где живет Великий Вычислитель? — забеспокоился капитан.
— Знаем! Знаем! Знаменитость! — смеялись птицы.
Сели они на сравнительно сухом островке с кустарником и хилым березняком. Рядом стояла хижина из ивовых прутьев и камыша. Оттуда испуганно выглянул Великий Вычислитель.
— Не бойся. Это не старпом, — усмехнулся капитан.
— А чего мне его бояться, — пробубнила жаба. — Он выполняет предначертанную мной великую миссию.
— Однако ты предначертал ему великую пакость, — сказал я. — О, с какой яростью рычал тиранозавр! «Расквитаюсь!» — кричал он.
Вычислитель вздрогнул, на лбу его панически засуетились, заскакали цифры.
— Да не трясись, — успокаивал капитан. — Ты его не знаешь. Не поддается он твоим вычислениям. Не будет он мстить. Мне он и самому не совсем понятен. Но это человек…
— Благородный, хочешь сказать? — Жабьи губы искривились в презрительной усмешке. — Какие дикие предрассудки! Честь, благородство, нравственность… Тьфу!
— Помню! Помню! — с улыбкой воскликнул капитан. — Ничего, дескать, этого нет, а есть только материал для увлекательных вычислений.
— Этим сейчас не занимаюсь. Я отошел от дел. — Вычислитель явно увиливал от диспута, принявшего здесь непонятный и неприятный для него оборот. — Видите? Ровные ряды кочек, на них кустарники и растения. Это моя плантация, занимаюсь сельским хозяйством.
Жаба длинным извивающимся языком с невероятной ловкостью срывала с кустов и растений ягоды, слизывала насекомых и отправляла в свою емкую пасть.
— Вкусно! — жмурилась жаба. На ее широком лбу-экране тихо вальсировали голубые и розовые круги, выражавшие, видимо, высшую степень наслаждения.
— Ну а на досуге все же пробовал понять галактику с ее волшебными облаками и планетами? А наше неожиданное вещественное возрождение? Ведь вычислял?
— Ну вычислял, — буркнула жаба.
— И как? — допытывался капитан.
— Этого не может быть!
— Как —
не может быть? — рассмеялся капитан. — Все это существует реально. Ущипни себя — и почувствуешь боль.
— Ничего этого нет. Мы спим и видим сон. — Слизнув насекомых, жаба сладко зажмурилась. — Какой чудный сон!
— Боже мой! До каких банальностей ты докатился.
Мне уже изрядно надоели споры старых оппонентов. Наслушался я их еще в темнице средневекового замка. Продравшись сквозь кустарник, я ушел подальше и на другом берегу островка обнаружил наших птиц. Они плавали в воде, выхватывали мелкую рыбешку и тут же сплевывали.
— Гадость какая! У нас и рыба чище, и вода.
— Откуда вы, милые красавицы? Кто вы?
— Мы из царства сиреневых птиц. На обратном пути покажем. Это почти рядом.
Появился капитан, хмурый и недовольный. Увлекательной дискуссии с Вычислителем, по всему видать, не получилось.
— Хитрит и виляет, жабий материалист, — ворчал он. — Вот кто по-настоящему сбит с толку. Все твердит: этого не может быть, не поддается вычислению, стало быть, не существует…
Птицы подхватили нас и полетели не обратно, как ожидал капитан, а еще дальше на юг.
— Хотят показать свое царство, — объяснил я.
— Ладно, до обеда времени еще много, — неохотно согласился капитан. — Но недолго. А то, чего доброго, юнга, не дождавшись нас, сбежит обратно к боцману.
— И наш боцман здесь?
— Уже давно. Блаженствует на море, — усмехнулся капитан. — Жизни не представляет без штормов. Сейчас он владелец трехмачтового парусника. Юнгу я с трудом сманил оттуда к себе в университет.
Кочки, камышовые топи под нами редели, и болото незаметно перешло в обширное чистое озеро. Птицы снизились и воркующими голосами приветствовали своих плавающих подруг. На бреющем полете они поднесли нас к большому лесистому острову и опустили на берег.
Отряхиваясь и охорашиваясь, птицы шумно захлопали крыльями и окутались облаками брызг и мелкой водяной пыли, пронизанных лучами солнца. И там, внутри сияющих облаков, свершилось чудо. Крылья превратились в белоснежные девичьи руки, сиреневое оперение — в нарядные платья такого же сиреневого цвета, и… прекрасные озерные девы улыбались нам, довольные произведенным эффектом.
— Мы фрейлины царицы, — защебетали они. — Идите за нами.
Мы поднялись по мраморным ступеням и очутились в прохладной аллее с мягко шумящими фонтанами, беседками и статуями. Чуть дальше из зарослей цветущих магнолий выступил дивный дворец — не то облако, не то застывшая пена морская — с круглыми башенками и хрустально сверкающими шпилями. В одной из башенок кто-то играл на рояле.
— Это царица, — пояснила одна из фрейлин. — Пойду доложу.
Вышла царица… И дрогнуло у меня сердце: она! Пролетели миллионы веков — и вот мы встретились, нашли друг друга.
— У тебя такой ошалелый вид, будто узрел привидение, — пошутил капитан. — Знакомая?
— Нет, просто почудилось, — смешался я. — На волшебной планете и с памятью нашей что-то случается.
Царица подошла к нам, и я понял, что ошибся. В памяти моей что-то шевельнулось, смутно, словно сквозь запыленное окно, показался на миг далекий и прекрасный образ. Но образ земной. А царица? Это же сама Вселённая, ее задумчивая и таинственная красота.
Фиолетовые глаза — звездные дали, черные волосы — пряди космической тьмы. Вот эта таинственность и космичность (опять же наша врожденная космичность!) и волновала меня. В груди щемило, в голове кружился сладкий туман. «Уж не влюбился ли?» — усмехнулся я.
— Извините за беспокойство. — На красивых губах царицы дрогнула виноватая улыбка. — Уж очень хотелось побеседовать с профессором Румом. Заманила я вас.
— Не вы заманили, а мы сами пожелали познакомиться с прекрасной царицей, — галантно соврал капитан. Красота царицы, видимо, и на него произвела впечатление.
— Нет, нет! Мои птицы-фрейлины прилетели на университетский пруд не случайно, в то время, когда у вас появилось желание повидать на болоте старого знакомого. Уж он-то знал это. Он все знает. Это он по моей просьбе все подсчитал. И все точно совпало.
— Так это все жабьи проделки! — воскликнул капитан. — А меня он уверял, что вычислениями больше не занимается.
— Мелкие вычисления у него пока получаются, — улыбнулась царица. — А что касается космических, то в его вычислительной машине что-то разладилось. Сколько раз просила его объяснить, что за странная галактика нам попалась, откуда сказочные облака? А он все твердит, что этого…
— Что этого не может быть! — подхватил капитан. Мы рассмеялись.
— Впрочем, что мы стоим? Идемте в мой кабинет. Кабинет царицы выглядел скромно и старомодно.
Рояль, круглый стол на массивных витых ножках, мягкие стулья с высокими спинками. На столе старинный письменный прибор. И даже свои нотные записи царица делала гусиным пером. «Причуды как у капитана, — подумал я и тут же вспомнил: — Ах да! Здесь средневековье».
— Присаживайтесь и давайте знакомиться. О вас я уже слышала, профессор Рум.
— Раньше я был капитаном, а это мой штурман.
Взметнув длинные черные ресницы, царица взглянула на меня и словно обожгла: не глаза, а звездные бездны. Справившись с волнением, я спросил:
— А вас как звать? Вам очень подошло бы какое-нибудь звездное имя.
— Вы правы, родилась я в звездных далях. Имя у меня космического происхождения.
— Какое?
— Аннабель Ли.
— Аннабель Ли! — В волнении я вскочил на ноги. — Не так вас звали. Ли… Ли… Не могу вспомнить. Тоже на «Ли», но не так. И родились вы не среди звезд, а на Земле.
— Садись, штурман! — приказал капитан и, улыбнувшись, попытался уладить возникшую неловкость: — Ему все чудится что-то.
— А если не чудится? — Царица в глубокой задумчивости смотрела на меня. — Иногда и мне кажется, что я жила другой жизнью. Нет, нет! — рассмеялась она _ Неправда. Хорошо знаю, что не земная я и возникла чудесным образом. И только здесь впервые получила неожиданный дар: реальное земное существование. Такое же, как у вас сейчас. Вот тут для меня загадка. Помогите разобраться, профессор.
Царица поведала о своем происхождении. Оказывается, она… вымысел. Волшебный образ, персонаж легенды, придуманный на досуге астронавтами в звездных далях.
Глаза у капитана так и загорелись. Еще бы! Наглядно подтверждалась его гипотеза о творческих видениях, фантазиях и образах, незримо носившихся по Вселенной и получающих в реликтовых галактиках «вещественное наполнение».
Я плохо вникал в беседу, доставлявшую капитану огромное наслаждение. Я посматривал на царицу, на ее прекрасный лоб, на беломраморное и ожившее в споре лицо, а в груди сладко и тревожно щемило: ну где, где же я ее видел?
— Выходит… — Щеки у царицы от волнения слегка порозовели. — Выходит, что мне не снится. Я сейчас такая же часть природы, как все земные люди. Такая же у меня плоть и такие же живые горячие страсти. О, какая отрада земная жизнь!
— Да, да! Конечно! — восклицал капитан. — Астронавты — часть природы. И выдуманный, созданный ими образ — такая же часть природы. Как скульптура или портрет земного художника. С той разницей, что скульптуры и портреты со временем разрушаются, а словесный поэтический образ вечен и оживает в подходящих условиях, как, например, вы…
Щеки у профессора тоже порозовели, глаза приятно жмурились. Лакомка-капитан пировал! А тут еще фрейлины незаметно для спорящих убрали со стола письменный прибор и принесли обед. Увидев дымящиеся паром чашки с чаем, капитан от удовольствия потер руки и улыбнулся. И вдруг, взглянув на часы, вскочил и заметался по кабинету, ругая себя последними словами:
— Болван я! Простофиля! Прозевал!.. Наверняка уже сбежал. К боцману сбежал!
— Да что случилось? — Царица рассмеялась: уж очень понравился ей живой нрав профессора. Выслушав его, сказала: — Тревожиться не надо. Мои птицы часто совершают полеты над морями и океанами. Найдут они вашего юнгу.
Капитан-профессор несколько успокоился и сел за стол. Был он, однако, уже не так разговорчив, и беседу за обедом вели в основном мы с царицей. Вспомнив терминологию старпома, я сказал:
— А что, если этот волшебный и приятный мир — это дьявол, прикинувшийся ангелом?
— Ну, это сильное преувеличение, — возразила царица. — Но кое-какие опасения есть и у меня. Здесь сбываются лучшие, светлые мечты человека. Но могут прорасти и самые затаенные, самые дурные желания. К тому же недобрым людям путь сюда не заказан.
— Может быть, поэтому кто-то здесь нарочно придерживает промышленность и технику на довольно низком уровне? — высказал я предположение.
— Этот таинственный кто-то и есть само мудрое облако, — вмешался капитан. — Многие ученые в нашем и в других университетах обладают немалыми научно-техническими знаниями. У кого-то из них возникло дурацкое желание обзавестись оружием массового уничтожения. Дескать, на всякий случай. Построили целый завод. Но все сложные станки и приборы ночью загадочным образом превращались в ржавую пыль. Не могли воссоздать даже простой пулемет. Только медные пушки, пистолеты и мушкеты. И дальше ни-ни. Средневековье!
— Этот волшебный кто-то доброжелателен. Зло, если ему суждено разлиться по планете, пойдет по наименее разрушительному пути, — задумчиво сказала Аннабель Ли.
— Судя по вашим высказываниям, вы, царица, получили недурное образование, — удивился капитан-профессор. — Но где?
— Нет у меня никакого образования, а есть хорошая библиотека. Много читаю и думаю, — сказала Аннабель Ли и, улыбнувшись, оживилась. — Впрочем, почему мы говорим только о серьезном и страшном? Давайте веселиться. Фрейлины! Вина! Несите нам вина!
И началось у нас веселое пиршество с бессвязной болтовней, со взрывами смеха. После первого же бокала шампанского царица расшалилась, как дитя.
— Как приятно кружится голова, — смеялась она. — Все хочу познать в жизни. А вы, морские волки, почему пьете шампанское? Стыдно, пираты, стыдно. Подружки! Рому! Принесите пиратам рому!
От рома мы отказались, но охотно отведали других крепких напитков. И тоже опьянели, наперебой рассказывали о себе, о своей шальной галактике, о парусном звездном флоте. С расширенными от страха глазами Аннабель Ли глядела на меня, когда я живописал наши жуткие приключения: мятеж на «Аларисе», зверства старпома, гибель в Черной дыре.
После обеда капитан-профессор сразу же нырнул в библиотеку, где хранились какие-то загадочные книги. А мы с царицей вышли в сад.
— Завидую вам, — вздыхала она. — Пережить столько ужасов. Да, да! Не удивляйтесь. И земные ужасы познать приятно. А я? Что я знала? Была только сказкой.
— А если не только сказкой?..
— Не бередите душу, моряк. Не тревожьте память. Лишь на миг мелькнуло в ней что-то о моей далекой и как будто земной жизни. Но это обман. Нет, только здесь я непонятным образом получила вещественную жизнь. Шагнула из сказки и захмелела от радости. Но кое-что при этом и потеряла. Что потеряла? Невесомость. О, с какой легкостью я раньше кружилась, вальсировала на Лебедином озере. А сейчас? Во мне сейчас пятьдесят семь килограммов веса. Кошмар!
— Вы и сейчас, царица, на удивление легки, воздушны и на диво стройны.
Спьяну вырвались у меня эти до ужаса пошленькие слова. Я сгорал от стыда. Но царица улыбнулась мягко, необидно и, как мне показалось, польщенно:
— Вы говорите комплименты, как влюбленный мальчик. Впрочем, давайте друг с другом на «ты». И не зови царицей. Какая я царица, если не владею даже собой. И не знаю, что со мной.
Вскинув ресницы, Аннабель Ли посмотрела мне в глаза. Теплой волной отозвался у меня в груди этот глубокий и нежный взгляд.
— О мой мужественный моряк и звездный скиталец. Это не ты, а я… я влюбилась в тебя, как девчонка.
— С этим… с этим, царица, не шутят.
— А я не шучу. Может быть, не шучу, — рассмеялась она.
Несерьезный, игривый смех расстроил меня и глубоко обидел.
— Освежиться вам надо, царица.
— Да, да… Голова кружится. Прочь из душного сада. К озеру… к Лебединому.
На берегу она села на камень, посмотрела на водную гладь и вздохнула:
— Нет, далеко этому озеру до Лебединого.
— Где же это загадочное озеро?
— В очень далекой галактике и на самой обычной планете. Но озеро там — сказка… Кстати, книги в моей библиотеке с той планеты. Как они появились? Не знаю… Захотела — и появились.
Подошли фрейлины и увели царицу в покои. Обернувшись, она сказала:
— Вечером устроим в честь гостей бал. А сейчас спать.
С час или полтора я бродил по саду с хаосом взбудораженных чувств. Вот и объяснилась царица в любви. Захмелела и пошутила. Но мне-то каково! Мне, всерьез потерявшему голову. Нет, хватит! Сброшу чары красавицы, пришедшей из сказки. Я не мальчишка, обуздаю свои разгулявшиеся страсти и буду держать их в узде.
С таким вот решительным настроением я зашел в библиотеку и застал капитана за странным занятием. На полу и на столе в беспорядке валялись книги. Со многими из них капитан, а ныне профессор Рум наверняка успел познакомиться. Сейчас он их расставлял по полкам. Над одной из них надпись: «Так себе». Видимо, сюда капитан засовывал книги, не представляющие для него особой ценности. Две другие полки имели необычные надписи: «Любопытно» и «Очень любопытно». И уж совсем ошеломляющая надпись красовалась над самой большой полкой: «Жабы».
— А не слишком ли обидно? — усмехнулся я.
— Ты думаешь? — Капитан-профессор рассеянно посмотрел на меня. — Впрочем, я приготовил другую надпись. Помягче.
Он поставил на полку табличку со словами «помягче». Но и эта табличка выглядела не слишком уважительно: «Великие Вычислители».
— Здесь так называемые последовательные, самые твердолобые и вульгарные идеалисты и материалисты, — пояснил капитан.
— Да уж догадался, — рассмеялся я. — Но есть же здесь мыслители, близкие тебе по духу?
— Сколько угодно. И самый интересный из них — Кант. Ты только послушай, что он писал. Почти как у меня: «Две вещи наполняют душу удивлением и благоговением…»
— «Звезды вокруг нас…» Ну и так далее. Неужели слово в слово?
— Не совсем. У него не «звезды вокруг нас», а «звезды над нами». Он же не бывал в космическом океане, не плавал среди звезд. Но в остальном почти слово в слово. Как это понимать? Как он мог угадать мои мысли?
— Видимо, схожие мысли, как парусные фрегаты, плавают среди звезд.
— Видимо, так. Еще мне нравятся Платон, Гераклит…
Гераклит! В голову мне будто что-то стукнуло, в глубокой памяти, словно в тумане, сверкнули блики на морской волне, послышался голос учителя, еще блики и… погасли. «Что за чепуха творится со мной на этой планете? — с неудовольствием подумал я. — Все чудится что-то, чудится. Хватит!»
Пока мы беседовали, за окном сгустились тучи, в библиотеке потемнело, и вдруг все озарилось ослепительной вспышкой. С шипением и треском прогрохотал гром. Я подошел к раскрытому окну, подставил голову под хлещущие струи, и они будто вымыли из моей памяти мусор потревоженных видений. Хорошо стало, свежо.
В это время к дворцу подлетели две сиреневые птицы, встряхнули крыльями, перевоплотились, и через секунду вошли в библиотеку две озерные девы.
— Ну что, подружки? Слетали? Нашли? — нетерпеливо спросил капитан.
— Нашли в Бирюзовом океане. Корабль называется «Аларис». Так? Капитаном у них мужчина с трубочкой в зубах.
— Это он. Боцман. А юнга?
— Синеглазый парнишка? Там он. У них все в порядке.
— Спасибо, подружки, успокоили. — И, улыбнувшись, капитан повернулся ко мне: — Чуть не забыл. Для тебя кое-что есть. Подружки, покажите ему мастерскую.
В просторной светлой мастерской я нашел все, что нужно художнику. Кисти и краски — какие только угодно. «Царица постаралась, — с благодарностью подумал я. — Постараюсь для нее и я».
Встал я перед огромным полотном и задумал грандиозную картину — звездное небо, фрегат, освещенный в зловещих тонах пролетающей над парусами кометой. И конечно же сражение: огненные вспышки пушечных залпов, рушащиеся мачты, искаженные рты раненых. В общем, все «пиратские ужасы», по которым скучала царица.
«На абордаж!» — так я назвал картину. Писалось легко. Незаметно пролетали минуты, часы. Вот уже закончил ночное небо — звезды, комету. Эскизно набросал палубы двух кораблей, сошедшихся бортами. И вдруг почувствовал, что картина, задуманная в шутливо-развлекательном духе, ускользает из моей власти и обретает какой-то жуткий, глубокий, первозданный смысл.
Отошел назад и ахнул. Вселенная, нависшая над забрызганными кровью палубами, — это же старпомовский дьявол! И в парусах, облитых дрожащим светом багровой кометы, и в устрашающем блеске синего созвездия так и видится ухмылка Сатаны над бедным, истребляющим друг друга людом.
Нет, это уже не метафизическая печаль, которая нравилась капитану в моих прежних картинах. Это метафизический ужас перед чем-то неведомым, великим и грозным.
В страхе я попятился от этой картины. Ладно, закончу ее потом. Остановился перед другим чистым полотном в красивом подрамнике. Напишу я, под стать подрамнику, что-нибудь красивое, жизнерадостное, светлое. Ну, например, вот эту планету Счастливую, какой я увидел ее недавно с высоты птичьего полета: посеребренные утренним солнцем леса, голубые реки, розовые облака.
Сначала работал в привычном темпе. Но потом опять со мной что-то случилось. Я писал с нарастающей скоростью, с небывалым увлечением. Минута, еще минута — и я уже буквально летал на крыльях вдохновения. Я скакал от одного края полотна к другому, писал с неистовым азартом, в сладком творческом дурмане, в забытьи…
Через час или полтора, уж не помню, отошел назад, чтобы полюбоваться, и застонал — по планете Счастливой прошелся Сатана! На картине — догорающие и обугленные леса, в небе клубятся черные тучи в багровых отблесках атомных взрывов, и пепел… Жуткий, тускло светящийся радиоактивный пепел, обратно падающий из крутящихся багрово-черных туч на разгромленную, сожженную землю.
Да что такое со мной? Словно во мне сидит какой-то дьявол. Иначе откуда это необоримое творческое веление? Откуда, из каких мрачных глубин этот вселенский ужас?
Еще раз посмотрел на картину со смешанным чувством восторга и страха. Картина сильная, пугающе выразительная. Ею бы гордиться. Но я стыдливо отодвинул ее в угол и закрыл покрывалом. Что делать? Бросить ее или дописывать потом, втайне от всех?
Из мастерской я вышел на улицу. Из башенки царицы доносились звуки рояля. Хмель у нее, видимо, рассеялся, и сейчас она творила свои музыкальные произведения. Тут уж совсем иная картина, не моя. Волнующие звуки рисовали иные дали и образы — нежные, овеянные светлой грустью.
Я подошел к берегу. После грозы небо очистилось, и лишь отдельные облака, розовые в закатном солнце, висели над озером. По нему свободно, словно невесомые, ходили озерные девы. Увидев меня, они превратились в птиц, взмыли вверх и, рассеиваясь сиреневой дымкой, подлетали к алым облакам и словно растворялись в них. Через секунду-другую вылетали оттуда, но уже светло-алые, как эти вечерние облака. Переоделись красавицы, поменяли оперение и опустились на воду.
Ко мне подплыла Фрида — та самая птица, что доставила меня сюда. С самого начала она почему-то так и льнула ко мне. Ступив на берег, птица обернулась красивой блондинкой в светло-розовом платье. Она улыбалась, строила мне глазки. Такая же, видать, шалунья, как ее царица.
Фрида подошла и села на скамейку рядом со мной.
— Как хорошо там, — прошептала она. — Вот бы ты сел на розовое облако и плыл бы себе, все плыл по синему небу.
— Как на розовой яхте? У меня не получится. А вот ты, пожалуй, смогла бы поднять меня к облакам, и даже выше.
— Не знаю. Разве попробовать?
Фрида вновь стала птицей. Я сел на ее спину. Взмахивая своими сильными крыльями, подняла меня птица Фрида к самым облакам. Все выше и выше. Вот уже розовые облака далеко внизу под нами. И вдруг они затуманились, и мы влетели в темную тучу — в иное измерение, в космическое облако.
— Страшно, — прошептала Фрида. — Спустимся?
— Не бойся, — ободрил я ее. — Ты же родилась здесь, ты частица… — Вспомнив капитана-профессора, хотел сказать «частица высокоорганизованной и мыслящей материи». Но грубо, вульгарно прозвучали бы здесь эти слова.
— Частица чего? — спросила Фрида.
— Ты самая очаровательная частица космического облака, самая волшебная и удивительная, — сказал я и поморщился: опять высокопарно! Опять до ужаса красиво! Да что это со мной? Тот невиданный творческий взлет, с каким я писал две пугающе сильные картины, опустошил меня и даже… опошлил? Но Фрида была растрогана и польщена:
— Как хорошо ты говоришь.
Осмелев, птица рванулась ввысь и вылетела из мглы. И вот оно, то самое снежно-белое космическое облако. Видим его снаружи. Не то облако, не то планета. А кругом в бесконечной тьме сияли звезды.
— Да знаешь, кто ты, Фрида? Ты звездная птица. Лети!
И тут мы с Фридой увлеклись, от радости потеряли голову. Наше солнце с облаками-планетами осталось позади. Сердце у меня замирало от страха и восторга. Дышалось легко, как на цветущем лугу. И ветер! Он пел в моих ушах, шевелил и раздувал мои волосы. Волшебница Фрида создавала не то иллюзию, не то свою реальность.
А птица, взмахивая крыльями, все набирала скорость. И вдруг неподвижные звезды дрогнули, сорвались с места и поскакали назад. Упоительное зрелище — перед нами они синели, позади накалялись красным светом. Птица летела быстрее света!
— Остановись, Фрида! — испугался я. — Замри!
Птица замерла. И вовремя: прямо перед нами ослепительными горами громоздились облака-планеты. Но не наши. И вращались они вокруг другого, голубовато сиявшего солнца.
— Я заблудилась, — жалобно сказала Фрида.
— Не двигайся. Мы ведь летели только прямо. А сейчас повернись ровно на сто восемьдесят градусов.
Фрида поняла мою мысль, повернулась и полетела. Все быстрее и быстрее. И снова звезды огненным вихрем промелькнули назад. Видимо, чутье подсказало, когда надо было погасить сверхсветовую скорость. Звезды замерли на своих местах. И совсем рядом мы увидели свое золотистое солнце с тремя кучевыми облаками-планетами.
Мы отыскали свое облако, вошли в его белые мягкие холмы и, снижаясь, погрузились в непроглядную мглу. Солнце скрылось, но через минуту-две оно закатным оранжевым шаром висело уже над самым горизонтом. Волшебное космическое облако неведомо куда исчезло. Под нами планета. Небо чистое, и лишь редкая стайка розовых облаков тихо плыла над озером.
— Мы дома! — рассмеялась Фрида и на бреющем полете закружилась над своими подругами.
— Ну как прогулка? — спрашивали те.
Птица подлетела к берегу. Еще миг — и я уже сижу на скамейке рядом с хорошенькой блондинкой в светло-розовом платье.
— Что это было с нами? — шепотом спросила Фрида, с удивлением и радостью глядя на меня своими большими и синими, как озера, глазами.
— Мне кажется, что был сон.
— А как хорошо нам было. Правда? Только никому не говори. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Согласен?
Фрида щебетала, посмеивалась, строила влюбленные глазки. «Шалунья», — улыбался я, надеясь, что наша шутливая интрижка отвлечет меня, и другие глаза, глубокие, как звездные дали, забудутся, перестанут тревожить душу и мою уснувшую память.
Напрасно надеялся… Когда закатилось солнце и на небе зажглись звезды, вышла царица. Я вскочил и стоял как болван, чуть ли не вытянувшись по стойке «смирно». Глупейшая поза! К счастью, Аннабель Ли лишь мельком взглянула на меня и смущенно потупилась.
Из оцепенения вывел меня капитан:
— Идем. Царица и ее фрейлины покажут нам свое искусство.
Аннабель Ли ступила на помост, высившийся над озером.
Невдалеке стояли невесомые озерные девы на водной глади, в которой отражались и звезды, и они сами.
— Ну что, подружки? Что покажем гостям?
— Шопениану! — дружно ответили те. Аннабель Ли подняла руки, шевельнула своими длинными пальцами ибудто вызвала ими откуда-то чарующие звуки. Где таился невидимый оркестр? В прибрежных магнолиях, источающих вместе с ароматами нежную мелодию? Или в нитях тумана, тянувшихся над водой? А может быть, в трепещущих звездах?
Взошла луна, своими лучами подбелила платья дев, и те закружились снежной метелью, становясь то птицами с распластанными крыльями, то снова озерными девами в развевающихся бальных платьях.
— Здорово! — восхитился капитан.
Но царица была недовольна. Захлопав в ладоши, она прервала танец:
— Подружки, вы еще не чувствуете мелодию, не сливаетесь с ней в одно целое. Я же показывала. Смотрите.
И капитан мой восхитился еще больше. На помосте была не царица из вещества и плоти, а что-то неземное, какое-то белое облако, серебряный дух танца. Каждым движением, крылатыми взмахами рук и вибрирующими пальцами, она отзывалась на звуки, раскрывалась навстречу им, как чуткий цветок навстречу живительным солнечным лучам. Вероятно, подобное же сравнение, только, быть может, не такое пошловато-красивое, пришло и капитану. Он прошептал:. — Вот где видимым образом раскрывается…
— Космическая душа?
— Не иронизируй, — обиделся капитан.
— А может, не мыслящий дух Вселенной раскрывается здесь, а ее красота? — пытался я смягчить свою нечаянную насмешку.
— Ты художник, тебе виднее, — ворчал капитан.
— О чем это вы, спорщики? — К нам с улыбкой подошла Аннабель Ли. — О моей воздушной легкости? Ну что вы. Я сейчас легка как топор. Смотрите.
Аннабель Ли с плеском вошла по колено в воду. Озерная гладь всколыхнулась и далеко разошлась кругами.
— Видите? Грациозна как корова. А ведь как парила я на Лебедином озере, когда была сказкой! Боже мой, какая утрата!
— Не расстраивайся, царица, — утешали озерные девы. — Ты стала земной. Разве плохо? А умрешь, снова станешь сказкой. И все так же будешь с нами.
— Спасибо, подружки. Обрадовали, — улыбнулась царица. — А сейчас станцуйте для гостей то, что вам лучше всего удается.
— Вальс цветов! Вальс цветов! — возликовали те.
И закружились птицы-балерины под накатывающиеся волнами звуки, упивались своей легкостью, грацией, красотой. Зрелище завораживающее. Даже требовательная царица была довольна. Особенно понравилась ей Фрида.
— Ты сегодня смотрелась как танцующая звезда, — похвалила она.
— Может быть, я уже вальсировала с ними, со звездами, была там, — с лукавинкой ответила Фрида. Потом подошла ко мне и счастливо прошептала: — Для тебя ведь старалась. Слетаем?
— Поздно уже, — улыбнулся я. — Спать пора. Заснуть, однако, долго не удавалось. Вспоминался сказочный вечер, а в ушах слышалась музыка. Наконец заснул и видел во сне Аннабель Ли, танцующую среди звезд.
Проснулся рано… Нет, еще не совсем проснулся, и в полудреме снова привиделась Аннабель Ли в каком-то колышущемся тумане. И вдруг волнистые туманы превратились в удивительные волны… «Волны времени», — мелькнула у меня догадка. Я купался в них, нежился, и вынесли они меня на какой-то далекий, исчезающий во мгле веков берег. Какие-то деревья, средневековый замок, и я снова вижу Аннабель Ли. Но она ли это? Почему зовут ее другим именем? Таким же звучным, но другим. Как же ее зовут? Кажется… Ли… Ли…
«Ну и блажь лезет мне в голову», — выругался про себя, когда окончательно проснулся. Живо вскочил и вышел на берег озера. Солнце еще не вставало, и на водной глади ни морщинки. Искупался. Холодная вода взбодрила меня, смыла дурь, и за завтраком держался я молодцом и всячески пытался оживить беседу, тянувшуюся довольно вяло. Капитан, кажется, мысленно был уже в библиотеке, царица выглядела грустной и не обращала на меня никакого внимания. «Ну и пусть», — подумал я.
После завтрака каждый занимался своим делом. Царица села за рояль. Я писал картины. Когда уставал, заходил в библиотеку. Листая книгу, капитан-профессор негодующе фыркал: попался ему, видимо, трактат какого-то «Великого Вычислителя». Потом хватался за другие книги и с восторгом растолковывал мне отдельные места из полюбившихся ему авторов.
Потом я снова с увлечением брался за свои жуткие картины. Часа через два знобящего творческого восторга я вышел на берег освежиться. Здесь меня ждала нарядно одетая Фрида.
— Слетаем? — шепотом спросила она.
— Потом, Фрида. Вечером.
Но вечером, как только начало темнеть, одна из фрейлин принесла от царицы записку:
«Очень нужно поговорить. Приходи к голубой беседке».
Сердце у меня учащенно забилось. Нет, это, пожалуй, не шутка. Пишет записочку, как впервые влюбившаяся девчонка? Но это объяснимо для сказочной девы. Наивна она еще в земной жизни.
Беседка находилась в глубине сада под огромным экзотическим деревом с крупными, как у магнолии, цветами. Его ветвистая крона клубилась подобно зеленой туче, и сейчас там наверняка непроглядная темь. «Впору и лоб расшибить», — с неудовольствием подумал я, подходя к дереву и уж не зная, как отнестись к свиданию. Шуточка? Если так, наговорю ей тут же дерзостей и завтра покину остров. Верная мне Фрида унесет на корабль к боцману и юнге — на волю, на морские просторы.
К моему удивлению, висевшие на ветвях цветы светились как голубые фонари и заливали полянку мягким сиянием. С цветка на цветок перелетали какие-то белые мотыльки — ночные опыляющие насекомые.
Из тьмы на поляну выступила Аннабель Лии словно шагнула из мглы веков… Узнал я ее! Узнал! Милый овал лица, ослепительно прекрасный лоб… Она! Подходила она ко мне робко, с каким-то мучительным ожиданием. И я начал догадываться:
— Вспомнила? И ты вспомнила? — Да. Мне кажется… Нет, уверена, что мы любили когда-то. Давным-давно. И как несчастны мы были… О, бедный ты мой рыцарь. Ты ли это?
— И похож, и не похож? Проверь.
— Но как? — улыбнулась она. — А, вот как. А ну-ка, скажи, как меня звали там, в старинном замке. Я-то вспомнила.
— Как-то на «Ли»… «Ли»… — морща лоб, бормотал я. И вдруг память мою пронзила ослепительная молния. — Физули! Физули!
— Вспомнил! Ты это! Ты! — ликовала Аннабель Ли и приникла ко мне.
Я обнял ее, целовал губы, щеки, милые длинные ресницы. Аннабель Ли разрыдалась.
— Что с тобой, подружка? Отчего плачешь?
— От счастья, — шептала она, глядя на меня сияющими глазами. — От счастья плачу. Ведь это первый поцелуй в моей многовековой жизни. Миллионы лет была сказкой, летала по всем Вселенным и ничего этого не знала.
— Неправда. Однажды, в этой или в какой-то другой Вселенной, ты уже была в прекрасном земном образе. Физули! Герцогиня де Грие!
— Ах, не говори об этом. — Лицо Аннабель Ли затуманилось грустью. — Горько вспомнить. Какие-то редкие встречи, поцелуи украдкой и наконец вечная разлука. Какими мы были несчастными!..
— Здесь будет по-другому. — Я усадил ее на скамейку, сел рядом и, стараясь развеселить Аннабель Ли, сказал: — Знала бы ты, с какой яростью, с каким клокотанием в груди шел я на это наше нынешнее свидание. Уверен был, что царица затеяла шутку, и собрался устроить вот под этим деревом жуткую сцену.
Аннабель Ли рассмеялась:
— Нет, хватит шуток. Пошутила однажды с одним юнцом и до сих пор раскаиваюсь.
— С кем же это ты позволила себе такие вольности? — Я свирепо сдвинул брови. — Назови имя этого негодяя. Я его вызову на дуэль.
— Не волнуйся, — улыбалась Аннабель Ли. — Ведь я была тогда сказкой. Прогуляемся по саду, и я расскажу, где это было.
Было это, оказывается, все на том же загадочном Лебедином озере. А я поведал о себе, о том, как бестелесным незримым духом скитался по жуткой мертвой Вселенной, о средневековом замке в черной космической пустоте и рыцарях зла. И вдруг Аннабель Ли ошеломила меня, оглушила вопросом:
— А что, если все это страшная сказка? До нашей нынешней и настоящей жизни ты, как и я, был всего лишь сказкой, чьей-то выдумкой…
— Не может быть! — испуганно воскликнул я и осекся, вспомнив старпома: «У этого дьявола все может быть».
— А почему это тебя расстраивает? Разве плохо? Быть может, все люди — это тоже чья-то выдумка.
— Выдумка природы! — подхватил я, вспомнив на сей раз капитана. — Это хочешь сказать? Согласен. Мы с тобой во всем равны. Ты в конечном счете такая же выдумка природы. Но выдумка, опосредованная человеком.
— Быть непосредственной выдумкой природы или опосредованной, — задумчиво говорила Аннабель Ли, — какая разница?
— Тебе бы сейчас в собеседники капитана, — пошутил я. — Какой бы разгорелся ожесточенный философский диспут.
— Ну нет, философ из меня никудышный, — рассмеялась Аннабель Ли. — Читала я как-то Гегеля и Канта. Ничегошеньки не поняла. Мне бы только музыку да танцы. Я ведь глупенькая и легкомысленная. Любишь такую?
В ответ я молча и крепко поцеловал ее. Бродили мы с Аннабель Ли по саду до самого рассвета. Из сада вышли на берег. Легкий ветерок морщинил зеркальную гладь воды. С востока на озеро тихо наплывало облако, серебристо пенившееся под лучами восходящего солнца. От облака отделились какие-то клочки тумана. Они снизились и, взмахнув крыльями, полетели над озером.
— Мои фрейлины ночевали в этом облаке, — пояснила Аннабель Ли. — Спрячемся. А то увидят нас, шушукаться будут.
— Сплетницы? — удивился я.
— Еще какие, — рассмеялась Аннабель Ли.
После завтрака я предложил ей и капитану посмотреть мою картину «На абордаж». В мастерской я подтащил картину ближе к окну, раздвинул шторы и увидел в глазах Аннабель Ли восторг и ужас.
— Потрясающе! — воскликнула она. — Эта картина пугающе гениальна.
— Вот именно. Пугающе, — нахмурился капитан. — Что с тобой случилось? Раньше в твоих картинах я видел что-то светлое, метафизические тайны и печально зовущие дали. А сейчас?
— Ты односторонен, капитан, — возразил я. — Вселенная не только светлый ангел, но…
— Но и дьявол, хочешь сказать? Понимаю. Ты увидел мир глазами старпома.
— Клевета, — обиделся я.
— Не веришь? А вот посмотри: один из пиратов, вот этот, с окровавленной саблей, похож на старпома.
— Неправда, — сказал я, но, приглядевшись, поразился: действительно похож!
— А мне картина нравится, — настаивала Аннабель Ли. — Не знаю, как насчет философии, но это высокое искусство.
— Да, — согласился капитан. — Картина совершенна. Даже гениальна.
— Она романтична! — воскликнула Аннабель Ли.
— И здесь не возражаю, — продолжал беспощадный капитан. — Но это зловещая романтика. Романтика зла и разрушения.
Услышал я от капитана еще немало безжалостных слов. Упомянул он, конечно, и о метафизическом ужасе. Раздосадованный и обиженный, я вышел на берег озера и увидел Фриду, явно поджидавшую меня.
— Что-нибудь случилось? — участливо спросила она.
— Так, пустяки. Слегка повздорил с капитаном.
— Лучше бы ты повздорил с царицей. Тогда была бы хоть какая-то надежда, что ты обратишь на меня внимание. Разве не видишь, как я страдаю?
— Ну и баловница ты, — рассмеялся я. — Подожди меня здесь. Я сбегаю за этюдником.
В мастерской Аннабель Ли и капитан продолжали обсуждать картину.
— Все! Кончаю с серьезной живописью! К черту ее! Буду писать портреты хорошеньких девушек.
Портрет Фриды мне удавался, писался весело и беззаботно. Из небытия выступало на полотне что-то под стать моему настроению — беззаботное, смеющееся создание, существо эфирное, сказочное и в то же время таинственно земное.
— Отдохнем? — часа через два предложила Фрида. — Слетаем? На этот раз недалеко.
— На наши околосолнечные облака? Согласен. Любопытно посмотреть, что там.
Там ничего не оказалось. Кроме нашего, вокруг солнца кружились еще два космических облака. В одном из них сиреневая полумгла сменилась в глубине непроницаемой тьмой. И ни малейших признаков планеты, вообще какой-либо тверди. Зато другое облако порадовало. Правда, и оно было пустое, но его движущиеся и полупрозрачные, как кисея, клубы пропускали приятно приглушенный солнечный свет до самого центра.
Взмахивая крыльями, Фрида медленно парила в глубине облака, словно искала что-то. И нашла! Мы попали в удивительный грот, похожий на радугу. Полукруглый свод его светился голубыми, алыми, оранжевыми, изумрудно-зелеными кружевами. Они тихо вращались, струились. Сверху проскакивали солнечные лучики, искрами вспыхивали, гасли и снова загорались. Под нами волновались какие-то пушистые холмы, мерцающие многоцветным инеем и хрустальной пылью.
— Присядем, — предложила Фрида, складывая крылья и становясь озерной девой в искрящемся сиреневом платье. — Не бойся, никуда мы не провалимся.
Я сел на мягкий зеленый холм и действительно никуда не провалился. Рядом — Фрида с подкрашенными ресницами и смеющимися синими глазами. Красавица хоть куда.
— Да ты еще больше похорошела, — удивился я.
— Я ведь дома, в своей… Как это ты сказал про облака? В своей стихии.
— Только вот пустовато здесь.
— А я думаю, что здесь тоже есть синие озера, зеленые острова, дворцы. Только мы не видим их, потому что… Не знаю, как выразиться, не нахожу слов.
— И здесь тоже есть живые существа. Но слишком, наверное, некрасивые. Облако не решается показать их, чтобы не оскорбить наше эстетическое чувство, не шокировать, — сказал я и поморщился. «Шокировать», «эстетическое чувство» — таким языком можно говорить с Великим Вычислителем в жабьем болоте, но не со сказочной Фридой и не в этом сказочном царстве.
Не в пример мне Фрида силилась выразиться поэтичнее и образнее, но не смогла, не нашла в человеческом языке нужных слов.
— А может, они не такие уж безобразные, — возразила Фрида. — Просто совсем-совсем другие.
«Она не такая уж глупышка», — подумал я и воскликнул:
— Да ты не только похорошела, но и поумнела!
— Правда? — обрадовалась Фрида. — И ты любишь меня?
Взглянул я в сияющие глаза Фриды и почувствовал на миг какой-то трепет, почтительный страх — на меня глядит душа и тайна мира! Справившись с замешательством, сказал:
— К сожалению, мы очень разные. Ты лучше меня. Я кое-как и на короткое время слеплен из земного праха. Ты же вечна, ты соткана из этих волшебных облаков, из земных туманов и звездного сияния.
«Боже мой! — мысленно воскликнул я. — До чего опять пошло». Но Фриде почему-то понравилось.
— Как удивительно ты говоришь, — прошептала она и грустно вздохнула. — Неужели между нами ничего невозможно?
— Возможно, Фрида. Но совсем другое. Рядом с тобой мы, люди, словно рядом с душой Вселенной, с ее тайной. — И подумал: «Фрида почему-то ярко выделяется среди других птиц Сиреневого озера».
Я спрашивал Фриду, кто она и откуда? Что думает о мире? Какой он, этот мир? Фрида изо всех сил старалась выразить себя, раскрыться. Иной раз казалось: вот она, конечная тайна, совсем рядом… Но нет. То были какие-то неясные, ускользающие образы, что-то невыразимо прекрасное и тающее как дым. И я досадовал: то ли Фрида знает все, то ли не знает ничего.
— Не могу, — жалобно призналась она. — Нет таких слов.
Да, нет у нее и у нас таких слов и понятий. Возможно, Фрида — это попытка облаков, а может быть, и всей Вселенной, предстать в понятном для нас прекрасном образе. Прекрасный образ, несомненно, удался, но он совсем непонятный. Сами же облака ничего сказать не могут, они лишены индивидуальности и личного сознания, в том числе, к сожалению, морального сознания. Они не понимают наших тревог и волнений, не знают, что для нас хорошо и что плохо. Таинственные облака по ту сторону наших переживаний и ценностей, «по ту сторону добра и зла». Само по себе это, может быть, и мудро: разве добро и зло не одно и то же? Но стало тревожно: облака не смогут оградить нас от бед и опасностей. И прежде всего, от самих себя. А добром наша идиллия не кончится: слишком уж все хорошо.
— О чем задумался? Посмотри, до чего красив наш дворец, — пыталась расшевелить меня Фрида.
Грот, конечно, прекрасен. Словно живой, он постоянно менял свой лик, струился мерцающей радугой. Но недобрые предчувствия только усилились: чем все это кончится?
— Ты совсем загрустил, — участливо сказала Фрида. — Вернемся?
Вернулись мы, когда на озеро уже ложились сумерки. Опустились рядом с этюдником, и нас тут же окружили озерные девы.
— Ну и загуляли, — посмеивались они. — Царица уже беспокоилась. Все спрашивала: «Где они? Где?»
Царица! Словно теплая волна накатила на меня и смыла все тревоги. Все будет хорошо, все будет прекрасно! Сегодня же под деревом с его лунно сияющими цветами увижу мою Аннабель Ли.
Однако под деревом меня ждала буря негодования и ревности. Лицо царицы гневно хмурилось, в ее глазах, потемневших, как грозовая туча, сверкали молнии.
— Что это значит? Что за прогулочки с хорошенькими девушками?
— Господи, до чего ты земная! — обрадовался я и, притянув к себе Аннабель Ли, поцеловал ее в лоб и зашептал: — Опомнись, подружка. Фрида не девушка, а всего лишь сказочная птица.
— Знаю, но ничего не могу с собой поделать. — Аннабель Ли попыталась улыбнуться, но безуспешно: на сердце у нее все еще скребли кошки. — Но признайся: Фрида ведь хорошенькая?
— Хорошенькая. Но портрет ее писать больше не буду.
— Нет, нет! Можешь закончить портрет. Так уж и быть, разрешаю. — Аннабель Ли рассмеялась: гроза прошла. — Но тебя никому не отдам. Этой же ночью мы с тобой тайно… Как это у людей принято говорить? Вспомнила! Тайно обвенчаемся, станем мужем и женой. Капитан, твой бывший начальник, даже ни о чем не догадается.
Но капитан догадался, хоть и не сразу.
— Извини за резкий отзыв о картине, — сказал он мне за завтраком. — Картина сильная. Мы ее сегодня переправим в студию при нашем университете. Там и будешь заниматься живописью.
— Заниматься живописью можно и здесь.
— Можно. Но нельзя же вечно оставаться в гостях.
— А я не гость.
Мы с Аннабель Ли посмотрели друг на друга и улыбнулись.
— Я здесь дома.
— То есть как это дома? — Капитан непонимающе заморгал глазами. Но, увидев наши сияющие лица, расхохотался. — Вон оно что! Ах я, простофиля! Мог бы и догадаться. — Выскочив из-за стола, он засуетился, обнимал нас и приговаривал: — Милые мои, поздравляю! И венчать! По христианскому обычаю! Не знаете, что это такое? Узнаете! Сегодня же! Помнишь симпатичную деревеньку? Там есть прелестная церковь.
— А что, мне эта идея нравится, — сказала Аннабель Ли. — Но сегодня не получится. Надо оповестить ваших друзей — боцмана и юнгу. Надо же и мне повидать их. Мои фрейлины доставят их сюда.
В полдень с Бирюзового океана прилетели две птицы. В небе мы увидели забавную картину. Юнга, вертя головой, с любопытством посматривал вниз. Боцман невозмутимо и важно восседал на птице, а из трубки его
валил дым, как из пароходной трубы.
— Какой восхитительный морской волк, — прошептала царица, когда боцман, приземлившись, враскачку зашагал к нам.
Он и впрямь выглядел очень внушительно в новенькой капитанской форме. А сорванец-юнга так и сиял, восторгаясь своим кораблем и какими-то невиданными штормами.
— Вот только жаль, пиратов нет, — вздохнул он.
— Подожди, еще будут, — усмехнулся я.
Капитан с Фридой улетели в деревню договариваться насчет венчания. Вернулись они только к ужину. Вместе с гостями царица посадила за стол и Фриду. Ей почему-то понравилось, что у нее есть теперь и соперница. После ужина соперница поздравила нас и грустно добавила:
— Я так и знала.
— Не расстраивайся, Фрида, — утешала царица. — Ты еще полюбишь кого-нибудь.
— Никто мне больше не нужен. Уйду я от вас в монастырь.
— Куда-куда? — удивилась Аннабель Ли.
— Это церковный батюшка успел обратить ее в христианскую веру, — сказал капитан. — Миф об Иисусе Христе и на меня произвел сильное впечатление. Но верующим я не стал. Надо не верить, а сомневаться.
— Даже в твоей космической душе? — спросил я.
— Конечно. Это всего лишь гипотеза.
Утро следующего дня выдалось чудесное, безоблачное и тихое. Подлетая к деревне, мы увидели сверху сверкающие купола нарядной церкви и толпу сельских жителей. Они многое слышали о таинственной царице, о ее красоте, о ее сказочном острове. Подняв головы, они что-то кричали нам и махали руками.
Но когда, приземлившись, мы шли к паперти, радостно гудевшая толпа затихла: такой красавицы никто не чаял видеть. Признаюсь, мне льстило, что у меня такая невеста, хотя при ярком солнечном свете и в белом подвенечном наряде она утратила свою звездную таинственность. Обряд венчания, с песнопениями и колокольным звоном, взволновал Аннабель Ли.
— Даже для одной такой минуты стоит жить, — сказала она. — Да и чем земная действительность отличается от чудесной сказки?
Как бы эта чудесная сказка не обернулась сказкой страшной. Во мне вновь заерзали дурные предчувствия. Но они улеглись за свадебным столом.
Правда, посаженый отец, а им, конечно, был капитан, чуть не подпортил торжество. Провозгласив тост, он вскочил на свою любимую философскую лошадку и помчался, взлетая на вершины красноречия.
— Любовь! Самое прекрасное и благоухающее дыхание космической души…
«Все. Теперь не остановить», — подумал я. Выручил юнга. Он прыснул, но сумел состроить жалобную физиономию и умоляюще сказал:
— Капитан, хоть в такой день пощади нас.
— Ах да! Извините, — опомнился капитан и под всеобщий хохот сел, но тут же вскочил и закричал: — Горько!
Медовый месяц мы решили провести на своем острове, а потом совершить кругосветное плавание на корабле боцмана. У капитана-профессора начались лекции, но он каждый вечер прилетал и ночевал у нас.
Однажды утром с книгой в руках я расположился на скамейке перед дворцом. Из музыкальной башенки царицы полились нежные, мягко обволакивающие мелодии. Что-то пробудилось во мне, в груди защемило. И вдруг вспомнил о дудочке, подаренной давным-давно маленьким пастушком.
Я забежал в студию, где на спинке стула висел мой штурманский китель, порылся в карманах, и — вот она! Сохранилась и овеществилась свирель вместе с кителем. Я снова вышел на лужайку перед дворцом и заиграл. За пеленой звуков слышалось биение иной жизни — гул древних пастбищ, шелест трав, песни старого тополя. Через завесу реальности проникали волнующие звуки из забытого детства и неведомого мира. Вокруг меня столпились озерные девы, подбежала Аннабель Ли.
— Я бездарность! Вот кто великий композитор! — воскликнула она, изумленно глядя на меня. — Откуда, из каких миров ты принес чудесные звуки?
Я рассказал о планете-однодневке, сотворенной мной в космической пустоте, о маленьком пастушке.
— Говорила же, что твоя жизнь — волшебная сказка. А портрет Фриды почему не заканчиваешь? — улыбнулась Аннабель Ли. — Я ведь разрешила. Смотри, какая получается у тебя веселая насмешница.
Около этюдника стояла Фрида и смотрела на меня грустными ожидающими глазами. Я взялся за кисть, вспомнил все передуманное мной в сказочном гроте и почувствовал, что не могу писать в прежнем игривом духе. Писалось, однако, быстро и к вечеру получилось что-то неожиданное: не легкомысленное смеющееся создание, а глубокий образ с метафизической печалью в глазах. Я изобразил Фриду на фоне цветных облаков нашего грота, только в своде его — дыра, откуда выглядывала звездная Вселенная. Создавалось впечатление, что Фрида — посланец Вселенной, что она прилетела оттуда, чтобы поведать о ее тайнах. И не смогла. Потому и вышла Фрида удивительно одухотворенной в своей мучительной попытке выразить невыразимое.
— Богиня! — воскликнул появившийся за моей спиной капитан.
— Какая я, оказывается, красивая, — обрадовалась Фрида.
— Романтик! — продолжал восхищаться капитан. — Какой прекрасный метафизический образ! Вот это настоящий ты.
— Хватит, капитан, — с улыбкой прервал я его. — Отдохнем от философии. Брось на время свои лекции, надевай капитанскую форму и соверши вместе с нами свадебное путешествие на корабле «Аларис». Тряхнем-ка мы с тобой стариной.
СТАРПОМ
Над морем клокотала иссиня-черная туча. С треском и грохотом рвали ее затейливо ветвистые молнии, полосовали огненные сабли. Свистел ливень, с шипением прокатывались по палубе пенистые волны. Буря бушевала, в своем гневном полете била черными крыльями по морю, гнула мачты и сорвала с них единственный уцелевший парус. И тот испуганной белой птицей улетел и скрылся во мгле.
Таким феерическим штормом, к ликованию царицы и юнги, началось свадебное путешествие. Царицу, однако, изрядно укачало, и, невзирая на отчаянные протесты, увели мы ее с капитаном в каюту, там она переоделась, а когда вышла на палубу, туча, погромыхивая и поигрывая молниями, уходила за горизонт. Вдогонку за ней веселой птичьей стайкой летели редкие хлопья серебристых облаков. Между ними неожиданно затесалась черная тучка.
— Это он! — ликовал юнга. — Сын грозы! Дитя штормов!
Я пожал плечами, не понимая, что это за дитя. Тучка вдруг расправила крылья и кружилась над нами большой черной птицей.
— Черный Джим! — радостно вопили матросы. — Привет, Черный Джим!
Аннабель Ли улыбалась чистому небу, сказочному Черному Джиму, морю, которое еще дыбилось громадами волн. Она была счастлива. Не меньшее счастье испытывал и капитан, взявшийся с разрешения хозяина-боцмана управлять кораблем. Его ясные и четкие команды матросы понимали с полуслова, быстро и ловко крепили снасти, ставили паруса.
— А ведь не забыл, профессор и книжник, — ухмыльнулся боцман, попыхивая своей неизменной трубкой.
К нам подошел капитан и похвалил матросов:
— Послушные и толковые ребята. Это не сброд, который нам подсунул когда-то старпом.
— Не слишком ли мы часто вспоминаем его? — полушутя-полусерьезно сказал я. — Чего доброго, космическое облако посчитает, что мы страстно желаем встретиться с этим дьяволом.
Но встретиться пришлось для начала с дьяволятами. Когда волнение на море улеглось, из-за горизонта выплыли два парусника. Не доходя до нас, они вдруг круто свернули в сторону и стали быстро удаляться.
— Что мы медлим! — возбужденно закричал юнга. — Это они!
— Не догнать, — спокойно возразил боцман. — У них быстроходные суденышки.
— Кто — они? — спросил я.
— Не так давно появились откуда-то стервецы. Видимо, бывшие пираты, — пояснил боцман. — Жизни не представляют без разбоев. Называют себя даже морскими дьяволятами. Грабят островитян, иногда осмеливаются нападать на торговые суда.
— А ты говорил, пиратов нет, — сказал я юнге.
— Разве это пираты! — Юнга презрительно махнул рукой. — Мелюзга. Не дьяволы, а трусливые дьяволята. Как увидят наш сорокапушечный фрегат, так удирать.
— Обстановка на морях в основном спокойная, — заверил боцман. — А этих мы поймаем.
К вечеру показался большой лесистый остров.
— Остров Юнги. Почему мы так его назвали? А вот увидите, — усмехнулся боцман.
Корабль вошел в тихую бухту, представлявшую собой кратер затонувшего вулкана, и бросил якорь. Из тростниковых хижин высыпали темно-коричневые туземцы в набедренных повязках, с головными уборами из ярких птичьих перьев. Под гулкие звуки барабанов они заплясали и в один голос радостно кричали:
— Юнга! Юнга!
— Узнали они наш корабль. И больше бус и ожерелий почему-то им полюбился юнга, — с добродушной усмешкой пояснил боцман и в мегафон крикнул на берег: — Сначала разгрузите корабль, а потом я отдам вам юнгу!
На многочисленных пирогах туземцы перевезли на берег ящики с кухонной утварью, инструментами и конечно же украшениями. Взамен они доставили на фрегат большие корзины с овощами и фруктами: наряду с охраной приморских курортных городов боцман занимался торговлей.
Когда загрузка закончилась, внезапно, как это бывает в тропиках, опустилась тихая ночь. В небе зажглись крупные яркие звезды, а на берегу запылали костры. Облокотившись на фальшборт и попыхивая трубкой, боцман с ухмылкой наблюдал, как на берегу в ожидании выстраиваются мужчины, дети, женщины и девушки с бусами на шеях. Боцман, видимо, решил слегка помучить туземцев.
— Юнгу давайте! Юнгу! — послышались нетерпеливые голоса.
Наконец из каюты был выпущен юнга, с лихо заломленным беретом на голове, в новой матросской форме. На берегу его обнимали сверстники, девушки дарили цветы. Под барабанную дробь и звуки неведомо как очутившейся здесь флейты начался праздник. Юнга ликовал. Вместе со всеми он участвовал в каких-то ритуальных факельных шествиях, пел песни и плясал.
— В своей стихии, сорванец, — хмурился капитан. — Ума не приложу, как его переманить в университет?
Утром мы подняли паруса и отправились дальше. Много дней нам благоприятствовала погода с малооблачным небом и умеренными ветрами. Спозаранку над кораблем появлялись большие сиреневые птицы, наши ангелы-хранители. Иногда они опускались на палубу, становились красавицами фрейлинами и о чем-то шептались со своей царицей. Потом птицы снова поднимались вверх, и уже с неба слышались их печальные голоса:
— Возвращайся скорее, царица! Скучаем! Улетали птицы, и снова тихо и пустынно вокруг.
Только изредка проплывут на горизонте паруса, утопающие в бесконечной нежности моря и неба. И что-то захандрила моя подружка, затосковала.
— Какая безмятежность. И какая скука, — пожаловалась она и, оживившись, продекламировала стихи:
Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных,
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
— Откуда, из каких миров принесла ты эти чудесные стихи? — спросил я.
— Все с той же планеты, где мое Лебединое озеро. В моей библиотеке есть и художественная литература, переведенная на общекосмический язык.
Наконец фрегат завершил кругосветное плавание, забрался на север и бросил якорь в так называемом Уютном море. Оно действительно оказалось очень уютным, тихим, с небольшим курортным городом на берегу. Здесь мы и поселились в двухэтажном доме с огородом на крыше.
— Буду здесь выращивать огурцы и помидоры, — заявила Аннабель Ли.
Фрегат уплыл по своим делам. Но мы не остались в одиночестве. Отсюда до университетского городка — рукой подать. В отдельной комнате поселился капитан-профессор. Здесь он готовился к лекциям, принимал своих коллег. Частенько с озера прилетали сиреневые птицы, кружились над огородом, шумно, с перебранкой выклевывали ягоды малины и смородины. Царица сердилась. Птицы опускались, становились фрейлинами в нарядных платьях и вели себя прилично. Однако помогать царице в ее огородных делах фрейлины брезгливо отказались, не желая, как они выразились, «рыться в грязи».
По утрам Аннабель Ли с увлечением возилась в огороде. Потом спускалась в свою комнату, садилась за рояль и погружалась в тоскующие, словно улетающие вдаль мелодии. Грустила она, видимо, по своей прежней сказочной жизни, по волшебному Лебединому озеру.
Но это была мимолетная грусть. С какой-то ликующей жадностью она уходила в свою новую жизнь — в земную, с ее мелкими горестями и острыми радостями. Каждый день Аннабель Ли отправлялась на рынок за покупками. Очень уж полюбился ей рынок с его сутолокой, гамом и ссорами. Посмеиваясь, она неумело, но с большим азартом торговалась, потом довольная возвращалась и готовила для нас с капитаном обед.
Иногда капитан приглашал к обеду своего коллегу — доктора философии Зайнера. Он своеобразно объяснял свое пристрастие к этому не очень симпатичному типу:
— Ум холодный, как у жабы, но пронзительный и дерзкий. С ним интересно поспорить.
Он сразу же вызвал у меня смутное беспокойство. Неприязнь возросла, когда он заговорил о портрете Фриды. И заговорил словами капитана.
— Какой прекрасный запредельный образ. Она ближе самого облака к тайне мироздания, мудрее его, — журчал его голос, вкрадчивый, ласковый и столь не вязавшийся с едко насмешливыми глазами. — Познакомь с оригиналом, — попросил он меня.
— Знакомить не буду, — не очень вежливо ответил я. — Сожалею, что показал портрет.
Я унес портрет и спрятал его в чулане. Но тут, как назло, с озера прилетели фрейлины, и в комнату вошла Фрида. Доктор Зайнер так и вцепился в нее. Хитрец сразу смекнул, с чего надо начать: с комплиментов.
— Фрида! Да ты еще прекраснее, чем на портрете. Красота и мудрость Вселенной! Богиня неба! Ведь ты знаешь свою тайну?
— Знаю, — улыбнулась польщенная Фрида и поправилась: — Кажется, знаю. Но сказать не могу. Нет у меня нужных слов и этих… Как это у вас, ученых? Абстрактных…
— Абстрактных понятий и категорий? Чепуха. Разберемся. Ты только согласись побеседовать с нами.
Я не стал отговаривать Фриду. Пусть эти невежды сами убедятся, что ключик к единому вселенскому шифру так просто на дороге не валяется.
В небольшом уютном зале собрались ученые из многих университетов планеты. В основном это были люди нетерпеливые, пожелавшие сразу заполучить у Вселенной ответы на все вопросы. Люди, на мой взгляд, не слишком строгих научных и моральных правил. И цели у большинства из них, как потом выяснилось, были недобрые.
Фрида заговорила, изо всех сил пытаясь сказать о себе и мире, из которого пришла. Заговорила словами какими-то неуловимыми, ускользающе метафоричными. Перед учеными, как и передо мной в тот раз в гроте, открылись огромные картины, окутанные дымкой полуреальности, и образы, уводящие в нескончаемые дали. Образы невыразимо прекрасные и поэтичные, но смутные и расплывчатые, как музыка, как сон.
— Это художество, а не наука! — рассердился кто-то.
— Она и не может высказаться иначе, — возразил я — Она не столько знает мир, сколько чувствует его.
Со мной согласился капитан. Но доктор Зайнер заявил, что Фрида знает все, но не желает сказать.
— Мы материалисты, — ораторствовал он. — И мы уверены, что абсолютная истина познаваема. Наша прекрасная незнакомка напустила туманчику, выражалась нарочито поэтично и образно. Ну и бог с ней. Обойдемся без нее. У нас есть грандиозная возможность — мыслящее, но пока молчаливое космическое облако. Стоит протянуть руку, и мы вырвем у него тайну мира.
— Абсолютная истина недоступна никому, — горячась, возразил капитан. — Недоступна самому Господу Богу, если Он есть. Почему? Да потому, что абсолютная истина, как и Вселенная, бесконечна. Она творит, сама не зная, что у нее получится. А получается у нее каждый раз что-то неповторимое. Вселенная и ее абсолютная истина — каждый миг бесконечно новые. Это бесконечность помноженная на бесконечность. Разумеется, с каждым шагом наука приближается к абсолютной истине. Но дорога к ней слишком далека. Она бесконечна. И загадок от наших усилий не становится меньше. Напротив, они лавинообразно нарастают.
Наиболее трезвомыслящие ученые поддержали капитана.
— Будем считать наше сегодняшнее собрание детски несерьезным, — с добродушной усмешкой сказал один из них.
— Будем считать, — тоже с усмешкой, но высокомерной и злой, сказал Зайнер. — Будем считать Фриду и ее прелестных подруг, родившихся в облаках, созданиями поэтичными и легкомысленными. Но сами мы должны серьезно отнестись к странным облакам. Как никогда, мы близки к тайне всех тайн.
Ночью я спал плохо, часто вставал, подходил к окну и смотрел на тихую гавань, где мирно дремали посеребренные луной парусники.
— Почему не спишь? — подойдя ко мне, спросила Аннабель Ли. — Ой, красиво как! Ты только погляди. Паруса белые как снег. А в небе-то! Луна плывет, как парусная яхта.
— Вот эта идиллия меня и пугает. В ее недрах, чувствую, скапливается нехорошая сила.
— А, ты про сборище ученых, — догадалась она. — Фрида считает их просто чудаками.
— Посмотрела бы ты на этих чудаков, на их нетерпеливые жесты и фанатический блеск в глазах. Как же! В этом сказочном мире стоит лишь руку протянуть, и ты ухватишь сказочную тайну. И будешь повелевать всей Вселенной. Да, да! Их прельщает не столько абсолютная истина, сколько абсолютная власть. Это зло прорастает на нашей уютной и добренькой планете, прорастает сначала в умах и настроениях людей. Невинные, казалось бы, заблуждения Зайнера и его приятелей перерастут в дикие суеверия.
Я, как говорится, словно в воду глядел. Через день или два капитан, добродушно посмеиваясь, рассказал за обедом о забавных, на его взгляд, предрассудках своих коллег.
— Стали поговаривать о некоем загадочном сокровище, которое таинственное облако будто бы прячет у себя наверху или в земле, в виде клада. Сгусток запредельных знаний, дескать, втиснут в каком-нибудь алмазном перстне или в волшебной золотой монете. Смешно?
— Скорее грустно, — сказал я. — Это не причуда, а дурная навязчивая идея. Злые психи некоторые твои коллеги.
— Понимаю, — усмехнулся капитан. — Это твоя интуиция художника тревожно зашевелилась. На сей раз ошибается она. Ну, почешут языками отдельные маньяки, пошумят, а потом все это забудется и утихнет.
Не утихло. Ядовитые зерна упали с научных высот на грешную землю и дали свои буйные побеги. Началась погоня за таинственным сокровищем, сулившем якобы невиданную власть над всем миром. И началось конечно же с тех самых пиратов, которых юнга презрительно называл мелюзгой и паршивыми дьяволятами. Боцмана и капитана это не тревожило, а смешило.
— Ринулось дурачье на безлюдные острова, — благодушно ухмылялся боцман. — И все роют, роют. Забыли о грабежах и разбоях. Хорошо стало. Тихо.
Но вот что удивляло меня и капитана: ведь находили! Поистине сказочные богатства выкапывали пираты: бочонки с алмазами и рубинами, сундуки с золотыми монетами. На радостях кладоискатели пили ром, орали песни, плясали. Оргии заканчивались потасовками и поножовщиной — все хотели завладеть одним-единственным талисманом. Но какой перстень самый главный и колдовской? Этого разбойники знать не могли. Пришлось им войти в соглашение с учеными.
Те появлялись на местах раскопок с многочисленными приборами и просматривали, просвечивали, подвергали воздействию химикатов каждый алмаз и монету. И ничего особенного не находили. К тому же большинство алмазов и монет оказывались фальшивыми. Эпидемия кладоискательства пошла на убыль.
Наступила зима. Неуютно стало в курортном городке. Небо серое, море в штормовых свинцовых волнах. Мы перебрались в свой дворец на острове. Здесь было тихо и солнечно. Изредка выпадал снежок и тут же таял.
Царица, не способная упиваться тихим счастьем, скучала по своим курортным знакомым, по шумному, крикливому рынку. Нежные и зябкие фрейлины все чаще прятались в теплых, как шуба, облаках, но прислуживали нам за столом аккуратно и охотно.
Капитан-профессор после лекций запирался в библиотеке и писал давно задуманный труд «Видимость невидимого». Я работал над новым пейзажем. А у владелицы дворца оставалась одна отрада — чтение и музыка.
Но как хорошо, уютно было по вечерам! При свете свечей мы собирались за столом перед пылающим камином. Фрейлины прислуживали нам, рассказывали о своих удивительных снах и теплых облаках. Мы пили чай, играли в карты, обсуждали новости. В один из таких вечеров, уже в конце зимы, капитан обрадовал царицу:
— Наши астрономы открыли в небе приближающуюся комету.
— Красивая комета? — оживилась Аннабель Ли. — И будет у нас видна?
— Еще как видна будет. Пролетит совсем близко над нашей планетой, посияет в небе несколько дней и медленно удалится.
Однако намного раньше сияющей кометы залетел к нам другой сияющий небесный гость.
Хорошо помню тот первый и по-настоящему весенний день. Мы собирались переселиться на берег моря в наш курортный дом. Фрейлины, веселые и нарядные, ожившие после зимней спячки, уговаривали царицу:
— Останься еще немного. Скоро наш сад расцветет, мы станцуем в нем весенний вальс.
Вдруг одна из фрейлин испуганно воскликнула:
— Смотрите! Черный Джим!
И в самом деле: в ясном небе кружилась над островом и снижалась большая черная птица.
— Что ему надо у нас? — хмурилась Аннабель Ли. — А вы, подружки, не бойтесь. Мы усмирим этого хама.
— Хама? — удивился я.
— Черный Джим хорош и красив в небе, но на земле несносен, — пояснила Аннабель Ли.
Еще не успел Черный Джим коснуться лапами земли, как со спины его спрыгнул… В груди у меня так и похолодело: старпом!
Аннабель Ли не знала гостя, но сразу же почувствовала, что перед ней незаурядная личность, и с одобрительной улыбкой взирала на сверкающие аксельбанты и морской кортик в серебряной оправе. Я же, стиснув кулаки, хмурился, да и капитан в растерянности молчал, еще не зная, как отнестись к такому событию.
А старпом сиял, так и лучился радостью. Покуражиться над нами задумал, негодяй.
— Какое счастье! — вскинув руки, улыбался он. — Да вы просто онемели от счастья. Ждали меня! Еще как ждали. Уверен, что не раз говорили обо мне, вспоминали. Вот и сбылась ваша лучезарная мечта.
— Ничего лучезарного не вижу, — буркнул я.
— Ну-ну, художник. Не гляди на меня букой. Мы еще подружимся с тобой.
— Но как ты нашел нас? — опомнившись, спросил капитан. — И как сумел подружиться с этой своенравной птицей?
— С Черным Джимом? Вот тут вы не станете отрицать, что у меня с ним много общего: энергия, воля, решительность. Правда, Джим?
— Правда, — гулким голосом пророкотал Джим. Мы и не заметили, как черная птица обернулась статным мужчиной в темно-синей морской форме и штормовке с капюшоном, откинутым назад.
— А найти вас было очень просто, — продолжал старпом. — Я ведь понимал, что в капитаны ты попал случайно и рано или поздно встанешь на профессорскую стезю. Вот я и посетил в первую очередь университет, познакомился даже с твоим приятелем доктором Зайнером.
— Ну и как он тебе?
— Заметная личность. Но скользкая, хитрая, увертливая и себе на уме.
— Ты еше снюхаешься с ним, — усмехнулся я.
— Ну-ну, художник, — примирительно улыбнулся старпом. — Не такой уж я гадкий, как рисуешь меня в своем воображении.
— Уверен, однако, что будешь мелко и гадко мстить своему другу, — продолжал я задирать старпома.
— Имеешь в виду Великого Вычислителя? Слышал, что он здесь где-то прячется в болоте. Ну и чудак, — рассмеялся старпом. — Нет, мстить ему за тиранозавра не буду. Простил я ему эту милую мезозойскую шуточку. Я был с лихвой вознагражден. На той же планете я потешил свою душу, в разрушении и зле почти сравнялся со вселенским дьяволом. Я только что оттуда.
Что он там натворил, я не знаю, как не знаю и того, всерьез говорит сейчас старпом или издевается над собой. Но лицо его, на мой взгляд, несло на себе ясный и размашистый росчерк удовлетворенного зла. До того уж удовлетворенного и насытившегося, что я несколько успокоился. Большой опасности, по крайней мере в ближайшее время, старпом представлять не будет.
Аннабель Ли с беспокойством следила за Черным Джимом. Это дитя штормов и грозовых туч маялось, не находило себе места, не знало, куда девать энергию. Черный Джим размашистым шагом прохаживался вдоль берега, потом шумно вошел в воду и обрызгал нарядных и пугливо жавшихся фрейлин.
— Осторожнее, хам! — взвизгнули те.
Черный Джим захохотал. И в хохоте его слышались раскаты грома.
— Попробуй поговорить с ним, — шепнула мне Аннабель Ли.
Я подошел к Черному Джиму и с искренним восхищением оглядел его ладную сильную фигуру, полюбовался его лицом, на котором выделялись черные брови и усы.
— Какой красавец! Какой видный и представительный мужчина!
Явно польщенный, Черный Джим улыбнулся и разгладил свои острые, как пики, усы.
— Но зачем же хамить, — упрекнул я. — Нехорошо.
— Презираю озерных девок, — оправдывался Джим. — Барахтаются в луже. Тьфу!
— Согласен. Куда уж там озеру до океана, а нежным облакам до грозовых туч. А твой полет в штормовом небе! Это же мощь, стремительность и величие.
Нравились Джиму мои речи, очень нравились. Между похвалами преподал я ему несколько уроков хорошего поведения, научил произносить вежливые слова: «пожалуйста», «сэр», «леди» и некоторые другие. Потом поговорили о его бурной и захватывающей жизни среди гроз, и я окончательно расположил к себе эту своеобразную и задиристую личность.
К моему огорчению, старпом тоже, кажется, вошел в доверие к царице и капитану. Они внимательно слушали его и от души смеялись.
— Иди сюда! — крикнул мне капитан. — Представь, старпом стал совсем другим человеком.
— Добреньким? — с усмешкой спросил я.
— Ну, насчет доброты не знаю, — смутился капитан. — Но человеком громадной эрудиции и начитанности. Представь, он был там великим философом.
— Самым великим во Вселенной, — смеялся старпом. — Самым гениальным и божественно непогрешимым. Идемте в библиотеку, и вы увидите, как все померкнет в сиянии моей мудрости.
Я в недоумении пожал плечами: старпом явно ерничал, издевался, но на сей раз над самим собой. Стал другим человеком? Сомневаюсь.
Зашли в библиотеку. Полки книг с надписью «Великие Вычислители» вызвали у догадливого старпома усмешку.
— Вот здесь наверняка и найдешь мой главный философский труд «Материализм и прагматизм».
— Обратил я внимание на это любопытное название, но отложил на потом, — сказал капитан и, порывшись, нашел книгу. — Постой! Здесь же совсем другой автор.
— Дальвери? Это мой псевдоним, а у Крысоеда — Сальвери. С ударением на последнем слоге. Дальвери и Сальвери! Звучит красиво и музыкально. Но посмотрели бы, как бледнели и дрожали люди, услышав эти нежные звуки.
Листая, капитан быстро, но внимательно просматривал книгу. Потом начал морщиться, фыркать и наконец поднял на старпома растерянный взгляд:
— Послушай, это же чепуха.
— Верно! — радостно воскликнул старпом. — Чушь! Бред дикий, невероятный!
Такое искреннее и веселое самоуничижение вызвало у меня и капитана изумление, у Аннабель Ли улыбку.
— Какая приятная скромность, — сказала она.
— Это не скромность, — возразил старпом. — Это гордыня! Да, я горжусь тем, что так ловко состряпал несусветную галиматью. Посмотрели бы вы, как мои соратники, а потом и мной одураченные массы накинулись на этот философский бред. С каким упоением они читали, изучали, писали рефераты. Примитивно плоским материализмом я оболванил науку, искусство. Но еще большую роль в оглуплении народа сыграли мои речи. О, с какими шутовскими жестами и фиглярскими ужимками, с каким фанатизмом я ораторствовал с трибун и с башен танков, посылаемых на усмирение не понявших мою философию. Свои теоретические доводы убедительно подкреплял залпами танковых пушек. Всех непонятливых я истребил, а уцелевшие с восторгом пошли за мной в соблазнительный рай.
— Представляю, какой рай ты им приготовил, — проворчал я, в душе надеясь, что мы скоро избавимся от его присутствия.
Но царице личность гостя показалась весьма занятной, его ироническая речь вызывала у нее веселый смех.
— Отложим переезд, — предложила она. — Сначала пообедаем, а вечером соберемся у камина за чаем.
Капитану тоже хотелось побеседовать с заметно изменившимся, как ему казалось, старпомом. Он пригласил его снова в библиотеку, но царице очень уж не терпелось похвастаться моими успехами в живописи, и она повела гостя в мастерскую. К ее удовольствию, гость ошеломленно замер перед картиной «На абордаж», и я видел, что этого палача чем-то прельстила моя картина, приковала так, что он долго не мог вымолвить ни слова. В его лице — ужас и восхищение.
— Вот это да! Гениально! — прошептал он. — Удивил ты меня, художник.
— Меня, к сожалению, тоже удивил, — сказал капитан.
— Почему — к сожалению? Это поэзия.
— Зла и разрушения, — хмуро добавил капитан.
— А это и есть поэзия дьявола. — Старпом ткнул пальцем вверх, имея в виду звездное небо.
После обеда спор между ними разгорелся с новой силой. Меня он мало занимал. В душе ерзала досада: чем это старпом прельстил Аннабель Ли? Мужчина, конечно, видный — высокий, ладно скроенный, умное волевое лицо. В глазах на сей раз ничего злого, и даже жесткие складки у рта смягчились. Но досада от этого только росла и вырвалась злобой, когда старпом сказал:
— А супругу ты выбрал ничего. Загадочная, прямо-таки космическая красота.
— Попытаешься ухаживать — убью! — пригрозил я, сжимая кулаки.
— Браво! — расхохотался старпом и, посерьезнев, сказал: — Нет, художник, не убьешь. Куда уж тебе. И успокойся. Не в моем она вкусе. Ты считаешь меня дьяволом. Льстишь, конечно. Куда мне до дьявола. И все же я свиреп. — На губах его мелькнула усмешка. — И моей свирепой личности под стать настоящая царица, с этакой надменной осанкой, со злым повелевающим взором. А разве это царица? Так, романтический туман.
— Да, не в твоем она вкусе.
— К тому же ты меня знаешь давно. Разве я бабник?
— Не замечал, — согласился я и успокоился.
А вечером… Вот уж не знаю, что случилось со мной вечером. Я и не заметил, как поддался его веселому нраву, уму и… обаянию. Да, да! Обаянию! Чудовищно противоречив, многолик и непонятен этот человек. Не случайно жаба споткнулась на нем. Вселенную вычислила, а его не смогла.
Надолго остался в памяти тот удивительный, какой-то интимно-дружеский вечер. Стоит лишь представить: в камине, потрескивая, весело горят дрова, фрейлины подают чай, фрукты, вина. Старпом улыбается, а капитан так и тает от блаженства и благодушия.
А царица! С расширенными глазами и чуть приоткрыв рот, как ребенок, которому читают страшную сказку, она завороженно слушала занятного гостя. Тот был просто в ударе. Красочно, с юморком и живыми образными деталями живописал он жуткую драму в мезозое, когда он, будучи тиранозавром, сражался с Крысоедом-тиранозавром. Аннабель Ли вскрикнула, когда старпом сокрушенно закончил:
— И все-таки сожрал он меня. Но потом я был с лихвой вознагражден: стал великим вождем. — И рассмешил нас, когда с хорошо разыгранным огорчением начал жаловаться: — Только вот внешность, материальная оболочка досталась вождю незавидная, прямо-таки комическая. Полненький коротышка, лысенький, с нелепыми суетливыми жестами… Обидно.
Обворожил нас, околдовал старпом. А вечер-то как закончился! Ну просто апофеозом! Когда за окнами потемнело и фрейлины зажгли свечи, в дверях бесшумно появился Черный Джим. Отвесив всем нам изысканно учтивый поклон, что вызвало всех немалое удивление, он обратился к старпому и прогремел так, что стекла в окнах зазвенели:
— Пора в дорогу, сэр!
— Ой, как он меня напугал! — вздрогнула Аннабель Ли.
Черный Джим смутился. Понизив голос до шепота, он поклонился царице и почтительно произнес:
— Прошу прощения, миледи.
— Поразительно! Он у вас стал джентльменом, — улыбнулась Аннабель Ли старпому.
— Сам не пойму, что с ним случилось. — Старпом развел руками с таким изумлением, с таким ошарашенным видом, что все рассмеялись.
Черный Джим растерянно заморгал глазами, потом повернулся ко мне, своему учителю деликатных манер, и с огорчением спросил:
— Что-нибудь не так, милорд?
Стекла в окнах вновь зазвенели, на сей раз от хохота. Царица и капитан смеялись до слез, от души хохотал старпом. Хохотали даже фрейлины. Я подошел к бедняге Джиму и потрепал его по плечу:
— Все так, дружище. Молодец! Так держать! Старпом и Джим улетели. Черный Джим мог ночевать только в океанских тучах.
Утром, когда мы перебрались в свою летнюю виллу, я узнал, что старпому тоже приглянулся курортный городок. И поселился он не так уж далеко от нас, в отеле «Голубая шхуна».
— Ну что ты морщишься? — спрашивала меня Аннабель Ли. — Приятный и умный человек.
— Не верю я ему. Это дьявол, прикинувшийся ангелом.
— Ну, это чепуха, — улыбнулась Аннабель Ли.
Заходил старпом редко и чаще всего тогда, когда появлялся доктор Зайнер. Он садился рядом с капитаном и с непонятной усмешечкой слушал велеречивого доктора.
— Космические облака! — витийствовал тот, расхаживая по кабинету. — Загадочно мыслящий и дивный продукт работы Вселенной. В этой сокровенной мастерской миллиарды лет действовали неведомые механизмы отбора, селекции и сбора информации.
С упорством маньяка доктор намекал все на ту же конечную тайну. Стоит, дескать, лишь руку протянуть, чтобы сорвать этот созревший плод. И старался он на этот раз не для капитана, а для старпома. Вот кто сейчас нужен ему — эрудированный, а главное — волевой, деятельный человек.
— А ведь соблазнительно? А? — с усмешкой допытывался я у старпома, когда Зайнер ушел.
— Чепуха все это. Я согласен здесь с капитаном полностью.
— Но ведь куш-то каков! — продолжал я подначивать старпома. — Это тебе не роботы пришельцев и власть над несколькими планетами. Овладев абсолютной тайной, получишь абсолютную власть над всей Вселенной.
— Да, куш заманчивый, — усмехнулся старпом и, вздохнув, с горечью сказал: — Эх, художник. Никто не понимает меня. На кой черт мне власть? Насытился я ею, когда был глупым и жестоким вождем. Нажрался До тошноты. Не власть мне нужна. Я хочу понять…
— К чему вся эта кутерьма? — Я ткнул пальцем вверх, имея в виду Вселенную.
— Вот именно! — невесело рассмеялся старпом. — Вспомнил мои слова. Я хочу знать, откуда и зачем этот бред. Кому он нужен? Какой в нем смысл?
Приходил к нам доктор Зайнер еще с одной целью: иногда в кабинете бесшумно возникала Фрида и внимательно слушала.
Зайнер разглагольствовал в такие минуты с особенным воодушевлением, с долин и болот абстракций взбираясь на холмы и вершины поэзии. Фрида с улыбкой внимала нелепым поэтическим потугам доктора, но молчала. Однажды в самый разгар спора она с каким-то отрешенным видом обронила несколько слов. Всего лишь два-три смутных образа, непонятных, быть может, ей самой, но перед нами открылись вдруг такие дали, перед которыми наши умозрительные построения показались детской игрой.
Доктор Зайнер уставился на Фриду, и в глазах его так и читалось: «Знает! Все знает, ведьма!»
— Богиня мудрости! — слащавым голосом воскликнул он. — Посети нас еще раз. Снизойди. Мы изготовили такой приборчик, который все расшифрует, разъяснит нам и тебе самой.
Я пытался отговорить Фриду, но она улыбнулась и сказала:
— Пусть. Наверное, будет интересно и смешно. Но вышло все совсем не интересно и не смешно, а чудовищно глупо. На верхнем этаже университетского здания Фриду усадили перед тем самым «приборчиком», похожим на пульт управления космического корабля. В тот же миг сверху упала решетка с толстыми прутьями.
— Что это значит? — растерялся капитан.
— Это значит, что птичка в клетке, — ухмыльнулся доктор Зайнер. — Знаю, что она живет соками и энергией волшебных облаков. Красавица исхудает в заточении, настрадается, пока не вспомнит. А приборчик уловит ее поэтические смыслоизлучающие метафоры и расшифрует.
— Немедленно освободите! — закричал я.
Фрида рассмеялась, послала мне воздушный поцелуй и затуманилась. Клубящейся сиреневой дымкой она выплыла из клетки, просочилась сквозь окно, поднялась ввысь и слилась с облаком, летевшим как раз в сторону нашего озера. Какой-то подручный Зайнера с мушкетом подскочил к окну, разбил стекло и пальнул, сдуру пытаясь расстрелять облако.
Когда мы были уже на берегу, то самое облако тихо плыло над озером. Оттуда, как из гнезда, выпорхнула сиреневая птица, снизилась и волшебной девой ступила на берег.
— Смешно? — улыбаясь, спросила оца.
— Нет, не смешно, — проворчал капитан.
— Дур-рак! — выругался старпом и послал в адрес Зайнера еще несколько крепких морских словечек.
Он подошел к погрустневшей Фриде и начал утешать ее. «Теперь и этот туда же», — с опаской подумал я. Но нет, никаких глупых иллюзий старпом как будто не питал. Вскоре он вообще потерял к Фриде всякий интерес, да и к нам тоже. Правда, он изредка принимал участие в наших уютных чаепитиях. Но был какой-то кислый, невеселый, и лишь капитан расшевелил его, сказав однажды:
— А как интересно встречаться с новыми людьми, что ни человек, то новая загадка Вселенной.
— Загадка Вселенной? — улыбнулся старпом и с грустной усмешкой добавил: — Хорошо сказано, и живете вы, милые поросята, хорошо, сыто, уютно. Но уж больно скучно. Тоска!
Заходил он к нам все реже и реже. Целыми днями старпом пропадал в таверне «Грязная гавань». Странное название таверны нравилось веселой морской братии.
— Ничего, — смеялись моряки. — Бросим якорь и в «Грязной гавани».
«Грязная гавань» отличалась исключительной опрятностью и чистотой. Полы вымыты, на столах свежие скатерти, цветы. С утра до вечера здесь толпились матросы и офицеры заплывавших к нам кораблей. Старпом пил с ними ром, с грустной усмешкой слушал морские байки. Потом увлекся азартными играми и с ловкостью шулера обчищал карманы офицеров. На эти средства он, видимо, и жил. У нас он перестал бывать совсем.
— Чем-то мы обидели его, — расстроилась Аннабель Ли.
Вскоре она повеселела: в просторной вилле поселились юнга и боцман, фрегат которого ремонтировался в доках нашей бухты.
— Вот и прекрасно, — радовалась Аннабель Ли. — Заживем единой и дружной семьей.
Сначала в шутку, а потом и всерьез капитана-профессора мы стали называть отцом. Я считался старшим братом юнги, боцман — его дядей, а царица — сестрой. О старпоме мы заговаривали все реже и реже.
— Все же мне жаль его, — сказала как-то Аннабель Ли, вернувшись с рынка. — Посмотрели бы, какой он неприкаянный.
Со старпомом и впрямь творилось неладное. В «Грязную гавань» он теперь и не заглядывал, а все бродил по пляжу и посматривал на загорающих обывателей с каким-то странным выражением: не то с ужасом, не то с брезгливым недоумением. Немного погодя он стал совсем уединяться. Старпом уходил подальше от пляжа, садился на камень и с невыразимой тоской глядел в морские дали. В этой тоске и угрюмом одиночестве было что-то величественное и… страшное.
Признаюсь, побаивался я его. Но однажды набрался храбрости и присел на камне рядом со старпомом:
— Ну что, рыцарь зла? Заскучал?
— Уйди, художник, — простонал старпом. — И без тебя тошно.
— А ты займись знакомым делом. Слышал, зашевелились в морях разбойники. Возглавь пиратскую братию и режь, коли, вешай. Потешь свою душу.
— И такую мелочишку предлагаешь мне? — с насмешкой спросил старпом. — Мне, превратившему в ад целую планету?
— Да, из планетных штанишек ты уже вырос, — согласился я. — Тебе подавай всю Вселенную.
— Верно! — чуть ли не развеселился старпом. — Ты начинаешь понимать меня, правда, не совсем.
— Совсем не понимаю, — пожал я плечами. — Недавно приоткрылось в тебе что-то искреннее, симпатичное и даже… даже обаятельное. Но разве ты такой?
— Думаешь, я понимаю? Я и сам не знаю, кто я такой. — Старпом задумался и, вздохнув, продолжал: — Давно, еще в начале нашего плавания под звездами, под ветровыми парусами видел я, как ночью людоеды рвали на части живого человека и жрали его…
— И я видел. Ты тогда жутко хохотал.
— Видел? Мне казалось, что на палубе, кроме Хендиса Хо, никого не было. Ну и проныра ты, художник. Высмотрел. Да, хохотал я. Мужланом я был тогда, солдафоном. Вот и хохотал. Но от отчаяния хохотал, от жалости к страдающей мыслящей материи! Вместе со мной хохотал и дьявол. — Старпом ткнул пальцем в небо. — Хохотал, негодяй. Хохотал, людоед. — К чему это ты вспомнил?
— К чему? — В глазах старпома отразился вдруг безграничный ужас. Он зашептал: — Мне страшно, художник. Понимаешь? Страшно! Видишь на пляже отдыхающих?
— Ну?
— Диплодоки, — шепнул мне на ухо старпом, и в глазах его снова промелькнул страх.
— Диплодоки? — удивился я. — Помнится, в мезозое, в одно время с тобой-тиранозавром обитали эти жирные, громадные, но мирные и тихие твари.
— Вот и сейчас валяются на пляже такие же твари. Нежатся, хрюкают от удовольствия. А дьявол… — Снова жест в сторону Вселенной. — А дьявол-то хохочет, торжествует. Как же! Более мерзкого издевательства над мыслящим духом и не придумаешь. У, как я ненавижу это лежбище диплодоков. И в то же время… Жалко мне их, что ли? Не пойму.
Старпом задумался, чувствовалось в нем что-то не выразимо горькое, страдающее. «Он добрый, очень доб рый», — вспомнились еще давние слова капитана.
— А что, художник, поверил ведь сейчас, что я ми ленький и добренький? — словно угадав мои мысли, рас смеялся старпом. — Не верь. Я и сам не верю себе. — И, скривив губы, тяжко застонал: — Тошно мне на этой уютной планетке. Тесно мне! Эх, развернуться бы…
— В зле и разрушении?
— Уйди! — обозлился старпом. — Не терзай душу. Ушел я с недобрыми предчувствиями. Но проше месяц, другой, и все тревоги мои рассеялись как утрен ний туман в бирюзовых далях океана. Ничего страшного не случалось и не могло случиться на этой уютной планете.
Мы продолжали жить тихой, размеренной жизнью В доме нашем — полная чаша: у капитана-профессора хороший оклад, да и я прирабатывал, писал по заказу портреты курортников. Охотно покупались и мои морские пейзажи. Нравились они людям, но Аннабель Ли была недовольна. Она усмотрела в моем творчестве упадок: дескать, никаких метафизических порывов, никакой дерзости, а лишь откровенное желание уйти в
красивые уюты. Не знала она, что это была разрядка, что втайне от всех я работал над своим главным полотном — «Пепел». Вид разгромленной, испепеленной планеты приводил меня в ужас. Но — странно! — в какой-то дьявольски притягательный, сладкий ужас.
Вот это непонятное во мне тревожило, в душе опять зашевелились дурные предчувствия. А тут еще с близкими мне людьми начало твориться что-то нехорошее.
Вечерами мы собирались у пылающего камина, пили чай, делились мыслями и дневными впечатлениями. И в души моих собеседников, как я стал замечать, закрадывалось смутное беспокойство, какое-то недовольство, что-то даже старпомовское.
— А не кажется ли вам, что слишком уж по-обывательски тихо мы живем? Даже тошно, — чуть ли не словами старпома высказалась как-то Аннабель Ли и с задумчивой грустью еще раз продекламировала стихи полюбившегося ей поэта:
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь.
— Да, на нашем житейском море полный штиль, — поддержал ее боцман и пророчески, на мой взгляд, изрек: — Так всегда бывает перед бурей.
Юнга, чувствовалось, жаждал этих бурь. Лишь капитан, живший своими высшими интересами и витавший мыслями в волшебных облаках, заявил, что все хорошо, что все идет так, как надо.
— Все к лучшему в этом из наилучших миров, — с усмешкой напомнил я ему слова философа, книгу которого капитан держал в руках.
— А, ты читал Лейбница? — улыбнулся капитан. — Нет, не считаю, что все к лучшему. Что-то неладное со студенческой молодежью. Все чаще дерзит, на лекциях ведет себя безобразно.
— Вот это и есть страшное, — начал я и вдруг заговорил, увы, велеречиво, как доктор Зайнер: — Брожение усиливается не только среди молодежи, но и в умах твоих коллег. А самое опасное — в душах и настроениях масс. Сейчас на планете уже сотни миллионов людей. И у всех, как у нас, растет недовольство, смутное желание встряхнуться, сбросить сонную одурь, «порвать лазурь успокоенных мечтаний». Из тины преисподней, из самых нижних мезозойских пластов психики невольно и неосознанно всплывает что-то недоброе, разрушительное. Волшебные облака улавливают все это как желания и мечты, которые должны же когда-нибудь сбыться. Может быть, уже сейчас облака насыщены, как грозовые тучи непро-лившимся дождем, этой смутной психической энергией. И однажды она прольется сокрушающим ливнем зла, пронесется ураганом жестокости и насилия.
— Ну, разошелся, художник, бряцает и пугает нас своим буйным воображением, — замахал руками капитан. — Рисует картины прямо-таки апокалипсические. Нет, сказочные облака не злые.
— Но и не добрые, они безразличные, — поддержала меня Аннабель Ли и тут же возразила: — Картину ливня жестокости и зла ты нарисовал жутко выразительную. Мне она нравится, как нравятся твои живописные картины — «На абордаж», портрет Фриды. Но жуткое пророчество твоей словесной картины… Нет, здесь я не согласна. Не дойдет до этого.
— Еще как дойдет. — настаивал я. — Ты спроси капитана, — что сотворили Зайнер и его шайка. Создали ракеты, залетающие выше облаков и даже в космос. Того и гляди, посыплется сверху ядерный дождик.
— Это правда? — испугалась Аннабель Ли.
— Ракеты есть. С их помощью изучают облака и пытаются разгадать, из чего они. И представьте: из ничего! Не из протонов и электронов, не из привычного вещества. А в космосе сфотографировали то, что и следовало ожидать: никаких планет, одни только космические облака. Вот они-то и не позволят создать ядерное оружие. Спросите, почему? А почему все попытки усовершенствовать морской флот ни к чему не привели? Да потому, что большинство людей втайне вовсе не желают этого. Вот ты, художник-романтик, хотел бы, чтобы в морях плавали не парусники, а пароходы?
— Нет, не хотел бы.
— А юнга? — Капитан, усмехаясь, подмигнул мне.
— Эти вонючие коптилки? — возмутился юнга. — Ни за что!
— Вот и боцман не желает коптить небо. А о царице нашей и говорить нечего. Ей подавай овеянные легендами корабли, летящие на крыльях парусов. Так, дочка?
— Так, папа. И все же мир наш какой-то скучный. Ничего в нем не случается.
Однако вскоре начало случаться.
БИЛЛИ БОНС
В самом событии этом не было ничего страшного. Напротив, оно внесло в тишь курортного городка хоть какое-то разнообразие, а царицу нашу развеселило и обрадовало: она встретила наконец человека, явившегося в земное бытие из вымысла. Как и она, субъект этот долгие годы носился по Вселенной и жил в ней своей незримой жизнью, похожей на небытие. И вот космические ветры занесли его на нашу планету, где он и получил, по удачному выражению капитана, «вещественное наполнение».
Однажды ночью нас разбудил шторм — явление для Уютного моря редкое. Аннабель Ли подбежала к окну. В свирепости стихии ей чудилось что-то ненастоящее, красиво театральное. В промоины туч иногда выскакивала луна, громадные волны в ее ярком свете отливали серебром, верхушки их сверкали бриллиантовым кружевом пены. Скрывалась луна, море исчезало во мгле и под грохот грома и вспышки молний снова озарялось.
— Парус! — закричал юнга.
Вдали, перед входом в бухту появлялся из тьмы парус небольшого суденышка, исчезал на миг и снова возникал.
— Лихие моряки, — сказал боцман. — Пытаются проскочить между скалами и в бухте переждать бурю. Удастся ли?
Гроза прошла, отсверкали молнии. Море погрузилось в свистящую мглу, и мы не знали, что случилось с парусником. Утром, когда буря утихла, его увидели на пляже, прямо напротив таверны «Грязная гавань». Суденышко килем глубоко врезалось в песок, корма разворочена, а мачта с парусом валялась в стороне.
— Эй, там, на палубе! — слышался приглушенный голос из каюты. — Дверь завалило. Рубите ее, к дьяволу!
Толстый Эдик разбросал обломки и топором вырубил заклинившуюся дверь. Из каюты вышел высокий грузный мужчина с мрачным загорелым лицом и сабельным шрамом на щеке. Шрам был такого же грязно-синего цвета, как и засаленный кафтан. Из-под шляпы торчала просмоленная косичка.
— Это он, — с восхищением зашептала Аннабель Ли. — Просоленный морскими ветрами пират и знаменитый кладоискатель. Откуда знаю? Потом покажу книгу. Он оттуда.
— А где мой матрос? — Человек увидел сломанную мачту на песке, расщепленную голую палубу и махнул рукой. — Смело за борт? На жратву акулам? Ну и дьявол с ним. А это чей кабак? — ткнув пальцем в вывеску, спросил он.
— Ну, мой, — неохотно отозвался Толстый Эдик.
— Бери сундук и веди меня в комнату.
— Комната найдется, но не для таких оборванцев.
— Это я оборванец? — Темное лицо пирата покраснело от гнева, а шрам еще больше налился свинцовой синевой. — Да я богаче заморских принцев. Смотри, сухопутная крыса, ползай на брюхе, собирай.
Моряк вытащил из кармана горсть золотых монет и хотел швырнуть на песок. Толстый Эдик подскочил, перехватил деньги и угодливо затараторил:
— Комната есть. Отдельная и с видом на море. А как звать заморского принца?
— Ни к чему тебе знать мое имя, — нахмурился моряк. — Зови просто Капитаном.
— Это Билли Боне, — вмешалась Аннабель Ли.
— Выдала, стерва, — прохрипел пират и обернулся. Увидев царицу невиданной красоты, смешался и замолк.
— Извини, Билли. Но здесь тебе бояться некого. Можешь сколько угодно петь «Йо-хо-хо и бутылка рома». Будь как дома, дорогой.
Теплота и участие, прозвучавшие в голосе царицы, ее ласковый взгляд сразили бывалого морского скитальца, не знавшего домашнего уюта, детства и материнской ласки. Губы его дрогнули, на глазах показались слезинки.
— Матушка! — рухнув перед Аннабель Ли на колени, завопил пират. — Спасибо, матушка! Век не забуду!
— Что с тобой, Билли? — удивилась Аннабель Ли. — Не к лицу тебе такие нежности. Ай-ай-ай, стыдно.
— Нализался! — хохотнул Толстый Эдик, но, склонившись и нюхнув, пожал плечами. — Да нет, вроде трезвый.
— Это я-то нализался? — обиделся пират и вскочил на ноги. — Подожди, сухопутная крыса. Ты меня еще узнаешь. А ну, веди в комнату.
Толстый Эдик и слуга подхватили сундук и направились в таверну. Сзади, благодарно оглядываясь на «матушку», шел враскачку моряк.
Дома Аннабель Ли показала роман Стивенсона, в котором выведен буйный Билли Боне, и два вечера читала нам его вслух. Когда чтение закончилось, юнга с завистью вздохнул:
— Эх, жили же люди.
Капитан сказал, что материализовался Билли Боне не случайно, ибо образ его получился у автора очень живым, ярким и выразительным.
Однако этот оживший образ принес в земное бытие все свои привычки и вел себя слишком уж выразительно, что вызвало беспокойство у хозяина таверны. Сначала Толстый Эдик был доволен. Еще бы! Деньги так и звенели у него на прилавке.
Посетители толпами валили в трактир, выпивали, дымили и, переговариваясь, с любопытством рассматривали необычного гостя. Однако тот оказался нелюдимым. Он забивался в угол, пил ром и, озираясь по сторонам, сердито сопел носом. Однажды, накачавшись до того, что шрам на щеке побагровел, новый постоялец стукнул кулаком по столу и заорал:
— Эй, вы, на палубе! Тихо! Петь буду.
Как и предсказывала Аннабель Ли, пират заревел свою любимую песню:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Ио-хо-хо и бутылка рома! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Ио-хо-хо и бутылка рома!
Пират потребовал, чтобы ему подпевали. Встретив молчание, он разразился грубой бранью и запустил в посетителей бутылкой. Те поспешили уйти.
Утром следующего дня пират приказал хозяину привести ученых.
— Не придут они к разбойнику.
— Молчать, крыса! — заорал гость и обнажил кортик.
Перепуганный хозяин показал на берег:
— Видишь, на камне сидит человек в морской форме? Зовут его Старпом. Но он ученый человек. А вон в той двухэтажной вилле живет профессор Рум.
— Веди сначала профессора.
Идти к пьянчуге и дебоширу профессор не пожелал. Но зато старпом как будто даже подружился с пиратом, что не вызвало у меня особого удивления.
Правда, дружба у них завязывалась неровно. С балкона мы видели, как пират и старпом прохаживались вдоль каменистого и пустынного берега, то удаляясь от нас, то приближаясь. Билли Боне часто повышал голос и обнажал кортик.
— Обманешь — убью! — заорал он, приставив кортик к горлу старпома.
А тот спокойно, с какой-то даже ухмылкой — не то насмешливой, не то одобрительной — посматривал на разбушевавшегося разбойника. А когда они приблизились к нам, мы услышали его голос:
— А может, монетка твоя фальшивая?
— Врешь, гадина! Настоящая. Приходи ночью и увидишь. Светится и что-то показывает.
На другой день старпом пришел к нам и, пожимая плечами, сказал капитану:
— Не знаю, что и подумать. Монета у этого бродяги действительно светится и показывает. Может, сходим и посмотрим?
— Сходим, папа, — уговаривала Аннабель Ли. — Он же хороший и тихий как овечка.
В присутствии царицы разбойник и в самом деле вел себя как покорный и благодарный сын.
— Матушка! — просиял он и забегал, засуетился. Вытащив из сундука жемчужное ожерелье, с поклоном преподнес царице.
— Спасибо, Билли, — улыбнулась она. — Вот эти люди тебя не обманут. Это порядочные люди.
— Верю тебе, матушка. Верю, — сказал пират, но, повернувшись к мужчинам и схватившись за кортик, прошипел: — Попробуете украсть, убью.
Пират расстегнул ворот грязной рубашки, вытащил кожаный мешочек, а из него — старинную золотую монету. Погасили свечи, и монета бросила на стену расширяющийся пучок света. Мы увидели вроде бы простенький фильм, показывающий звездное небо. Но монета и таящийся в ней фильм были не без колдовства. Еще минута — и мы очутились как бы в огромной, живой, кипящей звездами Вселенной. На отдельных планетах засветились огоньки жизни и разума. И эти далекие, трудно постижимые цивилизации несли нам, как на ладонях, свои достижения. Замелькали какие-то буквы, цифры, формулы — информационные сведения многих рас и культур. Старпом и капитан переглянулись.
— В математике мы с тобой слабоваты, — сказал старпом. — Без биологов, физиков и других специалистов не обойтись.
Волшебный фильм будто понял нас и старался, чтобы приближение к тайнам мира шло иным, более образным путем. С нами творилось что-то странное, захватывающее. Будто разум наш и чувства отделились от нас и полетели сквозь световые годы, как пчелы, собирающие пыльцу для меда. Мы собирали урожай знаний, взращенный существами с иным разумом, с иным восприятием мира.
Разбойник внимательно следил за нами. Решив, что мы в достаточной степени возбуждены и заинтригованы, он спрятал монету.
— Хватит. Ставлю свои условия. Мне нужны три миллиона золотых монет, две виллы и хороший фрегат.
— Мы не вправе решать эти вопросы, — сказал старпом. — Нужны специалисты. Так что, Билли, придется подождать.
Билли согласился подождать, но времени не терял. В сундуке его нашлась новая, отлично выутюженная капитанская форма. И однажды этот оборванец поразил хозяина таверны и посетителей, спустившись в общий зал одетым с величайшей изысканностью. На черной и лихо сдвинутой на затылок треугольной шляпе белели кружева, на длинном кафтане сияли пуговицы, сверкала серебряная оправа кортика.
— Угощаю всех. — Билли Боне высыпал на стойку перед хозяином монеты.
Хозяин просиял. Как и прежде, в кабаке толпились моряки, звонкие серебряные и золотые ручейки текли в его карман беспрерывно.
— Скоро я буду богаче всех, — бахвалился Билли Боне. — У меня будет самый лучший сорокапушечный фрегат. Кто хочет в мою команду?
Желающих — очередь. В портах всегда слонялись Уволенные за пьянки и дебоши моряки. Придирчиво и со знанием дела Билли Боне выбрал сначала семерку самых отъявленных головорезов, прилично приодел их и вооружил.
Для хозяина таверны вновь наступили горькие и разорительные дни. Буйная семерка, разогнав посетителей и отказываясь платить, с утра до вечера пила ром, предавалась воспоминаниям и с восторгом подпевала своему вожаку:
Ио-хо-хо и бутылка рома!
В романе Билли Боне получил от своих собратьев страшную черную метку. Здесь же ему прислали на голубой бумаге вежливое приглашение посетить университет.
— Сами придут, — хохотал возгордившийся пират. — Приползут как миленькие.
Пришлось доктору Зайнеру и пятерым специалистам самим прийти в трактир. Дружки пирата бесцеремонно обыскали их, отобрали документы и оружие и только после этого, наградив грубой бранью, втолкнули в комнату.
Ученые стерпели и это унижение и были как будто вознаграждены, увидев на экране захватывающую панораму звездной бездны с ее секретами и, увы, дразнящими недомолвками. В несущихся из глубин информационных образах и формулах ученые вроде бы начали разбираться. Еще миг — и тайна мира, казалось, вот-вот затрепещет в их победных руках.
— Приостанови фильм, мы кое-что запишем, — попросил доктор Зайнер.
Но Билли Боне вообще прервал сеанс и спрятал волшебную монету:
— Сначала заплатите, и я отдам монетку.
После долгих споров в качестве задатка Билли Бонсу дали пока виллу и показали на стоявший в бухте большой парусник, построенный недавно для научных экспедиций.
— Так уж и быть. Твой!
Билли Боне взобрался на палубу, внимательно осмотрел парусник, оказавшийся первоклассным сорока-пушечным фрегатом, и остался доволен.
— Фрегат действительно хороший, — признал боцман. — Но наш после ремонта будет еще лучше.
Капитан остался неисправим и по-прежнему не чувствовал никакой опасности. Над Зайнером и его соратниками он добродушно подшучивал, называя их учеными пиратами.
— Эти хозяева глупенькой монеты чувствуют себя уже хозяевами Вселенной, — посмеивался он. — Чудаки.
Однако монета разочаровала, даже обидела Зайнера и его братию. Оказалась она не такой уж глупенькой и, будто живая, хитрила, дурачила ученых, водила их за нос. Не раз им казалось, что вот они, основополагающие данные, и уже готовы были сетью своих формул поймать «золотую рыбку», эту вожделенную суть мира. Но «рыбка», вильнув хвостиком, уплывала в такие запредельные глубины, откуда мир виделся словно сквозь стену струящейся воды — еще более обманчиво-неясным, расплывчатым, фантастически нереальным.
— Монета издевается! — разозлился доктор Зайнер. — Она что-то знает, но не хочет сказать, как и красавица Фрида.
— Может, она поддельная? — высказал кто-то предположение. — На планете где-то лежит настоящая.
Билли Боне тем временем два верхних этажа виллы отделал с величайшей роскошью и зажил как сказочный принц. В нижнем этаже он устроил притон для морских бродяг. Здесь Билли Боне отводил душу — пил ром, орал песни, хвастливо повествовал о своих былых приключениях.
В этот притон, встреченные улюлюканьем и свистом, пришли одураченные ученые. Они отдали пирату его монету, заявив, что она фальшивая, и потребовали вернуть фрегат.
— Йо-хо-хо и бутылка рома! — расхохотался Билли Боне. — Дурачье! Ищите ветра в море.
Фрегат и вправду с попутным ветром отплыл к архипелагам Бирюзового океана. Сначала Билли Боне сам пытался управлять кораблем, но все у него валилось из рук. Ошалевший от удачи и беспрерывно хмельной пират забыл свои капитанские навыки. Команда, такая же веселая и хмельная, не очень-то слушалась своего вожака.
Билли Боне был счастлив, когда капитаном фрегата согласился стать старпом, в котором просыпалась былая грозная энергия. С величайшей жестокостью, протрезвившей команду, он навел на корабле порядок и пообещал его хозяину привезти новые сокровища.
— Не видать Билли Бонсу своего кораблика как собственных ушей, — пророчески сказал боцман.
До нашего городка доходили разные толки и слухи о фрегате. Заплывавшие к нам моряки говорили, будто старпом-капитан обновил команду и объявил себя единственным хозяином фрегата.
— Враки! — ревел Билли Боне. — Он мой друг. Но шли дни, месяцы, а корабля с сокровищами все нет и нет. Билли Боне начал сомневаться в порядочности своего друга. Вскоре по морям и океанам понеслась молва о дьявольски удачливом капитане, который называл себя Вольным Рыцарем и которому не страшны были никакие ураганы, ибо ему покровительствовал сам Черный Джим. Билли Боне понял, кто был Вольным Рыцарем.
— Вор! Разбойник! — орал протрезвевший пират. — Поймаю! Повешу!
Билли Боне продал свою роскошную виллу и на вырученные деньги нанял лучших кораблестроителей. Он решил построить быстроходную шхуну и на ней догнать и расправиться с предателем.
Обо всем этом мы узнали уже на своем озере. Сырые промозглые туманы, частые зимние штормы заставили нас покинуть море.
Но вот пришла весна, а летом мы снова были на своей приморской вилле.
— Что-то не слышу «Йо-хо-хо и бутылка рома», — забеспокоилась царица. — Где Билли Боне?
— О нем пусть расскажет юнга. То есть, виноват, мичман, — ухмыльнулся боцман.
Вечером у камина с уютно тлеющими угольками мы услышали рассказ бывшего юнги, ставшего за этот год мичманом, о том, как Билли Боне, построив двадцатипушечную легкую шхуну, помчался в моря и океаны за своим заклятым врагом. За эти годы сорванец юнга прочитал, видимо, немало не только приключенческих книг. Он учился и у классиков владеть художественным словом. Его рассказ искрился неожиданными образами и яркими метафорами.
Мичман, конечно, многое присочинил, и получилась у него целая романтическая повесть о справедливой мести обкраденного пирата, которому автор явно симпатизировал. Изображал он приключения своего героя с такой живописной силой, что, сидя у камина, мы чувствовали дыхание моря, слышали говор его волн и зримо видели шхуну Билли Бонса — легкую как пушинка и неуловимую как ветер.
«В этом мальчике, — с досадой и грустью подумал я — пропадает великий писатель». А с каким восторгом мичман говорил о своем «Аларисе»!
— Скоро вы увидите морское диво! — с гордостью возвестил он.
В середине лета отремонтированный фрегат «Аларис» спустили на воду, и курортники ахнули, увидев голубое чудо. Весь корабль — не только паруса, но и мачты, палуба, борта — был светло-голубого цвета. Для чего, с какой целью покрасили фрегат в тона моря и неба — о том боцман помалкивал. Но догадываться стали, когда вечером, за чаем у камина, прослушали рассказ мичмана о «кабацких похождениях» боцмана. Получилась у него такая смешная юмореска, что мы хохотали до слез, а боцман, усмехнувшись, погрозил автору пальцем — не издевайся.
«Кабацкие похождения» трезвенника боцмана были не только забавными, но и полезными. Боцман не тратил попусту время. Пока ремонтировался фрегат, он захаживал в кабаки и таверны, заказывал ром и угощал моряков. Сам не пил, а, попыхивая трубкой, с удивлением и по-детски раскрыв рот (этот верзила-артист мог изобразить и дитятю), слушал собеседников, проводил, по его выражению, разведку. Он узнал много полезного для себя.
Оказывается, на морских просторах вновь появились пираты. На торговые и пассажирские суда они пока не нападали. Они искали на островах сокровища. Кладоискательство оживилось после того, как по морям и океанам разнеслась весть о фальшивой монете Билли Бонса. Все искали подлинную монету, дорогостоящую хранительницу тайны. Некоторым капитанам попадались светящиеся монеты. Фальшивые они или нет, пираты не знали. Они пока лишь развлекались: ночами на их парусах монеты показывали занятные движущиеся картинки. Наконец удачливым капитанам-кладоискателям пришла мысль посоветоваться с прославленным Вольным Рыцарем. Он ученый, он сможет определить ценность монеты. Старпом вежливо принимал гостей, просматривал их монеты — светятся ли? Потом запирал монеты в свой сейф, а капитанов-кладоискателей выпроваживал с неслыханным позором. Под хохот команды с них снимали штаны и пороли линями, как розгами.
Такого оскорбления пиратская братия стерпеть не смогла. Она решила совместными силами захватить грозный фрегат, а его капитана повесить. Старпом был доволен. Его натура не выносила бездействия, он жаждал разогнать свою тоску, окунуться в грохот пушечной пальбы, в хаос сражений.
— Помните остров Юнги? — спросил боцман.
— Как же, тот самый, туземцам которого полюбился юнга, — сказал капитан. — Большой остров вулканического происхождения.
— Недалеко от него, милях в пятидесяти, остров иного происхождения — кораллового. Здесь-то и выбрал старпом место своего постоянного обитания, сделав остров неприступным. Только по одной глубоководной горловине можно войти в его тихую лагуну. К остальным берегам не подступиться — кругом коралловые рифы. У единственного входа в лагуну старпом поставил пушки. Днем он отсиживается, а ночью…
Боцман подмигнул мичману, и тот яркими красками нарисовал интригующую и жуткую картину.
Ночь. Под тихим звездным сиянием серебрятся волны океана и белеют паруса шхуны. Это один из униженных капитанов рыщет в поисках ненавистного фрегата. В случае удачи он оповестит своих дружков-пиратов, и те налетят на фрегат со всех сторон и Растерзают, как стая хищников. Но замыслам этим сбыться не суждено. На шхуну вдруг наваливается что-то черное и громадное, как скала. Мачты рушатся, трещат борта, и шхуна идет ко дну. «Призрак! Черный призрак!» — вопят тонущие пираты. А с черной громады гремят выстрелы и раздается леденящий душу хохот.
— Это старпом, — сказал я.
— Да, это он так торжествует и пугает, — подтвердил боцман. — Он выкрасил паруса, мачты и весь фрегат в черный цвет. В ночной тьме он незаметно подкрадывается к небольшим пиратским шхунам, крепким килем таранит их, топит, а барахтающихся в воде людей расстреливает из мушкетов. Жертвами становятся иногда и торговые суда. Это старпома мало волнует. Он развлекается. А среди суеверных моряков ходит молва о страшном черном призраке.
— А твой голубой фрегат! — воскликнул капитан. — Он же ночью будет светиться как свеча. И ты собираешься незаметно подобраться к старпомовскому черному призраку?
— Нет, ночью мы будем спокойненько спать в хорошо защищенных портах. А днем наш фрегат можно увидеть лишь с близкого расстояния. Старпом и его шайка с утра заваливаются спать. Вход в лагуну достаточно широк. Утром наш фрегат невидимкой проскользнет мимо дремлющих пушкарей, и мы внезапно возьмем старпома.
— Еще тепленького, досматривающего приятные сны, — смеялся мичман.
Одним погожим летним утром фрегат «Аларис» покидал нашу бухту. Провожали его все курортники, толпившиеся на берегу. Мы с Аннабель Ли и капитаном прощались с командой на борту. Аннабель Ли, прослезившись, обнимала мичмана и боцмана, просила их оставить старпома в живых.
— Мы не кровожадные, — сказал боцман. — Мы лишь отберем у него фрегат.
— И вернете законному владельцу! — обрадовалась Аннабель Ли. — Билли Бонсу!
Мы сошли на берег. Четырехмачтовый гигант поднял голубые паруса и под крики провожающих «Попутного ветра!», набирая скорость, поплыл к синеющим в знойной дымке скалам — воротам в бухту. И вдруг корабль исчез, слившись с сиянием неба и моря.
— Призрак! — аплодировала Аннабель Ли. — Голубой призрак! Он возьмет Вольного Рыцаря!
Однако взять Вольного Рыцаря оказалось делом непростым. Он переменил место стоянки. А где, в каких морях и на каком острове он прячется, об этом знали лишь двое — доктор Зайнер и Черный Джим.
— Сущий дьявол, — жаловался на Джима боцман. — Носится над морями черной молнией и о наших передвижениях доносит старпому.
Боцман и мичман нас не забывали. Оставив фрегат на попечение старшего помощника, прилетали к нам на фрейлинах. Однажды боцман смущенно признался:
— Пришлось заключить союз с мелкой хищной рыбешкой. Ну, с этими, с униженными пиратами. Вреда от них сейчас никакого. Мечта у них одна — изловить негодяя.
— А Билли Боне? — Царица не забывала своего любимца.
— Ну, этот полезнее всех, — усмехнулся боцман. — Недавно он получил от старпома еще одну пощечину. Какую? Давай, малыш, — сказал боцман и подмигнул мичману.
Мы хохотали, слушая мичмана, поведавшего комичный случай.
Однажды из океанских туч вылетел Черный Джим и стал парить над шхуной Билли Бонса.
— Эй, Билли! — подражая голосу старпома, кричала черная птица. — Привет тебе от Вольного Рыцаря.
— Заткнись, негодяй! — заорал Билли Боне, глядя вверх и потрясая мушкетом.
— Ну что, дружок? Прошляпил фрегат? Эх ты, простофиля.
— Воры! Разбойники! — свирепел пират. — Поймаю. Обоих выпорю и повешу.
— Поймаешь? Нас? Не смеши, Билли. Куда уж тебе… Сопляк.
От столь чудовищного оскорбления пират задохнулся, и вместо проклятия из горла его вырвалось что-то невнятное:
— А вы… Вы… А… А…
Черный Джим захохотал. И в хохоте этом Билли Бонсу слышался издевательский хохот старпома.
Рассказ поражал такими образными деталями, искрился таким неподражаемым юмором, что Аннабель Ли расцеловала мичмана:
— Молодец! Какой талант!
Но капитан поразил нас, повернувшись к мичману с неожиданно суровым видом.
— Слушай, ты, вольный рыцарь! Не позволю губить талант. Отец я тебе или нет? — грозно спросил он.
— Да, папа, — оробел мичман.
— Хватит шататься по морям. Пора приниматься за дело. Я запру тебя вот в этой комнате и не выпущу, пока не напишешь рассказ. Ослушаешься — выпорю.
В голосе капитана звенела такая властная сила, что: никто не посмел заступиться за мичмана. Даже боцман. К вечеру на другой день была готова небольшая повесть «Бутылка рома».
Вечером капитан-профессор сам читал ее вслух и, подняв палец, растроганно восклицал:
— Каково! А? — И размяк, разнежился наш капитан. Увидев страдальческое, умоляющее лицо мичмана, махнул рукой и рассмеялся. — Ладно уж, разрешаю еще немного побродяжить по морям.
Рассмеялась и Аннабель Ли: люб ей был отец — и вчерашний грозный капитан, и сегодняшний умилившийся профессор.
Университетское издательство выпустило повесть «Бутылка рома» отдельной книжкой. Экземпляр ее с автографом мичман вручил и Билли Бонсу.
— Это обо мне! — хвастался тот перед своими дружками и с удвоенным рвением взялся за поиски старпома.
Однако Вольный Рыцарь, совершая ночные налеты, был все так же неуловим. О нем мы узнавали со слов капитана.
— Со старпомом где-то по ночам встречается доктор Зайнер и получает от него новые монетки, — с прежним неистребимым и огорчающим меня добродушием говорил капитан. — Неужто старпом поверил в глупые монетки? Вот чудак.
— Пойми, капитан. Монетки и ночные набеги — всего лишь старпомовские шалости. Но дьявольская сила колобродит в нем, тоска терзает. Он ищет повод, чтобы развернуться вовсю.
Я оказался прав. Доктор Зайнер окончательно разочаровался в монетках. Тайна мира, казалось ему, а через нее и абсолютная власть — все-таки во Фриде. И убедил его в этом… старпом! Трезвомыслящий, ироничный старпом! Трудно поверить, но это так. Видимо, вселенская тоска и неуемная дьявольская сила помутили его разум.
— Не поймать ему Фриду, она неуловима, — сказал капитан.
— Ну, тут все в порядке, — усмехнувшись, сказал я капитану. — Идем к старосте. Поговорим.
Староста — мужик понятливый. Он согласился с нами, что соседи — такие же люди, хоть и с другой планеты.
— И пить у нас не будут. Закрою кабак, — пообещал он.
Через день утром прилетела к нам Анютка — оживленная, со смеющимися глазами.
— Ну просто чудо! Мужики трезвые и не дерутся, женщины ходят довольные. И все улыбаются, вспоминают мичмана. Для нас он просто… ну просто солнышко после долгих дождей.
— Ну уж, солнышко, — смутился мичман.
В тот же день к вечеру мы полетели в поле, где крестьяне убирали овощи. Бросив работу, они вглядывались в снижающихся птиц и в их всадников. Узнав нас, радостно закричали:
— Мичман! Мичман!
Но мичман отправился вскоре в дальнее плавание. И скрылось солнышко за хмурыми тучами. Опять загуляли мужики, пьяными толпами, с топорами и вилами, совершали набеги на своих соседей. Мы с капитаном пытались усовестить их, но встречали лишь презрительные ухмылочки.
— Интеллигенция. Ха! Ха! Профессоры!
Тут уж, пожалуй, и мичман не спас бы положения. Не только в деревнях, но и в городах начались раздоры, переходящие в побоища с пушечной пальбой.
И вдруг повсюду наступила тревожная, какая-то суеверная тишина: в ночном небе появилась комета! Для меня она всегда была вестницей беды, но царица встретила небесную гостью аплодисментами:
— Вы только посмотрите! Огненная красавица своим хвостом подметает звездную пыль.
Ночные звезды действительно гасли в сиянии медленно плывущей кометы. Зрелише театрально красивое, но зловещее, нависшее над миром пылающим кошмаром. И страшные суеверные слухи конечно же не замедлили облететь планету.
— Конец света! Грядет Сатана! Ждите дьявола!
И дьявол не заставил себя долго ждать. Свой приход он обставил помпезно, с ловкостью опытного бутафора. Однажды над церковью, где молились крестьяне нескольких деревень, появилась туча. Огромную толпу верующих, не вместившихся в церкви, она поразила тем, что возникла в чистом небе ниоткуда и внезапно. В этой толпе была Анютка. Она-то все нам и рассказала.
Словно живая, туча шевелилась, вспухала снежными холмами и чернела провалами, какими-то пугающими безднами. Из одной такой бездны, как из зева пещеры, вылетела большая черная птица и стала кружиться над онемевшими людьми. Из когтей птицы вырвались ослепительные молнии, загрохотал гром. Однако ни один человек при этом не пострадал.
Черная птица устрашающе захохотала и ступила на землю в образе дьявола — с рогами, копытами и дымящейся шерстью, пахнущей серой. Женщины завизжали, многие из них упали в обморок.
— Да что с вами? — Дьявол в растерянности развел передними лапами. — Вы же хотели видеть меня. Вот я, любуйтесь.
Заметив в толпе попа, дьявол лапой подозвал его к себе. Тот оказался не из трусливых и, осеняя себя крестным знамением, подошел.
— Любезный сэр, — с изысканным поклоном обратился к нему дьявол (и я сразу понял, что это был Черный Джим). — Объясните господам, что я совсем не страшный.
Но поп поднял руку и возопил:
— Изыди, Сатана!
— Ах, вы желаете видеть меня в другом образе? Извольте!
Дьявол птицей взлетел к туче и скрылся в клубящейся пасти пещеры. В тот же миг с ярко освещенного солнца и пенящегося верха тучи слетела белая птица, снизилась и сошла на землю в образе ангела со снежно сверкающими крыльями.
К удивлению ангела, он вызвал в толпе еще больший страх, чем Сатана. Люди кинулись врассыпную и в ужасе кричали:
— Оборотень! Дьявол-оборотень!
— Вернитесь, — нежным голосом уговаривал ангел и вдруг загремел вслед удирающей толпе: — Какого черта вам еще нужно! Не пойму!
Мы рассмеялись, выслушав Анютку. Но девочка все еще дрожала и с недоумением глядела на нас.
— Зря вы испугались, — сказал я Анютке. — Это был не дьявол и не ангел, а Черный Джим. Мужик он неплохой и не злой.
— Но и вряд ли добрый. Он никакой, — возразила Аннабель Ли.
— Опять он! Опять он! — закричала Анютка, показывая на небо.
Над курортным городком летела черная птица и всматривалась в дома. Увидев нас на крыше-огороде, она опустилась и предстала в виде статного мужчины в черной штормовке. Черный Джим поклонился и вежливо произнес:
— Мое почтение, миледи! Мое почтение, господа!
— Ну и шуточки у тебя, Джим, — упрекнул я его. — Зачем пугаешь людей?
— Я же по-хорошему, милорд, — оправдывался Джим. — Объясните, что происходит. Обидно! Изо всех сил старался угодить людям, а они…
— А ты и не пытайся угодить. Люди сами не знают, чего хотят. Да и превращения твои попахивают дешевкой. Будь самим собой, как сейчас. Приятно посмотреть. Только вот зря служишь старпому.
— А мне он нравится, — улыбнулся Джим. — Просто здорово нравится. Вольный, как и я. И так же полон энергии. Ему бы черное оперение и крылья. Вот бы носились с ним наперегонки в грозовых тучах!..
«РАЗМЫШЛЕНИЯ О САТАНЕ»
Однако и без черных крыльев, а всего лишь под черными парусами старпом хищной ночной птицей летал по морям, топил суденышки пиратов-кладоискателей, грабил приморские города.
Днем он по-прежнему где-то скрывался, избегая встреч с «Голубым призраком» — это поэтическое название закрепилось за фрегатом боцмана.
Однажды Зайнер уговорами и лестью добился согласия Фриды попробовать еще раз поделиться своей тайной с учеными.
На этот раз обошлось без клетки. Фриду усадили за тот же «приборчик». Она старалась как могла. Расслабилась, на лице появилась отрешенная мечтательная улыбка, а глаза глядели в никому не ведомые дали. «Приборчик» считывал ее память и давал изображение. Экран засветился и на первых порах показывал то же, что и колдовские монеты — необозримое звездное небо.
— Ничего нового, — зло хмурился доктор Зайнер и вдруг с удовлетворением потер руки.
С Вселенной на экране что-то случилось. Она вздрогнула, медленно расходящиеся звезды и галактики замерли и начали сбегаться к единому центру.
— Большое Сжатие! — радовались Зайнер и его приспешники. — Тайна в Большом Взрыве! Сейчас увидим.
Зрители пожимали друг другу руки, поздравляли. Капитан усмехнулся.
— Ты пока останься с этими болванами, а я встречусь с боцманом и еще кое с кем, — шепнул он мне на ухо и ушел.
— Сейчас Вселенная перевалит через ворота сингулярности! И мы узнаем, что было до нее, увидим тайну ее рождения! — ликовали зрители.
Однако никакой особой тайны не увидели. Произошло то, что я уже видел и о чем догадывались ученые и философы всех времен и цивилизаций. Сингулярность взорвалась — и Вселенная вновь раскинулась звездами расширяющихся галактик.
Я вернулся в нашу приморскую виллу и застал капитана в обществе боцмана, мичмана и еще одного рослого светловолосого моряка.
— Знакомься, — сказал мне капитан. — Это мистер Румер, мой старший помощник. А ты будешь на моем фрегате штурманом.
— У нас же нет никакого фрегата! — удивился я.
— Как это нет? — Суровая усмешка, решительный тон капитана мне нравились. — Недавно спустили на воду четырехмачтовый парусник. Слышал?
— Не только слышал, но и видел. Прекрасный и мощный фрегат. Но он принадлежит университету.
— Мистер Румер уже подобрал команду из крепких, надежных ребят. Ночью мы захватим фрегат.
— Это же разбой!
— Как ты догадался? — И снова суровая и чуть ироническая усмешка. — А ты что предлагаешь? Что-нибудь новенькое?
Я пожал плечами и согласился, что другой возможности разгромить Вольного Рыцаря нет. Одному боцману с его «Голубым призраком» не справиться. Нужен черный призрак. Тут же решили, захватив корабль, покрасить его в черный цвет. Таким образом, ни днем ни ночью Вольный Рыцарь не будет знать покоя.
Через день к нам пришел доктор Зайнер и заявил, что Вольный Рыцарь недоволен. Он желает знать, что было до взрыва? Откуда пришла Вселенная? А главное — зачем? С какой целью?
— Ладно! Ладно! Фрида даст еще несколько сеансов, — отмахнулся капитан, а когда Зайнер ушел, с недоумением пожал плечами. — Откуда и с какой целью изволила явиться Вселенная? Да что это с ним? Неужели старпом с ума спятил?
— С ума он не спятил, а лишь слегка рехнулся, — усмехнулся я. — Это дьявольская энергия колобродит и рвет его на части, а тоска и отчаяние толкают на любые злодейства.
Словно в подтверждение моих слов, в тот же день над нами пролетел Черный Джим и сбросил записку:
«Эй, вы, милые поросята! Обыватели и диплодоки! Пошевеливайтесь, а то совсем изнежитесь и все потеряете.
Вольный Рыцарь».
— Это уже наглый вызов, — возмутился капитан. — А пошевеливаться действительно надо, иначе этот рыцарь еще что-нибудь натворит.
Билли Боне вызвался на своей шхуне незаметно доставить нас и нашу команду в гавань, где стоял новый фрегат. Старый моряк сохранил нам верность. Остальные, забыв унижения, переметнулись на сторону Вольного Рыцаря. Тот обещал им свою защиту и давал полную свободу грабить.
Была тихая звездная ночь. Серебряная луна и багровая комета расточали свой свет на другой стороне планеты. Мы бесшумно подкрались к фрегату. К счастью, все обошлось без жертв. Беспечно спавших охранников связали, заткнули им рты и на шлюпках переправили на берег. Паруса мы красили в черный цвет уже в пути.
— Итак, мы законченные черные пираты, — усмехнулся я.
Утром мы были далеко в океане. Иногда из-за горизонта выплывали белые паруса пассажирских и торговых кораблей. Их капитаны, завидев черные паруса, явно страшась Вольного Рыцаря, сворачивали в сторону. И белые паруса вновь исчезали в безмолвной сини неба и моря. Но одна небольшая шхуна бесстрашно приближалась к нам.
— Наверняка там пираты, те самые бывшие кладоискатели. Спешат за инструкциями к своему рыцарю, — усмехнулся капитан.
Наши парни на шлюпках подплыли к шхуне, взобрались на палубу и захватили ничего не подозревающих и уже изрядно подвыпивших пиратов. Без стрельбы, правда, не обошлось, но жертв не было и на этот раз. Пленников мы высадили на остров, оставив им провизию и лопаты.
— Копайте остров. Ищите свой клад, дурачье, — смеялись наши матросы.
— Хорошие ребята, — улыбнулся капитан. — В бой так и рвутся. Но мы сначала прочешем океан и выловим хищную мелюзгу. Лишим старпома его союзников. Он ничего и подозревать не будет.
Вот тут мы крепко ошиблись. Около полудня барометр начал стремительно падать, предвещая ураган. Небо заволоклось мглой и начало краснеть. Над нами словно опрокинулся огромный раскаленный котел. Духота напряглась невыносимая. Мы обливались потом, поспешно убирая паруса. Вздыбился ветер, такелажные снасти отбивали барабанную дробь.
Из гремящих туч неожиданно вылетел Черный Джим и, ступив на палубу, с деланным изумлением огляделся.
— Извините, не туда попал. Обознался, — с насмешливой вежливостью поклонился он и, захохотав, улетел.
— Ну, теперь старпом будет знать о нас все, — расстроился капитан.
Много часов фрегат взлетал на пенистые гребни высоких, как горы, волн, падал в пропасти, снова взлетал. Ураган нес его в неизвестном направлении. Но вот буря сникла, оборвалась как-то сразу и неожиданно. Ветер упал, и в снастях наступила тишина.
Но где мы? В какой части океана? Мы даже не знали, ночь сейчас или день: над нами все еще висели густые тучи. Часа через два обнажился клочок звездного неба. Мистер Румер взглянул на знакомые ему созвездия и воскликнул:
— Ого! Далековато нас занесло!
Тучи начали понемногу таять, расползаться в стороны. И вдруг палуба озарилась багровым светом. Я взглянул вверх, и мороз побежал по спине: комета! Охваченный постыдным суеверным страхом, я неотрывно глядел на вестницу бед и несчастий. Она висела так низко, что мне чудился шелест ее хвоста. Зрелище невыносимо страшное, и я перевел взгляд на море. Но и здесь не легче: на пологих волнах колыхались блики — кровавые отсветы кровавой кометы. Я посмотрел по сторонам. Не так далеко заметил что-то темное и высокое.
— Утес! — закричали матросы. — Сворачивайте! Утес!
Но то был не утес. То был Вольный Рыцарь! Коме-га чуть подсветила черные паруса его фрегата. Капитан — молодец! — сразу сообразил, кто это.
— Сети! — скомандовал он. — Натянуть абордажные сети!
Абордажные сети ставились вдоль бортов затем, чтобы нападающие не смогли перескочить на палубу. В рукопашной абордажной схватке с отчаянными головорезами наши ребята могли дрогнуть. Увы, по своей беспечности мы не приготовили заранее сети и даже не знали, где, в каком трюме они лежат.
И здесь капитан не растерялся, приняв единственно верное решение: сбить у противника мачты, лишить его парусов и, пользуясь свежеющим ветром, уйти как можно дальше. А потом искать фрегат боцмана. Одним нам с поднаторевшими в битвах пиратами не справиться.
— К бою! — скомандовал он. — Стрелять только по мачтам!
Мистер Румер и матросы поняли капитана и первыми открыли прицельный огонь. Растерявшиеся от неожиданности пираты лишь через две или три минуты опомнились и начали беспорядочную пушечную пальбу. Ядра их то перелетали, не задев и верхушек наших мачт, то шлепались перед бортом. Наши пушкари оказались куда более меткими. Мачты и только мачты были их целью. Вот бизань-мачта пиратского корабля, подбитая в самом основании, громадным своим весом навалилась на грот, сорвала с него снасти и паруса. Еще один меткий залп — и бушприт, многие реи разлетелись в щепки. Вскоре покосилась и фок-мачта.
Оба корабля
окутались клубами дыма, стрелять в пороховой мгле уже не имело смысла. Наступила тишина. Когда дым рассеялся, мы с ужасом обнаружили, что корабли как-то незаметно сблизились. Пираты мгновенно — навыков у них не отнимешь! — накинули абордажные крючья на борт нашего фрегата и притянули его к себе.
— На абордаж! — заорали старпомовские головорезы.
Облитые кровавым светом кометы, они кривлялись, строили жуткие гримасы и перепрыгивали на нашу палубу. Ошеломленные и устрашенные внезапным натиском, наши матросы беспорядочно отстреливались, отбивались пиками и пятились к другому борту. Еще немного — и они будут сброшены в море.
Но тут со мной случилось что-то необъяснимое и страшное. С невиданным и удивившим меня самого озлоблением, удесятерившим мои силы, я сделал невероятный прыжок и очутился на палубе противника. Пираты разинули рты, чем и воспользовались наши ребята. За мной побежали пятеро наших матросов. Всего пятеро. Но какие храбрецы! Внезапная атака внесла замешательство в ряды разбойников. Палуба нашего фрегата очистилась: пираты кинулись защищать своего вожака. И это было пора — мои храбрецы пробились к капитанскому мостику, где старпом, размахивая саблей, давал указания своим подчиненным.
— Штурман! Ребята! Назад! — закричал капитан. — Мы отплываем! Назад!
Но было уже поздно. Нас окружили десятки старпомовских головорезов, как никто умеющих драться врукопашную. Мои храбрецы один за другим падали, сраженные пиками и сабельными ударами. Я остался один. Наш фрегат тем временем отплыл и растворился во мгле. Нет, никого из наших я не осуждаю. Они решили, что все мы погибли.
Дальнейшее вспоминается мне как безумный кошмарный сон. Плясали звезды, в беззвучном хохоте кривилась багровая комета, а я носился по палубе, взлетал на корму и сверхъестественно, с какой-то свирепой быстротой уклонялся от пуль и летящих пик. И рубил, кромсал, рассекал людей буквально пополам. Пираты метались и с ужасом вопили:
— Дьявол! Дьявол!
— Браво! — раздался чей-то крик и хохот.
Я остановился и выронил саблю. Что это со мной? Где я? Кровавый туман в глазах рассеялся, я увидел старпома.
— Браво, художник! Браво! — с веселым изумлением восклицал он. — Ну, кто из нас теперь дьявол? А?
Я не сопротивлялся, когда мне связывали руки. Я до того обессилел, что не мог и пальцем пошевельнуть. И вдруг отшатнулся, заметив среди пиратов знакомую страшную физиономию.
— Крысоед!
— Ну конечно он, — рассмеялся старпом. — Вы же с капитаном вспоминали его. Вот он и откликнулся. Выполнил историческую миссию и явился. Вам от него не уйти.
Осклабившись и щелкая клещами, палач приближался ко мне.
— Примемся за дело? — спросил он. — Прямо сейчас?
— Ни в коем случае, — остановил его старпом. — Он мне нужен живой и невредимый.
Меня втолкнули в тесную каюту. Отлежавшись на полу с полчаса, я кое-как встал и увидел иллюминатор, зарешеченный толстыми прутьями. «Карцер для провинившихся», — понял я и, выглянув наружу, заметил в небе пылающую комету, а на палубе матросов с топорами и пилами. Они пытались выправить покосившуюся грот-мачту и поставить новые паруса. Я повалился на нары и под стук топоров и визг пил заснул. Проспал, видимо, больше суток. Очнувшись, прильнул к иллюминатору.
В сереющем предутреннем небе таяли звезды, но кометы не было. Разбойничий фрегат, очевидно, перебрался подальше от места сражения и укрылся в одном из своих убежищ — в лагуне какого-то атолла. Я догадался об этом, увидев темнеющие кругом пальмы.
Корабль просыпался. Вновь застучали топоры, завизжали пилы. Когда совсем рассвело, дверь приоткрылась, в карцер робко заглянул матрос и в ужасе отпрянул. Загремев засовами, он снова запер дверь и простоял перед ней с минуту, собираясь с духом. Потом снова осторожно открыл дверь и увидел, что я тихо и мирно сижу на нарах. Пират вошел и, поглядывая на меня, положил на табурет хлеб, поставил чашку с похлебкой.
— Как же я буду есть, когда руки за спиной связаны? — проворчал я.
Матрос начал кормить меня буквально с ложечки, как младенца. Руки его при этом дрожали от страха.
— Да не трясись ты, — усмехнулся я. — Суп расплескаешь.
После завтрака тот же матрос то и дело заглядывал в карцер. Убедившись, что дьявол стал совсем тихим и смирным, развязал мне руки. В обед он принес рагу из баранины, кашу, жареную рыбу, кофе и даже вино. Кормили меня как на убой, а после ужина, когда уже загорелись звезды, двое вооруженных пиратов вывели на прогулку. На палубе никого, один лишь часовой прохаживался с мушкетом. Из кают-компании и кубрика неслись пьяные крики и песни. Но разбойники потрудились на славу. Прочно в гнезде стояла новая бизань-мачта, с берега подняты три пушки взамен разбитых. Пираты готовились к новым боям. И готовились старательно. Не то что мы.
На берегу под веерными пальмами стоял двухэтажный дом. Окна его светились. Там, видимо, и жил сейчас главарь бандитов, наш бывший старпом.
Через полчаса меня снова заперли в карцере. Так продолжалось несколько дней. Однажды после обеда в карцер заглянул старпом и сделал крайне удивленное лицо.
— Как? Ты еще здесь? Не смылся? Не просочился сквозь стены?
— Не ломай комедию, — проворчал я. — Что думаешь делать со мной?
— Не знаю. — Старпом развел руками. — Отдать в лапы Крысоеда? Только хуже будет, от страха совсем память свою потеряешь. У тебя и сейчас, наверное, кровавый туманчик в голове после того, как воочию пробудился в тебе на миг Сатана.
— При чем тут Сатана? При чем тут дьявол? — с досадой сказал я. — Просто сам не знаю, что случилось со мной. Будто другой человек то был, а не я. Вспомню — и дурно становится, тошнота к горлу подступает.
— Охотно верю. Ну намолотил ты, полкоманды вырубил. Но я не в обиде. Этого хлама везде хватает. Сейчас у меня комплект полный. — Помолчав, старпом добавил: — А насчет дьявола не шучу. Есть в тебе что-то изначальное, крепко-накрепко забытое. Да и в моей памяти какие-то интригующие провальчики. Нам с тобой многое надо вспомнить и поговорить по душам. Поживешь пока в моей каюте. Отдохнешь, почитаешь, подумаешь.
Я смотрел на старпома, не зная что и сказать, — до того доброжелателен и доверителен был сейчас этот непостижимый негодяй.
Меня перевели в его каюту. Руки развязали, но дверь снаружи тщательно заперли. Каюта четко отражала индивидуальность владельца: воинственность и… интел лигентность. Сразу же бросаются в глаза письменный стол и большая книжная полка. Есть что почитать. На стене целая коллекция оружия: пика, две сабли, всевозможные кинжалы и кортики, абордажный топор. И ничего лишнего, никаких украшений и безделушек. Спартанскую простоту нарушали лишь висевший на стене мундир, сверкающий затейливыми аксельбантами и орденами, да брюки с золотыми кантами. Что поделаешь, старпом иной раз не прочь произвести впечатление, любит пощеголять и пофанфаронить.
Я сел за стол и окончательно убедился: старпом далеко не тот, каким был в нашем далеком прошлом. Не грубый солдафон и примитив, а человек начитанный и мыслящий. Я полистал книги, лежавшие на столе, и увидел на полях многочисленные пометки: «Чушь», «Над этим стоит подумать» — и не то одобрительные, не то иронические восклицания: «Браво!»
На столе, закапанном чернилами, стопка бумаги, тетради и ручка, которой, видать, часто пользовались. Может быть, старпом ведет дневник? Ворошит в своей памяти «интригующие провальчики»? Любопытно бы взглянуть.
Я подергал ящик стола, но он был заперт. Пошарил на столе, потом на книжных полках и нашел ключ. Открыл ящик и обнаружил тетради. Название на обложках и впрямь интригующее: «Размышления о Сатане».
Я лихорадочно раскрыл тетрадь под номером один, но тут же поспешно задвинул ящик: послышались шаги и загремели засовы двери. Принесли ужин. Потом прогулка под разгорающимися звездами и, увы, выплывающей из-за горизонта багровой кометой. Портила она мне настроение. А тут еще дикие крики из кают-компании и кубрика, хохот и свирепые песни. Матросня гуляла.
После прогулки, когда шум на корабле стал затихать, я при трех свечах развернул первую тетрадь. Здесь коротко о событиях давно минувших дней, о плавании нашего злосчастного фрегата «Аларис» по космическим морям, о мятеже. Словом, сжатый пересказ дневника, писанного еще под звездами парусника. Хорошо помню тот дневник, исчезнувший вместе с нашими бренными останками в жутких водоворотах Черной дыры. Писал его человек не очень образованный, солдафон, любящий покрасоваться золотыми кантами на штанах и аксельбантами на кителе. И в дневнике том чувствовалось такое же стремление пощеголять метафоричностью и образностью языка, своего рода литературными аксельбантами.
Вторая тетрадь «Размышлений о Сатане» относится к дням сегодняшним. И писал ее уже не простоватый старпом мятежного «Алариса», а человек весьма начитанный, отягощенный знаниями и жутковатым опытом. Но с теми же тщеславными потугами на художественную выразительность.
«Получил неожиданный дар вещественной жизни на дурацкой планете Счастливой, укрывшейся под дурацкими блаженными облаками. И удивился: сразу же нашел художника и капитана. Видать, сам черт повязал нас одной веревочкой. Куда они, туда и я. К чему бы это?
Увидел художника здесь, и вновь с необоримой силой охватило чувство, что знал его в своих прошлых скитаниях — в жизнях исчезающе далеких, как эхо эха. В жизнях смутных, как сон, увиденный во сне…
Каковы сравненьица! А? По-моему, ничего… Но к делу. Да, знавал я его. Так и чудится: живу я не в шальной галактике с ее пустотами и космическими морями, вызывающими у пришельцев изумление, а в галактике самой обыкновенной, структурно упорядоченной. Цвели у нас тогда умные, высокоразвитые цивилизации. И вдруг из глубин Вселенной явился кто-то страшный и с наслаждением бросил цветущий мир в хаос. Трещали планеты, взрывались солнца… Красивое и грозное зрелище! В грохоте гибнущего мира, словно из мира иного, в ореоле иных звезд явился дьявол.
Звездный дьявол? А не слишком ли я занесся? Часто захожу на приморскую виллу, где царит красавица Аннабель Ли, присматриваюсь к художнику и… Какой же это звездный дьявол? Даже не скажешь — обыкновенный человек. Так, жалкая заурядность».
Ну и негодяй! Никак не может без оскорблений и ругательств. Хотел отложить тетрадь в сторону, но собрался с духом и читаю дальше.
«Потерял я к художнику всякий интерес, но с удовольствием беседую с капитаном. Если художник стал еще ординарнее, чем прежде, то капитан изменился к лучшему. Поубавилось в нем командирской спеси и капитанских амбиций, явственнее проглянул его истинный профессорский лик. Ну и прекрасно! Постарел он, похудел. Но зато какая утонченность в лице, какая одухотворенность и доброта! Это посланник Божий, если не сын Его. Но в религиозную чепуху я не верю. Он обыкновенный, как и я, человек. Как и я, духом мятежный и вечно ищущий истину. Но идем мы к ней разными путями. Если Вселенная для него — видимая космическая душа, то для меня она — невидимый космический дьявол.
Неужели этого святого человека я когда-то пытал? Увы, было это. Было. В свое оправдание могу сказать, что вдохновлялся я не жестокостью, а ненавистью к материи, отягощающей дух. В криках материи пытался услышать вопли мыслящего духа и негодующий голос «космической души». И не услышал. Нет ее. Помню, с каким нетерпением я взялся за художника. Вот тут-то, думал, услышу вопли дьявола…»
Стыдно мне стало, до того стыдно, что я поморщился. Вопли, конечно, старпом услышал. Но вопли труса. Да и сам старпом с брезгливым недоумением признал, что вопил и дергался перед ним не дьявол, а, по его выражению, «какая-то размазня».
Прав, подлец! И так нехорошо, гадко стало на душе, что хотел отложить дневник. Но любопытство взяло свое. Я лишь пропустил несколько строк, обидных для меня, и читаю дальше. Тем более, что дальше старпом не копается в своем прошлом, а размышляет о мире. И размышляет, на мой взгляд, своеобразно.
«Хаос — предтеча созидания. Но какая сила вдохновляет хаос на творчество, на построение, упорядочение мира и гармонии? Законы физики, утверждают ученые. Чепуха! Законы физики возникают вместе с физическим миром, а не предшествуют ему. Но что предшествует? Космическая душа, о которой любит толковать капитан? Или нечто неведомое, угадываемое художником в его творческих исканиях, в его знаменитой метафизической печали, которая временами прорывается в метафизический ужас? Ужас ближе к правде.
Вот тут-то и открывается передо мной бездна какой-то чертовщины. Мистика! Весь мир пронизан мистикой. И что поразительно, никто этого не замечает. Философы испокон веку спорили и до сих пор спорят: идея или материя в фундаменте мира? И невдомек этим олухам, что в основании мира лежит ирония, чья-то ехидная и злая насмешка. Ирония и… мистика! Основной философский вопрос не в том, идеален мир или материален, а в том, почему он вообще есть. Вот тут-то и стукнула мне в голову догадка: его нет! Догадка до того оглушительная, что я с ужасом взираю на Вселенную. Откуда она? Зачем? А не кошмарный ли это сон?»
На этом размышления обрываются. А жаль. Ведь и у меня возникали подобные мысли. Читаю следующую тетрадь и вижу, что старпому было не до размышлений. Они послужили причиной его очередного душевного кризиса, какого-то непонятного упадка сил, из которого он выходил с громом, с остервенением, с разбойными вторжениями в жизнь людей. Вот как описывает он этот кризис и недавние события, свидетелем и участником которых был и я.
«Сегодня еще раз прошелся по пляжу курортного городка. Люди пили коктейли, флиртовали. Какой-то бессмысленный смех и бессмысленные разговоры… Потом ложились на песок и загорали. Чуть не наступил на жирного, рыхлого господина, расплескавшегося подобно медузе, выброшенной на берег волной. Рядом особа, подставившая солнцу свой огромный, как корма шхуны, зад. Тьфу! Дорвались до сладкой жизни, нежат свою подлую материю.
Знал я эту унижающую власть материи, когда был тиранозавром. Но я бунтовал, грозил лапой ночному небу — ухмыляющемуся звездному дьяволу. А сейчас что вижу? Динозавров, громадных и глупых травоядных. Диплодоками, кажется, назвали их ученые. Лежбище диплодоков, самодовольное стадо свиней, хрюкающих от блаженства. Да есть ли в этой шевелящейся массе студня хоть капля смысла?
Я ушел подальше от пляжа, сел на камень и обхватил голову руками. Душа моя полнилась тоской и ужасом. И великой ненавистью к Вселенной, создавшей свое высшее достижение — разум. Для чего создавшей? Для своей дьявольской потехи — или есть все же в этом тайный высший смысл? Временами я готов взорвать, разнести вдребезги Вселенную, только бы докопаться до ее тайн, до ее смыслов и целей. Если они вообще есть. Вот тут, быть может, и разгадка моей пресловутой жестокости. Никак не могут понять, что эта жестокость, так сказать, философская. Да, да! В своих поисках я временами впадаю в исступление и лютость. Но я лют не от природы своей, а от отчаяния. В пытках, в воплях терзаемой живой и мыслящей материи хотел вырвать ответ, услышать голос Вселенной, ее смыслоизлучающий крик».
«Философская жестокость, — усмехнулся я. — Ишь ты, к каким уловкам прибегает старпом, чтобы оправдать свою лютость. Хитер!» Читаю дальше и вижу, что старпом сам признается в глупости и безнадежности своих «философских» методов в попытках нащупать истину.
«Ну и чего я добился? — пишет далее этот «философ». — Ничего… Сижу вот сейчас на камне, раздавленный хандрой. Словно валяюсь у подножия горы, на вершине которой покоится цель моих исканий. Сизифов труд… Да, я камень Сизифа, но без Сизифа. Наделенный собственной волей и разумом, камень этот, то есть я, с тяжким трудом взбирается на вершину горы. Кажется, еще один шаг, еще миг — и я у цели. И вдруг камень срывается, с грохотом катится вниз. И мой обессиленный, избитый и покалеченный при падении разум лежит на дне пропасти. С проклятиями и стонами разум встает и еле ковыляет на своих костылях».
А ведь и впрямь недурно пишет старпом. Он мог бы стать хорошим эссеистом и даже художником слова. Невольно проникаюсь симпатией к этому страдальцу, жертве своей неуемной страсти.
Но читаю дальше. Там, кажется, что-то про нас, устроившихся в приморской вилле. Но пишет-то он как! С этакими снисходительными, иронически-барственными нотками.
«Побывал я как-то на вилле, в этой обители возвышенного отдохновения и пиршества разума. Попил чайку у пылающего камелька, поговорил всласть с интеллигентными людьми. Мило, уютно и приятно. Очень приятно! Но так жить изо дня в день, всю жизнь? О ужас! Да и чем они отличаются от дураков на пляже? Такое же торжество ублажаемой, самодовольно хрюкающей материи, полное забвение конечных смыслов и целей. Даже капитана засосало болото мещанской жизни. А художник вообще законченный пошляк.
Кстати, художник нарушил сегодня мое одиночество, присел рядом со мной на камень и начал зудеть, поддразнивать меня, подначивать. И этого пошляка, это тусклое и тоскливое ничтожество я считал космической личностью? Самим звездным дьяволом? О Господи, избавь меня от помрачения разума».
От обиды у меня запрыгали строчки перед глазами. Пытаюсь читать дальше и вижу: «ординарность», снова «пошляк». Нет, это уж слишком! Я выскочил из-за стола, не желая читать старпомовские ругательства. Этого негодяя я, видите ли, разочаровал, чуть ли не оскорбил тем, что оказался обыкновенным человеком, а не дьяволом.
Возмущенный, я ходил из угла в угол. Немного успокоился и прислушался. Тишина. Даже шагов часового на палубе не слышно. Видимо, заснул. Я взглянул на часы: впереди еще целая ночь. Я подошел к столу и конечно же не удержался от искушения. Стоя, развернул следующую тетрадь и — Боже мой! — что вижу:
«А художник мне представляется бесконечно глубокой, интересной и непонятной личностью».
«Вот это другое дело», — усмехнулся я, сел за стол и начал читать внимательно.
«Обыватель? В том-то и вся суть! Сидя сейчас за столом, я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, представить себе в воображении, каким кажется художник в земной, вещественной жизни. Особенно здесь, под блаженными облаками. И вижу: в кресле вальяжно развалился обыватель и самодовольно изрекает пошлости. Вот тут-то и выпрыгнула догадка: видимость! Это же маска дьявола! Он — вот что важно — и сам не подозревает, что носит маску. Да, первое, что бросается в глаза, — его обыкновенность, обычность. Но уж настолько нарочитая, как-то по-особому подчеркнутая, что видится в этой обычности, обыкновенности и реальности нечто необычное и… нереальное! Нереальное и страшное! Какой-то завораживающий холодок пробегает по моей спине, и сладкий испуг стучится в сердце: это он!»
Ведь как пишет подлец старпом, каким слогом! И все для того, чтобы уверить себя в моем особом происхождении. Заинтригованный не на шутку, читаю дальше.
«Не дает покоя еще одно соображение: царица Аннабель Ли всерьез увлеклась художником. Но могла ли эта романтически настроенная и неглупая особа полюбить пошляка? Да ни в коем случае! Подобно мне, она чувствует в нем какую-то страшную тайну, что-то демоническое. А перед женской интуицией я преклоняюсь.
Охотно верю, что эта заурядность ничего не помнит о своем прошлом. Ведь пролетели миллиарды веков, и прожил он множество обыкновенных человеческих жизней. И каждое новое тело, каждое новое человеческое «Я» деформировало, подавляло его изначальное и ужасное «Я». Ведь я тоже не сохранил тождество со своим истинным «Я». Смутно помню, что до глобальной гибели нашей галактики я был гогочущим и довольным своим пищеварением хлыщом, жуиром, прожигателем жизни. Боже, какой я был пошляк! Но катастрофа, блеск взрывающихся звезд, грохот рушащихся миров и ужасный лик Сатаны… И все! Погиб пошляк, его потрясенное вечное «Я» возродилось в других человеческих телах, в новых метаморфозах ковалась новая личность с неукротимым желанием понять: откуда этот вселенский ужас и зачем? Так появился под световыми парусами «Алариса» прославившийся своей жестокостью старпом.
Но вот эволюцию художника, этой ныне бесцветной личности проследить труднее. Временами чудится, что я, будучи еще тем давним хлыщом и жуиром, в момент гибели галактики и гибели своей собственной видел, как великий демон, это исчадие хаоса, сокрушив наш звездный мир, черной крылатой тенью скользит в пылевых тучах, в обломках разгромленного мира…
Ну и разгулялась моя фантазия! Ее надо бы попридержать. В одном уверен: художник — существо метафизическое. Как угодно зовите это существо — демон, дьявол, Сатана. Но он явно не наш. Появившись в нашем мире и разгромив его, — быть может, случайно, в забытьи, мимоходом, — этот дьявол принял на себя человеческое тело, прожил множество человеческих и, быть может, иных жизней и прошел такую запутанную цепь метаморфоз, что начисто забыл свое изначальное, первородное «Я». И вот сейчас в художнике, в этой подчеркнутой заурядности, таится могучая метафизическая личность. Дремлет и дает о себе знать в картинах с тревожащей душу метафизической печалью. Нет, еще раз возражу капитану: не печаль это, а тоска по утраченной и забытой родине. В его творениях — в песнях свирели или в картинах — я слышу иное: эхо, отдаленный рокот, таинственный гул иного мира.
Гений, талант… Есть в этом что-то страшновато загадочное. Обычно говорят: талант — дар Божий. Чепуха! Талант — клеймо и проклятие Сатаны. Не случайно люди особо одаренные чувствуют себя рабами этого дара. Словно кто-то неземной пишет их пером, водит их кистью. Потому их творения всегда выше, значительнее, глубже самих творцов. Да, талант — рабство, тяжкое бремя. И все же я завидую этому сладостному рабству.
Но наш художник — не раб, а сам Сатана: настолько творчество его выше всяких человеческих возможностей. Мне могут возразить, что печатью сверхчеловеческой гениальности отмечены творения многих мыслителей, писателей, художников. В их произведениях дух человеческий, закованный в вещественное тело, как бы рвется из своей материальной темницы ввысь, к небесным невыразимым смыслам. Но что характерно: создавали эти творения, как правило, люди не слишком обремененные вещественным телом, не задавленные материей, а физически слабые, тщедушные, даже болезненные. Примеров этому сколько угодно: Паскаль, Кант, Достоевский…»
Охваченный какими-то предчувствиями и тревогами, я встал из-за стола и начал ходить по каюте. О Паскале я много читал. Это был человек действительно физически хилый, болезненный, что не помешало ему, а как будто даже помогло стать гениальным. По крайней мере, так утверждают многие исследователи. Кант? Тут уж пример еще разительнее. Этот больной с детства человек прожил, правда, до глубокой старости. Но каких героических усилий ему это стоило, с каким тщанием следил он за своим здоровьем, с какой пунктуальностью ходил на лекции, на прогулки. Недаром жители Кенигсберга сверяли по нему часы. Кто такой Достоевский, я понятия не имел. Подошел к книжной полке и отыскал его роман «Братья Карамазовы». Многие строки в книге подчеркнуты, поля пестрели одобрительными пометками и восклицаниями «Браво!». Чувствовалось, что роман старпому очень нравился. Я полистал предисловие и узнал, что Достоевский тоже был человеком болезненным, довольно хилым и тщедушным. А свой гениальный роман закончил, причем с большим подъемом, за месяц до своей смерти, когда плоть его тихо угасала, таяла прямо на глазах. Вот что, оказывается, нравится старпому: дух, рвущийся из темницы бренной и ненавистной ему материи. Но я тут при чем? Разве я хиленький? Но читаю дальше.
«Художник — не Паскаль и не Достоевский. Это же здоровяк. Динозавр! И в кричащем противоречии с этой грудой материи — его поистине небесное творчество, его метафизические экстазы, порыв неземной силы.
Неземной!.. Вспомнил! Видел художника в мезозойской эре. Вернее, его бестелесную сущность, этакие смутные контуры, и слышал его игру на дудочке. Как играл, подлец! Душу так и выворачивал. Я выл от щемящей тоски, душа так и рвалась из мерзкой туши тиранозавра, из этой чудовищной тюрьмы. Вот это творчество! Но ведь предтеча творчества — хаос. И я не очень удивлюсь, если узнаю, что художник перед этим порезвился — был самим хаосом, прогулялся по планете динозавров каким-нибудь грандиозным землетрясением, разрушительными извержениями вулканов».
Догадался, подлец! Только не землетрясением я прогулялся, а с наслаждением просвистел сокрушающим ураганом. Не в этом ли секрет недавнего случая, когда я буквально дьяволом летал по палубе и в сладком исступлении рубил и кромсал людей?..
Да что это со мной? Неужели старпом убедил меня, что я и в самом деле дьявол? Дурно мне стало, до того нехорошо, что я, прервав чтение, обессиленно откинулся на спинку стула. Из зеркала напротив глянула бледная, испуганная физиономия. «И это дьявол?» — усмехнулся я и постарался собраться с силами.
Минут через пять я окончательно привел в порядок мятущиеся мысли и мужественно взялся за чтение. Вот, кажется, последняя тетрадь. И самая главная: писал ее старпом недавно, уже в те дни, когда я сидел в карцере. Признаюсь, не без опаски взялся за эту тетрадь. В ней наверняка о последнем сражении. Что же случилось со мной тогда? Да и был ли тот кошмар на самом деле? Пропускаю несколько строк, касающихся начала сражения, и читаю:
«Вот это драка! Грохот пушечной пальбы, огневые вспышки, крики «На абордаж!» и вопли раненых. Зрелище упоительно прекрасное! Душа отдыхает и ликует. Победа близка. Мои головорезы вот-вот сбросят противника в море, а пятеро из них с веревками и с сетями незаметно подкрадываются к художнику и капитану. Их я велел взять живыми и невредимыми.
И вдруг непостижимое: художник взлетает вверх и врывается на палубу моего корабля, с чудовищной, превышающей все человеческие возможности реакцией, буквально молниеносно уклоняется от пуль и летящих пик. И кромсает, с ужасающей жестокостью учиняет разгром, невиданную мясорубку… Нет, эту мистику еще надо осмыслить. Это потом, здесь что-то важное.
Сейчас мой корабль в надежном укрытии и зализывает полученные в бою раны. Весь день стоял грохот — крепили в гнезде новую бизань-мачту. Но сейчас ночь. В тишине раскладываю тетрадь, беру ручку, и в памяти возникают картины отгремевшего сражения. И вижу художника, этого свирепого рубаку. Да, это космическая личность! Воображение невольно переносится туда, в смутно припоминаемый хаос Большого Взрыва, и все видится почему-то в мифологическом тумане, в странных образах. Вот, кажется, и сам Сатана… Нет, родился он не в Большом Взрыве, а значительно раньше, пришел из непостижимой, пугающей Вечности. В хаосе первичного взрыва он лишь обрел наиболее понятный для данной Вселенной образ. Словно в дымке, вижу этот мистически ужасающий образ. До дрожи пугают глаза. Боже, что за глаза! Неуловимо меняющиеся — то черные, выворачивающие душу бездны, то докрасна раскаленные ядра в тумане…
Каково сравненьице! Ай да я! Ай да молодец! Надо же придумать такое: огненные ядра в тумане.
Впрочем, к делу. Да и бахвалиться мне особенно нечем. Тут, увы, даже сопляк юнга обгоняет меня на сотни морских миль, не говоря уже о художнике… Стоп! Осенило! Художник!.. Здесь-то и кроется сокрушающе ясное доказательство того, что он — сверхприродное существо — дьявол.
Да, да! Сатана под личиной художника! Да еще под какой ловкой личиной — этакого простенького пошляка».
Здесь я невольно поморщился, но, сплюнув, продолжаю читать.
«Еще под звездными парусами «Алариса» меня поразили его картины. А здесь, на этой блаженной планете, я все понял. Правда, не сразу, а только сейчас. Но понял, озарило. Его последняя картина «На абордаж!» потрясает. В ней-то художник и таящийся в нем Сатана допустили явную оплошность: слишком уж неосторожно шагнул за пределы земных вероятностей и с головой выдал себя, невольно раскрыл свое инкогнито. Воссоздал в своей картине не то, что было, а то, что будет: ночь, звезды, зловещий лик кометы и битва на палубах двух кораблей. Сейчас, когда кровавая битва под багровой кометой уже завершилась, картина-дьявол стоит спикойненько в мастерской и насмешливо ухмыляется. Как не ухмыляться: ведь ее пророчество сбылось».
Пророчество! Это слово оглушило меня, ударило обухом по голове. И сразу же выскочила другая, еще более страшная догадка: «А что, если уже не стоит и не ухмыляется?!»
Я заметался по каюте, а в голове так и вертелось: «А что, если уже не стоит и не ухмыляется?..» Это надо проверить. Немедленно бежать и проверить. Но как бежать? Я подошел к иллюминатору и высунулся. Голова прошла. Но талия… Боже мой! И в самом деле брюшко как у динозавра. До чего я здесь опустился! Нет, в иллюминатор мне не пролезть. К тому же начали гаснуть звезды, вот-вот займется заря. А в светлое время суток о побеге и думать нечего.
Я сел за стол и сделал вид, что читаю книгу. И вовремя: снаружи загремели дверные засовы, два матроса принесли завтрак. Когда они ушли, стал ждать ремонтных работ. Начались они только через час. Под грохот топоров и визжание пил я отодвинул кровать, снял со стены абордажный топор и в углу начал осторожно вырубать дыру. Внизу под каютой старпома, как я знал, — трюм с бочонками пресной воды. К обеду закончил работу, поставил кровать на место и с книгой в руках улегся на постель.
Потом ужин, прогулка, я с нетерпением ждал темноты. Наконец на палубе все затихло, не слышно даже шагов часового. Я отодвинул кровать, просунул в дыру ноги и спрыгнул до того неловко, что ушиб колено и повалил пустой бочонок. Тот с гулким грохотом покатился. Я замер и прислушался. Тишина. В непроглядной тьме отыскал дверь и вошел в соседний трюм. В углу, в углублении, нащупал пушечные ядра. Рядом на полу ящики с порохом. Это была крюйт-камера.
На палубе послышались шаги. Присев, я затаился между ящиками. Вверху со скрипом открылся люк, и я увидел звездное небо и матроса, спускавшегося по лестнице.
— Посвети! — сиплым голосом крикнул он. Сверху упал свет фонаря. Матрос наверху, ругая боцмана, который среди ночи приказал очистить палубу, начал швырять вниз мешочки с порохом.
— Эй, ловкач! — засмеялся он. — Лови.
Матрос внизу ловил мешочки и в самом деле с ловкостью циркового жонглера. Вскоре матрос наверху, все еще поругивая боцмана, ушел спать. Матрос, оставшийся в крюйт-камере, в темноте нащупал пустой ящик и побросал туда мешочки с порохом, потом уселся и — о ужас! — закурил. Достаточно одной искры — и корабль взлетит на воздух.
Докурив, матрос бросил цигарку на пол, по лестнице поднялся на палубу и опустил крышку люка. Я схватил тлеющую в темноте цигарку, поплевал на нее и сунул в карман. Потом поднялся вверх, открыл люк и осторожно высунул голову.
Сидя прислонившись к стене камбуза, сладко похрапывал часовой. Однако слева, там, где находилась шлюпка, которую я собирался спустить на воду, какой-то тип облокотился на фальшборт и задумчиво смотрел вдаль. Что делать? Убить? От одной этой мысли тошнота подступила к горлу. Нет, не могу. Оглушить и кляпом заткнуть рот? Я осторожно подкрался и понял, что этого типа невозможно ни убить, ни оглушить. Это был Черный Джим.
— Милорд? — Обернувшись, Джим растерянно заморгал глазами. — На прогулку? Так поздно?
— Честно признаюсь, Джим. Хочу бежать и прошу тебя помочь.
— Нет, нет! Ты убьешь моего друга.
— Нет, Джим. Сейчас я никого не способен убить. Даже муху. Он и сам знает это. В его каюте на стене все виды оружия, и можно было бы давно прикончить его. А вот не могу.
— А кто же тогда с саблей летал по палубе?
— Вот этого, Джим, объяснить себе до сих пор не могу.
— А может быть, то был кто-то другой? Похожий?
— Вот это и хочу проверить. Летим и вместе посмотрим.
— А потом?
— А потом мы вернемся.
— Верю, мой честный и благородный милорд. Садись.
Бесшумной черной птицей понес меня Джим над ночными океанскими просторами. На остров прибыли, когда забрезжила заря. Озерные девы еще спали в своих гнездах — сиреневых тучках. Но в одной из башенок дворца окна уже светились.
— Скорее туда! — дернул я за рукав Джима.
В башенке, горько задумавшись, сидела за столом Аннабель Ли.
— Жив! — обрадовалась она и кинулась мне на шею. — Жив! Жив! Я так и знала.
— Скорее! Туда! — крикнул я и схватил ее за руку.
— Куда туда? — улыбнулась Аннабель Ли.
— Милорд желает знать, — объяснил за меня Черный Джим, которому я успел кое-что рассказать, — на месте ли его картина. Ну, эта… страшная картина — «На абордаж!».
— А куда ей деваться? — удивилась Аннабель Ли. — Стоит на месте.
— А вдруг уже не стоит и не ухмыляется? — размахивая руками, закричал я. — Скорее туда!
— Да что с тобой стряслось? — не на шутку встревожилась Аннабель Ли. — Что за несуразности ты говоришь? И вид у тебя какой-то взъерошенный.
— Пойдем в мастерскую и посмотрим, — успокоившись, сказал я. — Узнаем, кто я такой на самом деле. Там никто не был?
— Не волнуйся, дорогой. Мастерская заперта, и никто там не был. И не торопись.
Аннабель Ли отыскала ключ и не спеша погасила свечи. К мастерской мы подошли, когда солнце уже позолотило верхушки деревьев и первые лучи брызнули в окна.
Аннабель Ли, все так же не спеша, желая, чтобы мое непонятное ей волнение, улеглось, вошла в мастерскую, но, вскрикнув, попятилась. Картина исчезла! Все как будто было на месте. Подрамник, как всегда, стоял на табуретке. На нем надпись «На абордаж!» и моя подпись. Но холст в подрамнике совершенно чист! И багровая комета, и палуба, залитая кровью, и блеск обнаженных сабель — все детали, все краски словно снялись с холста, улетели в морскую даль и там… ожили! Это было дьявольское сотворение действительности! Вымысел Сатаны стал реальностью!
— Мистика, — в ужасе прошептала Аннабель Ли и, кажется, начала догадываться. — Неужели картина ожила там?.. В море?
Я пошатнулся. Огромным усилием воли совладал с собой, опустился перед Аннабель Ли на колени и сказал:
— Прости, дорогая. Я не знал, кто я такой. Понимаешь теперь, с кем ты связалась? Я дьявол. Я Сатана.
Аннабель Ли проявила удивительное хладнокровие. Тактично поступил и Джим.
— Милорд, вам с миледи, как вижу, надо во многом разобраться. Не буду мешать. Улетаю обратно. До свидания.
Аннабель Ли усадила меня на диван и села рядом:
— Вот теперь послушаю, что все это значит.
Я рассказал о сражении с пиратами, о чудовищном побоище, которое я учинил, о моем пленении и о старпомовских «Размышлениях о Сатане».
— Ну, для него вообще весь мир — Сатана. Неистовствует, мечется и обряжает свои мятущиеся мысли в мифологические образы. Он и сам не прочь принарядиться, покрасоваться, — улыбнулась Аннабель Ли и, посерьезнев, добавила: — И при этом он человек поразительный. Человек великой страсти.
— Ты рассуждаешь так спокойно, как будто ничего не случилось.
— А что, собственно, случилось? — удивилась Аннабель Ли. — О том, что ты особенный, я давно догадывалась.
— Особенный? И ничего больше? — усмехнулся я. — А теперь посмотри, что вытворяет этот «особенный» человек. Эту картину никто еще не видел. Так вот, полюбуйся.
Я сдернул с картины «Пепел» покрывало. Аннабель Ли вскочила на ноги и уставилась на полотно. В ее расширившихся глазах — и удивление, и ужас, и восхищение.
— Да, это странная картина, — прошептала она. — Картина страшной силы и гениальности. — Вздрогнув, она посмотрела на меня. — Неужели и эта уйдет с полотна? Станет будущим нашей планеты?
— Вот именно! — воскликнул я. — Это пророчество дьявола! Но я не дам сбыться этому пророчеству! Не позволю!
Я схватил лежавший на подоконнике кортик и разъяренным зверем накинулся на картину.
— Остановись! — закричала Аннабель Ли. — Не рви! Это гениальное творение!
Но я в сладком исступлении — разрушать тоже приятно! — полосовал, кромсал картину и с наслаждением слышал, как трещит полотно. Отошел назад и полюбовался: в подрамнике висели куски холста, какие-то безобразные лохмотья.
И вдруг волосы у меня встали дыбом. Аннабель Ли вскрикнула. Лохмотья, клочья холста зашевелились, как змеи, потянулись вверх, вставали на свои места и… срастались. Еще секунда-две — и картина восстановилась!
В ужасе мы бросились из мастерской. Но в коридоре Аннабель Ли неожиданно остановилась и рассмеялась. Удивительная женщина!
— Боже мой! Какие мы трусы. Это же красиво. Просто здорово. Идем назад и полюбуемся.
В мастерской картина стояла как ни в чем не бывало. Аннабель Ли бережно закрыла ее покрывалом и с философским спокойствием изрекла:
— Чему быть, того не миновать. Пусть летит планета Счастливая в преисподнюю. Туда ей и дорога.
— Но я-то! Все это говорит о том…
— Что ты Сатана? Ну и прекрасно! — рассмеялась Аннабель Ли и, посерьезнев, сказала: — Никакой ты не мистический дьявол. Ты человек какого-то таинственного происхождения. Разве я полюбила бы другого? С тобой связано что-то грандиозное и романтическое.
— Разрушительное и злое, — добавил я. — Прав негодяй старпом. Сатана я! Дьявол!
— Перестань! — рассердилась Аннабель Ли. — Ты гениальный художник. А в гениальности всегда есть что-то сатанинское и разрушительное. Созидание и разрушение — одно и то же.
«Вот это да! — мысленно ахнул я. — Прямо-таки Гераклит».
— Ну что ты так странно смотришь на меня? Как будто видишь впервые.
— Ты сказала сейчас удивительно мудрую вещь. Она меня даже несколько успокоила. Может быть, все дело в моем особом даровании?
— Успокоился? Вот и хорошо. Сейчас пойдем и позавтракаем.
За завтраком нам прислуживали проснувшиеся птицы-фрейлины. Две птицы полетели к боцману и капитану, чтобы оповестить их о моем побеге из плена. Аннабель Ли попросила подробнее рассказать о бойне на корабле старпома. Слушала она, как я и ожидал, с детским восхищением и страхом.
— Летал по палубе ураганом и рубил, кромсал? Как это здорово! Как красиво!
— Но я же изрубил десятки людей.
— Пиратов? Ну и что? Думаешь, что это зло? Это еще как сказать.
— Но я совершил немало и космических подвигов. Явно злых. Ну, например, сокрушительным ураганом пронесся по той планете, где потом обосновался старпом-тиранозавр.
— Ну и что?
— Как — что? Здесь дело нечистое. Непонятно как, но я невольно помог старпому в его злых делах, даже принудил его. Именно невольно, словно я попал в какую-то паутину… Сообразил! Этот гад все знает! Это он для меня и старпома сплел паутину! Это он вычислил!
— Ты имеешь в виду Великого Вычислителя? Сейчас слетаем к нему и узнаем. Кстати, как он там?
Великий Вычислитель явно процветал. Наши птицы, снизившись, кружили над болотом, и мы видели его хорошо ухоженные плантации-островки и ровные ряды кочек с болотными кустарниками и широколиственными травами. Вычислитель грелся на солнышке и длинным языком слизывал с листьев гусениц, выхватывал из воды мальков. На его широком лбу-экране с большой приятностью проплывали голубые, розовые, алые круги и облака. «Вот еще один обыватель, — подумал я. — Вот где болото беззаботной и сытой жизни».
К нашему визиту Вычислитель отнесся настороженно. Но мы задобрили его, похвалив плантации.
— Да, хорошо здесь. Кругом дерутся, а у нас тихо, уютно. Никто не трогает. Кому нужно болото?
— Чем же кончится всепланетная заваруха? — спросил я.
— А мне плевать, чем она кончится, — высокомерно ответила жаба, уверенная в своей безопасности.
— Ладно, процветай, — усмехнулся я. — Вернемся к давним временам. Помнишь, как ты вычислил старпому жизнь в мезозойской эре?
— О, это была моя блестящая операция. — На экране Вычислителя хвастливо завальсировали розовые круги. — Удивляешься, откуда я почерпнул подробную информацию, не побывав в той части Вселенной? Космос живет единой жизнью. Со всех сторон, в том числе с той планеты, ко мне неслись электромагнитные, гравитационные и многие другие волны. И я видел планету как на экране. Видел чудовищный ураган, взрыв сверхновой звезды. В этот момент по моей подсказке и десантировался ваш старпом, вылупился из яйца. И кем? Тиранозавром! Остроумно, не правда ли?
Вычислитель захихикал, на лбу-экране весело заплясали цветные круги.
— Старпом удачно влился в биологический поток планеты и прожил многие жизни, полные величия и могущества… Он доволен. И я тоже. Это мое вершинное достижение. Бывали у меня и другие успехи. О, какие были вычисления! Какой блеск! Какое остроумие! Вот послушайте.
Вместе со старостью у жабы развились и ее пороки — болтливость и хвастливость. Я остановил ее:
— Хорошо, хорошо! Потом. Меня тревожит моя собственная роль во всей этой истории.
— Не пойму, откуда ты взялся в тот момент? Но твоя встреча со старпомом-тиранозавром не оставила ни малейшего следа в истории планеты. Не волнуйся.
«Врет и хитрит жаба», — подумал я и спросил:
— А ураган?
— О, ураган сыграл большую роль. Какую? Не помню. Но я блестяще вычислил все последствия урагана.
— Так то был я. Я прогремел ураганом.
— Не понимаю. — На экране Вычислителя лениво заколыхались формулы и цифры. Они дрожали, кривились и вскоре погасли. — Нет, ничего не пойму.
— То был живой, одушевленный ураган, — втолковывал я жабе и про себя думал: «Наверняка опять хитрит и виляет, негодяй». — То был Сатана в образе урагана. То дьявол пронесся по планете ураганом, и дьявол этот — я.
Вычислитель отшатнулся, испуганно вылупил на меня свои огромные мутно-зеленые жабьи глаза и в ужасе замахал передними лапами:
— Нет, нет! То было естественное явление. Никакого дьявола не бывает. Зачем издеваешься надо мной! Я не верю в мистику. Я материалист!
— Да иди ты к черту со своим материализмом! — разозлился я.
Аннабель Ли рассмеялась, с трудом помирила нас и попыталась оживить беседу. Но Вычислитель смотрел на нас с недоверием, по его экрану ползли неприветливые хмурые тучи. Ничего не добившись, мы вернулись домой.
ЧЕРНЫЙ ДЖИМ
Вернулись вовремя: только что на остров наш прибыли боцман и капитан.
— Невероятно! — с радостью и удивлением воскликнул капитан. — Жив и здоров! Но мы же видели…
— Ничего вы не видели. Темно было, и не видели главного: я вырубил полкоманды пиратов.
— Полкоманды? — Капитан-профессор в недоумении заморгал глазами.
— Потом я объясню, если это вообще поддается объяснению. Сначала обсудим, как разгромить Вольного Рыцаря.
Во дворце нас уже ожидал роскошный обед с вином, свежими фруктами и конечно же чаем. Фрейлины растопили даже камин. И, увы, все покатилось по привычной обывательской дорожке. Видать, годы уютной и безмятежной жизни основательно
подточили нашу волю и энергию.
Правда, боцман еще какое-то время беспокоился и нервничал. Ведь в его отсутствие капитаном фрегата «Голубой призрак» стал мичман. Справится ли?
— Справится, — успокаивал капитан. — Парень он толковый. Правда, мальчишка еще. Но рядом мой фрегат с мистером Румером. Тот удержит его от мальчишества. А Вольному Рыцарю теперь не до нас. Представляю, с какими проклятиями он носится сейчас по палубе, обнаружив побег штурмана.
Но старпом не терял голову. Напротив, он развил бурную деятельность, привел свой фрегат в боевую готовность и ухитрился заманить мичмана в ловушку. О ней я начал догадываться, как только птицы-фрейлины доставили нас на остров, где укрывались наши корабли. Но фрегата мичмана уже не было на месте.
— Отплыл вчера к острову Юнги, — улыбаясь, сказал мистер Румер. Благодушия и беспечности у него тоже, видать, было в избытке. — Очень уж захотелось мичману повидаться со своими туземцами. От них у него были какие-то вестники.
— То были вестники не от туземцев! — сообразил я. — То были старпомовские шпионы и провокаторы. Уж я-то знаю этого ловкача. Он хочет разъединить наши корабли и разбить поодиночке.
— Ты, как всегда, паникуешь и преувеличиваешь опасность, — проворчал капитан. — Но все же надо догнать и вернуть. Но как догнать? — Капитан вдруг вспомнил о птицах, не успевших улететь на свое озеро: — Подружки, выручите. Догоните мичмана.
Но птицы-фрейлины выручить не смогли. Начинался шторм, и в грозовых тучах они были беспомощны. К тому же до ужаса боялись Черного Джима.
К счастью, стараниями мистера Румера фрегат «Черный призрак» был давно отремонтирован, оснащен боевыми припасами, и, как только буря начала утихать, мы подняли паруса. К ночи шторм прекратился, и наш фрегат черной невидимкой мчался под чистым звездным небом. Кометы, к моему облегчению, уже не было. Как и моя картина, она выполнила свою зловещую миссию и удалилась в космические мглистые дали.
Мы всматривались в ночной горизонт и наконец увидели фрегат мичмана — его голубые паруса светились под луной как свечи. Но занималась заря, и я высказал опасение, что днем наш чернопарусный корабль мичман примет за фрегат старпома.
— А мы подадим знак, что его догоняют свои, — сказал капитан и подмигнул боцману. Настроение у благодушного профессора, взявшегося за капитанское дело, заметно повысилось.
Боцман понял подмигивание капитана, и с рассветом, когда заголубели морские дали, с нашего корабля прогремели два пушечных выстрела и через короткий промежуток времени еще один. Это и был заранее обговоренный знак, что мы свои. Немного спустя в ответ мы услышали такой же сигнал. Мичман дал знать, что понял нас. Но скорости не сбавлял.
— Ну, мальчишка, ну, сорванец! — хмурился капитан. — Догоню и выпорю.
Шторма, к счастью, не предвиделось, и весь день шла гонка за голубым и едва различимым фрегатом. Временами он совсем исчезал, сливаясь с голубизной моря и неба. Однако ночью мы уже совсем близко видели его сияющие паруса, а утром показался остров Юнги.
— Недобрым кажется он мне сегодня, — сказал я, когда мы подплыли к острову. Голубой фрегат мичмана уже входил в бухту.
— Интуиция художника? — улыбнулся капитан, довольный тем, что корабли наши соединились. — Ошибается твоя сверхчуткая интуиция. Ошибается. Остров гостеприимен, как всегда. Я уже вижу утренние костры туземцев.
Костры действительно дымились, но не слышно было ни звуков бубна, ни приветственных восклицаний, что должно было бы нас насторожить. Вслед за фрегатом мичмана мы вошли в глубоководную бухту — кратер затонувшего вулкана. Вдали, среди лесистых гор, курилась дымком вершина действующего вулкана, готового в любой день проснуться.
Слева и справа скалистые склоны бухты поросли густым кустарником, впереди под пальмами желтели островерхие крыши хижин. На берегу толпа туземцев, но молчаливых и хмурых.
— Почему молчите? Что случилось? — кричал мичман. Он уже успел спустить шлюпку и с матросами подплывал к берегу.
— Юнга, берегись! Назад! — крикнул кто-то в толпе.
— Заткнись, скотина! — Откуда-то сзади выскочил пират и выстрелил в кричавшего туземца.
Толпа рассыпалась — туземцы бросились в хижины за оружием. Женщины заметались и, увлекая за собой Детей, побежали в рощу. За женщинами, оказывается, и прятались пираты.
— Засада! — сообразил капитан и подскочил к борту: — Мичман, назад! Мальчик мой, назад!
Но тот был уже на берегу и с кортиком в руке кинулся защищать женщин. Его окружили разбойники и начали связывать ему руки. На выручку к мичману поспешили выбегавшие из хижин туземцы. Но что они могли сделать со своими кинжалами и дротиками против сабель и мушкетов? Загремели выстрелы. Островитяне, отбиваясь, отступали в лес.
— Пушки к бою! — скомандовал капитан. — Огонь картечью!
— В кого картечью? — резонно возразил мистер Румер. — В мичмана? В туземцев?
Он был прав. Все смешалось в рукопашном бою. Вскоре сражающиеся скрылись в лесу. Мы так и не разобрали, успели островитяне освободить мичмана или нет.
— Мальчик мой! — застонал капитан и рухнул перед нами на колени. — Братцы, казните меня! Я во всем виноват!
— Мы все виноваты. Но и сейчас еще не все потеряно. Освободим мичмана, — успокоил я капитана и заставил его встать на ноги. У меня самого, однако, было тревожно на душе: так просто не уйти из бухты-кратера. Здесь мы словно в ловушке. Но какой подвох, какую неожиданность мог придумать старпом? Не слишком ли полагаюсь я на свою интуицию? Не мнительность ли это?
А капитан наш совсем плох. Что-то сломалось в его душе. Ничего не осталось от былой бравады, от капитанских замашек.
— Принимай корабль, штурман, — устало проговорил он и сорвал с себя погоны.
— Говорю же, что не все потеряно. Смотри, какой молодец боцман. Он посадил в шлюпки десант. Мы сделаем то же самое и догоним в лесу пиратов, освободим мичмана, — сказал я и приказал своим матросам: — Шлюпки на воду!
Этого как раз и ждали разбойники. Мы не знали, что на каменистых уступах бухты, в расщелинах и в кустарнике стояли их хорошо замаскированные пушки. После первого же прицельного залпа наши шлюпки, плывшие к берегу, разлетелись в щепки. Матросы бросились вплавь к своим кораблям. Их в упор расстреливали пушечной картечью. Фрегаты боцмана и мой (я принял командование) лишились многих матросов.
Загрохотали и наши пушки. Мы били по скалам и кустарникам наугад. Наши же корабли стояли перед пиратами как на ладони. После их второго прицельного залпа бизань-мачта и камбуз, словно срезанные бритвой, полетели за борт. Еще большему разгрому подвергся фрегат боцмана. У них загорелась палуба, красивые бело-голубые паруса вспыхивали как бумага. Мачты и реи, охваченные пламенем, падали в воду. Стрельба с обеих сторон стала беспорядочной, но еще более ожесточенной. Бухта наполнилась пороховой гарью, а грохот, многократно отраженный эхом, стоял как при землетрясении или извержении вулкана. Бухта-кратер из-за дыма, густо взметнувшегося к небу, издали, вероятно, и впрямь походила на проснувшийся вулкан.
Капитанский мостик подо мной затрещал и покосился. Многие пушки на моем фрегате замолкли. Я не знал, были они разбиты или погибли их расчеты. Не мог узнать и того, что делается на фрегате боцмана: все скрылось за густыми клубами дыма. Небо потемнело, и лишь диск солнца, словно запачканный сажей, еле выглядывал с высоты. В клубящейся мгле я перестал видеть и палубу своего корабля. Последнее, что заметил, — безучастно сгорбленная фигурка капитана. Он явно подставлял себя под картечь и мушкетные пули.
Но пальба в таких условиях стала бессмысленной. Еще два-три выстрела с невидимых берегов, и в бухте наступила тишина. Поднявшийся ветерок относил в сторону дым. Стало чуть светлее, и в это время с незаметно подплывших шлюпок ворвались на нашу палубу пираты. С гиканьем и свистом они прикончили двух или трех метавшихся по палубе матросов — все, что оставалось от моего экипажа.
— Этого взять живым! — крикнул кто-то из пиратов, показывая на капитана.
Его спеленали как ребенка. Я выхватил саблю и пытался сопротивляться, но запутался в сброшенной сверху сетке. Когда мгла совсем рассеялась, пираты узнали меня.
— Попался! Дьявол попался! — кричали они и, хохоча, скакали вокруг меня. Веселились, однако, с опаской. — Свяжите его! Да покрепче!
Меня привязали к грот-мачте. Рядом посадили капитана, а вскоре и связанного боцмана, доставленного с его горящего фрегата.
Фрегат боцмана пылал как факел. Потом покосился и, зашипев гаснущей головешкой, погрузился в воду. На моем корабле пираты убрали рухнувшие реи, подмели палубу. Потом подвели корабль ближе к берегу и бросили якорь. Действовали разбойники быстро и слаженно. Чувствовалось, что Вольный Рыцарь вышколил их и держал в крепких руках. Лишь закончив работу, они разбрелись по каютам в поисках наживы.
— Братва! Смотрите, какая шикарная добыча! — весело кричал пират, поднимаясь из кают-компании.
На палубу вывели… Аннабель Ли.
— Ты здесь! — ужаснулся я.
Она, опустив голову, молчала. Из каюткомпании вышел, к моему удивлению, и Черный Джим.
— Ну, это наш, — с уважением говорили пираты. Увидев меня, Джим вежливо поклонился:
— Милорд, это я виноват. В дыму и грохоте доставил ее сюда и спрятал в каюте. Очень уж хотелось миледи посмотреть сражение. Я же не знал, что вы такие недотепы. Попали в такую простенькую ловушку. Эх вы, растяпы! Нет, Вольный Рыцарь лучше. Да вот и он.
В бухту медленно и торжественно вплывал старпомовский корабль. Изменился он неузнаваемо. Вместо черных парусов — белые, палуба, мачты и корпус — голубого цвета. Фрегат-красавец! Под стать ему на капитанском мостике и сам старпом во всем своем блеске: белые перчатки, аксельбанты, ордена. Пришел его звездный час! Его неукротимая энергия играла, веселилась, искала выход в шутовстве и клоунаде.
— Милые мои! — Старпом протянул к нам руки с издевательски приветливой улыбкой. И каких только улыбочек тут не было: и растроганно-учтивые, и умильно-жалостливые, и — Боже мой! — этот негодяй даже прослезился. — Как я истосковался! Наконец-то вы посетили меня. Какое счастье. Ба! И прекрасная дама здесь? Вот неожиданность. Вот приятный сюрприз. Ну идите же ко мне, милые поросята. Идите.
Разбойники ржали. Шуточки своего вожака они обожали и сами в этом старались не отставать. Нас они развязали, с усмешечками, с неуклюжей и слащавой вежливостью перевезли на свой фрегат и усадили на стульях под тенью повисших парусов. Ветер улегся, в бухте стояла знойная тишина.
— Жарко. — Боцман рукавом вытер на лице пот.
— Будет еще жарче, — храбрясь, сказал я. — Радушие этого негодяя не сулит ничего хорошего.
Гостеприимство Вольного Рыцаря не знало границ. Перед нами поставили стол, расстелили ослепительно белую скатерть и принесли хрустальные бокалы с прохладительными напитками.
— Пива боцману! Пива! — воскликнул старпом. — Милые мои. И как это вы надумали посетить меня? Тронут. До слез тронут.
Расхаживая перед нами и потирая руки, старпом расточал свои зловещие шуточки и рассыпал учтивости, от которых мороз пробегал по спине. Но простодушный Джим старпомовские выкрутасы принял за чистую монету.
— Видите, какой Вольный Рыцарь, — подмигнул он нам. — Крут, но милостив. Все прощает.
— Верно, Джим! Верно! — рассмеялся старпом и распорядился принести нам обед. Меня он, однако, пригласил к себе в каюту.
Я увидел знакомый письменный стол, книжную полку, кровать. Дыра под ней была уже тщательно заделана, новые доски покрашены. Оружие на стене вычищено до блеска, на корешках книг ни пылинки. Каюта аккуратного, интеллигентного, философствующего… разбойника.
— Присаживайся, — неожиданно усталым голосом сказал старпом.
Я сел на единственный в каюте стул, старпом на кровать. Наигранной издевательской учтивости как не бывало. Передо мной совсем другой человек.
— Измаялся я, художник. Понимаешь? Ночами не сплю и все думаю, думаю. Помоги мне. Ты же не от мира сего, есть в тебе, как сказал бы капитан, что-то метафизическое. Об этом говорят, просто кричат твои картины. А тут еще мистический эпизодик, когда ты искромсал полкоманды. Как это тебе удалось? А? Может быть, почувствовал некий толчок иного мира? Не помнишь? Вот я и боюсь, что ты все понемногу забываешь. Угасает в тебе Сатана, вырождается в обыкновенного человека. И на кой черт ты мне тогда нужен? Скучно, одиноко мне будет без Сатаны, — усмехнулся старпом и, посерьезнев, продолжал: — Сейчас я чувствую себя на каком-то подъеме, на вершине горы, как сизифов камень… Извини, ты не понимаешь, о каком камне говорю.
— Нет, я все понимаю. Читал твои дневники.
— Читал? Вот и прекрасно. — Старпом с облегчением улыбнулся. — Так мы быстрее столкуемся.
И что-то дрогнуло в моей душе, отлегло от сердца. Сумел-таки этот мученик идеи-страсти расположить к себе, почти растрогать. Я поведал о своих сомнениях, какие возникали при чтении дневников, о смутных воспоминаниях и… о моей исчезнувшей картине.
— Вот как! — От изумления и радости старпом вскочил. — Даже исчезла! Ты сотворил не картину, а действительность? Грандиозно! Это надо записать и осмыслить.
Старпом сел на кровать, положил на стол чистую тетрадь и начал писать с сияющим, почти вдохновенным лицом. «Что бы ты запел, если бы узнал о моей мистической картине «Пепел»?» — подумал я.
— Грандиозно, — то и дело шептал старпом. — Сизифов камень на вершине… Я у цели.
Оторвавшись от тетради, старпом ткнул пальцем вверх, словно над нами не потолок каюты, а звездное небо.
— К чему этот вечный огненный поток? Что это? Чья-то дурацкая и злая выдумка? — задумчиво проговорил старпом. — Нет, тут тайна. Быть может, великая цель и великий смысл. Ты художник, вот ты и подумай: что вечно сияет над нами? Что это? Бред и бессмысленная мазня сумасшедшего живописца или гениальная композиция? Иди, художник, вспоминай и думай.
Я встал и направился к двери. И вдруг…
— Стой! Вернись! Осенило! Старпом встал и посмотрел на меня с каким-то завороженным видом, с почтительным страхом.
— Грандиозно! — шептал он. — Мистический эпизодик на палубе корабля — просто шуточка, отголосок, угасающее эхо былого могущества. А раньше… Помнишь мертвую Вселенную?
— Ну помню.
— Это же твоих рук дело.
— Не может быть! — воскликнул я, а сердце так и защемило: а почему, собственно, не может быть?
— Да, это ты сотворил ту жуткую действительность, как сотворил картину «На абордаж!». Сотворил в сладком беспамятстве, в азарте вдохновения, как это частенько случается с подлинными художниками. Бред, скажешь? А ты вспомни. Иди и подумай.
Я выбрался на палубу, пошатываясь. В голове кружилось. А тут еще нещадно палящее солнце, духота. Ко мне подошел Черный Джим с бокалом пенящегося прохладительного напитка:
— Освежитесь, милорд. Трудный разговор?
— Трудный, Джим. Очень трудный. — Я попытался улыбнуться и собраться с силами.
За столом сидели мои друзья. Боцман попыхивал трубкой, с виду невозмутимый и спокойный. Аннабель Ли и капитан вышли из шокового состояния и смотрели на меня с тревогой и надеждой. «Ну что? Как он там?» — спрашивали их глаза.
— Не знаю. Все зависит от меня. Вспомнить над что-то очень важное.
— Все уладится, леди и джентльмены, — пыталс развеселить нас Черный Джим, но чувствовал он себ похоже, не совсем спокойно. Да и выглядел как-то неважно. — Сейчас вы пообедаете, отдохнете. Да и мне надо покушать. Видите, как я исхудал? — пошут) Джим.
— Верно, Джим. Что-то ты осунулся и побледнел, — сказала Аннабель Ли.
— А вот и мой обед. — Джим показал на горизонт, где скапливались тучи, сверкали молнии и погромыхивал гром. Но гроза шла стороной. Джим взлетел, черной птицей догнал уползающую, свинцово клубящуюся тучу и скрылся в ней. Джим, догадывались мы, «обедает», насыщается живительной грозовой энергией, резвится в своей стихии.
Принесли и нам обед. Стюард в белоснежном кителе расставил на столе дымящиеся блюда и бутылки с вином. Был он молчалив, но предупредителен и вежлив. Вдали, на корме и в носовой части корабля прохаживались с мушкетами в руках наши охранники. Они тоже молчали, вели себя тихо и делали вид, что не замечают нас. Вышколил своих головорезов старпом здорово.
Мы проголодались, но пища что-то не очень шла в горло. Боцман часто вставал, подходил к борту и посматривал на опустевшие хижины и густо разросшиеся за ними джунгли. Когда старпом ушел, он подсел к нам и прошептал:
— Как бы сбежать отсюда?
— Куда уж нам. — На губах капитана искривилась такая горькая и безнадежная усмешка, что мне стало не по себе. Мужество окончательно покинуло капитана.
— А Черный Джим? — оживилась Аннабель Ли. — Он поможет.
— Вряд ли, — сказал я. — Он дитя грозовых морально нейтральных туч и сам нейтрален.
И в самом деле, не было Джиму до нас никакого Дела. Вернулся он из тучи с порозовевшими щеками и озорными глазами — этакий клубок неуемной искрящейся энергии. Он упругим шагом прохаживался по палубе, с громовым хохотком и подмигиванием подталкивал, задирал матросов. И от увесистых шуточек Джима у тех трещали бока.
После обеда я уединился под тенью лениво полоскавшихся парусов. Друзья не мешали, понимали, что мне надо вспомнить что-то такое, от чего зависит наша судьба. Но ничего, ни малейшего просвета не увидел я в бесконечных темных тоннелях прошлого. Во всяком случае, ничего нового, чем можно было бы хоть на время смягчить, ублажить старпома.
Часа через четыре, когда солнце уже клонилось к закату, из кают-компании вынесли кресло. Из своей каюты появился старпом.
«Начинается», — с тоской подумал я. Старпом сел в кресло и жестом подозвал меня к себе.
— Ну, художник, что скажешь хорошего? — Глаза его глядели холодно и жестко.
И тут меня понесло. От страха, что ли?
— Вселенная бесконечна не только во времени и пространстве, но и в своих состояниях. Мы живем в привычном нам вещественном мире. А за ним, вернее, рядом, но вне нашего времени и пространства множество иных миров, с иным развитием. Видеть и ощущать их мы не можем и никогда не сможем. Одним словом, это неизвестная бесконечность, поистине потусторонний мир. Материалисты и прочие Великие Вычислители объявили его мистикой и религиозным бредом. Но он есть, его дыхание в наших бессмертных душах, в биении и пульсации наших мыслей…
«Господи, откуда это у меня? Красноречив, как доктор Зайнер», — с ужасом подумал я, но в глазах старпома засветилось любопытство.
— Так-так. Продолжай.
— Но природа едина. И неведомая потусторонняя бесконечность постоянно проникает в наш грубый вещественный мир и является нам в виде чего-то нематериального. Вот как эти волшебные облака. А что говорить о разумных существах, эволюционно возникших в той, для нас как будто бы духовной бесконечности! В нашем мире они обладали бы непонятными, мистическими способностями. Но шагнуть просто так из своего мира в другой они не могут. Они просто разрушатся. Но вот я уцелел. Случайно, быть может, в хаосе той самой нашей катастрофически гибнущей галактики я вывалился и уцелел. Но мои способности художника творить красоту и гармонию здесь, в мире иной и чуждой мне материи, оказались со знаком минус.
— Со знаком минус? — улыбнулся старпом. — То есть не созидательными, а космически разрушительными? Ты вывалился в нашу бедную галактику и мимоходом пристукнул ее, разнес в пыль и прах? Отсюда и наши звездные океаны? Любопытно. Очень любопытно. Это надо обдумать.
«Клюнуло», — с надеждой подумал я и продолжал развивать понравившуюся старпому гипотезу. И откуда она у меня взялась? Один Бог знает.
— Да, я — житель потустороннего мира, — с пафосом и тем же зайнеровским бутафорским величием заявил я. «Откуда оно взялось? От страха все это, от страха», — мелькнула стыдливая мысль, но удержаться не мог и продолжал в том же духе: — Да, я оттуда. Здесь же я стал носителем иного нравственного и физического заряда, олицетворением разрушительных законов природы. И в первую очередь, второго закона термодинамики.
— Второе начало термодинамики? Как же, помню эту теорию, помню. И отсюда твои способности оледенить Вселенную, бросить ее в бездну и мрак смерти?
«Неужели этот фанатик всерьез считает, что та, памятная нам картина мертвой Вселенной — мое художество? А моя постыдная зайнеровская поза? Чего доброго, сочтет он это трясущееся от страха бутафорское величие и болтливость издевательством и дерзостью».
— А смысл этого ужаса? В чем он? — настаивал старпом и вдруг посмотрел на меня с подозрением. В груди у меня похолодело. — Хитришь ты что-то со вторым началом термодинамики. Хочешь изобразить себя физически обыкновенным и вильнуть от главного ответа? Нет, происхождение твое куда более ужасное и грандиозное. В тебе таится тайна всех тайн. Вот и выкладывай ее. Не хитри! — В голосе старпома прогремела угроза.
— Есть он, есть великий смысл, — торопясь и захлебываясь, опять же от страха, заговорил я. — Душой художника чувствую, что есть. Вселенная — это не картина бесцельного кошмара, не бред идиота и не бессмысленная мазня, а…
— А что? Разумная композиция? — От нетерпения старпом привстал с кресла. — Ну, ну! Художник, милый мой дьявол. Чувствую, уловил ты за хвостик что-то великое. Да и я на вершине. Говори же!
«Господи, я же хитрю и виляю, как Великий Вычислитель, как жаба. Ну сколько же можно?» — подумал я и махнул рукой:
— Не знаю. Честно признаюсь, ничего не знаю. По моему поникшему виду старпом понял, что все кончено. Он побледнел. Сизифов камень вот-вот сорвется с вершины и с грохотом полетит в пропасть. Задержать падение! Остановить!
— Крысоед! — прогремел старпом.
— Здесь я! — выскочил откуда-то палач с двумя под-ручными. В руках Крысоеда и его помощников дымились докрасна раскаленные прутья.
— А ну, полосни его. Да с вывертом. Ты это умеешь.!
На меня набросились пираты, сорвали китель и крепко связали руки.
— Не надо! — закричала Аннабель Ли.
— Надо, милая дама. Надо. Очеловечивается он и глупеет прямо на глазах. Раскаленным железом кое-что вырву у него, пока не поздно. Пусть взвоет в нем Сатана и заговорит. Крысоед, приступай!
От боли я взвыл, в глазах потемнело, и словно сквозь туман увидел, как что-то странное творилось с Черным Джимом. Он нервно метался по палубе, с недоумением и страхом (и это храбрейший Джим!) посматривал на своего олютовевшего шефа.
— Какая мерзость! Не понимаю, — шепнул он и пнул подвернувшегося под ноги пирата с такой силой, что тот полетел за борт.
Но старпом ни на кого и ни на что не обращал внимания. Он видел только меня, в глазах его тоска и отчаяние: Сатана уходит из-под его власти, ускользает и тайна.
— Ну что молчишь, художник? Скажи хоть слово. Одно, но великое слово.
— Не знаю! — крикнул я. — Человек же я. Просто человек.
— Нет, ты Сатана! — В душе старпома накипала ярость и мутила его разум. — Сатана лишь прячется под грудой человеческого хлама. Сейчас освободим его. И он заговорит, выскочит, когда начнем пытать его друзей. Крысоед, распорядись!
Подручные палача вытолкали капитана.
— Ты что?! Пытать старика?! — Я сделал отчаянную попытку вырваться, но получил удар по голове и такой ожог на груди, что потерял сознание. Очнувшись, подумал, что я в кошмарном сне. Все плясало У меня в глазах и кружилось в огненном тумане. Послышался женский крик, и рявкнул чей-то голос, кажется старпома: «Даму держите, черт бы ее побрал!»
Сознание чуть прояснилось, и я увидел капитана в объятиях боцмана.
— Крысоед, распорядись ими! — ткнул в их сторону старпом и повернулся ко мне: — Сейчас ты у меня заговоришь! Еще как заговоришь!
— Остановитесь! Что вы делаете? — закричала Аннабель Ли, но, взглянув в сторону фок-мачты, застонала и упала без сознания. На реях фок-мачты с петлями на шеях качались боцман и капитан. Крысоед распорядился ими по-своему. Он повесил их!
— Ну, ты, дурак, перестарался, — прошипел старпом и, выхватив пистолет, прицелился в палача.
Но его опередил Черный Джим, ударом могучего кулака смахнув, словно саблей, голову Крысоеда.
Джим был страшен. Глаза его сверкали, лицо искривилось и побагровело, а пальцы на руках вытянулись в острые птичьи когти. Растопырив их, он приближался к старпому.
— Это ты палач. Это ты устроил… Растерзаю! — шипел Джим.
Пытаясь спасти своего вожака, пираты открыли по Черному Джиму пальбу. Но тот даже не покачнулся. Он обернулся, из его когтей вырвались ослепительные молнии, прогрохотал гром, и несколько пиратов дымящимися трупами покатились по палубе и рассыпались серым пеплом. Остальные с воплями кинулись к борту и прыгнули в воду.
И снова с растопыренными когтями, с перекошенным от ненависти лицом Джим медленно подходил к старпому.
— Что ты, Джим? Что с тобой? — пробормотал старпом и слегка побледнел.
— Негодяй! — загремел Черный Джим. — Расправлюсь с тобой, негодяй. Расправлюсь!
Старпом метнулся было в сторону, но остановился, понимая, что от Черного Джима спастись невозможно. Он остановился и бесстрашно ждал смерти. На его губах даже кривилась ироническая усмешечка.
— Испепелить меня хочешь? Или растерзать? Не смешно, Джим. Не оригинально. Придумай что-нибудь новенькое. Ты же любишь эффекты.
— Придумаю, негодяй! Придумаю!
Джим черной птицей поднялся над палубой, подхватил старпома, вцепившись когтями в его китель, и полетел в сторону острова, к его гористым острогам.
— На скалы хочешь сбросить? Опять не смешно, Джим! Глупо! — хохотал этот удивительный человек, потом помахал мне рукой: — До свидания, художник! Мы еще встретимся!
Он запел песню, потом еще раз махнул мне рукой и что-то прокричал. Но уже ничего не было слышно: Джим парил высоко в небе над горой, вершина которой курилась густеющим дымом. Вулкан пробуждался, грохотал. Джим сбросил старпома в дым, в жерло вулкана с кипящей огненной лавой на дне. Да, это было эффектно и до того страшно, что я закрыл глаза.
Джим вернулся и развязал мне руки и ноги.
— Скорее к миледи! — торопил он.
Аннабель Ли лежала без сознания, пульс у нее еле-еле прощупывался.
— Миледи! Дорогая миледи! Что с вами? Очнитесь! — причитал побледневший от сострадания и страха Черный Джим. Вот тебе и морально нейтральное существо!
Мы пытались привести царицу в чувство. Но что Могли сделать неумелые мужские руки? И вдруг заметили мелькающие на палубе тени. Мы взглянули вверх: в небе кружились сиреневые птицы. Фрейлины, видимо, почувствовали, что с царицей случилось что-то нехорошее, и прилетели. Но опуститься на палубу пугливые птицы не решались.
— Да не бойтесь вы меня, дуры! — прогремел Джим и погрозил кулаком.
Но фрейлины спустились лишь после того, как Черный Джим отошел далеко в сторону.
Фрида не потеряла присутствия духа, и в ее умелых руках царица ожила и открыла глаза. Но, увидев повешенных, застонала и снова впала в беспамятство.
— У нее сердечный приступ, — сказала, мне Фрида. — Мы ее перенесем в целительный грот. В тот самый, что находится в соседнем космическом облаке. Помнишь? Это умный грот и хорошо лечит.
Аннабель Ли пришла в сознание и, услышав последние слова, сказала:
— Какой еще грот? Никуда мы не пойдем, пока не выручим мичмана. Жив он. Чувствую, что жив. Надо найти мальчика, пока его не схватили вон те. — Она показала на берег.
Там были пираты, успевшие удрать с палубы от испепеляющих молний Джима. Они видели страшную гибель своего вожака и сейчас не знали, что делать. Вскоре из джунглей вернулись их сообщники. По всему видать, поймать им мичмана так и не удалось. Озлобленные неудачей, они начати поджигать покинутые туземцами хижины.
С помощью фрейлин Аннабель Ли села в кресло и попросила грозного Джима:
— Джим, отомсти им. Покарай.
— Отомщу, миледи. Отомщу! — пророкотал Джим.
Он взмыл в небо и черной птицей носился над берегами. В небе он был неподражаем. Легкое парение в облачных высях, стремительные виражи, заходы в пике — залюбуешься. Из его когтей выплескивались ослепительные молнии, чаша бухты наполнилась оглушительным грохотом и непрекращающимся гулом. Пираты с криками ужаса прятались в кустах, убегали в джунгли. Джим настигал их, поражал меткими молниями и на месте мечущихся разбойников вскоре лежали черные дымящиеся головешки и кучки серого пепла.
— Красиво, Джим! Очень красиво! — похвалила Аннабель Ли, когда громовержец вернулся на палубу.
Польщенный и растроганный Джим подошел к миледи и по-рыцарски преклонил колена.
— Милый, благородный Джим, — улыбнулась царица и протянула для поцелуя руку.
«Да, такому мужеству позавидуешь», — со стыдом за себя подумал я. Лишь глаза ее слегка затуманились и губы дрогнули, когда поднесли к ней тела боцмана и капитана. Аннабель Ли перекрестила их лица и поцеловала в лоб.
— Миледи, я останусь и найду мичмана, — сказал Джим. — А вы домой. О вас позаботятся вот эти… — Хотел, видимо, сказать «дуры», но спохватился и лишь ткнул пальцем в сторону пугливо жавшихся фрейлин.
— Не домой, Джим. Мы пойдем сейчас в какой-то загадочный грот.
— Не пойдем, царица, а полетим, — рассмеялась Фрида. — Полетим туда, где ты еще никогда не бывала.
Мы попрощались с Джимом, который пообещал разыскать на острове и вызволить из темницы нашего мичмана. На птицах полетели мы в голубую небесную высь. Царица крайне удивилась, когда очутилась вдруг в космическом пространстве. Вокруг солнца тихо кружились облака-планеты, крупными кристаллами и мелкой алмазной пылью сверкали звезды. И заулыбалась Аннабель Ли, радуясь встрече со своей стихией. Ведь она родилась здесь и узнавала космические луга, на которых рдели оранжевые, изумрудные, алые цветы-звезды. Правда, сейчас немножко не то. Она сидела на мягкой перистой спине, в ушах приятно посвистывал ветер, создаваемый волшебницей-птицей. Удобно, тепло, уютно, но совсем не то.
Птица Фрида изогнула свою гибкую лебединую шею, приникла клювом к моему уху и прошептала:
— Царица улыбается'. Ей лучше, но как еще бледна.
— Куда вы меня несете? — спросила Аннабель Ли. — Вот в это облако? Там другая планета?
— Нет, царица! Там чудесный грот! — прокричала Фрида.
Птицы влетели в космическое облако, в его сиреневую полумглу с пляшущими солнечными лучиками. Спустились ниже, солнце скрылось, и упала тьма. Но тьма тут же расступилась, разошлась в стороны, как театральный занавес, и открылся заветный грот. Сиял его полукруглый, как радуга, свод, внизу искрились пушистые облака. Мы спустились и пошли по ним как по холмистой равнине.
— Диво! Волшебное диво! — с восхищением прошептала Аннабель Ли и вдруг заволновалась. — Идемте дальше. Скорее! Там что-то есть!
— Ничего там нет, царица. Там только грот, — сказала Фрида и вдруг вскрикнула от изумления.
Грот менялся на глазах! Его свод, сияющий многоцветными клубами, ширился, таял и вдруг исчез. Над нами раскинулся ночной небосвод с бездонной высью. Сияла луна, затянутая легким кружевом облаков, сверкали звезды. Мы шли сначала по пухлым и мягким, как и прежде, облачным холмам. Но холмы твердели, покрывались травой, прорастали кустарником. И уж совсем непонятное творилось с Аннабель Ли. С порозо-‹ вевшими щеками и ликующей улыбкой, вскинув руки, она шла словно навстречу чему-то прекрасному и радостному.
— Что с ней? — шепнула мне на ухо Фрида.
— Не знаю. Может быть, волшебное облако прочитало в ее душе самые затаенные мечты и сейчас возникает что-то ей знакомое и родное?
Я оказался прав. Мы преодолели еще один холм с кустарником и неведомо откуда взявшимся деревом и увидели тихую водную гладь. На ней серебрилась лунная дорожка, слева и справа угадывались в тумане лесистые берега и тихо шуршали камыши.
— Лебединое озеро! — закричала Аннабель Ли. — Лебединое озеро!
Она подбежала к песчаной отмели, ступила на воду, и мы поразились: невесомой стала Аннабель Ли. Под ее туфельками зеркальная гладь чуть вздрагивала, расходясь еле приметными кругами. Заиграла музыка, и мы зачарованно замерли. Аннабель Ли танцевала! Да так, что Флора (вторая фрейлина-птица) и Фрида ахнули от изумления. Под вальсирующие звуки, льющиеся с небесных сфер, она буквально парила, кружилась с поразительной легкостью, красотой и грацией. Потом остановилась, вскинула руки к небу:
— Лебеди-русалки! Где же вы? Жду вас!
В небе среди ночных светил появились вдруг крохотные мотыльки, похожие на мерцающие звезды. Звезды-мотыльки снижались, становились все заметнее и крупнее, под ритмы вальса взмахивали крыльями и оказались прекрасными белыми лебедями. Опустились они на воду уже девами-балеринами в белоснежных кружевных платьях.
— Подружки мои! Как давно мы не виделись. Здравствуйте, родные! — радовалась Аннабель Ли.
Она подскочила к одной из дев и обняла ее. Но та вдруг заколыхалась и вьющимся облачком тумана растаяла. Рассеялись как дым и другие балерины.
— Обман! — вскрикнула Аннабель Ли. Она подбежала к нам с расширенными от гнева и ужаса глазами. — Обман все это! Смотрите!
Но смотреть было уже не на что. Исчез мираж. Исчезла луна с ночной небесной высью, погасли звезды, и вместо них искрились радугой низкие своды грота. Не стало ни травы, ни кустарника, ни самого озера с камышовыми берегами. Аннабель Ли упала на пушистый холм и зарыдала.
Мы вернулись домой. Аннабель Ли после посещения коварного, играющего миражами грота все же чувствовала себя гораздо лучше. У дворца ждали нас Черный Джим и мичман.
— Родные мои. — Она обняла Джима и хотела поцеловать мичмана. Но тот отскочил в сторону и со слезами на глазах закричал:
— Не заслужил я!
— Не переживай, малыш, — утешал я его. — Виноваты все мы.
Этой ночью мы не спали. Царица не отпускала нас, она даже пожелала, чтобы непременно присутствовал здесь и Билли Боне. Это не каприз, понимал я. Она хотела видеть оставшихся в живых и дорогих ее сердцу людей.
Билли Бонса доставил старательный и молниеносный Джим. Аннабель Ли улыбнулась, глядя, с какой неуклюжей грацией поклонился ей задубевший, просоленный океанскими ветрами старый морской волк. Она напоила нас чаем, а Билли Бонсу разрешила пропустить и стаканчик рома.
Утром Аннабель Ли снова рыдала: мы хоронили боцмана и капитана. Их тела принес все тот же Джим. На поляне в саду появились два могильных холмика с мраморными памятниками и золочеными крестами наверху. Так пожелала Аннабель Ли. Днем она приняла самое деятельное участие в обсуждении наших морских дел.
— Фрегат старпома передадим его законному владельцу Билли Бонсу, — решительно заявила Аннабель Ли.
— Матушка! Век не забуду! — Билли Боне со слезами на глазах рухнул перед ней на колени.
— Ну, ну. Плакать стыдно. Это простая справедливость. Но вот в каком состоянии другой фрегат?
— Пострадал он не так уж сильно, — сказал я. — После ремонта он будет еще лучше прежнего. Но кто им будет командовать?
— Только не ты, — сказала она. — Тебя не отпущу. Не хочу остаться совсем одна. Мы найдем бывалого и надежного старшего помощника, а владельцем и капитаном будет мичман.
— Спасибо, царица. — Просиявший мичман припал к ногам Аннабель Ли.
— Ну что вы все валяетесь у моих ног, — улыбнулась она и приказала: — Встань! Не царица я тебе, а старшая сестра. Завтра же отправляйся на корабль и займись ремонтом.
И остались мы с Аннабель Ли вдвоем. До сезона дождей и осенних штормов было еще далеко, и мы переселились в свою приморскую виллу. Неподалеку жил знакомый врач. Он и лечил хозяйку виллы, которая жаловалась на сердце.
— Микроинфаркт у нее, — сказал мне как-то врач. — Да и у вас, сударь, сердце пошаливает. Выслушал я его вчера, и не понравилось оно мне.
Посетить еще раз сказочный грот Аннабель Ли наотрез отказалась.
— Не целительный он, а мучительный, — усмехнулась она и с грустью добавила: — Растравил он мою душу. Снится мне теперь милое озеро каждую ночь.
С утра она усаживалась на крыше-огороде с книгой в руках. Но не читала, а глядела в морскую даль. Ждала. И вот в один прекрасный день в бухте показался красавец фрегат под белыми парусами. Черные, как мы потом узнали, мичман припрятал на всякий случай.
Не доходя до причала, фрегат окутался белоснежными облаками дыма, а секунды через три донесся до нас грохот.
— Ну, сорванец, — вспомнив капитана, вздохнула Аннабель Ли. — Выпороть его некому. Полюбилась ему пушечная пальба.
Фрегат бросил якорь, спустил паруса, и Аннабель Ли, знавшая толк в кораблях, вскрикнула от восхищения: оснастка на фоне неба выглядела как тончайшая паутина, а все линии трехмачтового гиганта отличались легкостью, изяществом и благородством пропорций. Да, отремонтировал свой фрегат мичман на славу.
Капитан-мичман и его старший помощник гостили у нас несколько дней. Но вот наступили холода, небо обложили моросящие тучи, и уплыл корабль в теплые края, а мы вернулись в свой дворец на острове. Правда, и здесь неуютно: хмурилось небо, ночами выпадал снег. Но весело пылали дрова в камине, и почти каждый день залетал к нам Черный Джим. Он делился новостями, изредка приносил на своих крыльях мичмана.
— Ты уж береги его, Джим. Один ведь он у нас остался, — говорила Аннабель Ли.
— Берегу, миледи. Берегу. А еще мне нравится Билли Бонс. Отважнейший капитан, — восхищался Джим.
Но однажды, когда в нашем саду зацвели первые весенние цветы, он прилетел до того хмурый и гневный, что фрейлины, ставшие к нему уже привыкать, в страхе попятились.
— Негодяй! Подонок! — громыхал Джим, потрясая кулаками.
— О ком это ты? — улыбнулась Аннабель Ли.
— Спился, мерзавец! Каждый день хлещет ром и орет свою песню. Как ее…
— «Йо-хо-хо и бутылка рома»? Ну и пусть.
Вскоре Джим принес совсем уж дурную весть: Билли Боне занялся своим давним привычным ремеслом — морским разбоем. Но и эта новость нисколько не расстроила Аннабель Ли. Напротив.
— Вот и прекрасно! — обрадовалась она. — Пусть напоследок потешит свою вольную пиратскую душу. Все равно скоро вся планета полетит в тартарары.
Она не ошибалась. Наши птицы, летавшие над планетой, возвращались испуганные. Сверху они видели дымы пожарищ и слышали пушечную стрельбу. Все чаще вспыхивали войны. И не только между материками, но и между соседними городами и деревнями.
По старой привычке птицы часто купались в полюбившемся им университетском пруду. Фриде к тому же нравилось дразнить своего старого знакомого — доктора Зайнера. И вот однажды сиреневые птицы прилетели оттуда в панике, с расширенными от ужаса глазами.
— Конец света! — перебивая друг друга, кричали они. — Грохот! Дым! Дома вдребезги! Люди и камни летят в воздух!
— Успокойтесь и расскажите, что случилось, — попросила царица. — Фрида, ты самая мужественная у нас. Говори.
Фрида рассказала все, что знала. Ученым удалось обойти все более слабеющие запреты облаков и создать взрывчатое вещество огромной разрушительной силы — то ли динамит, то ли еще что-то пострашнее.
— Скоро у нас будет атомная бомба, мы завоюем всю планету, — потирая руки, хвастался перед Фридой доктор Зайнер.
В подвалах и в складах города накопилось огромное количество взрывчатки и готовых снарядов. Но то ли по небрежности, то ли по другой причине весь этот арсенал взорвался. От университетского городка остались дымящиеся развалины. Взлетел на воздух и доктор Зайнер.
— Туда ему и дорога, — усмехнулась Аннабель Ли. — Мне вот только за мичмана боязно: все страшнее становится и на морях.
Но мичман не унывал. Правда, в голубых глазах его после гибели капитана и боцмана затаилась грустинка, но не погасли в них мальчишеский задор и жажда приключений.
— Ух, как они боятся нас, — смеялся мичман над пиратами. — Увидят, и врассыпную. А остров! Да они обходят его стороной. Не подойдут к нему и на триста миль.
Оказывается, на острове Юнги все в порядке. Туземцы вернулись из джунглей на берега бухты и заново обжились. Мичман устроил там свою хорошо защищенную базу. Была она неприступной еще по одной причине: после страшного побоища, которое здесь учинил старпомовским головорезам громовержец Джим, остров пользовался у суеверных пиратов жуткой, леденящей душу славой. Да и сам мичман под надежной личной охраной — я верил Черному Джиму, верил и Билли Бонсу. Нет, за мичмана я не опасался.
Меня тревожила Аннабель Ли. Здоровье ее ухудшалось. Правда, за чаепитием у камина, когда собиралась наша поредевшая семья (мичман часто гостил у нас), она бодрилась, своим космическим философствованием старалась заменить капитана.
Ей, родившейся среди звезд, тоже был присущ космизм мышления. Но ее размышления окрашены были в обреченные, трагические тона.
— Не получилась у нас земная жизнь под волшебными облаками, — сказала она однажды. — И не дай бог возродиться ей вновь.
— Как — возродиться? — удивился мичман. — Все повторится в точности так, как сейчас? Но это невозможно.
— Почему невозможно? — усмехнулся я, никогда не забывавший мезозойскую эру и жившего там мудрого старпома-тиранозавра. — У этого дьявола все возможно.
— Не только возможно, но и абсолютно неизбежно, — настаивала Аннабель Ли. — Число комбинаций во Вселенной чудовищно огромно, но не бесконечно. В своем вечном круговороте она повторит — и не раз! — одни и те же события. Случайность, скажете вы? Но самая немыслимая случайность, помноженная на вечность, превращается в неизбежность. Пролетит неисчислимое множество веков, и соберется вновь под волшебными облаками наша семья. Все будет так: камин, чай, счастливо рассуждающий капитан-профессор, дымящий трубкой боцман… И повторится все, как встарь. Так сказал гениальный поэт и пророк Александр Блок. Вот послушайте.
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
— Что это? Случайное совпадение или поэт уже знал? — спросил я и рассказал об идее вечного возвратения Ницше. — Поэт и философ жили на одной планете. Об этом я прочитал в твоей библиотеке.
— Нет, это случайное совпадение, — подумав, возразила Аннабель Ли. — Я хорошо знаю жизнь и творчество этого поэта. Свою мысль он ни у кого не заимствовал. Одна и та же идея возникла у двух совершенно разных людей. Значит, в этой идее что-то
есть. Но не хотела бы я, чтобы повторилось все, как встарь, — с горькой усмешкой сказала она. — Слишком уж некрасиво, не романтично получилось. Опустились мы, как жабы в своем уютном болоте.
— Но все же один человек жил здесь богатой жизнью, — поправил я ее. — Какое напряжение ума и душевные терзания! Какие взлеты и падения!
— Имеешь в виду старпома? — оживилась Аннабель Ли. — Согласна. Это мученический дух, взывающий к смыслу своей жизни и бытия вообще. Что бы мы ни думали о старпоме, но это был настоящий человек. «И вечный бой. Покой нам только снится», — сказал все тот же поэт. Жил старпом в вечном бою и с самим собой, и…
— И со всей Вселенной, — усмехнувшись, добавил я.
— Хорошо подметил, — похвалила Аннабель Ли. — Ты ведь тоже не в ладах со Вселенной.
— Это я-то? Законченный пошляк и обыватель?
— Вот уж неправда. Есть в тебе нечто, идущее с другой стороны мира.
— Ты рассуждаешь, как наш капитан-профессор, — Улыбнулся я. — Его выучка!
— И капитан тоже был не в ладах со Вселенной. Как и ты, жил он вечно беспокойной жизнью. Он в своих Размышлениях, ты в творчестве, а старпом… Ну, этот вообще открыто бросил вызов Вселенной. Бунтарь… Боже мой! — воскликнула Аннабель Ли. — Как я раньше не сообразила. Вы же все трое — бунтари! Косми ческие мятежники!
— Что касается старпома и капитана, ты права. Бун тари. Но я-то здесь при чем? — с горечью возразил я.
— А твой мятежный талант? Ошибался капитан, не столько метафизическая печаль в твоих картинах, сколько метафизический бунт.
Льстила мне мудрая красавица. Посмотрел я на другой день в зеркало, и меня чуть не стошнило: динозавр! Опустившийся, разжиревший диплодок. Сколько помню себя, всегда тянулся я к тихой, уютной жизни. И вот дорвался здесь до сладкой жизни, под волшебными облаками обывательская одурь окончательно опутала меня. До того опутала, что страшно не хотелось покидать этот уютный мирок и расставаться с красавицей Аннабель Ли. А пришлось-таки…
Через несколько дней, когда в нашем саду вовсю гудели пчелы и цветы расточали ароматы, мы втроем пили чай в тени под деревом.
— Любимый мой, художник ты мой космический, — сказала вдруг Аннабель Ли. — И ты, братишка, мой милый юнга. Покину я вас скоро и снова стану сказкой.
— Что ты, сестрица. Мы еще поживем, — храбрился мичман, но на глазах его выступили слезы.
— Мальчишка ты еще, — вздохнула Аннабель Ли и обратилась ко мне: — Береги его. И не переживайте. Я-то рада вернуться в свой вечный и прекрасный мир.
— Откуда у тебя такие траурные мысли? — дрогнувшим голосом спросил я.
— А мираж в сказочном гроте? Видение это явилось мне не случайно.
— Не знал, что ты такая суеверная.
— Это не суеверие. Это зов. Лебединое озеро снится мне и во сне зовет меня к себе.
— Чепуха! — заверил Джим, когда мы поделились с ним своими тревогами. — У миледи минутная слабость. Она прекрасно выглядит.
Выглядела Аннабель Ли и в самом деле оживленной и счастливой. На сердце не жаловалась и лишь временами морщилась от боли. И умерла она для нас неожиданно. Под утро, уже глубокой осенью, оставив мне записку:
«Верю, что встретимся мы снова. Но где? Один Бог знает».
На похоронах был и беспредельно преданный царице Билли Боне. Изумил он нас безмерно. От тоски и горя старый пират не находил себе места, рычал и выл как смертельно раненный морской лев. И наконец нашел выход своему отчаянию, учинив в нашем курортном городке невиданное побоище. Уцелел лишь один свидетель — знакомый мне спортсмен-скалолаз. С ловкостью ящерицы взобрался он на отвесные скалы и с высоты видел страшную бойню. Он-то все нам и рассказал.
Через день после похорон фрегат Билли Бонса заплыл в бухту мирного, залитого солнцем городка. На мачте легендарного фрегата в знак миролюбия развевался голубой флаг. Бархатный сезон был в разгаре. Играла музыка, люди веселились, загорали, а столь памятная Билли Бонсу таверна «Грязная гавань» была переполнена. Многие ее посетители узнали грозный фрегат. Они выбегали на пристань, криками и жестами приветствовали на удивление мирно настроенного прославленного пирата.
И вдруг из тридцати пушек левого борта прогремел залп. Пляжи и ближние улицы наполнились грохотом Рушащихся зданий, воплями раненых, звоном стекол.
Фрегат на ходу развернулся правым бортом к другому пляжу. И снова залп, картечью и ядрами сметавший постройки и рвавший людей в клочья. Спасения не было: городок окружен неприступными горами.
Весь день грохотали залпы и слышались с фрегата свирепые вопли: «Йо-хо-хо и бутылка рома!» Весь день полыхали пожары, летели щепки и клубилась пыль. Разыгравшийся к вечеру ливневый шторм смыл все это в море.
На другой день я побывал там. От нарядного курортного городка остались развалины, разрушена до основания и наша вилла, и я нисколько не пожалел об этом.
На острове сиреневых птиц в опустевшем дворце жил я, словно окаменевший и ко всему равнодушный. Грызла тоска, терзала все та же мысль: нехорошо, бесцельно и пошло пролетела здесь моя жизнь.
Может быть, на другой планете (только, упаси Боже, не под волшебными облаками), в другой жизни все сложится иначе? В одном волшебные облака все же пощадили меня: умер я тихо, без малейшей боли. Просто той же осенью устало присел на скамейку в саду, сердце остановилось — и все. И уже невесомый, незримый для живых видел с высоты, как безутешны были Фрида, Джим и Билли Боне. А на юнгу смотреть было нестер-: пимо жалко. Он упал на свежий могильный холмик и ревел, не стесняясь ребячьих слез и забыв о капитанском достоинстве.
С грустью, но и с облегчением покинул я эту планету и вообще всю эту дурацкую галактику с ее дурацкими счастливыми облаками. Пролетев с десяток миллиардов световых лет, очутился в каком-то звездном мире, присел на вершину одинокой и холодной планеты, осмотрелся. К счастью, это была самая обыкнове» ная галактика. Ее бесчисленные солнца тихо расходились, и у меня не возникало мальчишеского желания как это было уже однажды, ускорить разлет звезд и галактик, швырнуть Вселенную в черный омут тепловой смерти. Вот и прекрасно. Я теряю свойства своего непонятного метафизического мира, где все иначе. Я пригоден для новой вещественной жизни в образе уже совсем обыкновенного человека. Но когда и где это произойдет? Хотелось бы в той галактике, в Млечном Пути, и на той планете, где побывал и, увы, сотворил такое, что помогло старпому и Крысоеду укорениться в том мире и наделать немало злодейских дел. Надо исправить мною содеянное.
Но как это сделать? Я поднял взор к тихо сиявшим звездам и умоляюще прошептал: «Господи, помоги». Не знаю, услышал ли Бог мою просьбу или действие чародейских облаков еще не кончилось, но мне повезло. Мне выпало великое счастье прожить одну из самых несчастливых жизней. Это не парадокс. Трудная, но осененная великой целью жизнь выпрямила душу обывателя, облагородила и возвысила мое вечное «Я».
Случилось это на одной из планет Млечного Пути. Не сладкая досталась мне планетка, не сахар. Одно название чего стоит — Окаянная.
Часть вторая
ПЛАНЕТА ОКАЯННАЯ
Летел я быстрее света, миновал множество самых разнообразных галактик и, снижая скорость, приблизился к Млечному Пути. На окраине в одной из звездных спиралей отыскал Солнечную систему и планету, на которой я когда-то так легкомысленно просвистел сокрушительным ураганом и встретил старпома в образе мезозойского чудовища. Но мезозой давно кончился, и потому опуститься на планету я пока не решился. Мало ли что там произошло? Надо осмотреться и подумать.
Я присел на скалу уже знакомой мне голой каменистой Луны и увидел висящий в пустоте огромный шар планеты. На ее дневной стороне голубели моря и океаны. Очертания материков заметно изменились, но узнать их можно. Но что там сейчас? На этих с виду мирных и пока еще зеленых материках? Вероятно, там уже довольно развитая цивилизация.
Об этом можно догадаться хотя бы по тому, что Луна оказалась не такой уж голой и пустынной. Взошло солнце, и вдали, почти на горизонте, засверкали купола каких-то строений. Я спустился со скалы и зашагал по лунным низинам, по ровному слою многовековой пыли. Смешно сказать — зашагал. На мне китель с погонами штурмана звездного флота, брюки и сапоги с крепкими рубчатыми подошвами. Но ни одного рубца, ни малейшего следа не оставлял я на мягкой пыли. Я наклонился, но не смог ни сдуть, ни сдвинуть ни одной пылинки. Что ж, надо снова привыкать к бестелесности, к своему незримому присутствию в вещественном мире. И к полному бессилию в нем.
Пыльный, с каменистыми выступами грунт кончился. Я ступил на идеально ровную асфальтированную площадку и увидел шеренгу ракет, выстроившихся как солдаты на параде. Не пассажирских, а боевых ядерных ракет, нацеленных почему-то на планету, на ее зеленые материки. Видать, на планете не все ладно. Кого-то надо держать в страхе, под постоянным прицелом. Рядом с ракетами на металлических решетчатых основаниях высились круглые строения. Там под прозрачными куполами — пульты управления.
Под одним из куполов я и пристроился невидимкой. В кресле перед пультом сидел дежурный офицер с сонными глазами. Неподалеку двое других играли в шахматы и тихо переговаривались. Я уже привык, что в моей голове любая незнакомая звуковая речь как-то сама собой становилась понятным обшекосмическим языком.
— Какого черта смена не идет? — проворчал один из игравших.
— Идут, еле-еле плетутся, — засмеялся офицер за пультом.
Из приземистого здания, похожего на казарму, вышли двое в скафандрах и неторопливо приближались. Ни Для кого не видимый, кроме самого себя, я проник в казарму. Солдаты еще спали. И вдруг из динамика прогрохотала команда:
— Тревога! Все по местам!
Солдаты вскочили, поспешно одевались, напяливали скафандры и разбегались кто куда — к ангарам, к радиолокаторам, к пультам управления.
— Куда торопитесь? — рассмеялся солдат, последним покидавший казарму. — Опять учебная тревога…
Но тревога не была учебной. Я влетел в главный командный пункт, имевший связь с планетой, и увидел чем-то озадаченного старшего офицера. Около него еще три офицера, тоже явно растерянных.
— Ничего не понимаю, — бормотал старший, показывая на экран, на котором дергалась и плясала какая-то красная физиономия. — Генерал требует сбить звездолет. Чей? Наш? Не разберу. Да исправьте вы связь, черт побери! Ничего же не видно и не слышно!
Пляска на экране прекратилась, и все увидели побагровевшего, разъяренного генерала.
— Вы что, оглохли! — гремел генерал. — На корабле заключенные. Сбежали! Корабль стартовал с Северного космодрома. Сбить! Уничтожить!
— Экран в сторону Северного! — скомандовал старший офицер, уяснивший наконец задачу.
Крупным планом выступила на экране ночная сторона планеты. Вскоре сверкнул на солнце металлический облик звездолета, набиравшего скорость. Из его дюз рвался яркий сноп пламени.
— Мать моя! — ахнул один из офицеров. — Это же «Сириус», наш лучший космический крейсер! Как можно уничтожать такого красавца!
— Приказы не обсуждают! — рявкнул старший. — Сбить!
К кораблю устремились ракеты. Обгоняя их, я полетел в ту же сторону. И только оказавшись в пилотской кабине, сообразил, что помочь смельчакам я не в состоянии. А смельчаки что надо! Весь экипаж сложнейшей космической громадины всего из трех человек!
Над пультом склонился высокий светловолосый мужчина, рядом женщина, внимательно следившая за бегом цифр на панели. У их ног вертелась пятилетняя девочка.
— Мама! Папа! — голосила девочка. — Они убьют нас!
— Не смогут, дочурка, — ответила женщина. — Сейчас мы спрячемся в суперпространстве.
За иллюминаторами, гася звезды, ярко вспыхнули разрывы ракет. Корабль вздрогнул, но в тот же миг провалился в черную непроглядную ночь. «Успели», — с облегчением подумал я. В суперпространстве корабль неуязвим, искать его здесь так же бессмысленно, как щепку в океане или пылинку в стоге сена.
В рубку управления вошел четвертый член экипажа — рослый детина с подчеркнуто четкими движениями и до того эталонно правильными чертами лица, что я догадался — робот.
— Мистер Грей, как там наши животные? — спросила женщина.
— В полном порядке, сударыня, — вежливо ответил Мистер Грей и состроил умильную улыбку.
— Рано радуешься, красавец, — проворчал мужчина. — Мы, кажется, сбились с курса. Высчитай, сколько мы пролетели. Ты это делаешь точнее машины.
— Девять световых лет, — ответил Мистер Грей, взглянув на панель с мелькающими цифрами и формулами.
— Ого! Надо выйти в открытое пространство и сориентироваться. Как по-твоему, Ася? — Мужчина с жалостью посмотрел на жену.
Та слегка побледнела и храбро ответила:
— Надо, Свен.
Девочка со страхом смотрела на родителей. Она понимала, чем грозит выход в пространство в незнакомом месте. Можно напороться на звезду и мигом сгореть. Невозмутимым был лишь Дориан Грей — так полностью звали робота. Как я вспомнил потом, такое имя носил литературный герой какой-то необыкновенной и, главное, неувядаемой красоты.
— Можете не беспокоиться, — сказал Мистер Грей, снова взглянув на панель. — Мы на прежнем месте. Машина в тот раз соврала и сейчас просит извинения, старается исправить ошибку.
— Ну, ты даешь, Мистер Грей, — хмыкнул Свен и нажал кнопку.
Купол перед пультом посветлел: корабль начал осторожно выплывать на поверхность. И вдруг за куполом засверкали звезды — оранжевые, синие, зеленые.
— Повезло! Повезло! — запрыгала девочка.
— Повезло, Катюша. Да не совсем, — сказал отец. — Видишь, как скачут и дрожат вот эти стрелки? Это значит, что ракета повредила один из двигателей. Хорошо бы найти поблизости какую-нибудь планету, сесть на нее и починить двигатель. Но где мы сейчас, Ася?
— Ничего не пойму, Свен. — Ася развела руками. — Смотри, звездное небо такое, словно мы не удалились от нашей Земли. Мистер Грей, кажется, прав. Те же созвездия. А вот и планета! Прямо под нами! Мы падаем на нее!
— Пока не падаем… Вертимся вокруг, — бормотал в растерянности Свен. — Ничего не видно… Сейчас завернем на освещенную сторону планеты и увидим.
И беглецы увидели такое, отчего в ужасе вскрикнули. Под нами разнесенные в щебень города, покореженные и оплавленные металлические конструкций, выжженные дотла равнины. Вместо лесов и полей — черный с красноватым оттенком пепел. «Радиоактивный», — догадался я.
— Окаянная! — дико закричала женщина. — Свен, это же планета Окаянная!
— Черт бы ее побрап! — выругался Свен. — И откуда она подвернулась? Во всяком случае, это не наша Земля. Сейчас мы нырнем в суперпространство и унесемся отсюда подальше.
Но корабль не сдвинулся с места, ибо попал не в суперпространство, а в супервремя. Об этом догадался Свен, когда корабль выплыл из мглы суперизмерения в сияющий звездный мир. И пролетел он во мгле не десятки световых лет, а многие годы в будущее. Но ничего Свен не сказал жене, не желая расстраивать ее.
— Свен, — удивлялась женщина, — вижу те же созвездия. Вот Большая Медведица. А вот и Лебедь. Да и планета все та же. — Женщина наконец сообразила, в чем дело, и с ужасом посмотрела на мужа. — Это же наша Земля! И мы вертимся вокруг нее… Вертимся и падаем! Но смотри, Свен! Смотри! Она вновь изменилась, неузнаваемо.
И в самом деле, за три или четыре сотни лет планета Окаянная превратилась в планету цветущую. На тех же материках, где раньше дымился остывающий пепел, сейчас цвели поля, кудрявились рощи, на сотни километров простирались леса.
— Догадалась? Все равно она осталась Окаянной, — сказал Свен. — Там чудовищная радиация. Растительный мир приспособился. Но животные вряд ли. Пустая планета.
— Но мы падаем на нее.
— Не падаем, а снижаемся. Я посажу корабль, но выходить не будем. Корпус корабля выдержит радиацию, и мы будем в нем словно в осажденной, но надежной крепости.
Посадили корабль Свен и Мистер Грей мастерски, Умело выбрав среди холмистого поля ровную площадку. Потом Свен спустился в кормовой отсек, желая выяснить, что с двигателем. Вернулся расстроенный.
— Дела неважные. Видимо, повреждены дюзы. Над осмотреть снаружи.
— Но там смертельно опасно, — возразила жена, — Надо сначала измерить уровень радиации.
— Я готов выйти из корабля, — вызвался Мистер Грей.
— Подумаешь, герой нашелся, — насмешливо проворчал Свен. — В твоем организме немало деталей биологических, они заболеют от радиации.
— Виноват, шеф. Запамятовал, — смутился Мистер! Грей. — Пошлем кого-нибудь из этих, из тупиц?
— Да. Приведи номер третий. Мистер Грей вышел и вскоре вернулся с одним из роботов, которых он называл тупицами. По всему видать, номер третий, паукообразный и приземистый, в интеллекте значительно уступал Мистеру Грею, но был надежен и пригоден для многих операций. Он мог лазать по скалам, ходить под водой и даже летать.
— Номер третий готов! — отчеканил робот.
— Выйдешь наружу, дозиметром измеришь уровень радиации и через час вернешься. Мистер Грей выпустит тебя из люка.
Мистер Грей подал номеру третьему дозиметр и, ухмыльнувшись, сказал:
— Идем, дубина.
— Сам дубина, — огрызнулся номер третий. Девочка прыснула, хохотнула и женщина. Я стоял рядом с ними под прозрачным куполом и, словно с балкона, с высоты птичьего полета, смотрел вниз Планета мне нравилась. Внизу вокруг корабля шел ковисто лоснились высокие травы, вдали искрилась река, а за ней в утреннем тумане синели рощи, перелески, леса.
— Рай, — усмехнулся Свен.
— Да, обманчивая картинка, — согласилась женщина и вдруг с ужасом посмотрела на мужа. — Свен, мне страшно. А вдруг это наша Земля, ее будущее?
— Поняла теперь, что случилось? Мы топтались на месте — и летели не в суперпространстве, а в супервремени и попали сначала на Окаянную…
— Ту страшную, что видели час назад?
— Ну конечно. То была не другая планета, а наша. Произошло то, что и должно было произойти. Пока мы сидели в концлагере, а потом топтались в супервремени, на нашей Земле, в ее будущем, полыхала ядерная война и смела все живое. И вот туда-то мы сначала и попали, когда концлагерная планета стала испепеленной Окаянной. Потом еще рывок в супервремени — и мы сейчас на зеленой Окаянной…
— Но ведь наши соседи, инопланетяне…
— Что инопланетяне? Да, они прилетали к нам. Но не через пространство, как они ошибочно полагали, а через вихри и потоки супервремени. Наткнулись по пути на Окаянную, как они ее прозвали, облетели ее на небольшой высоте, засняли фильм и потом показали нам. Вместе с нами они считали, что испепеленная Окаянная — это какая-то другая планета. Один лишь я на той памятной научной конференции высказал предположение, что это будущее нашей Земли. За это и угодил в концлагерь.
— Вот оно что… — Женщина в волнении, заламывая руки, ходила из угла в угол. — Выходит, что жуткая Окаянная — это ближнее будущее нашей покинутой Земли, а вот эта зеленая — будущее дальнее.
— Вот именно. Сквозь радиоактивный пепел проросли чудом уцелевшие семена, столетиями планета °Живала и стала нынешней зеленой красавицей. Но коварной красавицей, Окаянной. Растительный мир приспособился к чудовищной радиации, но нам здесь не выжить. Мы отремонтируем двигатель и улетим дальше.
Пока шел этот разговор, номер третий старательно обследовал травы, потом перевалил через холм и скрылся. Шастал, видимо, на планете, спускался на дно рек и морей, паучьими лапами цепляясь за камни, взбирался на скалы. Вернулся он часа через два, и почти в тот же миг в пилотскую кабину влетел ошеломленный Мистер Грей.
— Фантастика, шеф! Смотрите! — закричал он, подавая дозиметр.
— Невероятно! — воскликнул Свен. — Всего десять микрорентген в час. Что это, Асенька? Ошибка?
Послали в разведку еще двух роботов с другими приборами. Результат тот же — радиационный фон для жизни идеальный. Посовещавшись, муж и жена отпустили в поля Мистера Грея, и тот принес насекомых и растения с корнями. Женщина была биологом. Она исследовала живые образцы, просвечивала их лучами, рассматривала в микроскоп и наконец подняла на мужа растерянный взгляд:
— И в самом деле фантастика, Свен. Получается, что растения и насекомые за триста лет своего выживания начисто съели радиацию и остались прежними. Нет, чуточку изменились. Но в чем, не пойму. Здесь какая-то тайна.
— В элементарных многоклеточных? Тебе везде чудятся тайны. Ну-ну, не обижайся. — Свен обнял жену и поцеловал. — Все складывается прекрасно. Подремонтируемся и полетим дальше. К черту Землю, ставшую Окаянной!
Свен и Мистер Грей на лифте, миновав несколько этажей, спустились в кормовой отсек и крайне встревоженные вышли из корабля. Дела плохи, понял я, сле-1 дивший за ними. Две дюзы помяты, чуть выше в корпусе зияла огромная оплавленная дыра.
— Попали, негодяи! — Мистер Грей, потрясая кулаками, разразился такой витиеватой бранью, что я засомневался: робот ли он? Очень уж искусно копировал он человеческий гнев.
— Хватит, Грей. Руганью делу не поможешь, — хмурился Свен и, поднявшись в пилотскую кабину, посмотрел на жену с тревогой и жалостью: — Крепись, Асенька. Крепись, дорогая. Большая авария у нас. Дюзы смяты, в корпусе пробоина. Через нее вытекло почти все субсветовое топливо. Не только улететь, но и подняться над планетой не сможем. Мы пленники Окаянной.
Жена встретила эту весть мужественно и спокойно:
— Ну что ж, Свен. Не в таких передрягах мы побывали. Уж лучше быть робинзонами Окаянной, чем заключенными многолюдного концлагеря. Только вот как Катюша?
Но Катюша была в восторге. Она носилась на прилегающих к кораблю лужайках, радостно взвизгивала и кричала:
— Мистер Грей! Смотри! Васильки, ромашки, лютики совсем такие, как у нас дома.
— Внешне такие же, но внутри чуть другие.
— А не вредные они? Не ядовитые?
— Нет. Мама твоя объясняла, но я ничего…
— Ничего не понял! — рассмеялась девочка. — И я тоже. Давай выпустим сюда мелких зверюшек. Мышей, кроликов…
— А может, сразу лошадей и медведей? — насмешливо спросил Мистер Грей.
— А для чего мы их держим?
— Для чего, для чего, — ворчал Мистер Грей. — Хотели подарить жителям соседней планеты. Не получилось. Как были мы от них на сотни световых лет, так и остались. Эх, Катюша, застряли мы на Окаянной. Пропали мы.
Мистер Грей опустился на бугорок и горестно обхватил голову руками. Притворялся ли он или в самом деле страдал? Кто разберет этого полуробота-получеловека? Катюша присела рядом, гладила его по плечу, приговаривала:
— Не горюй, Мистер Грей. Красавчик ты наш добрый. Разве здесь плохо? И зверюшкам здесь будет хорошо. Отпустим?
Уговорила все-таки Катюша. Растрогала своими ласками Мистера Грея. Тот повеселел и расшалился, как дитя. Он влетел в раскрытый нижний люк корабля и вернулся с двумя какими-то ящичками. Открыл их и выпустил на волю, к восторгу девочки, пчел и бабочек. Потом вдруг опомнился и почесал затылок:
— Эх, и влетит же нам от шефа.
Но расстраивался Мистер Грей напрасно. Когда я, перевалив через холмы, ушел от корабля подальше и перестал слышать голоса девочки и Мистера Грея, то обнаружил в цветущих травах великое множество кузнечиков, пчел, стрекоз, бабочек. Так что лишний десяток не нарушит равновесие природы. Лишь животных и птиц не было здесь, а всего остального хоть отбавляй.
В голубой выси плыли тугие белобокие красавцы облака, внизу качались метелки трав, порхали бабочки и кружились золотые хороводы пчел. Я присел, не согнув при этом ни травинки, не спугнув ни единой пчелы. Призрак! И взвыл я от тоски и жгучих желаний. Господи! Окуни меня в шмелиный гул, в пахучую духоту клевера, в прохладу лесов. Дай мне все это. И не в призрачных чувствах, как сейчас, а в живых трепетных ощущениях, в земных звуках, в кружащих голову запахах.
Но глух остался тот, кто ведает моей космической судьбой. А кто ею ведает? Случай? Посидел еще немного я, с грустью полюбовался такой близкой и такой далекой земной жизнью. Потом, вздохнув, встал и невидимкой направился к кораблю. Покидать робинзо-нов пока не собирался. Помочь им я не в состоянии, но узнать могу многое. Услышать от них надо побольше о планете, на которой я когда-то, еще в мезозое, покуролесил и натворил что-то непонятное. Потом и старпом с Крысоедом, не без моей помощи, сделали что-то такое, отчего нормальная планета превратилась в безлюдную Окаянную.
Еще не доходя до корабля, с удивлением увидел над собой целые стаи птиц и услышал неожиданные звуки: кошачье мяуканье, поросячий визг. Я поднялся на холм, прошел сквозь высокие травы (как приятно было бы раздвигать их стебли настоящими, вещественными руками… но что поделаешь?), приблизился к кораблю и понял: робинзоны основательно устраиваются на планете. Для начала они решили заселить ее недостающей фауной. Мистер Грей выпустил на волю птиц, потом целую стайку мышей. В клетке маялись кошки, сидевшие до этого на диете, и горящими глазами смотрели, как убегает их такая лакомая, такая натуральная пища. Мистер Грей открыл клетку, и кошки тоже скрылись в траве. Потом он выпустил свиней.
— А если кошечки и хрюшки захотят кушать? — спросила девочка.
— Оставим на ночь кое-что в кормушках, — ответил Мистер Грей. — Но только немного. Пусть сами Учатся добывать.
Свена и его жену я нашел не в пилотской кабине, а этажом ниже, в большой куполообразной лаборатории. Женщина возилась с новыми живыми экземплярами этой планеты. Ее приборам был отведен доволь но скромный угол. Основную часть лаборатории занимали непонятные мне конструкции. Свен, высокий и сильный, управлялся с ними с поразительной легкостью, даже с каким-то изяществом. Его длинные и гибкие, как у музыканта, пальцы, видимо, давно привыкли к сложной компьютерной технике.
Муж и жена тихо переговаривались, и я не верил ушам своим: Свен строил машину времени! Он задумал проникнуть в далекое прошлое своей планеты, изменить ход ее истории. На ней, по его словам, не будет уже ни концлагерей, ни ядерных войн. Жена отнеслась к этой фантастической затее серьезно.
— Меня одно беспокоит: работа затянется, не вечные же мы с тобой. Да и тебе помощник нужен.
— О чем это ты? — удивился Свен и вдруг, улыбнувшись, подошел к жене, обнял ее и поцеловал. — Ты хочешь еще одного ребенка? А ты уверена, что у нас будет непременно сын?
— Почему-то уверена. Для него я и имя давно уже припасла.
— Знаю! Знаю! — рассмеялся муж. — Рудиан! Руди! Что ж, пусть будет по-твоему.
«Удачи им», — подумал я и покинул корабль, не подозревая, что здесь-то и поджидает новый виток в моей космической судьбе.
Ушел я с корабля с намерением ознакомиться с планетой. Птицей облетел по ее экватору, потом с севера на юг. Нет, Окаянной ее теперь не назовешь. Лишь на полюсах искрились ледяные шапки, свистели вечные снежные бури. Чуть ниже по меридиану над тундровыми мхами стлались карликовые деревья. На остальной же части планеты синели незамерзающие моря и океаны, на материках буйно зеленели леса, цвели поля с реками и речушками. Вода в них прозрачная и чистая, как алмаз. Вообще кругом как-то по-особому чисто и опрятно. Ни пыльных дорог, ни дымно коптящих заводов. И только кое-где на месте бывших городов, разрушенных войной и временем, — бурые проплешины ржавого железа, серые холмы камней и щебня с искрами битого стекла.
Вернулся я на закате, когда от корабля тянулась по холмам длинная вечерняя тень. Иллюминаторы уже светились, но в каютах и лаборатории — никого. Поселенцев я обнаружил в благоухающем корабельном саду. Муж и жена сидели на танцплощадке и слушали музыку. Только сейчас я разглядел их как следует.
Массивные плечи, крупный рот, строгий решительный взгляд серых глаз — все в мужчине дышало энергией и силой. Красавцем его, правда, не назовешь — слишком уж худое, с ранними морщинами лицо, на котором багровой подковой кривился шрам. Это стражник в концлагере заехал прикладом за какую-то мелкую провинность. Но жена его — красавица хоть куда. Особенно выделялись глубокие, с далекой грустинкой глаза и полные, изящно очерченные губы. Портили их лишь горькие складки у рта — тоже, видать, хватила лиха.
Зато здесь беглецы отводили душу и веселились как могли.
— Станцуем? — предложила жена.
Кружилась она в вальсе легко, с какой-то кокетливой грацией. Свен же топтался не в такт музыке, неуклюже, что вызывало у Мистера Грея ехидные реплики.
— Браво! — каркающим голосом восклицал он. Девочка хохотала и хлопала в ладоши. «Хорошая семья», — подумал я и вылетел наружу.
Солнце закатилось, в ночном небе сверкали крупные звезды, сияющей росой текла вечная река Млечного Пути. Из-за горизонта выплыло странное светило — какое-то серебристое облако с лохматыми краями.
Подлетел я к нему и увидел тучу освещенных солнцем каменных обломков. На одном из них торчали смятые ядерные ракеты, рядом, перекатываясь, валялись обледеневшие, в скафандрах, трупы. Все стало ясно — бывшая Луна.
Когда-то здесь была военная база — та самая, с которой пытались сбить беглецов. Потом с Луной что-то случилось. Во время войны отсюда, видимо, обстреляли свою матушку-планету и получили такую крепкую сдачу, что Луна разлетелась вдребезги. Если испепеленная планета чудом ожила, то спутница ее навеки останется поистине Окаянной.
Я выбрался из обломков, опустился на планету и на одном из холмов лег в тихие заснувшие травы. Настроение пакостное. Сверлила все та же мысль: может быть, и я повинен в том, что планета и ее спутница сбились с нормального, естественного пути развития? Вот прогулялся я миллиарды лет назад по планете ураганом, расчистил дорогу старпому и Крысоеду, а те довершили дело, вычисленное и предначертанное гнусной жабой. Но что я могу поделать сейчас? Я не в силах даже подсказать Свену, строившему машину времени, что зернышко зла посеяно еще в мезозойской эре.
Шли дни, золотым листопадом отшумела короткая осень, белыми снежинками промелькнула такая же короткая зима, и вновь зацвели травы, зазвенели в поднебесье жаворонки, выпушенные из корабля еще прошлым летом. А в лаборатории шла работа, ее ил-, люминаторы светились иной раз и по ночам. И задумал я хоть немного помочь работягам, поднять их настроение, окрылить их творческое воображение своими пастушьими, зовущими звуками свирели, Присел я как-то вечерком на одном из ближних к кораблю холмов, вынул из кармана свирель, дунул. и… ничего! Ни звука, ни малейшего колебания воздуха. В мезозое я хоть тысячной долей присутствовал в вещественном мире. Здесь же я полный нуль.
МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ
Подавленный неудачей, своим полным бессилием, я лег на траву и увидел над собой разгорающиеся звезды. И тут со мной начало твориться что-то странное. Неожиданно звезды задрожали, затуманились и стали гаснуть. Туманилось, тихо гасло и мое сознание. И вдруг я провалился в глубокий сон, чего с бестелесным духом никогда не бывает. Пробыл я в забытьи миг или год — сказать не могу. Но очнулся крохотным младенцем: я вступил в земной, в вещественный мир! Вошел в него все с тем же предвечным бессилием.
— Обмочился! Ха! Ха! Ха! Смотрите, малютка Руди обмочился, — услышал я чей-то каркающий голос.
— Ну и дурачина ты, Мистер Грей, — рассердилась какая-то девочка. — Не хохочи. Перемени пеленки и отнеси Руди в каюту.
И снова все погрузилось в глубокую, лишь временами редеющую мглу. Однажды мгла рассеялась, и вспоминается еще один миг моего земного бытия. Вспоминается опять же с постыдным бессилием.
— Мама! Падаю! — кричу я.
Меня подхватили ласковые мамины руки и повели. Мой овеществившийся бессмертный дух учился ходить на вещественных смертных ногах.
За пеленой забвения — то редеющего, то сгустившегося тумана — прошли еще дни и месяцы. Мое космическое «Я» осваивалось с земной жизнью, словно вживалось в материю, срасталось с ней в единое целое. И вот однажды туман рассеялся совсем, и я увидел мир ясным и незамутненным, как никогда до этого. Я уже свободно и с упоением бегаю в высоких пахучих травах, кругом горят цветы, гудят пчелы, стрекочут кузнечики. Рядом смеющаяся девочка, и я уже знаю, что это моя сестренка Катя.
На чистое ласковое небо вдруг наползли откуда-то мохнатые черные тучи, сверкнула молния, и на землю рухнул тяжелый грохот грома.
— Руди, бежим! Ливень! — весело крикнула сестренка и схватила меня за руку.
С хохотом и визгом, прыгая через вспенившиеся ручейки и лужи, мы заскочили в наш высоченный дом, поднялись на лифте в лабораторию, и я увидел маму с папой и смешного Мистера Грея.
Впрочем, забылся я и незаконно присваиваю себе имя Руди. То был уже не я. Формировалась новая личность с неясными следами моего далекого космического «Я». Один такой след очень не устраивал папу.
— Слишком уж у него игривое и образное восприятие мира, — проворчал он.
Руди не понимал, чем он огорчил папу, но мама как будто обрадовалась:
— Вот и хорошо. Растет художественно одаренный мальчик.
— Мне нужен не художник, а ученый и мастеровой, — продолжал ворчать папа, потом махнул рукой и рассмеялся. — Так уж и быть, Ася. Сдаюсь. Пусть для тебя он будет художник, а для меня мастер на все руки. Смотри, Руди, как весело пляшут огоньки, как кувыркаются цифры. Забавно? Останься с нами и учись у Мистера Грея.
— Рано ему вертеться здесь, — заупрямилась мама. — Уведи его, Катюша, в сад и поиграй на рояле. Он любит музыку.
Но сегодня, когда за окнами-иллюминаторами сверкали молнии и грохотал гром, мальчику хотелось послушать какую-нибудь страшную сказку об огненных драконах, летающих в черных тучах, о битвах в небесах и на земле. Воображением в такие минуты он уносился далеко-далеко, в непонятные ему самому волшебные страны.
Тем же летом Руди и сам научился читать. Ему по-прежнему нравились сказки, но еще больше полюбились книги о той планете, на которой когда-то очень давно жили мама, папа и сестренка. Хорошая была планета.
Нравилась ему и сегодняшняя планета, которую мама с папой называют почему-то Окаянной. Он уходил подальше от корабля и погружался в медовые ароматы клевера и белой кашки, в сонный гул шмелей и пчел, в звонкие трели жаворонка.
— Да ты, Руди, сжился, просто сросся с Окаянной, не оторвешь, — улыбнувшись, сказал папа за ужином.
— Все-таки это его родина, — вздохнула мама. — Детские радости, быть может, его единственная доля счастья на этой планете.
Детские радости ждали мальчика и вечерами, когда в небе загорались звезды и светилось пугающее лохматое облако, которое папа называл бывшей Луной. В уютном корабельном саду играла музыка, Мистер Грей лихо кувыркался в своих смешных акробатических плясках. Потом кружились в вальсе папа с мамой. Учился танцевать и мальчик.
Но вот пришла осень, и Руди приступил к серьезным занятиям. Папа учил математике и физике, мама — биологии и литературе. Она же показывала фильмы о жизни планеты, с которой, как догадывался мальчик, мама с папой просто удрали.
Однажды он спросил:
— Папа, а почему ты свою прежнюю планету называешь планетой дураков? Там жили умные люди. Они написали много хороших и умных книг.
— Видишь ли, Руди, все это было до того, как власть захватили эти… Как бы их назвать?
— Может быть, фанатики? — подсказала мама.
— Да, да! Фанатики и негодяи. Они перебили всех умных людей и устроили такое… А не показать ли, что там было?
— Нет! Нет! — Мама в ужасе замахала руками. — Слишком страшно. Пусть подрастет и тогда посмотрит те фильмы. Сначала покажем ему нашу планету. Да и сами посмотрим. Завтра же.
Утром улетели они на авиетке в другие края, парили над морями и материками, спускались и ходили в тропических джунглях с их диковинными крупными цветами.
— Смотри, Руди, какая красота! — восторгалась мама. — Три года прошло, как мы выпустили фазанов и павлинов. А сейчас их здесь полно. Какие яркие птицы! А кругом пальмы, магнолии. Нравится здесь?
— Ничего, — согласился Руди. — Но дома все-таки лучше.
— Вот видишь, — рассмеялся папа. — Скромные синички и березки ему милее. Все-таки родина.
Не знали папа и мама: родные края стали мальчику еще милее потому, что он открыл для себя чарующий мир поэзии. Близилась осень. Руди слушал шорох падающих листьев, шелест крыльев птиц, улетающих в теплые края, и сами собой шептались у него заученные наизусть волшебные строки стихов. Когда стало совсем холодно, Руди пришлось чаще сидеть дома и учить уроки. Но вот за окнами-иллюминаторами промелькнула слезливая осень, потом короткая зима с сухим и редким снежком, и вновь зацвели луга. Руди вновь уходил, словно уплывал, в шелестящие волны трав, и приходили на память звучные, как музыка, слова поэтов о весне, о нежной зелени листвы… Этой весной он нашел за холмами речку. На берегу стояли заросли с клейкой и пахучей зеленью лозняка. Из глины мальчик лепил фигурки людей и лошадей. Однажды получилась у него большая красивая птица. Она, по его мнению, будет летать уже не в пространстве. Она заменит машину времени, которую папа и Мистер Грей мастерят сейчас в лаборатории. Но пока у них ничего не выходит.
Из отходов той машины, из ее решетчатых длинных деталей Мистер Грей соорудил мост через речку, и Руди перешел на другой берег.
— Далеко не убегай. — Мистер Грей погрозил пальцем. — А то заблудишься, и будут тебя искать эти дубины, летающие страшные пауки.
Руди и не собирался убегать. Берег, высокий и сухой, с пылающими огоньками одуванчиков, ему понравился. Но за тающей утренней дымкой синели вдали до того таинственные рощи, что мальчик все-таки не удержался. Оглядываясь назад и стараясь запомнить дорогу, он выбрался из прибрежного кустарника, миновал большую поляну и вошел в рощу из каких-то очень древних и высоких тополей. Особенно поражал тополь с толстым перекрученным стволом, наростами, буграми и дуплами. Руди сел на корень, над ним наподобие седой бороды свисала с ветвей бахрома лишайника. «Ну и ну, — подумал мальчик. — До чего старый тополь».
— Дедушка! — вслух сказал Руди. — Так я буду тебя звать, ладно?
И вдруг в шелесте листвы послышался шепот:
Хорош-шо, хорош-шо. «Почудилось», — подумал мальчик и взглянул вверх. Дымились тоненькие солнечные лучики, сумевшие пробиться сквозь густую листву, чернело гнездо. Оттуда вылетела сорока, уселась на ветку прямо над головой мальчика и застрекотала:
— Хор-рошее имя придумал. Хор-рошее.
Руди испугался, выскочил из-под шелестящих ветвей и с удивлением уставился на тополь. Здесь и нашла его сестренка.
— Идем обедать, Руди.
— Смотри. — Руди показал на старый тополь. — Умное дерево. И птицы там живут умные. Они говорят. Послушаем?
Брат и сестра посидели на корнях под тополем минут пять. И ничего — ни шепота листьев, ни малейшего звука. Только сорока изредка выпархивала из гнезда, улетала куда-то и возвращалась, неся в клюве что-то вкусное для своих птенцов.
— Выдумал ты все! — рассердилась сестра. — Идем. На полпути к берегу реки брат и сестра услышали позади стрекочущий голос:
— Р-руди! Р-руди! Постой!
Сорока села на куст перед ребятами. Онемевшая от изумления сестра, раскрыв рот, смотрела на говорящую птицу.
— Хор-роший мальчик, Р-руди. Хор-роший. Дедушке ты понр-равился. Пр-риходи. Пр-риходи.
За обедом папа выслушал детей и нахмурился:
— И ты веришь, Катя, всякой ерунде? Сбил тебя с толку Руди, затуманил голову всякой дурью. Художник, видите ли! Сочинитель!
— Не так все просто, Свен, — возразила мама — Уцелевшие корни и зерна проросли сквозь радиоактивный пепел, как после лесного пожара. В резко изменившихся условиях растительный мир за сотни лет выживания прошел эволюционный путь с самыми неожиданными мутационными сдвигами. После обеда схожу с Руди и посмотрю. — Взглянув на сына, она улыбнулась: — Может быть, услышим?
Но ничего не услышали. Старик тополь молчал, вообще все в роще заснуло под палящими лучами полуденного солнца. Не стучал дятел, спрятались от жары синицы. И лишь сорока изредка улетала куда-то с деловитым видом, возвращалась и не обращала на людей никакого внимания.
Пристыженный и обиженный, Руди сидел под старым тополем и прислушивался. Ничего, ни звука. Изредка налетит легкий ветерок, прошелестит в листве, и снова тишина. Мама через увеличительное стекло рассматривала кору тополя. Потом уходила к соседним деревьям. Она осторожно срывала листья, выкапывала какие-то корешки. С этой добычей она вернулась в лабораторию и за ужином сказала:
— И в самом деле, Свен, деревья странные. Наряду с фотосинтезом в них происходят очень сложные процессы. Особенно непонятно биополе у самого старого тополя. Как ты называешь его, Руди?
— Дедушка.
— И впрямь патриарх, ему сотни и сотни лет. Говорить вряд ли умеет. Но вполне возможно, что дерево…
— Думает! — насмешливо подсказал папа.
— А почему бы и нет? — рассердилась мама. — Ты совсем закоснел со своими машинами. Эти дубины… Прости, Мистер Грей, я не о тебе. Да, да! Твои дубины не мыслят, а перебирают варианты. А дерево такой же живой организм, как и ты. Оно может чувствовать, переживать и даже… Не смейся! Даже думать.
Руди впервые видел, как поссорились мама и папа. После ужина, закончившегося в полном молчании, папа усмехнулся и сказал:
— Идем, Мистер Грей, к машинам. Мы же с тобой дубины…
Вечером, уже в корабельном саду, родители помирились, а утром папа погладил сына по голове и улыбнулся:
— Ну, фантазер, так и быть. Иди к своему деду. Только не слишком сочиняй, не мути голову Кате вы думками.
Примчался Руди в знакомую рошу, сел под старым тополем, прислушался. И опять ничего. Ни звука, ни шелеста. И вдруг:
— Приш-шел. Хорош-шо.
— Говори, дедушка! Говори! — воскликнул Руди.
— Тиш-ше.
Мальчик услышал уже не шепот, а внятный голос.
— Говори тише. Я все понимаю.
— Дедушка учится нашему языку, — подумал вслух Руди.
— Молодец, мальчик. Сообразил. Учусь.
И вдруг дедушка замолчал, словно испугался чего-то. Руди обернулся и понял, в чем дело: к тополю подошли мама и сестренка.
— Посидим, Катюша, послушаем, — предложила мама.
Присели. Прошло минут пять, но дедушка упорно молчал.
— Ну сиди, выдумщик, — улыбнулась мама. — Может быть, сказку придумаешь. Идем, Катюша, не будем мешать.
— Ну и фантазер ты, Руди, — рассмеялась сестренка. — Сочинитель!
Когда мама и сестренка ушли, снова возник шелестящий голос:
— Уш-шли. Хорош-шо.
— Почему молчал?
— Взрослые не поймут меня. Не поверят.
— Это взрослые не поймут? Нехороший ты, дед. Подвел меня.
Смеяться надо мной будут.
Не на шутку обиженный, мальчик ушел. Уже на мосту его нагнала сорока, присела на перила и голосом сестренки застрекотала:
— Ну и дур-рачина ты, Р-руди. Дур-рачина. С дедушкой пор-ругался. Он хор-роший. Вер-рнись.
— Да ну вас! — сердито отмахнулся Руди. — Опозорили вы меня.
Сорока улетела, а мальчик задумался: «Может, и впрямь мне все это чудится? Пойду-ка лучше к папе в лабораторию».
— Вот и Руди! — обрадовался папа. — А мы тут с Мистером Греем запарились. Задачка попалась вроде бы и простая, а решить не можем. Отупели мы от работы, что ли? Помоги.
За спиной мальчика отец подмигнул Мистеру Грею и подсунул сыну листок с цифрами и формулами. Задачка показалась Руди знакомой, похожие он решал на уроках. Он подумал немного и написал ответ.
— Вот! — воскликнул Руди.
— А ведь верно! — удивился папа. — Молодец! Вот что, малыш. Трудно нам с Мистером Греем. Помогай, когда сможешь.
Хитростью и простительной лестью удалось отцу заинтересовать сына своей машиной. По утрам Руди заходил в ее кабину, похожую на большой шкаф, знакомился с пультом управления, понемногу начал разбираться в схемах и чертежах. Потом помогал монтировать экран. Вот на нем-то папа и надеялся Увидеть картинки из прошлых времен.
После обеда Руди с книгой в руках забирался в густые и высокие травы, в настоящие джунгли с беспрерывно стрекочущими и жужжащими насекомыми. Кружили голову ароматы и пчелиный гул. Кружили голову и стихи. Шепотом и вполголоса Руди декларировал полюбившихся поэтов. И вдруг с волнением почувствовал однажды, что из души просится на ружу что-то свое. Мальчик торопливо записал на полях$7
Вечером, когда папа уставал, мальчик вместе с ним рыбачил на небольшом озере, затерявшемся среди березовых рощ. Хорошо здесь, уютно. На полянке паслись две лошади с жеребенком, на дереве, под которым примостились с удочками отец с сыном, вертелась белка. А живности в озере развелось видимо-невидимо. Вечернюю тишину то и дело нарушали всплески: резвилась рыбешка, играла.
— Заселилась планета, — сказал папа. — А ведь до тебя, Руди, здесь и были только комары.
Эти пискливые твари, однако, здорово донимали рыбаков. Приходилось прятаться в горьковатом дыме костра. Пока в котелке варилась уха, отец рассказывал о своей покинутой родине, и Руди начинал понимать, почему папа называл ее планетой дураков. — Жили люди сначала нормально, — говорил папа. — Самые способные и образованные писали книги, сочиняли музыку, изобретали машины. Самые деловитые владели и управляли промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. Вот они-то, самые одаренные и деловитые, были побогаче, чем остальные. Что поделаешь, сынок, люди разные и жить должны по-разному. Но находились умники, которые утверждали, что люди одинаковые и жить должны одинаково.
— Знаю! — воскликнул Руди. — Мама рассказывала на уроках истории, что был такой великий мудрец. Он учил, что все люди равны. Разве не так?
— Великий мудрец, — усмехнулся папа. — Звали его Дальвери. Мы потом покажем тебе фильмы об этом мудреце, и ты поймешь, что говорил он глупости. Нет› руди, люди разные. В этом сила и жизнеспособность общества. Люди должны быть равны только в одном — в равных возможностях проявлять ум, дарования, трудолюбие. Дальвери же, захвативший власть и объявивший себя великим мудрецом, учил другому: в имущественном неравенстве и других бедах виноваты умные, одаренные и работящие. Дескать, слишком они выделяются, уравнять их надо со всеми. А как? Загнать в концлагеря, а еще проще — перебить. А все накопленные ими богатства поделить поровну. Многим понравилась эта мудрость. Особенно дуракам и лодырям. Как же — равенство! Все принадлежит всем! Работать можно будет кое-как, спустя рукава. А потом, в сказочном будущем, вообще не работать. Да, многих сбил с толку великий мудрец и натворил такое… Эх, погубил, мерзавец, великий и одаренный народ! Отец опустил голову и горько задумался.
— Не расстраивайся, пап, — утешал Руди. — Мы же с тобой работаем. Только не пойму, что мы можем сделать?
— Многое можем, малыш, — оживился отец и поведал такое, после чего мальчика уже трудно было оторвать от машины времени.
Строили ее не для забавы, а для очень интересного и трудного дела. Папа хотел на машине спуститься в прошлое планеты и найти, где и кем посеяно зернышко зла.
— Важно застать зло в самом начале, — говорил отец. — Не сделаешь этого — зло разрастется в обществе так, что выкорчевать его будет уже невозможно. Нам, во всяком случае. В жизни планеты случилось что-то непонятное, произошел какой-то неестественный сдвиг. Надо застать этот первый миг, с корнем вырвать зло и вернуть человечество на естественный путь развития.
На уроках истории Руди с мамой не раз гадали, в акой эпохе и кто уронил это зернышко зла и как оно выглядело. Все, может быть, началось с неприметно мелочи: с выхода какой-нибудь книги, с убийства ил даже случайного поворота в судьбе важного для истории человека.
Но вот отгорело еще одно лето, на полях погасл огоньки одуванчиков и лютиков, а на деревьях и ку стах расцветала радуга осени. И каких только листь ев здесь не было: желтые, оранжевые, алые и даже голубые. Стояли на редкость прозрачные, ясные дни. А кругом такая тишина, что казалось, и ветры уснули в небесах. Хрустальное, паутинно-серебристое беззвучие осени нарушалось лишь шорохом падающих листьев и волнующими звуками в вышине. Курлыкали журавли, гоготали гуси — косяками улетали птицы на юг, в теплые края. И какая-то сладкая истома, острая печаль томила душу Руди, невольно возникали созвучия слов, звонкие строки и рифмы. Сравнивал мальчик с тем, что получалось у прославленных поэтов. Временами казалось, что у него выходит не хуже. Музыка слов играла в его душе, переливалась в его ушах. И так не один день. Однажды Руди умчался с осенних полей, шумно влетел в каюту, увидел папу с мамой, сестренку и радостно закричал: — Послушайте, что у меня получилось. Вы только послушайте!
Отшумели грозы,
Отцвели поля.
В золоте березы,
В инее земля.
Птичьи караваны
Тянутся на юг,
Где шуршат бананы,
Где не знают вьюг.
Там, за дымкой синей, —
Синие моря.
Все же ты красивей,
Родина моя.
Всех ты мне дороже.
Лишь на краткий миг
Душу потревожит
Журавлиный крик.
Огненно красивый
Лес стоит стеной…
Край ты мой любимый,
Край ты мой родной.
— Родной ты мой! — Мама вдруг зарыдала, обняла Руди. — Какие мы с тобой несчастные. И всех несчастнее ты. Прости нас, сыночек. Прости. Горький наш сыночек.
— Не надо, Асенька, — уговаривал папа, но и сам он прослезился. — Теперь уж ничего не поделаешь.
— Да что с вами? — испугался Руди. — Разве плохие стихи?
— В том-то и дело, что хорошие. Мне они, во всяком случае, нравятся. — Папа показал на стул. — Давай, сын, присядем и поговорим серьезно. Вот в чем дело, Руди. Видели мы, как ты прошлым летом с увлечением лепил из глины лошадок, фигурки людей. Обычные детские забавы — старался я убедить себя. Но сейчас-то окончательно понял, что ты очень талантлив. Очень! К сожалению, мама права.
— Почему — к сожалению? — удивился Руди.
— Прости, не так выразился. Сам по себе художественный дар — это великое счастье. Но не здесь, не на этой горькой и безлюдной планете. Тебе нужно общество, признание людей…
— Ничего мне не нужно, — насупился Руди. — Мне нужно, чтобы вам было хорошо. Знаю, тебе нужен не художник, а мастеровой и помощник. И буду им. Буду!
И Руди изо всех сил старался забыть о стихах и Других забавах, вникал во все папины дела. Машина Ремени — главное, цель — одна. Руди не отходил от тна, помогал как мог. В делах незаметно отпылала осень, за окнами лаборатории просвистела вьюгами еще одна зима, и вновь зацвели поля, зазвенели леса птичьими голосами.
За год Руди заметно вырос, повзрослел, и стало твориться с ним что-то странное. Нет, стихи здесь ни при чем. С ним самим случилось что-то совсем непонятное. Не раз, когда Руди гулял в вечерних засыпающих полях, и в небе огненной росой высыпали звезды, его душа распахивалась навстречу чему-то тревожно далекому, в груди теснилось что-то невысказанное и забытое. Завораживающий страх охватывал мальчика, и томили вопросы: «Кто я в этой звездной бесконечности? Откуда я? И где был раньше?»
Как раз в эти дни ему начали показывать фильмы о тех временах, когда, по словам папы, погиб великий и одаренный народ. Многое Руди уже знал из рассказов родителей. Но когда наглядно увидел, как за колючей проволокой люди умирали от лишений и побоев, у него мурашки поползли по спине. Показали ему и чудом сохранившиеся секретные кадры: на пулеметную вышку в сопровождении телохранителей поднимается лысенький, полненький коротышка. Ничего не говорила мальчику внешность этого плюгавенького человечка. Но в усмешке, в жестах чудилось что-то страшно знакомое. Скрытый от всех, человечек с любопытством наблюдает с высоты, как убивают ненавистных ему «умников»: вешают, протыкают штыками, отрубают руки, ноги, головы… Сияя лысиной и самодовольно потирая руки, коротышка пробормотал: «Прекрасно! Как это прекрасно!» — и разразился таким жутким хохотом, что Руди вздрогнул и закричал:
— Старпом! Это Старпом!
Мама оторвалась от экрана и с удивлением посмотрела на испуганного сына:
— Что с тобой, Руди?
— Старпом какой-то, — усмехнулся папа. — Чудит что-то наш сочинитель. Выдумывает. Никакой это не старпом, а тот самый великий мудрец и деспот Дальвери. После него пришел к власти его преемник Сальвери. И тоже его величали великим мудрецом и вождем. Тип пострашнее. Смотри и не выдумывай.
К горлу мальчика подступила тошнота, когда на экране замелькали казни и жуткие пытки. Распоряжается ими и даже сам пытает уже другой «мудрец» — сухощавый, жилистый, с какой-то лисьей остренькой физиономией. В глубоких глазницах так и зыркали злые, колючие глазенки.
— Узнал! — закричал Руди. — Ругайте меня, но я вспомнил. Это же Крысоед! Палач Крысоед!
Мама вскрикнула и в ужасе зажала рот руками. Папа выключил экран и в крайнем изумлении уставился на сына.
— Откуда, малыш, взялось у тебя это слово? — спросил он и обратился к маме: — Ты ничего ему не говорила?
— Нет, нет! Что ты!
— Страшное слово, — сказал отец, с удивлением разглядывая сына. — Но откуда оно выскочило у тебя?
— Не знаю, — растерялся мальчик.
— Да, тысячи людей погибли из-за этого слова, — продолжал папа. — Человека, произнесшего это слово, немедленно расстреливали. Уничтожали и тех, кто мог услышать от него это страшное слово, — родных, друзей, даже случайных знакомых. Как оно появилось? Вот послушай, малыш. Умирая, Дальвери в полубредовом состоянии накарябал — иначе не скажешь — политическое обращение, что-то вроде завещания. Совесть в нем заговорила, что ли? Но он писал, что назначить Сальери его преемником нельзя, что это лютый зверь, что это бывший…
— Тиранозавр, — вырвалось у Руди.
И снова мама ахнула. Отец, откинувшись на спинку кресла, ошеломленно пробормотал:
— Это уже какая-то мистика. — И вдруг рассмеялся. — Вон оно что! Ты знаешь этого самого свирепого доисторического хищника из учебника зоологии и назвал его сейчас просто так? Случайно?
— Случайно, — неуверенно сказал Руди.
— Вот и доверенные люди, читавшие посмертное обращение, решили, что это случайная описка. Но дальше в завещании несколько раз и далеко не случайно утверждалось, что это бывший палач по кличке Крысоед. Доверенные и очень немногие люди посчитали, что завещание написано в бреду, и скрыли его от общественности, потом уничтожили. Уничтожил Крысоед и самих доверенных лиц. Но словечко «Крысоед» как-то проникло в широкие массы. Шепотком и посмеиваясь, люди рассказывали анекдоты и находили, что кличка Крысоед очень подходит новому великому мудрецу. А тот, узнав, пришел в ярость и приказал немедленно истреблять всех, кто рассказывал или мог слышать эти анекдоты. Да, многие головы полетели, но ехидное словечко «Крысоед» выкорчевать так и не удалось. Но как ты, малыш, мог узнать это страшное слово? Чертовщина!
Утро следующего дня выдалось таким сияющим, с такими звонкими трелями жаворонка, что мальчик, забыв обо всем и словно освободившись от чего-то, с радостью носился по полям. Вечером он, правда, вглядывался в темнеющее небо и в звездные дали, но прежнего ощущения странности и бесконечности своего «Я» уже не возникало. В вечернем небе его занимало другое странное явление. С бесформенным серебристым облаком, с этой грудой обломков, что-то происходило. Облако удлинилось и стало походить на вытянутую светящуюся тучу. Папа объяснил, что обломки Луны трутся друг о друга, превращаются в мелкие камешки. Вращаясь по прежней лунной орбите, пыль и камешки опояшут планету сначала дугой, а потом серебристым кольцом.
— Как у Сатурна! — обрадовался мальчик. — Красиво будет.
— Не столько красиво, сколько страшно, — усмехнулся отец. — Все это напоминает о том, что и Земля могла разлететься вдребезги. Но кольцо появится не скоро. К тому времени мы, надеюсь, закончим работу.
Но шли дни, приближалась осень, а дело с машиной времени не ладилось.
— Хотя бы увидеть на экране прошлое той планеты, — говорил отец, называя свою покинутую родину уже не планетой дураков, а просто той планетой.
Руди знал, что папа пытается, как он выразился, сначала визуально проторить дорогу в глубь веков и лишь потом отправиться по этой тропе уже не на экране, а по-настоящему. Но экран все так же тускло поблескивал свинцово-матовой поверхностью.
Но однажды, когда за окнами-иллюминаторами промелькнула осень и уже порхали легкие снежинки, экран засветился. Появилось дрожащее, а потом устойчивое изображение старинного города. Дома деревянные, изредка попадались двух-трехэтажные каменные, люди в длиннополых кафтанах бегают по улицам, что-то кричат (звука не было) и с ужасом смотрят вверх. Там, в вечернем небе, когда солнце упало за горизонт, разгоралась одинокая звезда. Она накалялась, росла, разбухала прямо на глазах и по светимости почти не Уступала Солнцу. А люди на ночных и внезапно осветившихся улицах суетятся, тыкают пальцами в небо, из Их широко разинутых ртов как будто так и слышатся панические вопли: «Конец света!»
— Вспомнил! — закричал Мистер Грей. — Шеф, это знаменитый взрыв сверхновой. Скорее заснять!
Засняли. Л когда экран машины времени погас, историческое событие сохранилось на пленке. В лаборатории потушили свет (за окнами уже наступила ночь) и просматривали новый, очень небольшой фильм.
Мистер Грей принес из библиотеки книги и альбомы с рисунками старинного художника, изобразившего знаменитое и так напугавшее людей небесное явление. Сравнили. Фотографировать люди тогда еще не умели, и художник не всегда был точен, но совпадение с фильмом почти идеальное.
— Ур-ра! — ликовали пленники Окаянной.
— Несите шампанское! — закричал Мистер Грей. — Пировать будем.
— Ты же не пьешь. Ты великий трезвенник, — рассмеялась мама.
— По этому случаю напьюсь в дым! Посуду бить буду! — разошелся Мистер Грей.
Кроме шампанского, мама поставила на стол вазы с фруктами, собранными поблизости в лесах и рощах. Разрешили выпить и Руди с Катей. Больше всех пил Мистер Грей, но, к своему огорчению, никакого опьянения не чувствовал.
— Не расстраивайся, — утешала мама. — У тебя без шампанского голова кружится от успеха.
Веселились почти до утра. За столом как-то незаметно у родителей возник разговор об удивительном случае, когда сын будто бы вспомнил Крысоеда, тиранозавра и какого-то старпома.
— Откуда у тебя, Руди, выскочила такая память о прошлом? — удивлялся отец. — Словно на экране нашей машины времени.
— Брось, пап, я уже забыл об этом, — сказал Руди. — Случайно оговорился. Вот и все.
Вот И я убеждаю маму, что это чистая случайность. Фантастическая случайность.
— Нет, Свен. Это не случайность, — возразила мама. — Это бессмертие души.
— Не морочь голову сыну мистикой! — рассердился отец и насупился. Но сын, зная, чем все это закончится, с улыбкой смотрел на отца. Так и есть! Папа махнул рукой и добродушно рассмеялся: — А ты знаешь, Руди, кто такая мама у тебя?
— Знаю. Верующая. Но она верит не в обычного Бога, а в другое. Это бывает у многих и очень серьезных ученых. Они верят в высший духовный…
— В духовный постулат? — подсказал папа. — Ишь ты, как рассуждать начал.
— Он вообще сильно повзрослел, — сказала мама. — Ты этого не заметил.
— Заметил, — улыбался отец, с удовольствием глядя на сына. — Вымахал тебе по плечо. Будет таким же дылдой, как и я. Но голова черноволосая. Твоя голова. С такими же фантазиями.
Весной отец с сыном снова расположились с удочками на берегу того же озера и под тем же деревом. Но мальчику не сиделось на месте. Уж больно хорошо кругом. Он вскакивал, убегал за рощу, где паслись лошади, зелеными волнами колыхались травы и золотыми брызгами сверкали одуванчики и лютики. Возвращался и видел, что папа сидит все в той же позе, ко всему безучастный и не заметивший даже прыгающего поплавка.
— Клюет! — воскликнул Руди.
— Что? — вздрогнув и будто очнувшись, спросил отец.
— Да что с тобой, папа? О чем задумался? — Садись, сынок, — сказал отец и, почему-то оглянувшись по сторонам, зашептал: — Есть о чем задуматься. Что-то непонятное делается на планете. Вот мы с тобой недавно просматривали еще раз все схемы и блоки, и я понял, что экран не мог показать взрьц сверхновой, не мог визуально проникнуть в прошлое, Еще рано. Кто-то посторонний и с довольно близкого, расстояния послал нам изображение исторического события. Выудил из прошлого и послал.
— Не может быть! — испугался Руди. — На планете, кроме нас, никого нет.
— Никого. Но проверить еще раз надо.
Утром отец послал в дальнюю разведку ползающих, бегающих и летающих паукообразных роботов. Сам жт на авиетке с приборами на борту летал во все стороны-а ны, кружил над морями, материками и даже над закованными в лед полюсами. Через несколько дней вместеи с сыном сверил показания своих приборов с показание ями обшаривших всю планету роботов.
— На планете, кроме нас, никого, — сказал оя сыну. — И никаких технических средств, способных излучать волны. Только никому не говори, даже Мистеру Грею. Пусть думает, что это наш успех. Будем работать.
Через несколько дней отец повеселел и шепнул сыну:
— А вдруг я ошибся? Обнадеживает меня вот этот блок. Видишь? Но переусложнили мы его, мигнул он разик, выхватил кусочек прошлого и погас. Разобраться ся надо в нем и в других блоках. Учись, сынок, особенно налегай на физику и математику.
Через два года, когда Руди исполнилось четырнадцать лет, стал он отцу серьезным помощником. Работал и учился Руди с таким ожесточением, что мама начала беспокоиться.
— Надорвешься, Руди. Упаси Боже, случится то же, что и с Катюшей.
Катя стала высокой, вся в отца, белокурой красавицей. Но каждой весной она покашливала, на бледном лице появлялся нездоровый румянец.
— Туберкулез она унесла еще с той планеты, — возразил отец. — Здесь не концлагерь, осенью ей станет лучше.
— Вы работаете как в концлагере, — сердилась мама. — И Катюша, глядя на вас, извелась. Что поделаешь, характер у нее такой же дурацкий, как у меня.
— Дурацкий, — усмехнувшись, согласился папа. — Все переживаете. Заботливые, как няньки. А что, сынок, отдохнем-ка мы эту весну и лето на Лазурном берегу. Помнишь? Мистер Грей вместе с роботами соорудит нам на песчаном пляже этакое колониальное бунгало.
Через несколько дней Мистер Грей доложил, что бунгало готово. Пленники Окаянной поднялись на авиетке, покружили, прощаясь с насиженным местом, и улетели на юг. На берегу океана, который отец с сыном давно заприметили и назвали Лазурным, поселились в доме, сооруженном из тростника и бамбука. По утрам загорали, играли в волейбол. Мистер Грей один заменял целую команду и нередко обыгрывал своих соперников. Обедали в тени пальм, а вечером родители усаживались на берегу, любовались лазурными далями и тихим закатом, слушали музыку, доносившуюся из бунгало. Катя играла на рояле, а Руди на флейте. Но сегодня у них что-то не ладилось.
— Что с тобой, Руди? — участливо спросила сестра. — Какой-то ты задумчивый, рассеянный…
— А ты видела, как постарели мама с папой?
— А ты только сегодня заметил? Мама уже давно жалуется на сердце. Папа сгорбился, хуже у него стало с почками. Отбили их у него еще в концлагере. Досталось им там, — со вздохом сказала Катя и заплакала. — Эх, Руди, умрут они, и останемся мы с тобой на Окаянно одни.
— Не смей плакать. — Руди сурово сдвинул брови. Не порть им настроение. Клянусь, Катя, я все сдела чтобы им было хорошо. Буду работать как черт.
— Ты и так черт одержимый. — Сестра улыбнула сквозь слезы. — И за тобой мне надо присматривать.
С тех пор Катя незаметно подкрадывалась к сидя щему на пляже брату и, посмеиваясь, стирала вып санные на песке цифры и формулы.
— Дома наработаешься, — решительно заявляла она. — Идем купаться.
Руди нетерпеливо отмахивался. Но однажды, свире по сдвинув брови, погрозил кулаком:
— Если еще раз помешаешь, поколочу! — И, потеплев, шепнул на ухо сестре: — У меня родилась грандиозная идея.
На следующий день отец, внимательно изучив начертанные на песке схемы и формулы, по достоинств оценил «грандиозную идею»:
— Молодец! У меня тоже напрашивались похожи мысли. Но где возьмем микроаппаратуру? Нужны cnef циальные заводы и лаборатории.
— А пульт управления кораблем? Возьмем оттуда, кое-что переделаем. Например, приборы ориентировки в пространстве переналадим на ориентировку во времени.
— Разворовывать пульт управления? — нахмурился отец. — Впрочем, ты прав. Ни к чему сейчас пульт. Но права и Катюша, — рассмеялся он. — Видишь, дергает меня за рукав. Идем купаться, а твои идеи обсудим дома. Прошло месяца два. Отцвели магнолии с их одуря" ющими густыми ароматами, гнулись пальмы под тяже-стью созревающих орехов, наливались соками мясистые бананы. Наряду с консервированной корабельной пищей на столе появились свежие апельсины, нежные персики и груши, виноград и ягоды. В палящий зной жажду утоляли соком кокосовых орехов. Отдых удался бы на славу, если бы не встревоживший всех призрак. Мистер Грей, боявшийся всякой мистики, даже изрядно перетрусил.
Однажды ранним утром, когда над океаном еще висела предрассветная мгла, мелькнуло вдали что-то белое и скрылось.
— Паруса! Шхуна! — воскликнул Руди.
— Почудилось, — усмехнулся отец. — Начитался морских романов, вот и мерещатся пираты.
— А если не почудилось? — возразила мама. — Мне тоже что-то показалось. Но парус ли?
Вставало солнце, разгоняя лучами утреннюю дымку, вновь показались ярко освещенные паруса и тут же скрылись в завитках тумана.
— Яхта! — удивился отец и, усмехнувшись, закончил на иронической ноте: — На этой чертовой планете бывают и миражи. Посмотрим, какое чудо она подарит нам на этот раз.
Дымка рассеялась, и выступила яхта, тихо и торжественно.
— Как явление Христа народу, — насмешливо прокомментировал отец и замолк, увидев на палубе фигуру какого-то человека.
— Это же ты, — в ужасе прошептал Мистер Грей стоявшему рядом Руди. — Мне страшно. Там второй Руди.
Яхта подплывала, и в высоком молодом человеке Все узнали Руди, но уже повзрослевшего, с суровой складкой на лбу. Человек протянул руки к берегу и заговорил знакомым голосом:
" Родные мои! Простите, потревожил я вас. Не Могу без вас. Не могу. — Молодой человек присло-Ился к мачте и заплакал.
— Руди! Сынок! — дико закричала мама и, зарыдав кинулась к яхте.
Отец и Катя удержали ее у самой воды.
— Опомнись, Ася, — успокаивал отец. — Это всего лишь призрак. Смотри.
Яхта развернулась, поднялся ветер и наполнил паруса. Яхта уплывала в курившуюся дымку. И не поймешь — то ли она слилась с дымкой, то ли исчезла с‹ всем.
— Говорил же, что это мираж, — сказал отец. Маме стало плохо с сердцем. Ее увели в бунгало, дали лекарств. Когда полегчало, она согласилась мужем:
— Мираж, Свен. Какую, однако, злую шутку сыграл с нами туман.
Но верила ли она, что это был лишь мираж? Труд, но сказать. Еще три недели семья отдыхала на Лазурном берегу. Играли в волейбол, купались, загорали, мама то и дело вглядывалась в синие океанские дали не покажется ли парус?
«Отец прав. На планете, кроме нас, есть еще кто-то, — думал Руди. Но с какой целью он подкинул фокус с призраком? Друг ли он?»
Но вот вернулись на корабль, глянули в систему зеркал, дающую стереоскопический эффект, и счастливо ахнули.
— Мы помолодели на сто лет! — хохотала Катя. — Смотрите, у мамы ни морщинки. А загорела, как негр.
Сама Катя заметно пополнела, ее щеки покрылись здоровым бронзовым загаром. А Руди посмеивался над отцом:
— Ты жутко растолстел, папа. Стал ленив и неповоротлив, как бегемот. Как же мы будем работать? Вскоре и осень разгулялась за иллюминаторами, кружилась шумными хороводами листьев. Потом запор" хали снежинки. Отец с сыном зимой работали, по выражению мамы, с остервенением. Весной и летом позволяли себе отдых. Рыбачили, варили уху. Иногда засиживались у костра до ночи, вглядываясь в звездное небо. Там серебристая туча, состоящая из пыли и обломков бывшей Луны, еще больше вытянулась, изогнулась и опоясала планету красивым полукольцом.
ДЕДУШКА ТОПОЛЬ
Прошло четыре года. Из деталей и блоков, взятых с пульта управления кораблем, соорудили свой пульт для новой машины времени. Мистер Грей восторгался, предрекал ей великое будущее. Но Руди недовольно хмурился, и к девятнадцати годам на лбу его пролегла та самая вертикальная суровая складка, что была у призрака на яхте. «Хоть бы увидеть что-нибудь», — думал он, вглядываясь в равнодушный серо-свинцовый экран. И вдруг однажды на нем скользнули искры, послышался шум, похожий на лепет древесной листвы.
— Звуки! — заволновался отец. — На прежнем экране их не было. Это звуки прошлого.
Экран засветился, появилась макушка дерева, звеневшего глянцевитыми, словно лакированными, листьями. На нижнем суку притаился полосатый хищник с громадными, в полметра длиной, клыками. Бесшумно, как кошка, переминаясь лапами, хищник рыкнул и прыгнул на спину какого-то крупного животного, Пробегавшего мимо. Животное взревело, метнулось в сторону и скрылось вместе с хищником, вцепившимся в затылок.
— Саблезубый тигр! — воскликнул Руди. — Отец, То Доледниковый период, миоцен.
— Точнее, олигоцен, — поправил отец. — Фильм, Мистер Грей, снимай фильм. Видишь? Мастодонт.
Под деревом, треша ветвями, неуклюже ворочалось огромное животное и хоботом срывало охапки листь] ев. Вскоре с гулким топотом выступило целое стадо мастодонтов и направилось к синеющему вдали озеру. Вечер — пора водопоя. Солнце, перечеркнутое сизыми тучами, скрылось за горизонтом, в потемневшем небе алмазной пылью рассыпались звезды. Одна из них заискрилась и начала разбухать, стремительно разгораться. Мастодонты спокойно пили воду, но, когда все вокруг внезапно озарилось ярким светом, в панике разбежались. Ночная тишина взорвалась гулом, топотом, ревом.
— Сверхновая звезда! — закричал Мистер Грей.
— Опять сверхновая! — удивился Руди.
— Это знамение, — прошептал отец.
— Что ты, папа? Такой трезвомыслящий человеке как ты, и вдруг суеверия.
«До чего постарел, — с болью в сердце подумай Руди. — Это старческое суеверие».
— Нет, сынок. Это знамение послал нам кто-то. Оч близко, он знает, что со сверхновой связано для нар что-то очень важное. Завтра поищи его, обшарь планету. Без меня. Я что-то плохо чувствую себя.
С утра Мистер Грей разослал во все стороны роботом Руди на авиетке летал над тундрой и таити, над полями и рощами. Опускался на пустыри, где когда-то были города. Но и здесь ничего подозрительного. Только щебень, ржавый металл, битое стекло.
На прощанье Руди с грустью покружил над Лазурным берегом и опустевшим бунгало. И вдруг заметил в океане крохотный островок с двумя-тремя десятками веерных и кокосовых пальм. «А мы и не знали» И подумал он и опустился на остров. И сразу же увидел-окурки! Руди вздрогнул и оглянулся. Здесь кто-то был! Кто-то чужой! В семье никто не курил, и вообще на корабле нет ни одной сигареты.
«Это же он наследил, — сообразил Руди. — Тот самый призрак, мое подобие». Юноша обошел островок вдоль и поперек. И ничего, ни малейших следов, кроме окурков. Они хорошо сохранились, потому что лежали в глубокой впадине между сухими корнями очень старой пальмы с мохнатой корой и густой листвой. Недалеко от пальмы, под обрывом, синела бухточка, удобная для стоянки яхты. «И яхта, и я-призрак, — с усмешкой подумал Руди. — Дикие номера откалывает эта дикая планета».
Руди вернулся на корабль, но об окурках на острове никому не сказал. Надо работать, решил он.
Но прошел год, и юноша начал подозревать, что они не только топчутся на месте, но и забрели в тупик. А тут еще отец все чаще уходил в каюту передохнуть. Постарел он очень сильно, как-то сразу надломился его когда-то могучий организм. Да и мама все чаще жаловалась на сердце.
Однажды поздним вечером Руди вышел из корабля. Оттуда ни звука — ни смеха, ни музыки. Давно забылись веселые, шумные вечеринки, давно не зажигались огни в саду кают-компании. Лишь один иллюминатор светился, там у постели больного отца мама и сестра.
Чувство безнадежности охватило юношу, холодом повеяло из мировых глубин. Звезды казались ему льдинками, пляшущими в черном омуте Вселенной, а светящееся пыльное полукольцо бывшей Луны — снежной метелью. Руди повалился на траву и заплакал. «Вот умрет отец, что буду делать? Как быть?»
Но первой умерла мама. Скончалась на руках дочери, встретившей смерть матери на удивление спокойно. Похоронили маму на холмике недалеко от корабля. На могиле поставили деревянный крест.
— Так пожелала мама, — пояснила Катя и шепнула на ухо брату: — Она сказала, что увидимся в другом мире. Ты веришь этому?
— Нет, этому не верю. Как и папа, знаю, что никакого другого мира нет.
— Все-то вы знаете, — усмехнулась Катя. — А я вот не знаю. И это помогает мне жить. И вам помогу.
И в самом деле помогала. Не так, конечно, как искусный Мистер Грей, не ловкостью рук и знаниями, а чем-то более важным. Она присутствовала при всех ответственных экспериментах с машиной времени, шутками и насмешками подзадоривала отца и брата.
— Для тебя ведь стараемся, — улыбался отец. — Руди доведет дело до конца и унесет тебя в иное время, в сказочную страну. А я останусь здесь, рядом с мамой. Нет, нет! Не возражайте, мне не дотянуть.
Через год брат и сестра похоронили отца рядом с мамой. Крепившаяся до этого Катя разрыдалась:
— Вот и остались мы, Руди, вдвоем.
— Не смей плакать! — прикрикнул Руди, стараясь суровостью скрыть свое отчаяние.
— Смотрите, какой страшный, — сквозь слезы улыбнулась Катя.
«Она у меня молодец», — с нежностью подумал Руди и мысленно поклялся никогда не грубить сестре. Закончив хозяйственные дела, она всегда заходила в лабораторию. И теплее становилось на душе у брата.
— Ты скоро заменишь мне Мистера Грея, — пошутил он однажды. — Отлынивать он стал, разленилсяа — Заболел он.
— То есть как это? — удивился Руди. — Ах да, понимаю. Где он?
Мистер Грей сидел на кухне перед иллюминатором и безучастно смотрел на проплывающие облака.
— Печень у меня барахлит, — пожаловался он. Брат и сестра вскрыли у Мистера Грея пластиковый живот и заменили «печень» — электронный блок питания. Мистер Грей при этом отчаянно выл и визжал.
— Операцию без наркоза делаете! — кричал он. — Изверги вы! Варвары! Душегубы!
— Не притворяйся, — рассмеялась Катя, понимавшая, что, потешно изображая человеческую боль, Мистер Грей старается развеселить брата и сестру.
— Сердце у тебя тоже пошаливает, — заметил Руди. — Лечись сам. Детали можешь брать у этих, у «пауков». Ни к чему они сейчас, да и энергия на исходе.
Ради экономии энергии даже завтраки и обеды готовили на костре, а потом на очаге, который смастерил Мистер Грей рядом с кораблем.
Однажды ранним утром, когда Катя и Мистер Грей готовили завтрак, Руди ушел далеко в поле. Вот и речка, мостик, уже изрядно покосившийся от времени. А за ним синела вдали почти забытая тополиная роща. Юноша перешел мостик и будто шагнул в давно минувшее детство. Защемило в груди, закружилась голова от запаха трав, от гудения проснувшихся пчел. Не в силах бороться с зовами детства, промелькнувшего как сон, как журавлиный крик в вышине, Руди сел под тем самым мшистым старым тополем и подумал: «А не плюнуть ли на все и уйти в природу?» Он взглянул на розовые облака, башнями громоздившиеся на горизонте, услышал ликующую песню жаворонка. Разве это не счастье? «Нет, — усмехнулся Руди. — Жить бездумной птичьей жизнью — это страшно. А самое главное — мой долг. Я должен довести дело родителей до конца. Но как? С машиной времени ничего не получается. И не получится. Никогда». От этой внезапно возникшей и беспощадно ясной мысли юноше стало так жутко, что он обхватил голову руками и застонал. И вдруг услышал голос:
— Не отчаивайся, мальчик.
— Я уже не мальчик, — обиделся Руди и, вздрогнув, оглянулся по сторонам.
— Ах, извините, пожалуйста. Забыл. Ты сейчас взрослый дяденька. — Насмешливый голос слышался из кустарника, в котором еще вился утренний туман. И голос как будто знакомый.
«Дед. Опять он мне чудится», — подумал Руди и, закрыв глаза, представил: вот сейчас выйдет из кустарника самый настоящий дед, этакий патриарх с седой окладистой бородой и в лаптях. Кустарник зашумел, оттуда как будто и в самом деле кто-то вышел. Руди открыл глаза и обомлел: перед ним на бугристых корнях сидит дед. Не в лаптях, правда, а в старых стоптанных сапогах. На нем серые штаны с неумело пришитыми заплатами на коленях и пиджачок, мешковато сидевший на худых плечах. Но лицо точно такое, какое нарисовал Руди в своем воображении: густая белая борода и веер морщинок вокруг веселых насмешливых глаз.
— Ты… ты мираж?
— Ха! Ха! Ха! Господи, до чего забавные эти люди, — расхохотался дед. — Увидят хоть чуть-чуть необычное и сразу же: «Караул! Мистика! Мираж!»
Руди присмотрелся. Сквозь ветви упал лучик света и заиграл, заискрился на седой бороде. Кружившийся вверху сухой лист опустился на дедово плечо, с шорохом скользнул по пиджаку и упал на землю. Ничего не скажешь, все — как в действительности. Желая убедиться в осязаемости деда, Руди пощупал его штаны и даже подергал их. Да так неловко, что заплата затрещала, разошлась по шву и повисла лоскутом. — Но-но! — нахмурился дед. — Зачем же штаны рвать.
— Смешной ты, дедушка, — несмело улыбнулся Руди. — Ну как есть живой.
— Я и есть живой. Ты видишь мою человеческую ипостась, шагнувшую в пространство из дерева.
— Из дерева? Ты одновременно и человек, и вот этот древний тополь? Что за чушь?
— Вот что, мальчик… Ой, извини, пожалуйста. Ты уже большой дяденька, — хохотнул дед и, посерьезнев, продолжал: — Вот что, дяденька Руди. Отнесись внимательно к тому, что услышишь. Это очень важно. Только с моей помощью ты сумеешь проникнуть в прошлое и вернуть планету на прежний и нормальный путь развития.
— Не шути, дед. — От волнения у Руди заколотилось сердце. — Для меня это и в самом деле важнее жизни. Не шути.
— Я и не шучу. Отбрось привычные представления и пойми, что на этой планете все пошло наперекосяк после ядерной войны. Появились какие-то вихри во времени. Животный мир погиб, а растительный приспособился.
— Верю, дедушка. — Сердце у Руди все еще трепыхалось от волнения. — Верю. Еще мама говорила, что отдельные, и чаще всего старые деревья усложнились так, что могут чувствовать и думать как люди. Но разве это возможно? Я так понимаю: высокоорганизованным и мыслящим организм становится только в случае, если овладеет способностью передвигаться в пространстве. Но ты же, как дерево, прикован к месту.
— Правильно рассуждаешь. Ты смышленый мальчик… Извини. Привык считать тебя мальчиком, — усмехнулся дед и показал рукой на кусты и травы, на соседние деревья. — Видишь? Никто не шагнет, не сдвинется с места. Растительный мир вообще не знает ни пространства, ни времени. Животные обладают чуть большей свободой. Они овладели пространством, передвигаются, бегают, но ничегошеньки не знают о времени. Для них нет ни будущего, ни прошлого. Они живут только настоящим моментом. А вот вы, люди, обладаете еще большей степенью свободы. Фу!.. Устал я от ученых лекций и вто же время привык к ним. Я ведь был когда-то профессором.
— Профессором? — удивленно шепнул Руди.
— Ну-ну, дружок. Не падай в обморок, — улыбнулся дед. — Услышишь и не такое, привыкай. Но обо всем по порядку. Итак, люди обладают большей степенью свободы, чем животные. Вы овладели пространством и знаете о времени, изучаете прошлое и строите планы на будущее. И все же вы рабы времени, не способны ни на миг шагнуть в будущее и прошлое! Но зато как овладели пространством! — вздохнул дед. — Даже завидно. Вы ходите пешком, стремительно передвигаетесь на машинах и даже летаете к звездам. Ах как завидно! А я вот прикован к месту. Но моя беспомощность в пространстве с лихвой возмещается свободой во времени. Потому и стал я существом мыслящим, что хожу пешком в веках.
— Пешком в веках, — прошептал Руди. — Вот мне бы так… Завидно, но поверить трудно. Но постой! — воскликнул он. — Ты же сейчас двигаешься. В качестве человека живешь и в пространстве.
— Только вблизи своего истинного тела, вблизи дерева, — с сожалением сказал дед. — Смотри.
Дед встал и начал удаляться от своего «тела» — старого тополя. С каждым шагом он туманился, таял и шагах в двадцати от дерева исчез совсем. Затем он вновь вышел из воздуха, как из тумана, подошел к тополю и Уселся на корнях в своем прежнем виде.
— Понял? Моя человеческая ипостась держится в пространстве силой моего биополя — биополя дерева. С расстоянием эта сила убывает, убываю и я в своем человеческом виде. Веришь?
— Да, складно получается, — согласился Руди. — А во времени далеко ходишь?
— Далеко, милый. Ой как далеко. Дошел до мезозойской эры и начал догадываться, что зернышко зла посеяно там.
— Зернышко зла! — воскликнул Руди. — Откуда знаешь о зернышке? Ты что, подслушивал нас?
— Несколько раз пришлось. Временами сила моего биополя нарастает, и раза три невидимкой побывал в вашей лаборатории. Бедненькие мои, как мучаетесь со своей дурацкой машиной времени. Невдомек людям, что не дурацкий бездушный механизм, а живой организм может передвигаться во времени.
— «Дурацкий механизм»! — обиделся юноша. — А экран этого механизма уже два раза показал неоспоримые исторические факты.
— Так это же я показал. Выудил из прошлого фактики и послал.
— Ты? — Руди вскочил на ноги. — Вот оно что!
— Да успокойся же. Садись и слушай. Руди сел и с бьющимся сердцем заговорил:
— Дедушка! Миленький! Складно все получается. Убедительно. Верю тебе. А мне поможешь?
— Конечно. Вместе сходим в прошлое, выведаем и сделаем все, что надо. — И вдруг дед приложил палец к губам и зашептал: — Тс-с-с. В другой раз. Мешают.
— Говори же, дедушка. Говори. Не уходи.
Но дед ушел. Он встал и, удалившись от своего дерева-дома, затуманился, исчез. В тот же миг Руди услышал за спиной голос сестры:
— Руди, иди же! Завтрак готов.
Руди обернулся, Катя подбежала и, запыхавшись, встала перед братом:
— Ой, Руди. Как я испугалась. Мне показалось, что перед тобой кто-то сидел.
— Тебе показалось! — воскликнул Руди и с радостью подумал: «Стало быть, дед — не мираж». Он обнял сестру и счастливо зашептал: — Ой, Катя, какие удивительные мысли приходили ко мне под этим старым тополем! В следующий раз не мешай мне здесь думать.
После завтрака, прошедшего с шутками и смехом, Руди и Мистер Грей ушли в лабораторию. Закончив свои дела, зашла туда и Катя. И радовалась, смеялась. Давно она не видела брата в таком приподнятом настроении.
— Теперь у вас дело пойдет, — улыбнулась она.
— Не очень-то пойдет, — пробурчал Мистер Грей. — Легкомысленный стал Руди. Кузнечик!
— Кузнечик! — хохотала Катя. — При чем тут кузнечик?
— Прыгает мыслями, как кузнечик, — хмуро бормотал Мистер Грей.
— О Мистер Грей, — удивилась Катя. — Ты не только красавчик. Ты еще и поэт. Какое сравнение!
— С такими несерьезным шефом еще не таких поэтических вольностей и сравнений нахватаешься. От него у меня появились эти поэзы. Заразился, — продолжал бубнить Мистер Грей.
— Не ворчи, — рассмеялся Руди и обнял Мистера Грея. — Не ворчи, дружище. А ты, Катя, не слушай этого нытика. Дела у нас теперь пойдут, — убеждал он сестру, хотя и сознавал, что копается он с Мистером Греем скорее по привычке. Не на машину он надеялся, а на что-то новое, почти сказочное.
Вспомнился мудрый дед, перевернувший его привычные представления. Человек — господин пространства, но раб времени. Верно, согласился Руди и словно увидел такую картину: бурный поток времени несет человека, словно соломинку, из прошлого через пороги и водовороты настоящего в неведомое будущее. Юноша зябко передернул плечами. Неуютная, обидная для человека картина, но с этим ничего не поделаешь. В этом Руди убедился на собственном многолетнем опыте. Тут уж дед прав.
— Не сходить ли к нему? — вслух подумал Руди.
— К кому? — улыбнулась Катя. — К старому тополю? Тебе там хорошо думается? Сходи.
Отправился туда Руди уже под вечер, когда в травах затихли легкомысленные, по выражению Мистера Грея, кузнечики и закат золотыми брызгами расплескался по верхушкам тополей. На прежнем месте сидел дед.
— Так и знал, что придешь, — рассмеялся он. — Не терпится молодцу. Не терпится. Садись, поговорим.
— Я согласен, дедушка, что чудовищная радиация крепко подстегнула, ускорила эволюцию. Но неужели на планете никого больше нет, кроме тебя? Ведь мыслящее существо не может жить без общества себе подобных.
— Верно, не может. У меня много друзей в прошлом.
— А здесь? В настоящем? Мама говорила, что весь растительный мир здесь сильно переменился.
— Имеешь в виду моих соседей? Несмышленыши еще они, далеко им до мысли и до человеческого образа. Вот этот ближний ко мне тополь иногда выходит в пространство в образе сороки.
— Сороки?
Это она трещала мне человеческим голосом? Мне не почудилось?
— Она, проказница. Приручил я ее, научил говорить то моим голосом, то голосом твоей сестры. Хочешь послушать? Эй, подружка! Где ты? Садись на меня.
Откуда ни возьмись — сорока. Уселась на нижнем суку старого тополя, увидела Руди и застрекотала, заговорила голосом сестренки:
— Ну и дур-рачина ты, Руди! Дур-рачина!
— Но-но! Не оскорбляй. — Дед погрозил птице пальцем. — Он сейчас поумнел. Убирайся, грубиянка.
Сорока послушно улетела, а Руди спросил:
— Ну а на планете есть еще подобные тебе?
— Есть, совсем рядом. Видел на берегу реки старую-престарую вербу?
— Видел. Она вот-вот упадет в воду. Склонилась и сгорбилась, как старушка.
— Она и в человеческом образе уже скрючилась. И не старушка она, а старая ведьма, — проворчал дед.
— Что так? — улыбнулся Руди. — Поссорились, что ли?
— Поругались, — нахмурился дед и вдруг захихикал. — Влюбились дуры в аксельбанты. Какие аксельбанты, спрашиваешь? Живет в недалеком прошлом ясень. Высокий такой, стройный. Он и в человеческом образе стройный. Ничего не скажешь, видный мужчина, в нарядной морской форме и с аксельбантами на груди. В эти побрякушки и влюбились старые дуры. Хи! Хи! Хи!
— А кто вторая дура? — с улыбкой спросил Руди.
— Лично ее не знаю. Растет она пальмой далеко отсюда, в океане, на крохотном островке. В молодости, говорят, была красавицей и звали ее Пальмирой. Но сейчас старуха.
— С бугристыми жилистыми корнями, с мохнатым скривившимся стволом, — подхватил Руди, вспомнив Лазурный берег, островок и древнюю пальму.
— Точно! — удивился дед. — Мне ее так и расписывали. Но ты-то откуда ее знаешь? Ах да! Вы, кажется, отдыхали на берегу океана. Недалеко от берега тот самый островок, а на нем та самая старуха пальма. От мужчины-ясеня она вообще без памяти. И не столько аксельбанты ей полюбились, сколько яхта.
— Яхта! Так это приплывал он! Он! — воскликнул Руди и рассказал удивленному деду происшествие с призраком. — Это он напугал нас. Чем? Да тем, что очень похож на меня.
— Вряд ли это он, — подумав, покачал головой дед. — Его расписывали мне эти дуры словно картинку. Не похож он на тебя. К тому же он вообще никогда не был у нас, иначе поднял бы здесь такой тарарам!..
— Тарарам? Он очень шумный?
— Не говори. Просто сладу нет. За это и не любят его, никто с ним не дружит, кроме одной девчонки, ее, видишь ли, тоже ордена и аксельбанты прельстили. Черт бы с ними, с этими аксельбантами, но сам-то он уж больно шумный. Неуемный какой-то. Энергия в нем, видишь ли, так и кипит. Так и кипит. Представляешь, что он наделал? Проник в будущее, когда уже люди появились. Как он пробрался туда — уму непостижимо. Проник туда тайно… Представляешь, какой жулик? Украл у людей топор, пилу, еще что-то и начал вокруг себя деревья рубить. Каков негодяй! А? Ему плевать, что деревья живые, им тоже больно. Треск, грохот, щепки летят… Этому негодяю, видишь ли, яхта нужна. И полюбилась яхта этой дуре Пальмире, полюбилась пуще аксельбантов. Кстати, ясеня она почтительно называет по имени.
— А как его зовут?
— Забыл что-то… А, вспомнил! Старпом!
— Старпом! — Руди вскочил как ужаленный. — Мистика какая-то! Чертовщина!
— Ты что всполошился?
— Да так, дедушка, — успокоившись и присев, сказал Руди. — Совпадение. Так называли одного моего знакомого.
— Нехороший твой знакомый, — проворчал дед.
— Уж хуже некуда, — усмехнулся Руди. — Давай поговорим о другом, о нашем деле.
— А не попить ли нам чайку?
— Чайку? Ах да! Твои собратья-деревья даже яхты строят, а уж чайку заварить — для вас пара пустяков.
Дед собрат около старого тополя сучья, сухие листья, потом дал Руди неведомо откуда взявшийся котелок:
— Сбегай за водой, а я костерок разожгу.
Руди подбежал к реке. На воде дробились и колыхались лучи заходящего солнца. Заметно вечерело. Вот уже на небе выступили крупные звезды. Слева Руди увидел склонившуюся над водой ту самую дряблую вербу и… ее человеческую ипостась — старую-престарую сгорбившуюся старушку. Она вглядывалась в сторону тополиной рощи и ворчала:
— Огонь палит… Тьфу, старый дуралей.
— Шпионит за мной, старая карга, — нахмурился дед, когда Руди, вернувшись, рассказал о старушке. — Шпионит, а потом доносит своему этому… яхтсмену.
Дед поставил на камни над огнем котелок, насыпал заварку — какие-то зерна и травы. Пока закипала вода, он рассказывал о своей молодости:
— Уже тогда я пристрастился к чайку. Но еще слаще вечерние лучи. Видишь, как они, уходя, играют, скачут по вершинкам тополей — алые, розовые, золотые. А я ловлю их своими губами-листьями, пью. О, какая радость — пить вечерние лучи!
— Да ты отчаянный жизнелюб, — рассмеялся Руди. — Ну а детство свое помнишь? Самое раннее?
— Смутно очень. Помню, что я рос, корнями ощущал приятную влагу, ветвями — тепло, а листьями видел мир — вот эту реку, поля, солнечный свет и, Наконец, ночные звезды. Я видел Вселенную! И начал размышлять о ней, о тайне всего сущего, своими корнями чувствовал токи, идущие снизу, из прошлого. Вместе с ними приходили как будто новые знания, и я умнел, взрослел. И однажды осознал себя личностью, живущей во времени.
— Странно, что у дерева сформировалась именно человеческая личность, а не какая-либо другая.
— А я до тополиной жизни был человеком.
— То есть как это? Таким же обыкновенным человеком, как я?
— Ну конечно. И не однажды. Правда, все свои далекие людские жизни не помню. А вот последнюю иногда припоминаю. Кажется, я был профессором Сор-боннского университета.
— Ну, дед, это уже сказки.
— Вот что, милый юноша. Сейчас приступим к самому для тебя страшному, — хохотнул дед. — Страшному потому, что ты закоренелый материалист. Я ведь тоже материалист, но не такой, как ты. Как бы это сказать…
— Не такой примитивный? — усмехнулся Руди.
— Откровенно говоря, да. Сейчас услышишь вещи до того для тебя оглушительные, что брякнешься в обморок или завопишь: «Караул! Мистика!»
— Ничего, дедушка. Валяй. Я уже ко многому привык.
— А чайку! — спохватился дед и, вскочив на ноги, забегал, засуетился. — Ах я, ротозей! Забыл!
Руди и не заметил, как наступила ночь. Листья тополей серебрились под ливнем лунных лучей, а на стволах плясали розовые отсветы угасающего костра. Дед, все еще поругивая себя, сел и подал Руди кружку, сделанную как будто из древесной коры. Дед понюхал чай, отпил два глотка и сказал:
— Чай неважнецкий, но пить можно.
Дед явно скромничал. Чай получился у него отменный — сладкий, пахнущий шалфейными и медовыми ароматами полей. Дед пил и жмурился — не то от удовольствия, не то его просто клонило ко сну. «Устал он», — подумал Руди и начал поторапливать.
— Итак, ты был раньше профессором. Но не в виде же дерева?
— Конечно. Я и мои друзья-деревья были раньше обыкновенными людьми. Умерли мы кто когда, но давненько. Ой как давненько… Бессмертными духами летали мы по Вселенной. И занесло нас наконец на эту странную планету, и наши бессмертные личности нашли свое вещественное пристанище вот в этих, еще более странных деревьях.
— Бессмертие? — прошептал Руди. — Бред какой-то.
— Бред?! — Дед до того обиделся, что Руди испугался, как бы он сейчас не ушел.
— Нет, дедушка, нет! Говори. Я слушаю. Постараюсь понять, найти в твоих словах рациональное зерно.
— Рационалист он, видите ли, материалист, — пробормотал дед и замолк.
— Ты куда это клонишь? К Богу? Дед, а дед!
— Ась? Извини, чуток вздремнул.
— Что же получается? Мы с тобой бессмертны?
— Господи, до чего устал, — позевывая, сказал дед. — Сон сморил меня. Иду спать. Да и тебе пора.
Какой там сон! Все перевернулось в голове вверх тормашками. Дед «ушел», рассеялся в ночной мгле, а Руди побежал к своему дому-кораблю, подошел к темнеющим на холмике могилам родителей и молитвенно сложил руки: «Помогите! Научите, как думать и что делать?» С щемящей грустью вспомнил он папу и маму и будто услышал их голоса. И легче стало на душе, наваждение улетучилось. Врет все дед! Да и был ли он на самом деле? Не пригрезился ли?
— А ты разве не пойдешь сегодня к своему тополю-старикану? — с улыбкой спросила утром сестра.
Руди махнул рукой.
— Нет, хватит с меня… — Чуть было не сказал «галлюцинаций», но спохватился и подумал: «А что, если посоветоваться с ней?» — Хочу провериться в твое кабинете.
— И ты доверяешь моим знаниям?
— Доверяю. Ты была у мамы старательной ученицей. В медицинском кабинете Руди сел в кресло и поморщился, сейчас вцепятся «пиявки»! Многочисленные датчики-«пиявки» зашевелились, змеями поползли к запястьям, к груди, к вискам и присосались. На табло заплясали цифры, кривились какие-то цветные линии.
— Все то же самое, — глядя на табло, сказала Катя. — Все внутренние органы в порядке, но вот сердце…
— Опять ты о моем сердце, — недовольно прервал Руди. — Меня интересует голова. Не могут ли возникать у меня какие-нибудь галлюцинации?
— Ни в коем случае. Психика уравновешенная, но чувствуется усталость. Такое впечатление, что сегодня ты не выспался.
— Вот это верно, мысли одолевали, — признался Руди.
— Твои мысли тяжко отзываются на сердце.
— Да не причитай ты над моим сердцем, — рассердился Руди и сорвал с себя датчики. Увидев обиженно поникшую Катю, он вскочил, обнял ее и с захлестнувшей душу нежностью зашептал: — Прости, сестренка. Не очень-то я ласков с тобой. Ну прости, родненькая. Одна ты у меня.
— Прощаю, — сквозь слезы улыбнулась Катя — Но не обижайся, если скажу правду. Чувствует мое сердечко, что не получится у нас с машиной времени. Папа был лучшим в мире электронщиком — и не получилось. Брось ты это. Суждено нам остаться этом времени, ну и ладно. Проживем, и неплохо проживем, еще с полсотни лет.
— Ну, насчет того, чтобы остаться, это ты зря. Я обязан проникнуть в прошлое и все сделать, чтобы вернуть нашу родную планету на прежний и нормальный путь развития. Это мой долг перед мамой и папой. Понимаешь? Святой долг.
— Долг! Долг! Посмотри, на кого ты похож со своим долгом! — Катя вцепилась в рукав брата и подвела его к зеркалу.
— Вижу, — усмехнулся Руди, впервые по-настоящему разглядывая себя в зеркале. — А по-моему, ничего. Статный, как молодой тополь.
— Ты вообще красив. Но посмотри, что сделал твой долг. Седые пряди на висках, упрямая складка на лбу и чуть ли не фанатический блеск в глазах. Ты целеустремлен, как… как…
— Как птица в полете, — с улыбкой подсказал Руди.
— Нет, как дьявол в этом… в походе. Ой, запуталась я.
— Запуталась, сестренка, запуталась! — расхохотался Руди. — Идем завтракать, а потом весь день будем отдыхать. Мы с Мистером Греем пойдем с удочками на озеро, а ты в лес по грибы.
Мистер Грей оказался превосходным рыболовом. С дьявольским чутьем он улавливал момент клева, мигом вскидывал удилище — и на крючке, серебрясь на солнце, неизменно трепыхалась рыба. И обед получился превосходным: ароматная уха, жареные грибы, свежие ягоды. Вечером Мистер Грей мешал брату и сестре слушать музыку, то предлагая сыграть в карты (он стал ловким шулером), то нашептывая Руди на ухо:
— Шеф, а шеф. Машина наша того… ржавеет. «Ну и пусть ржавеет, — подумал Руди. — Пойду завтра к деду. Послушаю чепуху о бессмертии, а потом дед, может, и научит своему умению ходить а прошлое».
Ранним утром, когда мистер Грей готовил на костре завтрак, Руди пришел в рощу и сел под древним тополем на его корявые старые корни. Под робкими лучами встающего солнца сверкнули листья на макушках тополей, медленно рассеивался туман. Тишина. Вдруг треснула сухая ветка, из редеющей дымки выступил дед и, сладко жмурясь на солнце, проговорил:
— Ах как хорошо утречком прогуляться. Ах как приятно.
— Не прогуляться ты вышел, — усмехнулся Руди. -4 Смущать мою душу явился, старый Мефистофель.
— Подумаешь, какой Фауст нашелся, — проворчал дед и сел напротив юноши. — Не Фауст ты, а жалкий трус. Бессмертия испугался, а уж на Бога… Бедненький ты мой Боженька, да он готов на тебя с кулаками наброситься.
— Не морочь голову, дед. В мире нет ничего, кроме единой материальной субстанции.
— Тьфу ты пропасть! — рассердился дед. — Вцепился в свою субстанцию и ни с места. Дай ему в качестве субстанции кусок глины, камень, вообще что-нибудь твердое, что можно пощупать. Помнится, кто-то сказал: стукнуться лбом об стену — это еще не значит изучить стену. Вот вы, люди, стукнулись лбом об свою видимую субстанцию, как об стену, и решили, что все изучили, все знаете. А ведь за этой видимой стеной невидимый мир, которому нет конца и краю. Посмотри на эту стену-субстанцию. — Дед показал на утренние поля, на небесную высь. — Видишь, как, просыпаясь от сна, ликует природа. О чем она грустит в вечерние часы и чему радуется сейчас? Она хотела бы сказать, да не может.
«И в самом деле не может», — подумал Руди, глядя на синеющие вдали рощи, на голубое небо. Там, в небесной выси, чему-то радуются, звонко заливаются и будто смеются невидимые отсюда жаворонки. Словно воздух и само небо смеются. А еще выше, за невидимыми жаворонками — невидимые звезды. А за ними… Что же за ними?" Вечная и бесконечная жизнь? Вдруг у Руди перехватило дыхание, и в голову стукнули знакомые с детства жутковатые и бездонные вопросы: «Кто я? Откуда я? Оттуда?»
Видимо, и с дедом случилось что-то похожее — у него расширились глаза и ошеломленно раскрылся рот. С минуту дед и Руди молча и как-то странно глядели друг на друга.
— Дед, а дед? — испуганно прошептал Руди. — Что это было с нами?
— Не знаю, — тоже шепотом ответил дед. — Странная минутка промелькнула, очень странная. Минутка-вестница?
— Что все это значит? Вот ты, наша мысль, деревья и поля, облака и жаворонки? А там, за ними? — Руди показал на небо. — Что все это? Бесконечный Бог? Его сон?
— Вот этого, милый, никто не знает и никогда не узнает. Будем считать, что есть бесконечная в своих возможностях природа.
— А бессмертие? — В душе у Руди загорелась вдруг отчаянная надежда. Папа и мама! Неужто живы? По-иному, но живы? — Бессмертие, дед? Есть оно? Веришь?
— Не только верю, но твердо знаю из собственного опыта.
— Ну хорошо. Предположим, что ты помнишь свои прошлые жизни. Но почему люди не помнят?
— Это запрет природы. Подумай, что случилось ы› если бы все люди знали о своем бессмертии? Да °ни все или почти все, избегая жизненных трудностей или просто из любопытства — а что там? — кончали бы жизнь самоубийством в надежде на лучшую долю в будущем. И тогда разумной вещественной жизни не было бы вовсе. Мудрая природа положила предел, дала вам инстинкт самосохранения и незнание о бессмертии душ, оставив лишь догадки.
«Звучит убедительно и логично, — подумал Руди. — Но что это со мной? Неужели я, материалист, поверил в чепуху о бессмертии?» И с грустной усмешкой Руди постучал по стволу дерева. Его, дедова дерева. — Слышишь гулкий звук? Он говорит об изъеденных червями пустотах.
— Да, вот мой нынешний вещественный образ скоро разрушится. В пространстве я исчезну, но останусь во времени. И через годы мой мыслящий дух неизбежно возникнет вновь в вещественном мире. Где? В каком образе? Не знаю.
— Почему же ты не кончаешь жизнь самоубийством? Хотя бы из любопытства.
— Так и знал, что ты задашь этот нелепый вопрос, — рассмеялся дед. — Во-первых, не смогу. Мои возможности в пространстве ограничены. А во-вторых, и самое главное, — не хочу. И никто из деревьев не захочет. Если бы ты знал, до чего удивительна и приятна древесная жизнь! Видишь, как искрятся и щебечут мои листья? Это я пью чаек, невыразимо сладкие утренние лучи.
— Чаек? — усмехнулся Руди. — Этому охотно верю. Ты лакомка и жизнелюб. А насчет бессмертия — чепуха. Смешная и неубедительная гипотеза.
— Неубедительная? — В голову деду пришла, видимо, какая-то удачная мысль. Он улыбнулся. — Послушай, самые безумные, самые сумасшедшие гипотезы оказывались потом самыми истинными и убедительными. Знаешь об этом из истории наук?
— Знаю.
— Вот ты сейчас столкнулся не с сумасшедшей гипотезой, а с сумасшедшей реальностью — и спасовал. Сбежал в кусты, в свои чахлые псевдоматериалистические заросли. Как же, там привычнее! Там уютнее!
«А ведь дед прав», — подумал Руди, чувствуя, что аргументы, которые как кирпичи укладывались в его голове, теперь рушились, рассыпались в прах.
— Ладно, — согласился он. — Ты, дед, — реальность, и перед сумасшедшей реальностью я сдаюсь. Но что я могу извлечь из этого?
— Знаю, — рассмеялся дед. — Ты прагматик. Тебя волнует практическая сторона. Ты прав. Заболтались мы с тобой, зафилософствовались. Сначала исправим искажение во времени, поломку в нашей сумасшедшей реальности, а потом пофилософствуем всласть.
— И я смогу… — Сердце у Руди отчаянно заколотилось.
— Не волнуйся. Все уладится. Завтра сходим во времени. Для пробы сначала недалеко, всего лишь на несколько миллионов лет в прошлое. А сегодня отдохни перед походом. А я ухожу. Мешают нам.
Дед «ушел», слился с деревом. В тот же миг Руди услышат голос сестры.
— Ну и засиделся под своим деревом, замечтался, — рассмеялась она. — Идем завтракать.
Завтракали у пылающего очага. Прежде чем подать кофе, Мистер Грей, таинственно подмигнув, нырнул в корабль и вернулся со свежими персиками, бананами, апельсинами.
— Откуда это? — удивился Руди.
— Ночью я приказал двум «паукам» слетать на Лазурный берег и набрать плодов.
— А что, если сегодня отдохнем на Лазурном берегу, в нашем бунгало? — предложил Руди.
— Что ты! — испугалась Катя, и глаза ее затуманились такой тоской, что Руди стало жаль сестру. — Там сейчас пусто, и все будет напоминать о маме и папе, которых уже нет.
— А здесь?
— А здесь… здесь… — всхлипнула Катя и показала на могилы. — Здесь они рядом.
— Сестричка, родная. Перестань. Мы же договорились, что, несмотря ни на что, будем счастливы.
Весь день брат и сестра «под руководством» потешного Мистера Грея провели на Лазурном берегу и были счастливы. Вернулись поздно вечером с запасом свежих плодов.
Ранним утром, когда еще курился предрассветный туман, Руди с нетерпением прохаживался около старого тополя.
— Дед, а дед. Где ты? — Руди постучал по стволу.
— Разбудил все-таки, зануда Фауст, — недовольно проворчал дед, выступая из тумана.
— Извини, дедушка. Хочется поскорее…
— Знаю, знаю. Так и рвешься в дальнее странствие. Посидим сначала, помолчим. Слышишь? Пташки уже поют, солнышко встает. А воздух-то! Воздух! Свежий, росистый. До чего вкусный воздух.
— Понежиться захотелось, — улыбнулся Руди. — Ну и сластена ты, дедушка. Хорошо, уютно устроился на планете Окаянной. И живешь какой-то двойной жизнью. То человеком, то деревом.
— Завидуешь? Ничего, скоро и ты, человече, поживешь деревом.
— То есть?
— А вот превращу тебя сейчас в чурбан, — хохотнул дед. — Испугался? Слушай меня и не падай в обморок.
Руди услышал до того непривычное, что стал полагаться не столько на разум, сколько на свою фантазию.
А ею природа его не обделила. Он закрыл глаза, слушая деда, и на «экране» своего воображения увидел такую картину. Вот сидят они сейчас на корнях, биополе старого мудрого дерева обволакивает их, каким-то непостижимым путем превращает их тела в безгласные, бездыханные чурбаны. Биение сердец, токи крови, все жизненные процессы замрут, и лишь электромагнитные импульсы — суть и ядро их переживаний и мыслей — будут жить в прежнем ритме. Но уйдут они из бездыханной телесной оболочки — и получат новое тело, пригодное для жизни во времени и невидимое, как бы не существующее в настоящем моменте. Но с первым шагом в прошлое оно обретает материальность, становится зримым и ощутимым. И вот Руди вместе с дедом шагает по тысячелетиям каким-то двойником, а его подлинное тело…
— Оно же умрет! — вздрогнув, воскликнул Руди. — Тело нынешнего, здешнего момента умрет без биения сердца, без дыхания. Моим психическим импульсам некуда будет вернуться. Как личность я здесь исчезну.
— Все-таки испугался, — усмехнулся дед. — Хорошо, что в обморок не упал. Успеют твои импульсы вернуться, и личность твоя сохранится. Твое тело останется бесчувственной, безжизненной деревяшкой лишь на миллисекунду, даже меньше. Но за этот миг ты проживешь в прошлых веках дни, месяцы, даже годы. Там ты будешь властелином времени, а здесь ты только хозяин пространства. Но зато какой хозяин! — с завистью вздохнул дед. — Сейчас пойдешь завтракать, а я останусь на месте. Но я тоже буду завтракать! — весело воскликнул дед и вскочил на ноги. — Да, да! Я буду кушать сладкие соки земли и пить золотые солнечные лучи. От счастья мои листья заиграют, затрепещут и засеребрятся, играя с лучами, купаясь в росе…
— Да ты поэт, дедуля, — улыбнулся Руди.
— Но раб пространства, — снова пожаловался дед. — Можешь прийти ко мне с топором и срубить, а я не сдвинусь с места, не смогу убежать.
— Что ты! Как мог подумать о топоре? — в ужасе воскликнул Руди и, вскочив на ноги, ласково погладил деда па плечу, а потом по мохнатому, шершавому стволу. — Дедушка, милый. Что с тобой?
— Ну-ну, я пошутил, — засмеялся дед. — Не обидишь ты меня. И моих друзей не обижай, когда будешь в прошлом. Боятся топора, боятся они и этого жулика с аксельбантами. Они так и зовут его: Старпом-с-топором. Завтра пойдем к друзьям, а к нему ни-ни.
На прощанье дед помахал рукой и, затуманившись, слился со своим древесным естеством. Руди пришел к костру, где его ждали Катя и Мистер Грей. За завтраком он решился и рассказал о своих беседах с мыслящим деревом, о его человеческом образе.
— Враки! — замахал руками Мистер Грей. — Выдумщик ты, Руди. Сочинитель.
— Нет, не враки, — заступилась Катя. — Я даже видела его однажды. В утреннем тумане рядом с Руди под тополем кто-то сидел. Бородатый такой. Это он?
— Он, сестренка. Очень милый и мудрый дед.
— Дед! Ха! Ха! Ха! — дико захохотал Мистер Грей и убежал в лабораторию.
— Как бы не свихнулся, — встревожился Руди.
— Эх ты, — рассмеялась Катя. — Ты так погрузился, в свои мысли, что ничего не замечаешь. Мистер Грей просто делает вид, что страшно рассердился, чтобы развлечь нас и позабавить. Потешный он, добрый.
Весь день, однако, Мистер Грей дулся на Катю и Руди, на их вопросы о здоровье отмахивался и презрительно бурчал:
— Сочинители. Мистики. Всыпать бы вам.
Вечером брат и сестра задобрили Мистера Грея, пригласив его сыграть в карты. Очень любил он азартные игры. С неуловимой ловкостью передергивая карты, он неизменно выигрывал.
— Дети вы еще, — вздыхал Мистер Грей. — Сочиняете сказки и верите им. Был бы жив шеф, ох и всыпал бы вам.
— Да, папа не одобрил бы, — сказал Руди. Ранним предрассветным утром, когда Мистер Грей разжигал костер, Катя попросила:
— Разреши, Руди, проводить тебя до тополиной рощи. Ну хоть немного.
— Только до мостика, а дальше ни шагу.
— Идете к своему сказочному деду? Ну-ну, — иронически хмыкнул Мистер Грей и пригрозил: — Опоздаете к завтраку, сам все съем. Ничего не оставлю.
Светало. Из мглы выступали верхушки деревьев, кусты. Радостно было на душе у Руди и немножко тревожно. У мостика Руди и Катя остановились.
— Дальше ни-ни. Увидит тебя дед и уйдет. Назад! — строго приказал Руди и пошел к роще.
— Эх ты, — обиделась Катя. — Опять ничего не замечаешь. Никто не увидит меня. Обернись и посмотри.
Руди обернулся и замер: где же Катя? Вместо нее какая-то еле видимая сказочная фея утренних лугов и туманов. Светловолосая, в белом платье с пышными кружевами на плечах и подоле, Катя словно клубилась вместе с туманами, таяла в их волнах и снова чуть заметно выступала.
— Какая ты чудесная сегодня, — улыбнулся Руди. «Кавалера бы ей. Бедные мы с ней, одинокие», — с острой жалостью подумал Руди, но встряхнулся, снова Улыбнулся и сказал: — Так уж и быть. Постой на мостике минуты две — и назад.
В редеющей дымке показались наконец тополя. Листья на их макушках под лучами встающего солнца переливались золотом, серебром и чернью. На прежнем месте сидел дед и сладко позевывал.
— Трусишь? Хе! Хе! Хе! — посмеивался он.
— Волнуюсь, дедушка.
— Не бойся. Сначала сходим к моему внуку. Удивлен? Растет в недалеком прошлом тридцатилетний тополек, этакий преозорной мальчишка.
— Тридцатилетний? Ничего себе мальчишка.
— Масштабы жизни у нас разные. Забыл? Люди живут десятки лет, а деревья сотни. Садись рядышком, и возьмемся за руки. Так и потопаем. В биополе старого дерева уже ткутся нити, образуются новые наши тела для жизни во времени. Не чуешь?
У Руди невольно и сладко смежились веки. Он будто заснул и проснулся каким-то другим — легким, почти невесомым и незримым. Все так же держась за руки, дед и Руди встали и пошли в темную глубь веков. Что ни шаг — то день или неделя. Солнце огненной кометой мелькало с востока на запад, потом потонуло во мгле. Теперь их шаги — уже десятки и сотни лет. Непроницаемая тьма, тихо. И вдруг багровая вспышка, прокатился гул.
— Что это? — испугался Руди.
— Не понял разве? — Ворчливый голос деда слышался словно издалека или сквозь вату. — Это же мелькнула атомная война. Эх, люди, люди. Позор! Уйдем от них подальше, к милым и тихим обезьянкам. Шире шаг!
Шаги их теперь — тысячи и миллионы лет. Минут через пять дед предложил:
— Выйдем в пространство. Погреемся на солнышке, передохнем.
Они сбавили шаг. Солнце замелькало, рассеивая мглу. Дед и Руди остановились. Остановилось и солнце, осветив довольно безрадостную картину: низкорослые чахлые березки, камыши, кочки. Под ногами хлюпала грязная жижа.
— Тьфу ты пропасть! — выругался дед. — В болото угодил. Идем дальше.
Руди и дед шагнули во тьму времени. Минуты через две снова рискнули выйти в пространство. На этот раз удачно. Они очутились на светлой поляне и присели на сухой пригорок, спугнув гревшегося на солнце бурундучка. Шелестели травы, порхали бабочки, в цветах копошились пчелы. Все вроде бы знакомо с детства. Но лес, глухо рокотавший шагах в десяти, совсем другой. Деревья высоченные, затейливо кривившиеся могучие ветви несли такую массу листьев, что в них, казалось, можно укрыться от любого дождя.
— Дед, мы же в кайнозойской эре.
— Угадал, — рассмеялся дед. — Знаешь по картинкам и учебникам. Я часто захаживаю сюда. Смотри. Узнаешь чудище?
Руди узнал мегатерия, величайшего из ленивцев. Угольно-черный зверь по массе превосходил слона и был чудовищно неповоротлив. Мегатерий сидел на опушке и ломал деревья, желая добраться до верхних и, видимо, самых вкусных ветвей. Еле-еле дотянулся и, сидя в задумчивой позе, начал прожевывать охапки листьев. Потом лениво перетащил свое тело в глубь леса.
— А хорошо здесь, — сладко жмурился дед. — Люди появятся через миллионы лет, и сейчас так уютно и тихо. Идиллия!
Но дедову «идиллию» самым наглым образом нарушили те самые «милые обезьянки», которых минуту назад он сам же расхваливал. И откуда только их черти принесли? Появились они на опушке внезапно, вынырнув из густой листвы, как из темной пещеры. Обезьяны скакали с ветки на ветку, срывали какие-то плоды ве личиной с яблоко и, чмокая от удовольствия, жевали. И вдруг, увидев внизу на поляне деда и Руди, завизжа ли, начали корчить отвратительные гримасы и швырять в непонятных двуногих плоды и ветки. Недожеванны слюнявый плод угодил в дедову щеку.
— Ах вы, негодные твари! Да я вам! — Дед, схватив ветку, вскочил и погрозил обезьянам. Те ускакали. Де вытер рукавом щеку, сел на пригорок и начал ругать ся: — Вот из этих вертлявых и визгливых дряней получатся потом крикливые и драчливые люди и начнут швырять друг в друга атомные бомбы. Эх, люди, люди. Стыд-то какой! Позор!
— Не ворчи, — хохотнул Руди. — Сам ты был таким же когда-то. Идем. Дорогу к своему внучку, надеюсь, знаешь?
— Как свои пять пальцев. Тропу через темные джунгли времен дед, видимо, давно протоптал и знал отлично. Он уверенно вел Руди по тысячелетиям, и минут через десять они вышли из тьмы веков в пространство. И Руди сразу понял: они в нужном месте и в нужном времени. Они стояли на высоком холме, рядом резво шелестел листвой молодой гладкоствольный тополь. «Это он», — догадался Руди. Внизу под жарким полуденным солнцем светилась цветами поляна, а вдали синели рощи и сверкало озеро. Руди и дед сели на траву, звон листвы над ними становился все громче и сменился мальчишеским смехом. «Дедов внук», — усмехнулся Руди. И точно: из-за их спин выскочил парнишка лет двенадцати и, хохоча, начал плясать.
— Дедушка в гости пришел! Дедушка! А это кто? Твой друг?
Парнишка присел и начал с любопытством разглядывать Руди. Поразили его, видимо, шаровары и модная куртка. Сам парнишка одет еше более простецки, чем дед: короткие, чуть ниже колен, штаны, рубашка, на ногах сплетенные из лыка башмаки.
— Ты Руди! — воскликнул мальчик. — Дедушка рассказывал о тебе. Правильно? Ты Руди?
— Руди. А тебя как звать?
— Тополь.
— Ну что это за имя? И не тополь еще, а тополек. Толик — маленький тополик. Хочешь, буду звать тебя Толиком?
— Толя. Анатолий. Хорошее имя, — одобрил дед.
— А тебе не скучно одному на холме? — спросил Руди мальчика. — Рядом ни одного деревца, не с кем поговорить, пошептаться листвой.
— Зато безопасно. Ни один зверь не вскарабкается, не сдерет с меня кору, не покормится листьями. Одни только птицы садятся на меня и поют, поют. Еше бурундучок навещает.
Полосатый бурундук, точно звали его, вскочил на холм, с любопытством повертел мордочкой и скрылся в траве. А далеко внизу тяжело протопали мастодонты, подошли к деревьям и, обдирая кору, треша сучьями, начали жевать листья.
— Да, ты хорошо устроился, — улыбнувшись, согласился Руди. — Как это ты сумел?
Парнишка, такой же словоохотливый, как и его Дедушка, поведал интересную историю. Выдумал он ее вместе с дедом или в самом деле все так и произошло, Руди не знал, но рассказ ему понравился. По словам мальчика, лет тридцать тому назад сюда упали из будущего дедовы пушинки-семена. Ветер разнес их по горам и долинам. Тысячи и тысячи из них Погибли. Но одна пушинка, упавшая на одинокий каменистый холм, зацепилась за комок плодородной почвы и пустила корни.
— Вот с тех пор все расту и расту, — закончил мальчик.
— Какой же ты внук? Ты сын старого тополя. И кру том у тебя ни братишки, ни сестренки. И ни одного другого мыслящего деревца? Скучно же.
— Мне еще повезло, — сказал Толик и вдруг поморщился. — Ну, не так уж и повезло. Вон там, на берегу озера, растет молодая вербочка, злющая и вредная девчонка.
— Так это же внучка… вернее, дочь старой вербы! — догадался Руди. — Она жила на берегу реки рядом с дедушкой. Умерла она недавно. Слышал? Переломилась пополам и упала в воду.
— Так ей и надо, старой карге. Но девчонка ее живет. Тоже ведьма порядочная.
— А ты сходи к ней вместе с Руди, — предложил дед. — Все-таки у нее горе. А я устал. Подожду вас, по греюсь на солнышке. Сходи, не упрямься.
— Ладно уж, — поморщился Толик. — Идем, Руди. Парнишка соскочил, буквально слетел с холма о легкостью тополиной пушинки. Руди же спускался по каменистой круче осторожно, цепляясь за выступы.!
— Тяжел ты, дядя Руди, — смеялся Толик. — Носорог!
— Не привык я к вашим местам, — улыбаясь, оправдывался Руди. — А где же озеро?
— Пойдем прямо к нему через этот лесок. «Ничего себе лесок», — подумал Руди, войдя во тьму и влажную духоту прибрежной рощи, в настоящие джунгли миоцена с одуряющими запахами крупных цветов, с лианами, свисающими с мохнатых сучьев каких-то незнакомых громадных деревьев. Со всех сторон из мглы тучами налетела мошкара.
— Куда ты меня завел? — хмурился Руди, сдирая с лица паутину и отмахиваясь от мошкары.
— Мне здесь тоже не нравится, но зато ближе к берегу.
На берегу Руди вздохнул с облегчением: солнечно и сухо. Прямо перед ним плакучие ивы свесили косы над водой. Чуть дальше, среди кустарника, шелестела листвой одинокая молодая верба.
— Это она, — пояснил мальчишка. Он подошел к вербе, постучал по стволу и крикнул: — Эй ты, ведьма! Выходи!
— Ну чего тебе, вредина? — недовольно проговорила девочка, вышедшая из ивняка. На ней зеленое платье и черная лента, вплетенная в светлые волосы. Увидев Руди, она испугалась: — Ой, дяденька! Но это не Старпом.
— Конечно, не твой Старпом-с-топором, — рассмеялся Толик. — Это не твой друг, а мой. А твой Старпом уже не будет дружить с твоей матерью. Не с кем. — Вспомнив об умершей старой вербе, Толя с сочувствием посмотрел на девочку. — Старая была твоя мать, очень старая, — сказал он. — Умерла она недавно. Знаешь?
— Знаю, — всхлипнула девочка. Она села, прислонившись к собственному стволу, и зарыдала. — Осталась я совсем одна. Никто не любит меня.
Добрый все-таки мальчик Толя, весь в своего деда. Он присел рядом с девочкой и уговаривал:
— Не плачь. Не совсем же ты одна. Есть мой отец. Любит он тебя. Дедушка! Так зовет его наш гость, вот этот дяденька. Мне он тоже придумал имя. И знаешь какое? Толик-тополик. Толя.
— Толик-тополик, — сквозь слезы улыбнулась девочка. — Как красиво! Толя. Толик.
— И тебе придумаем имя. А что, если назовем ее Вербочкой? — Мальчик посмотрел на Руди.
— Вербочка? Длинновато. Верба… Вер… Вера!
— Вера! — воскликнул Толя. — Верочка-вербочка Да улыбнись ты, Вера. Хочешь, я с тобой не буду боль ше ругаться?
— Правда? — обрадовалась Вера.
— Правда. Но с твоим другом не помирюсь.
— Зря. Он хороший дяденька.
— Вы имеете в виду ясень? — спросил Руди. — Где же он растет?
— А вот здесь. — Девочка показала на высившийся неподалеку крутой берег с бухточкой-заливом.
— Здесь же пусто.
— Здесь и не здесь, — рассмеялась девочка, забыв о своем горе. — Он в другом времени. Недавно я была у него в гостях. Отсюда близко, всего несколько тысяч лет назад. Озеро наше там такое же, но на берегах по-другому.
— Деревья там другие, вот и все, — сказал Толя.
— Не был там и не говори, — заспорила девочка. ¦ Там все лучше. Сухо, светло, кругом цветы. Растет он высоким стройным ясенем. И сам он дяденька красивый — Ерунда, — махнул рукой Толик. — Одевается он красиво, вот и все.
— Нет, не все. Не видел и не спорь. Мундир на нем морской. На рукавах нарисованы парусные корабли, на плечах золотые погоны и на груди сверкают эти… Как их?.. Аксельбанты!
— Аксельбанты! Ха! Ха! Ха! — расхохотался Толя. — Все уши прожужжала про аксельбанты. А знаешь, дядя Руди, почему старая верба, ее мать, дружила с ним? Аксельбанты понравились старой ведьме… Ой, прости, Вера! Я нечаянно. — Толя сел рядом с обиженной девочкой, гладил ее по плечу и приговаривал: — Не буду больше ругаться. Ну прости, Вера. Верочка-вербочка. Прости.
— Завидуешь ты ему, — хмуро сказала Вера.
— Завидую, — согласился Толик. — Еще бы. Я вот почти ничего не помню, каким я был раньше. Обыкновенным человеком или деревом? А он хорошо помнит, что был человеком и жил в пространстве.
— А как интересно в пространстве! — с восхищением подхватила Вера. — Он плавал по всем морям, по обычным и даже там, — девочка показала на небо, — среди звезд.
— Ну, это он врет. Звездных морей не бывает.
— Бывают, — горячо заступилась Вера. — Плавал он под звездными… нет, под какими-то световыми парусами, старшим помощником капитана. Оттого зовут его — Старпом.
«Вот оно что, — подумал Руди. — Совпадение имен объясняется очень просто. А я-то, дурень, переживал».
— Старпом мне рассказывал о всех морях, о мятежах и этих… пиратах. Ух, как интересно! — воскликнула Вера.
— Пиратом и разбойником он мог быть. Он дяденька такой. Старпом-с-топором! А звездные моря… Ты, дядя Руди, веришь в них?
— Нет, о таких не слыхивал, — усмехнулся Руди. — Сочиняет ваш Старпом-с-топором. Выдумывает.
— Выдумывает? Может быть… — нерешительно сказала девочка. — Вспомнила! Он и о тебе, дядя Руди, рассказывал. Откуда он знает о тебе? Он же гостил у моей мамы, в вашем времени. Как будто видел тебя и рассказывал, что ты, дядя Руди, сейчас просто человек и ничего не помнишь о своей прошлой жизни. Он говорил, что ты когда-то давно плавал вместе с ним по звездным морям штурманом. Но ты вовсе не штурман и не человек, а этот… Как его?.. Сатана!
— Сатана! — расхохотался Руди. — Ну и ясень вам попался. Отчаянный врун и сочинитель. До бреда досочинялся.
Рули хотелось еше побеседовать с ребятами, отдохнуть с ними душой, но солнце клонилось к закату, протянулись длинные тени, и стало прохладнее. Толик и Вера заспорили, какие лучи вкуснее — утренние или вечерние.
— Мне нравятся самые ранние лучи, с утренней росой, — сказала Вера.
— А мне вечерние. Они прохладные, розовые и вкусные-превкусные. — Мальчик причмокнул губами. Видимо, такой же лакомка, как и дед. — А тебе, дядя Руди какие? — спросил Толик и рассмеялся. — Забыл! Ты же просто человек и ничего не понимаешь в лучах и соках, в дождях и росах.
— Кое-что понимаю, но не так, как вы. А сейчас, ребятки, пора прощаться. Пейте свой вечерний солнечный чай, а меня ждут там. — Руди ткнул пальцем вверх, словно в будущие миллионолетия. Потом подошел к девочке и погладил ее по голове: — Не расстраивайся, Вера. У тебя есть теперь друзья — дедушка, Толик, да и я буду навещать. Не возражаешь?
— Приходи. Ты хороший дяденька, но… — Вера смутилась. — Но Старпом все-таки лучше.
— Ну и смешная ты, Вера, — расхохотался мальчик. — Срврать не сумела. К тебе я приду завтра утром. До свидания, Верочка-вербочка. Не скучай.
На холм Руди и мальчик поднялись, когда солнце, коснувшись горизонта, догорало распухшим косматым шаром. Листья молодого стройного тополя сверкали багрянцем и позолотой. Но кругом — никого.
— Дед, а дед! — испугался Руди. — Где ты? Не шути.
— Ушел дедушка, — рассмеялся мальчик. — Жцет тебя дома. Мы с ним так договорились. Еще раныце — А как же я?
— Сам научишься. Возвращаться легче. Шагай себе и шагай. Увидишь в темноте вспышку, ну, эту… страшную войну, сделаешь еще шага четыре и не заметишь, как будешь дома. Дедушка все рассчитал. Иди, иди. Не бойся. До свидания.
Мальчик незаметно исчез, ушел в свою истинную телесную сущность. «Сейчас он наверняка наслаждается, пьет свой вечерний чай», — с усмешкой подумал Руди и попробовал мысленно влезть в его древесную шкуру-кору. Он присел, закрыл глаза и увидел себя молодым тополем. И будто почувствовал, как клетки его тела, каждый его древесный нерв наливаются радостью и счастьем. Он шелестит листьями и ловит ими, пьет золотые лучи заходящего солнца и ощущает нерасторжимое родство с природой — с вечерними сумерками, с каждой травинкой, с засыпающими горами и долинами.
«Пожалуй, дед прав: приятно быть деревом, — подумал Руди. — Но пора домой». Он встал и решился — шагнул в будущее. Сначала мысленно, а потом и по-настоящему ступил на тропинку времени. Она крепко отпечаталась в его памяти. Дед знал, что так и будет. Руди довольно уверенно чувствовал себя во мгле, в проносившихся мимо веках и вдруг вздрогнул: тьма озарилась, прокатился протяжный гул — атомная война, своего рода веха, ориентир. Еще несколько шагов — и Руди ощутил, как его «временное» тело перешло в тело «пространственное», в подлинно земное. Он с закрытыми глазами сидит на каких-то корнях, слышит лепет листвы. Руди открыл глаза и… дед! Перед ним в дымных утренних лучах сидит улыбающийся дед.
— Сон! — Руди вскочил на ноги. — Околдовал ты меня, старый волшебник. Я видел удивительный сон.
— Тьфу ты пропасть! — рассердился дед. — Экие непонятливые люди. Чуть что непривычное, и сразу же: «Сон! Мистика! Караул!»
— Прости, дедушка. Не так просто свыкнуться. Неужто я вот на этих корнях просидел лишь миг, а там, — Руди ткнул пальцем вниз, — я прожил целый день? Я ведь могу проверить.
— Проверь, дружок. Проверь. А завтра зайди. Руди побежал к своему дому-кораблю. На полпути, на мостике, в прежних утренних туманах увидел Катю.
— Ты почему вернулся? — удивилась сестра. — Побыл у деда всего лишь минуту.
— Какая там минута? Да я прожил целый день! — воскликнул Руди и вкратце рассказал о путешествии в глубь миллионолетий, о Толике-тополике, о Верочке-вербочке.
— Прямо сказка, — прошептала Катя. — Завидую тебе, Руди.
— Но ты веришь, что так и было в действительности?
— Верю, Руди. Потом расскажешь подробнее. Пусть и Мистер Грей послушает.
— Ни в коем случае! Он в обморок упадет. Идем, ждет он нас.
Брат и сестра подошли к костру. Завтрак еще не сварился, но Мистер Грей уже расставлял на столе тарелки и стаканы.
— Что-то раненько вы вернулись, — удивленно хмыкнул Мистер Грей и съехидничал: — Поругались со своим выдуманным дедом? Ха! Ха! Ха! Поругались!
— Поругались, Мистер Грей. Завтра пойдем ми риться.
Утро следующего дня выдалось хмурое, от мелк сеющего дождика Руди прятался под густой листво старика тополя и звал деда. Тот пришел лишь чере полчаса и тоже хмурый, как это непогожее утро. С поги его заляпаны грязью и болотной тиной, к мок рым штанинам прилипли водоросли и желтые лист ки ряски.
— Ну чего тебе? — недовольно проворчал дед. — Видишь, вляпался я. В разведку ходил. Живет дура ольха на болоте, но зато на полпути к мезозою.
— Ты уверен, что все произошло в мезозое?
— Почти уверен. Вот передохну часик дома и пойду еще дальше. Разведаю дорогу покороче. А ты иди, не мешай.
Руди извинился и ушел. К полудню погода разгулялась, разошлись тучи, и в жарком синем небе вовсю заливался жаворонок. После обеда Руди перешел мостик, ступил на другой берег. Под ногами в просохших травах кружились пчелы, звенели кузнечики. Руди нетерпеливо прохаживался, не смея, однако, подойти к тополиной роще. Но когда клонившееся к закату солнце позолотило листья, он не выдержал, вошел в рощу, погладил мохнатый ствол старого тополя и прошептал:
— Дедушка, где же ты?
Руди присел на корень и стал ждать. Минут через десять перед ним возник дед — улыбающийся, весело потирающий руки. Сапоги чистые, на штанах ни малейших признаков болотной тины и водорослей.
— Уж не побывал ли ты у Толика?
— Угадал, шельма, — рассмеялся дед. — Погостил я на обратном пути у сынка. Там и почистился. Старая ольха хоть и глупа, но добра и заботлива. Помогла мне выбраться из болота и перейти еще дальше вниз во времени к своему давнему знакомому, к кудрявому, нарядно одетому дубу. Вот уж дуб так дуб. Болван страшный. Зачем, спрашивает, шляешься по векам? Дома не сидится? Переправить меня вниз отказался. Но я уломаю его.
Но шли дни, а дела у деда с дубом не ладились.
— Не буду, говорит, шататься по векам, —
хмурился дед. — Мне, дескать, и здесь хорошо. Пью корнями вкусные соки, ловлю листьями солнечные лучи. Живу, говорит, ощущениями, растительной жизнью.
Тьфу, животное! Скотина! Сам красный, язык заплетается. Ушел он, а я стал исследовать почву. И что ты думаешь? Рядом лужа с застоявшейся водой, с прелыми листьями и прочей дрянью. Дуб нащупал корнями под лужей хмельные соки и посасывает. Он пьяница, негодяй! Забулдыга!
Приближалась осень, и настроение у деда все больше портилось: у дуба запой! И Руди временами охватывало отчаяние. К этим неудачам прибавилась еще одна беда — Катя заболела. Однажды она закашлялась, и на носовом платке, который она поднесла ко рту, Руди увидел кровь.
— Туберкулез! — испугался Руди.
— Он у меня давно, еще с концлагерного детства. Но ты не переживай, — ободряла Катя. — Осенью мне станет лучше.
Сухой солнечной осенью ей действительно стало лучше. Но желтели листья, не за горами зима, и Руди торопил деда.
— А нельзя ли обойтись без этого дурака дуба?
— Никак нельзя. Но вот что я узнал. Недалеко от дуба живет секвойя, старая-престарая. Ей за тысячу лет. Еле ковыляет с палочкой около своего дряхлого ствола. Но лет сто назад она была покрепче и не раз уходила в далекое прошлое. И знаешь куда? В мезозой, в эру динозавров. Там она подружилась с молоденькой магнолией, девочкой красоты просто неописуемой. Однажды ночью они видели что-то непонятное и страшное, наступившее во время или чуть позже вспышки сверхновой звезды…
— Сверхновой! Ты же не раз показывал нам на экране именно вспышки сверхновых. Ты что-то знал?
— Лишь догадывался, что именно с такими историческими моментами связано для вас что-то важное. И я намекал: корень зла там, в моменты взрыва. Ищите!
Думайте! Но толком я ничего не знал. Среди нас, живущих во времени, ходили смутные слухи, чуть ли не сказки, что в далеком прошлом со вспышкой сверхновой связано что-то жуткое. Представь такую картину: невиданной силы ураган, вместе с ним в мезозое появляются призраки-люди. Не удивляйся, именно люди, но как бы несуществующие. Их двое, днем они не видны, но слышны их голоса. Ночью же они чуть заметно светятся и мерцают. И вдруг взрыв сверхновой, она пылала ярче Солнца несколько дней и ночей. Звезда угасла, исчезли и призраки-люди. Они растворились, будто ушли в яйца динозавров и выросли… Нет, не могу поверить. Люди выросли динозаврами! Хоть и стара секвойя, но не похоже, что она выжила из ума. Нет, ясность мысли у ее необычайная. И в то же время… Можешь представить разумных динозавров? Эти огромные ящеры, по ее словам, рычали друг на друга и переругивались на человеческом языке. Откуда знает старуха этот язык, одному Богу известно. Но старуха мудрая, прожила тысячу лет и многое повидала, о многом думала. Поверим ей в этом. Но дальше на планете пошла такая чертовщина, что старуха растерялась. Говорит, что разобраться может не дерево, а только человек.
— И ты рассказал ей обо мне?
— Рассказал. Глазенки у нее так и засветились. «Познакомь меня с ним. Познакомь!» Вместе, дескать, и разберемся. Подозревает, что вместе со сверхновой высадился какой-то нехороший десант, скверно повлиявший на судьбу планеты.
— Отец! — воскликнул Руди. — Вспомнил! Отец говорил, что вместе с излучением сверхновой звезды на планету обрушилось космическое зло. Какой ты был Умница, папа. А я-то, дурень, думал, что это суеверие.
— И я чувствовал, что со сверхновой связано что-то очень дурное.
— Теперь задача упрощается! — с воодушевлением подхватил Руди. — Теперь нас интересует только одна сверхновая. В мезозое! Когда ты меня отправишь к динозаврам?
— Не торопись к ним, — усмехнулся дед. — Я разведаю более короткую и сухую тропинку к старухе секвойе. Не тонуть же тебе в болоте, в котором уютно устроилась ольха. А без нее, похоже, не обойтись. Как быть? Подумать надо.
Но вот золотой метелью отшумела осень, оголились леса, а дед все бродил по дорогам прошлого. Однажды, когда уже запорхали первые снежинки и на старом тополе зябко дрожали последние листочки, дед пришел в валенках, в меховой шубе, с посиневшим от холода носом.
— Тепло там у них. Вечное лето, — поеживаясь, сказал дед. — А я вот замерзаю здесь. Уходить мне пора в зимнюю спячку. Грустно? Но что поделаешь, потерпи уж, дружок.
Пришлось покориться. Наступила зима. Но как только стаял снег, Руди зачастил на берега реки и в тополиную рощу. На лугах проклюнулась свежая, изумрудно-зеленая травка. Ивы, словно дымом, окутались первой листвой, зацвели на них пахучие сережки. В роще появилась на тополях нежная и клейкая зелень. Но старый тополь все чернел полыми сучьями.
«Уж не умер ли дед?» — со страхом подумал Руди.
Наконец и у старика набухли почки, и через несколько дней, догнав своих собратьев, он уже вовсю шумел листвой, переливаясь на солнце серебром.
«Родной ты мой», — обрадовался Руди, увидев однажды утром деда сидящим на просохших корнях.
— Погреться вышел, — сказал дед, улыбаясь встаю щему солнцу.
— Да ты помолодел, дедушка. Посвежел.
— Но-но! Не льсти, — ухмыльнулся дед. — Знаю тебя. Все торопишь меня, торопыга. Вот окрепну я, наберусь силенок, и тогда возьмемся за дело.
Но дело пришлось надолго отложить. Весной у Кати резко обострилась болезнь. Однажды у нее горлом пошла кровь. «Скоротечная чахотка», — помертвев от страха, подумал Руди и побежал к деду.
— Так уж сразу и скоротечная, — хмуро возразил дед запаниковавшему Руди. — Вот найду нужную травку, молоденькие цветы, сделаем отвар, и сестренке твоей станет лучше.
Дедовы настойки на какое-то время помогли. Кровотечение остановилось, но Катя все еще покашливала.
— К черту все дела! — стараясь ободрить сестру, да и себя тоже, воскликнул Руди. — Отправляемся в наше бунгало. Фруктов еще нет, но есть синий океан и целительные синие ветры.
На Лазурном берегу все цвело и благоухало. Катя с книгой в руках с утра усаживалась в кресло-качалку и посмеивалась над заботливым, потешно хлопотливым Мистером Греем.
— Благородная леди, — извивался в любезностях Мистер Грей. — Чего изволите? Неужто апельсинчиков?
На авиетке он умчался на юг и вскоре выложил перед креслом на желтый песок такие же желтые лимоны, оранжевые апельсины, румяные персики и пару огромных кокосовых орехов. Катя утолила жажду кокосовым соком и воскликнула:
— Руди, мы пропали бы без Мистера Грея! Наградить его, что ли?
— Прекрасная мысль, ваше сиятельство. — Руди Учтиво поклонился. — Мы присвоим ему звание маршала.
Руди слетал к кораблю и достал из его музея старинный орден — огромную, сверкающую драгоценными камнями звезду. Вечером, когда над горизонтом океана оранжевой люстрой повис великолепный закат, на пляже гремели марши. Под старинный гимн Руди прикрепил орден на грудь ликовавшему Мистеру Грею.
Так, с шутками и детскими забавами пролетели весенние дни. Руди радовался, видя, как на пополневших и загоревших щеках сестры растаял нездоровый румянец. Но душным летом с океана потянулись влажные туманы, и Кате опять стало хуже. Пришлось вернуться. Но ни привычный умеренный климат, ни заботы брата, ни мудрые советы деда не могли остановить прогрессирующую болезнь. Ранней осенью Катя умерла. В отчаянии Руди метался от деда к свежей могилке и обратно.
— Один я остался, дедушка. Совсем один.
— Неправда! А я? А Толик с Верой? Вот тебе братишка и сестренка. Не сходить ли к ним?
Путешествие в прошлое несколько отвлекло Руди от тяжелых мыслей. Тем более, что Толик и Вера опять повздорили, и ему пришлось мирить их.
Шагали туда дед и Руди привычным маршрутом и без промежуточных остановок, без «милых обезьянок». Миновав мглу миллионолетий, вышли в пространство и очутились на холме. Дул порывистый ветер, молодой тополь сердито гремел листвой, и выскочил откуда-то не менее разгневанный мальчишка.
— Верка дура! — кричал Толик и в своей забавной детской ярости потрясал кулаками. — Я ее поколочу! Вот увидите! Она достала где-то сигареты и дымит вовсю.
— Сигареты? — удивился Руди. — Сходим к Вере. Я поговорю с ней.
— Вы идите, а я посижу, погреюсь на солнышке, сказал дед. — Стар я стал шататься по холмам и ча-: щобам.
Прибрежная чащоба и в этот раз встретила путников сумеречной духотой, липкой паутиной и тучами мошкары. Продравшись сквозь заросли, они вышли на приветливый сухой берег озера. Рядом с молодой вербочкой сидела девочка и, зажмурив глаза, с удовольствием пускала изо рта клубы сиреневого дыма. Увидев гостей, она вздрогнула и сунула сигарету в траву.
— Не прячь. Мы все видели, — сказал Толик, сжимая кулаки.
— Здравствуй, Вера. Где ты достала сигареты? Расскажи, — попросил Руди.
— Расскажу, если бить не будете.
— Ну что ты. Толик просто пошутил. Но курить все же нехорошо.
— А вы хоть раз курили? Здорово! Голова так и кружится. Попробуй, дядя Руди.
— Так уж и быть, попробую. Но сама брось.
Руди сделал две-три затяжки и впрямь почувствовал приятное головокружение, все его тягостные мысли и опасения рассеялись как дым.
— У меня много пачек сигарет, мне их дал Старпом, — сказала Вера.
— Я так и знал! — воскликнул Толик. — Вырасту, я его поколочу.
— Не получится, — рассмеялась Вера. — Он сильный дяденька.
— Я помогу, вдвоем справимся, — пошутил Руди и обратился к потеплевшему и улыбнувшемуся Толику: — Давай присядем, а Вера расскажет, откуда у Старпома сигареты. Наверняка этот сочинитель придумал интересную историю.
История оказалась занятной и во многом непонятной. В далеком будущем, когда уже появились люди и города, Старпом разыскал своего старого знакомого. Очень давно они были обыкновенными людьми и плавали по звездным морям совсем в другой Вселенной.
— И очутились вдруг здесь? — усмехнулся Руди. — Но как?
— Даже Старпом не знает, — сказала Вера. — Перелетели к нам, и все. Здесь стали деревьями.
— Врет, как всегда, твой Старпом, — сказал Руди. — А как звать его приятеля?
— Ой, какое смешное имя — Крысоед!
«Ну-ну, — поморщился Руди. — Что это? Опять, совпадение?» Руди стало не по себе, даже немножко страшно. Он еще раз закурил и почувствовал прилив отчаянной отваги, на душе стало легко и беззаботно. Ай, забыть надо всю эту чертовщину!
— Недавно Старпом гостил у своего приятеля, — продолжала Вера. — Растет тот каким-то деревом на берегу моря. Однажды ночью на этот берег пришли шатуны… Ну эти, что шатаются от нечего делать.
— Туристы, — догадался Руди.
— Верно. Туристы, — смутилась Вера. — Все время забываю это слово. Туристы расставили палатки, развязали мешки с вещами, и Старпом незаметно утащил у них много пачек сигарет.
— Твой Старпом не только лгунишка, но и воришка, — рассмеялся Руди. — А сами вы бываете в будущем? Я слышал от дедушки, что деревья-люди растут там редко.
— Ходить туда трудно и опасно, — сказал Толик. — Там страшно, — подхватила Вера.
Ребята, перебивая друг друга, поведали такое, что Руди забыл о сигарете, погасшей в его руке. Толик и Вера не раз ходили в будущее. Толику удалось познакомиться с мальчиком, который рос кленом на небольшом хуторе. Прячась в кустах, они с завистью наблюдали за играми деревенских мальчишек. Выйти из кустов не решались, боялись испугать людей, живущих в пространстве.
— Но люди попались дурные, — жаловался Толя. — Они вспахали землю под огороды и повредили корни у мальчика-клена. Мальчик заболел, засохли его листья, и он умер.
Вере тоже не повезло. Сначала было хорошо. Ее подружка — девочка в белом платье — росла стройной белоствольной березочкой в глухом лесу, вдали от селений. Лишь изредка приходили в лес деревенские мальчишки и девчонки по грибы и ягоды. Вера в своем зеленом платье однажды рискнула выйти из кустов. Ребятишки не испугались и назвали незнакомку маленькой феей. И Вере это очень понравилось.
— Но потом… — Вера всхлипнула. — Потом пришли взрослые люди с топорами и пилами. И ужас что началось. Трещали деревья, щепки летели. Срубили и мою подружку.
«Да, не сладко деревьям среди людей», — подумал Руди и оглянулся по сторонам. Людей здесь нет и не могло быть. Густые, топкие и непролазные чащобы надежно защищали берег от хищников и кормящихся листвой мастодонтов. Жилось здесь Верочке-вербочке беззаботно.
Заходящее солнце зацепилось за верхушки деревьев, тихо и незаметно опустился вечер. Лесные опушки наливались фиолетовыми сумерками, засыпали деревья. Руди и Толик попрощались с Верой и вернулись на холм. Дедушки здесь уже не было. Не дождался и Ушел домой. Да и мальчик, попрощавшись, слился со своим древесным естеством и какое-то время еще шелестел листьями, ловил ими алые и, видимо, очень вкусные лучи заходящего солнца. Солнце закатилось и Уснуло. Уснул и тополь, перестав шуметь листвой.
И будто опустела планета. Тоскливо стало на душе у Руди, но и возвращаться домой, в свое тяжкое оди-] ночество не хотелось. Посидел он еще с полчаса, потом встал и пошел в тысячелетия. Остановился он в нужном времени и незаметно слился со своим истинным телом, сидящим на корнях. Открыл глаза и первое, что увидел, — искрящуюся под солнцем бороду. Да и сам дед так и сиял, искрился, радуясь утренним лучам, прислушиваясь к голосам проснувшихся птиц и шелесту своей листвы. Посмотрел он на Руди, нахмурился и проворчал:
— Что? Опять захандрил?
— Минутная слабость, дедушка. Не обращай внимания.
— То-то! Смотри! — погрозил дед пальцем и рассмеялся. — И не один ты здесь. Приходил звать к завтраку твой железный друг… Ну этот, Мистер Грей. Боже мой, что тут творилось! Остолбенел он, уставился на меня с расширенными от ужаса глазами. Я жестом подозвал его, желая побеседовать. Но он замахал руками, дико завопил и ускакал. Успокой его.
Руди побежал к кораблю. В его тени увидел стол со свежеиспеченными булочками, кружку с горячим чаем и Мистера Грея с перекошенным от страха лицом.
— Руди, я свихнулся, — жалобно простонал он. — Мне мерещатся черти.
«А ведь не притворяется», — подумал Руди и почувствовал нежность к этому наполовину человеческому созданию. Неужели и у него есть душа, о бессмертии которой так любит толковать дед? Неужели, общаясь с людьми, он стал хоть наполовину человеком, добрым и немного смешным другом? Это было бы так хорошо!
— У тебя много чисто биологических органов с такими же нервными связями, как у человека. Понимаешь теперь, в чем дело?
— Ты хочешь сказать, что я испугался, как старая деревенская баба? — Вздрагивающие губы Мистера Грея искривились в жалкой попытке состроить ироническую усмешку.
— Вот именно. Идем в медицинский кабинет и посмотрим.
Рентгеновские снимки и компьютеры показали любопытную картину: не только биологические, но и многие электронные нервные связи дали временный сбой. Тут же на глазах они возвращались в нормальное состояние.
— Я не свихнулся! Я здоров как бык! — ликовал Мистер Грей.
— Ты просто суеверная старая баба, — с шутливой строгостью отчитывал его Руди. — Идеалист ты. До ужаса пошлый мистик.
— Неправда! — возмутился Мистер Грей. — Теперь я верю, что существует реально этот…
— Дедушка, Мистер Грей. Симпатичный мудрый дедушка. Идем, я познакомлю тебя с ним.
— Нет, нет! Потом! — Мистер Грей испуганно замахал руками.
Руди рассмеялся. Скучать ему с Мистером Греем не приходилось. Днем Руди готовил экран для приема новых дедушкиных изображений и посмеивался над иронически усмехающимся Мистером Греем.
— Все еще не веришь в деда? А вот посмотрим, каким ты был раньше, перед побегом. Ты тогда помогал папе загружать корабль.
— Ну-ну. Посмотрим, — ухмыльнулся Мистер Грей. — Врет твой дед.
Но вот засветился экран, и Мистер Грей вытаращил глаза. Он увидел знакомую картину: пулеметные вышки, космодром, опоясанный колючей проволокой, и звездолет, готовившийся к полету. У Руди защемило в груди, когда в толпе стражников заметил папу и маму Их привели под конвоем в качестве научных консуль тантов.
— А вот и я! — радостно воскликнул Мистер Грей. Смотри, Руди. Я загружаю корабль. Все в точности так и было. А ведь не соврал твой дед. Молодец! Волшебник! Завтра непременно познакомлюсь с ним.
Бахвалился Мистер Грей напрасно. Струсил он, когда утром следующего дня Руди предложил сходить вместе в тополиную рощу.
— Некогда, — угрюмо отмахивался Мистер Грей.
А утро было прекрасное. Дымились поля от просыхающих росистых трав, цветы раскрывали свои венчики навстречу первым солнечным лучам. И сам дед выглядел по-утреннему свежим и бодрым.
— Видел вчера картинки прошлого? Отпечатались они в моей памяти еще давно. А понимаешь, для чего все это?
— Понимаю. Ты будешь передавать эти сцены каждый раз, когда я буду изменять доисторическое прошлое. Если мне что-то удастся, то история планеты пойдет иначе и концлагерь исчезнет. Все будет по-другому.
— Верно.
— Но когда же ты поможешь добраться до того изначального злого времени?
— Не спеши, торопыга. Поспешишь — людей насмешишь. Сходим сначала к старушке секвойе. Сюзанна, — хихикнул дед. — Таким нежным девичьим именем она называет себя. Сюзанна, Сюзи! Хи! Хи! Хи!
— Слышал я уже о ней, — нетерпеливо прервал Руди развеселившегося деда. — Но она живет очень далеко, почти в мезозое.
— Именно там или поблизости все и началось. Отдохнул я хорошо, пойдем без остановок. Возьмемся сейчас за руки и пошагаем. Ну, Сюзи, жди гостей. Жди, красавица ненаглядная. Хи! Хи!
«До чего хитрый дед, — с благодарностью подумал Руди. — Балагуря и подхихикивая, старается ободрить и развеселить меня, избавить от тяжких мыслей. Да и старушку секвойю наверняка выбрал забавную все с той же целью».
С удивлением Руди обнаружил, что его «Я» уже покинуло физическое тело, оставшееся сидеть на бугристых корнях, и переселилось в иное, пригодное для жизни во времени тело. «Полуфизическое, что ли? — думал Руди. — И как быстро дед управился с этим». Он уже шагал во тьме веков. Путь неблизкий — миллионы лет назад, и шли они больше часа. Дед начал уставать, но дорогу он изучил хорошо и наконец уверенно сказал:
— Это здесь. Выйдем в пространство.
МАГНОЛИЯ
Вышли из тьмы веков. Опасаясь яркого света, Руди закрыл глаза. Но свет оказался приглушенным, и вместо шелеста лесной листвы Руди услышал протяжный гул, похожий на гул морского прибоя. Он открыл глаза и увидел стройные стволы, уходящие в головокружительную высоту. Секвойи! Таких громадных деревьев Руди в жизни не видывал. Внизу тихо, но в поднебесной вышине густые хвойные кроны мерно раскачивались под ветром и шумели, рокотали, как волны океана.
— Где же ты, старушка? — забеспокоился дед.
— Здесь я, дружок, — послышался сзади шамкающий голос.
Дед и Руди обернулись. На бугорке в тени древнего, с потрескавшейся корой дерева (видимо, ее дерева) сидела такая же древняя старушка с бесчисленными трещинками-морщинками на худом лице. Но оделась она как молодая девица: голубое с алыми полосами платье и кокетливый берет, прикрывавший поредевшие седые волосы. «И впрямь забавная», ~_ подумал Руди.
— Опять радикулит? — участливо спросил дед и, подойдя к старушке, помог ей подняться.
— Радикулит проклятый, — постанывая, ответила она. — А где же человек?
— Слепа ты стала, старая. Вот же он. Руди его звать.
— Руди? Был у меня знакомый с таким же именем. В далеком будущем. Дворянин! А сейчас вот не могу ходить. Не по мне ступеньки… — Хотела, видимо, сказать «ступеньки времени», но закашлялась. Передохнув, продолжала: — Да, давненько я не видела человека. Давненько. Но где же ты, милый? Дай я на тебя погляжу.
Руди подошел к старой, но когда-то, видимо, стройной и высокой женщине. Сейчас она, усохшая и сгорбленная, была ему по плечо. Подслеповатыми глазами Сюзанна оглядела Руди и восхитилась:
— Какой статный красавец! И какая красивая модная куртка! Но что за брюки? Измятые, протертые на коленях. Стыдно, молодой человек. Стыдно.
— Она всегда была модницей. И сейчас вырядилась. Вертихвостка! — хихикнул дед.
Сюзанна взглянула на дедовы рваные сапоги, на заплатанные штаны и презрительно бросила:
— А ты помалкивай, босяк. Голодранец!
— Тьфу, совсем рехнулась, старая! — выругался дед и отошел в сторону.
Покряхтывая и опираясь на палочку, старушка опустилась на бугорок. Рядом присел Руди и стал расспрашивать, что же произошло в мезозое после вспышки сверхновой звезды.
— Мезозой… Сверхновая… — проворчала она. — учености эти сейчас не помню. Забыла все, стара стада. Ты вот его послушай. Любит он побалагурить. Ох, любит. Да иди же сюда, старый. Не обижайся.
— Я и не обижаюсь. Что с тебя возьмешь, — усмехнувшись, проворчал дед и уселся рядом с Сюзанной. — Но все же, что ты видела?
— Видела такое, что и сейчас забыть не могу. Но вот понять… Нет, разобраться впору только человеку, вот такому молодцу.
— Вот и помоги ему. Познакомь со своей юной подружкой, что живет в мезозое. Как ее?
— Мага. Магнолия. Ох и красавица. Одевается она просто, но как красиво. Позавидуешь.
— Опять о нарядах. Совсем в детство впала, — хмурился дед. — Ты говорила, что красавица Мага может привести Руди в то самое место и время и еще раз увидеть с ним страшные чудеса.
— Сумеет. Но вот как добраться до Маги? Ой, далековато. Миллионы лет. Раньше я часто хаживала к ней. Но сейчас стара.
— А твой сосед?
— Ах, этот старый дурак. Дубак.
— Дубак! — хохотнул дед. — Имечко в самый раз для него. Но он еще не стар, в самом соку. Раньше любил странствовать, бывал и в мезозое. На мою просьбу доставить Руди к магнолии отказался. Именно к Маге не хочет.
— Оно и понятно, — усмехнулась старушка. — Невзлюбил он Магу. И знаете почему? Вот послушайте.
Сюзанна рассказала забавную историю. Раньше Дубак каждый день наведывался к Маге. Пленился он ее красотой, влюбился по уши, стал одеваться фертом. Но ничто не помогало, не отвечала она взаимностью, а лишь подразнивала, строила глазки, кокетничала и посмеивалась. Наконец Дубак совсем потерял голову однажды со слезами на глазах упал перед Магой на к лени. Вот тут-то она и нанесла ему чудовищное оскорбление. «Мужчина ты еще ничего, видный, — сказала она. — Но уж очень большой дурак».
— Ха! Ха! Ха! — расхохотался дед. — Понимаю. Более тяжкого оскорбления для него нет, потому что действительно дурак. Но ты говорила с ним о Руди?
— Вчера еле доковыляла. Дубак важничал, еле согласился принять гостя. «Ладно уж, посмотрю на этого Руди, — сказал он. — Наверняка какой-нибудь придурок».
— Сходим к нему. Может быть, Руди сумеет уломать его?
— Попробую, — усмехнулся Руди, догадываясь, что и Дубак не менее забавная личность, чем старушка. «Старается развеселить меня, — подумал он. — Ну и хитрюга дед. Кто же такой Дубак? Клоун?»
Дед и Руди вышли из рощи с ее прибойно рокотавшими вершинами, и на них свалилась жара открытого пространства. Но душные и влажные низины скоро кончились, и Руди с облегчением вошел в прохладу дубового леса. На одной из полян с редким кустарником дед показал на дуб с на редкость кудрявой кроной.
— Это он, — шепнул дед и громко позвал: — Дружок, красавец мой ненаглядный. Покажись.
Из кустов выступил мужчина с грубым обветренным лицом и хорошо ухоженной прической — такой же затейливо кудрявой, как его древесная вершина. Оделся он с величайшим изяществом: фиолетовый фрак, яркий пестрый галстук, узкие алые панталоны и лаково сверкающие туфли.
— А, это ты. Великий мудрец, — сказал он и захохотал, довольный своей, как ему казалось, удачной остротой.
— Да, это я, — смиренно ответил дед. — А вот человек. О нем уже докладывали тебе.
Дубак прошелся, высокомерно разглядывая гостя. Выступал он важно, с величавой грацией павлина. Руди сразу догадался, чем можно улестить Дубака.
— Разрешите представиться, ваше сиятельство. — Руди отвесил низкий поклон. — Руди меня звать. Руди.
— Сиятельство? — улыбнулся Дубак. — Кажется, у людей это дворянский титул?
— Да, ваше сиятельство. Увидел вас и сразу понял, что вы граф.
— Граф. Прекрасно звучит. Граф! — самодовольно повторил Дубак и снисходительно потрепал Руди по плечу. — А ты малый ничего. Видать, толковый. Проси, чего желаешь.
— Наслышан о сказочной красавице, ваше сиятельство. Хотелось бы посмотреть. Там она, в мезозое.
— Дура она и задавака, — нахмурился Дубак. — Не очень-то она учтива со мной.
— Она же не знала, ваше сиятельство, что вы граф.
— Верно! — осенило Дубака. — Не знала. Вот ты и представь ей меня графом. Будешь моим слугой.
Дед подмигнул Руди: молодец! Дело как будто налаживалось. Дубак загорелся идеей предстать перед капризной красавицей сиятельным графом.
— Отправимся прямо сейчас. А ты, мудрец, — хохотнул Дубак, — ты, философ, подождешь нас. Идем, малый. Держись за меня и увидишь, какой я мастак.
«Действительно мастак», — подумал Руди, удивившись, с какой легкостью они переместились в мезозойскую эру. Всего лишь пять минут мглы — и Руди уже шагал сухим обрывистым берегом реки. На противоположном берегу реки, низком и топком, — жиденькая Рощица. С ветки на ветку, пронзительно вереща, перелетали крылатые ящеры с длинными зубастыми пастями. Вдали, сотрясая землю, проскакал на задних лапах какой-то исполинский динозавр. За ним с хищным шипением и рыком гнался другой, напоминающий громадного кенгуру с мордой удава.
«Ну и ну», — поежился Руди, опасливо держась за рукав своего провожатого. Но Дубак, быстро усвоивший барские замашки, проворчал:
— Отцепись, холоп. Не мни фрак. Здесь нас никто не тронет.
Берег этот и в самом деле выглядел пустынным. Ни одного мезозойского чудовища. В травах мирно гудели пчелы и беззвучно порхали на редкость крупные пестрые бабочки.
Дубак остановился в густом кустарнике. В глазах его засветились восхищение, зависть, желание отомстить: шагах в двадцати одиноко стояло стройное, с раскидистыми ветвями дерево — красавица магнолия.
— Это она, — шепнул Дубак. — Ступай и доложи. Руди вышел из кустарника и приблизился к дереву.
Звенели и сверкали, как зеркала, широкие глянцевитые листья. Сочные и крупные, величиной с тарелку, белые цветы расточали густой аромат. Но где же Мага, магнолия, в своем девичьем виде?
Не дождавшись, Руди хотел вернуться назад, но из кустарника высунулась рука Дубака и погрозила кулаком.
Руди обернулся и замер. Черноокая и чернобровая девушка рассматривала его с удивлением и восхищением.
— Принц, — взволнованным и тихим голосом заговорила она. — Прекрасный принц. Мечта моя. Сказка. Откуда ты?
— Какой там принц, — так же тихо и не менее взволнованно ответил Руди, красота девушки поразила его. — Я всего лишь раб, слуга. Прошу принять моего господина с должным почтением.
— Господина? — Яркие губы Маги улыбчиво дрогнули. Она догадалась, что затевается какая-то шутка. — Ну что ж, готова принять его с почтением.
Руди повернулся к кустарнику и громким голосом возвестил:
— Ваше сиятельство! Граф! Прекрасная Мага ждет вас.
Из кустарника величаво выступил Дубак. Мага с насмешливым изумлением уставилась на кричаще одетого мужчину и, узнав в нем своего незадачливого воздыхателя, звонко расхохоталась:
— Хлыщ! Пижон! Вырядился-то как! Ха! Ха! Ха! Попугай! Ну прямо попугай!
— Мага, мы же договорились, — укоризненно сказал Руди.
Опомнившись, девушка вмиг преобразилась. «Артистка из нее была бы великолепная», — отметил Руди. С отлично разыгранным смущением она поклонилась и произнесла:
— Ах, извините, ваше сиятельство, не признала. Прошу, сиятельный граф. Вы желанный гость.
Но все ее артистические старания были напрасны. Бычья шея Дубака налилась кровью, лицо потемнело. Гневно сжимая кулаки, он круто повернулся к Руди и дрожащим от ярости голосом приказал:
— Эй ты, холоп! Вернешься без меня. Я еще с тобой поговорю!
Дубак вошел в кустарник и растаял.
— Как же я вернусь? — растерялся Руди.
— Не бойся, милый. Сначала погости у меня. Потом войдешь в этот же кустарник и не заметишь, как вернешься. Это он умеет. Мастак, как он выражается. Биоэнергетика у него будь здоров. Накрепко протоптал тропинку во времени.
— Ты хорошо говоришь по-человечески.
— А ты думал, что в мезозое дикари? — улыбнулась Мага. — Нет, милый. Побывала я в грядущих веках, пообтерлась среди людей. Да и мудрая старушка меня многому научила. Хилая, говоришь? Это она притворяется. Она еще многое умеет. Впрочем, что же мы стоим? Жарко тебе, я вижу. Не привык к нашему климату. Как-никак, а юрский период. Идем в тень, под шатер моих листьев. Посидим, поговорим.
Руди сел на неведомо откуда взявшееся мягкое, как пух, сиденье. На таком же облачке-кресле, закинув ногу на ногу, расположилась Мага и глядела на Руди с такой глубокой нежностью, что он смущенно опустил глаза. Устраиваясь поудобнее, Мага, словно случайно, приподняла подол платья, показывая неотразимо стройные ножки.
«Кокетка», — усмехнулся Руди и смело — не на того напала! — посмотрел ей в глаза. «Боже мой! Как она прекрасна», — вздрогнул Руди. И таяла его храбрость, голова кружилась. «Уж не влюбился ли? — с тревогой подумал Руди. — Или это так наркотически действует аромат ее цветов? Вот они, качаются на ветвях, такие же беломраморные, как ее лицо».
— Что ты сказала? — выдавил из себя Руди.
— Разве не расслышал? Случай, сказала я. Волшебный случай свел наши души. Всю жизнь я томилась, любила сказочного принца. И вот он пришел.
— Ты же знаешь, Мага, что по природе мы разные.
— Знаю, — прошептала она с такой тоской, что сердце Руди пронзила жалость к этому прекрасному созданию, и в своем неподдельном страдании она казалась ему еще прекраснее. А может, это не жалость, а любовь? Не знал Руди, что в душе его таилось такое томление, такая тоска по чувству, которое не суждено ему было изведать.
— А как хорошо любить, — с задумчивой грустью сказала Мага. — Знаешь, как это бывает у людей? Нет, не знаешь. Побывала я у них, насмотрелась и позавидовала. Смотри мне в глаза и увидишь то, что я видела. Ну, смотри же.
Что-то непонятное случилось с Руди. Черные как ночь глаза Маги будто расширились и втянули его в свою обволакивающую мглу, в свою нежную глубину. Вот мгла расступилась, и Руди вошел в большой, с малахитовыми сводами зал, освещенный люстрами. Под музыку кружились в вальсе молодые люди. Лишь одна девушка не танцевала. Прислонившись к колонне, она с грустью и надеждой глядела на вход. И вдруг глаза ее засветились.
— Мага! — радостно воскликнул Руди. — Ты меня ждала? Идем танцевать.
— Потом, — прошептала она. — Выйдем. Я давно хотела тебе что-то сказать.
Они вышли в ночной парк и встали под липой, на которую тихо струился лунный свет и, дробясь, серебрился на листьях. Девушка взглянула на Руди, в глазах ее было прежнее грустное и тревожное ожидание. Сердце у Руди счастливо забилось. Он понял, что она хотела сказать.
— Мага, — зашептал он. — Я люблю тебя. Девушка приникла к Руди, губы их встретились, и помутилось у него сознание.
— Нет, не бывать этому! Этого нет! — закричал Руди и встряхнул головой.
Наваждение исчезло. Под ярким солнечным небом, под звенящей, зеркально сверкающей листвой магнолии сидела другая, реальная Мага и глядела на него все с той же тревогой и надеждой.
— Нет, это невозможно. Ты ведь другая.
— Знаю, — страдальчески произнесла она. — Но что нам делать, Руди? Мы же любим друг друга.
— Околдовала ты меня. Ведьма ты. Ведьма!
— Ведьма, — с восхищением прошептала Мага. — Мне нравится. Зови меня ведьмой. Садись рядышком любимый мой принц.
Но Руди, стремясь поскорее избавиться от колдовских чар, заскочил в кустарник и словно на лифте вознесся ввысь, в другое время. Из тьмы миллионолетий он вышел на поляну среди густого леса. Под дубом с кудрявой кроной сидели дед и Дубак.
— Ну и как наши дела? Договорились? — спросил дед.
— Какие там дела! — с отчаянием махнул рукой Руди. — Обворожила меня колдунья.
Хоть и глуп Дубак, но сразу смекнул, в чем дело, вскочил на ноги и торжествующе заржал: — Влюбился! Ха! Ха! Ха! Безнадежно влюбился! Я еще посмотрю, полюбуюсь, как ты будешь умолять, ползать у ее прекрасных ножек. Ты еще получишь свое, холоп!
— Вернемся домой, дедушка, — жалобно проговорил Руди.
Вернулись они в свое радостное, с тающими завитками тумана утро. Но не радостно было на душе у Руди. Он сидел на узловатом корне старого тополя и сконфуженно смотрел на деда. А тот озадаченно почесал затылок:
— М-да, признаться, опасался я этого. Эх, молодость, молодость. Да и чародейка она к тому же. Слышал об этом, но не верил. М-да.
— Что же нам делать?
— Начнем все сначала. Побываю я у Дубака и у старушки секвойи. А та поговорит с Магой. Капризная она, чародейка. Капризная. Но все уладится.
Несколько дней дед отсутствовал: гостил у секвойи и Дубака. Однажды вернулся и с хитринкой посмотрел на Руди:
— Ну и ну. Не она, а ты чародей. Вскружил голову бедной одинокой девушке. Боже, как она страдает!
— Ты ходил к ней, видел? — удивился Руди.
— Видел и глаз оторвать не мог. Красота неописуемая. Нет, к Маге я дорогу не знаю. Дубак держит ее от меня в секрете. Мага сама приходила к Дубаку и старушке, умоляла: «Верните мне принца, жить без него не могу». Она на все согласна и дала полезный совет. Тебе надо изучить общекосмический язык.
— Это что еще за язык?
— На нем говорят те самые призраки-люди, пришедшие из космоса. Без знания их языка ты ничего не поймешь. Бери карандаш, блокнот и сходим.
И вот Руди снова на солнечной поляне в знакомом лубовом лесу. Увидел Дубак в руках у Руди блокнот и заржал:
— Что? Любовные записочки будешь ей писать? Ха! Ха! Ха! Поводит она тебя за нос, холоп. Поводит. Так уж и быть, отведу тебя к ней, а сам уйду. Ну ее к черту. А ты, дед, оставайся. Не покажу тебе дорогу к Маге. — Дубак повернулся к Руди и с кривой усмешкой пояснил: — Увидел он ее, глазенки так и засветились, слюнки распустил. Тоже влюбился, старый хрыч. Ха! Ха!
— Тьфу, дурак! — выругался дед.
— Идем, холоп, — высокомерно сказал Дубак.
И снова Руди не заметил, как очутился в мезозое, в том же густом кустарнике. Дубак сердито проворчал что-то и ушел. Выглянул Руди из кустарника, и сердце радостно забилось. В тени высокой стройной магнолии стояла Мага. Ждала! «Опомнись, болван», — приказал себе Руди и вышел из кустарника.
— Принц! Радость моя! Наконец-то! — вскрикнула Мага.
— Мага, я пришел по делу, — ответил Руди и жестом остановил девушку, готовую броситься в объятия.
— Знаю, — печально опустила она голову. — Н что ж, садись и слушай. Много раз я побывала та со старушкой и хорошо запомнила звуки, какими об менивались призраки. Ничего понять не могла. Но мудрая старушка уже тогда разобралась, уловила в их беседах-перебранках отдельные знакомые слова. Начнем с них.
Звуковая речь загадочных призраков оказалась удивительно схожей с человеческой. Попадались даже знакомые слова: небо, планета, вода. Их Руди занес в блокнот в первую очередь. Потом записал целые, как ему казалось, фразы. В них встречались изредка эти слоя ва, но в целом разобраться было трудно.
— Может быть, хватит на сегодня? — спросила Магм — Думаю, что вообще хватит. Полблокнота исписали Дома расшифрую.
— Не торопись, милый. Один же ты там, в своеш времени. И поговорить не с кем. И я одна.
— Душно у вас сегодня. И птицы что-то слишком раскричались.
— Это они всегда перед грозой. И не птицы они, а так… летающие рептилии, ящеры.
Не в силах расстаться, Руди и Мага обменивались ничего не значащими фразами. Но прогремел гром, начинался дождь, и пора было уходить. Засунув блокнот в карман, Руди встал.
— Сухо у меня под крышей. Останься, — умоляюще прошептала Мага. — Иди ко мне. Иди же.
Глянул Руди в нежно зовущие глаза и не удержался. Он обнял девушку и жадно целовал ее тугие щеки, губы.
— Колдунья! — опомнившись, закричал Руди. — Ведьма ты!
Он выскочил из-под густой листвы в секущий ливень, забежал в кустарник-лифт и вернулся в дубовую рошу, на ее сухую солнечную поляну. Увидел дед промокшего до нитки Руди и забеспокоился:
— Что там? Дождь? Блокнот не замочил?
— С блокнотом все в порядке. Со мной вот что-то неладное, — кривя губы, жалобно проговорил Руди. — д что, если это не колдовство, дедушка? А что, если я всерьез люблю ее? Она ведь там одна. И я один.
Измятую и мокрую одежду Руди Дубак истолковал по-своему.
— В лужах валялся. На брюхе ползал у ее прекрасных ножек! — захохотал он. — Так тебе и надо, холоп.
— Тьфу, болван, — рассердился дед. — Идем домой, Руди. Дома все забудется.
Но и дома Руди не находил покоя. Во сне видел обрывистый берег, одинокую цветущую магнолию и рядом тоскующую девушку с нежно зовущими глазами. «Боже мой, ну почему она не такая, как я», — просыпаясь, с тоской думал Руди.
Наконец Руди взялся за дело. Вместе с Мистером Греем он привел в порядок блокнотные записи, перепечатал их и ввел в дешифровальные машины. Они помогли Руди и Мистеру Грею разобраться с грамматикой, очень простой и ясной. Но с фразеологией, идиомами пришлось повозиться. И лишь к концу лета они получили удобоваримый текст, а машины привели его в окончательный порядок и придали форму звуковой речи.
Несколько раз Руди прослушивал разговор двух призраков — пришельцев из космоса. Это был очень странный разговор. Мирная беседа прерывалась вдруг дикой, злобной бранью. Причем один из призраков — имени его Руди так и не узнал — обладал сочной, выразительной речью и называл своего собеседника… Крысоедом!
Что это? Опять совпадение? Нет, тут какая-то тайна, решил Руди. Ее надо как можно скорее раскрыть.
Наступила осень, близились холода, деревья вот-вот погрузятся в зимнюю спячку, и Руди начал поторапли вать деда.
Пришли они сначала к старушке секвойе, похвали ли ее нарядное платье и новые туфли.
— Ох и хитрецы, — погрозила она пальцем. — Льсти те. Хотите, чтобы я сама отвела вас к Маге. Нет, милые Слишком стара стала. Без болвана вам не обойтись Польстите ему. Может, что и получится?
Пришлось идти в дубовую рощу. К их удивлению Дубак встретил гостей без своих обычных штучек, без дурацкого хохота.
— Стареть я начал, — уныло сказал он. — Морщинки у глаз, седина. Да и вообще…
— Не сказал бы, ваше сиятельство, — поклонившись возразил Руди. — А в новом фраке вы еще моложавее.
Лесть сработала здесь безотказно. Дубак расплылся в самодовольной ухмылке и охотно повел Руди в мезозой, не проронив при этом ни одного насмешливого слова. Но в кустарнике все же съязвил:
— Хотелось бы посмотреть, как ты будешь ползать у ее прекрасных ножек. Да уж ладно, не буду мешать, — хохотнул он и ушел.
В кустарнике Руди постоял немного, пытаясь унять учащенно забившееся сердце, и осторожно выглянул., Под тихо шелестящей листвой магнолии в грустном одиночестве стояла Мага. Ждала. Что делать? Не искушать себя и уйти? Но так жалко стало ее, да и себя тоже, что Руди выбежал из кустарника. Вскрикнув, девушка кинулась навстречу. Они обнялись, и начался сладкий вихрь поцелуев, улыбок, восклицаний.
— Истосковалась я, жестокий мой принц. Забыл ты меня.
— Не забыл, моя любимая колдунья. Разве можно забыть?.. Но давай рассудим трезво.
— Понимаю, — опустив голову, сказала Мага. — у нас не настоящая любовь, какая-то неполная. Любят наши души. А наши тела разные и в разных временах. Твое там ходит свободно в пространстве. А мое здесь, стоит неподвижно и шелестит листвой, нежится в лучах.
— И выходит в пространство королевой. Умница ты моя. — Руди обнял Магу и погладил ее голову, ее пушистые волосы. — Что это? Они же у тебя были черные, а сейчас… Ну прямо золото.
— Ты только сейчас заметил? — рассмеялась Мага. — Покрасила я их, чтобы еще больше понравиться тебе. Нравится?
— Очень. И вот что придумал. Еще там, у себя дома. Пусть наши тела разные и в разных местах. Но души одинаковые и находятся рядом. Забудем эту несправедливость природы, обманем ее. Будем любить друг друга, как это бывает в сказках.
— До чего мы одинаковые. Я тоже подумала, что у нас с тобой сказка. А твое непонятное дело будет теперь нашим общим делом. Я его тоже превращу в чудесную сказку.
— А как? — улыбнулся Руди. — Хоть ты и колдунья, но что-то не верится.
— А вот давай станцуем. Ну, не удивляйся же, станцуем.
— Что ж, станцуем, — рассмеялся Руди и закружился с Магой в каком-то волшебном вальсе, под тихую музыку и во внезапно упавшей тьме. Они кружились и будто уносились куда-то далеко-далеко. Но вот тьма рассеялась, и Руди поразился. Ни одинокой магнолии на обрывистом берегу, ни реки, ни пронзительного скрежета крылатых ящеров. Кругом равнина с цветущими лужайками, с холмами и редкими кустарниками в низинках. Под упругим стенным ветром шелестело платье Маги, с шорохом развевались ее золотистые волосы.
— Где мы? — спросил Руди.
— На миллионы лет дальше. В меловом периоде.
— Ну и колдунья ты, — улыбнулся Руди. — А я-то думал, что только Дубак умеет здорово перемещаться во времени.
— Что Дубак! Он только пешочком ходит по времени, а я могу и вальсируя. Не говори ему, а то он от зависти страдать будет.
— Добрая ты.
— А тебе разве не жалко его?
— Как-то не думал об этом.
— Ну конечно. Мысли твои заняты серьезным делом, — с ласковой насмешкой сказала Мага. — А я вот легкомысленная. Вот возьму и не выпущу тебя отсюда, будем вечно странствовать по всем временам.
Странники времени зашли в густые и высокие за-] росли белых ароматных кашек, спугнув танцующих бабочек.
— Вот отсюда я часто любуюсь красавцами ящерами.
— Это ящеры — красавцы? Динозавры? Не смеши, Мага.
— А вот посмотрим. Сейчас покажутся.
Из-за холма выскочила стая динозавров средней величины — «всего лишь» пяти-шести метров длиной. «До чего грациозны», — залюбовался Руди. Смахивающие на бескрылых птиц, с маленькими головами на лебединых шеях, ящеры пугливо озирались. Никого не заметив, они начали что-то вынюхивать в холмах и разгребать песок короткими передними лапами, похожими на недоразвитые руки. Из песка показались огромные, около метра длиной, яйца. Прижимая их к груди, динозавры легко и красиво ускакали, скрывшись за холмами.
— А, вспомнил, — сказал Руди. — Видел таких в фильмах и учебниках. Это же лакомки.
— К тому же воришки, — со смехом добавила Мага. — Воруют яйца самых крупных динозавров и лакомятся.
Руди хотел выйти из зарослей кашек, но Мага остановила его.
— Тише, — приложив палец к губам, зашептала она. — Сейчас придут твои красавцы. Здесь-то они впервые и появились на
планете. Мне страшно почему-то, не могу привыкнуть.
Руди прислушался. На пустынной равнине что-то происходило. Слышались шорохи и — странно! — как будто обрывки человеческой речи. Порывистый ветер трепал, рвал на клочья какие-то голоса и уносил их вдаль.
— Что это? Игра ветра? — спросил Руди.
— Говори тише, а то спугнешь их. Это твои призраки. Днем их не видно, а вот ночью…
— Но до ночи далеко.
— Что? Не терпится? — улыбнулась Мага. — А мы шагнем чуть дальше в будущее и зайдем в ночь. Переместимся всего на несколько часов. Возьмемся за руки и шагнем.
Палящий глаз солнца, висевший в зените, словно моргнул, вздрогнул, быстро покатился на запад и скрылся за горизонтом. Пришли ночная тишина и прохлада. Из-за тучи показалась луна и осветила равнину. Мага и Руди стояли в тех же зарослях кашки. Вдали вспыхивали слабые искорки, гасли и снова выступали из тьмы.
— Это они, — шепнула Мага. — Сейчас пройдут мимо.
Искорки приблизились и будто сгустились в призрачные человеческие фигуры, в еле видимые столбики дыма.
— Никак не пойму… — хриплым голосом испуганно бормотал один из призраков.
— Иди к черту, Крысоед! — грубо оборвал его второй призрак. — Надоел со своими вопросами. Обалдел от неожиданности. Ну, занесло нас совсем в другую Вселенную. Ясно? Кто-то проделал с нами злую шутку. Но кто? У, доберусь до него! Расправлюсь!
В голосе этого призрака, привыкшего, видимо, властвовать и повелевать, гремела такая угроза, что Маге стало не по себе. «Серьезный тип», — подумал Руди.
— Уйдем отсюда чуть дальше во времени, — предложила Мага. — Не бойся, не потеряем мы твоих чудищ.
— Моих, — усмехнулся Руди.
— Ну наших, наших, — ласково отозвалась Мага.
Руди взял за руку Магу и шагнул в будущее, совсем немного. В полумгле промелькнули два или три дня. Остановились они ночью с ярко светящейся луной и спрятались в глубокой тени отдельно стоявшего дерева.
— Здесь нас не видно, — прошептала Мага. — Сейчас появятся призраки вон из той рощицы.
Руди смотрел в сторону рощи и ничего не видел. Но вот, колыхнувшись, появились там два пятнышка, скрылись в низинке и снова возникли из тьмы. Но уже ближе. Это были те самые едва различимые призраки-люди. Они подошли к дереву, где прятались Руди и Мага, и молча уселись на бугорок. Первым заговорил призрак с властным голосом. На сей раз в голосе его слышалась насмешка.
— Ну что, палач Крысоед? Остался без дела? Тоскуешь? Некого пытать?
— Не пойму, как они сбежали? — бормотал призрак Крысоед. — Из подземелья! Из паучьей паутины!
— Болван ты, Крысоед. Это жаба освободила художника и капитана. Больше некому.
— Этот дурацкий Вычислитель?
— Он не дурак, но негодяй, каких космос не видывал.
Вдали, почти за горизонтом, вспыхнула невиданной яркости молния и осветила зубчатую гряду леса. Молнии засверкали беспрерывно, чуть позже докатился гулкий грохот, подул все усиливающийся ветер. Дерево над Руди и Магой гнулось, трещали ветви.
— Гроза! Ураган! — панически закричал Крысоед. — Бежим к звездам, в космос! Там тихо!
— Ну и трус ты, Крысоед. Нет, не уйдем отсюда. Планетка нам попалась любопытная. И не трясись, дурак. Ничего с нами буря не сделает. Мы же духи.
— Но мы с тобой не духи, — сквозь грохот и свист надвигающейся бури прокричала Мага. — Это какой-то космически страшный ураган. Уйдем чуть дальше во времени тихими шажками, чтобы и буря была видна, и с нами ничего не случилось.
Повела она Руди в будущее так медленно, что видно было солнце, мелькающее с востока на запад. Но буря набирала силу, и солнце скрылось в ревущей мгле. Летели тучи песка, ветви и деревья, вырванные с корнем. Свистящая, грохочущая, поистине космическая буря как-то странно улеглась, оборвалась внезапно. Остановились Мага и Руди уже в вечерней тишине на той самой холмистой равнине, на которой раньше копались в песке грациозные воришки динозавры.
— Не придут мои красавцы ящеры сюда уже никогда, — с грустью сказала Мага. — Разметала их буря и побила камнями.
На равнине валялись корни, ветви и стволы деревьев, занесенные сюда из черневшего вдали и заметно поредевшего леса. Поблизости лежали чудом уцелевшие гигантские яйца. Ураган не только пощадил их, но и освободил от дерна и песка.
— Вот с этими двумя яйцами и произойдет что-то непонятное. Страшно, Руди! Не пришла бы сюда, но тут случится, по-моему, что-то важное для тебя. Ой, как страшно здесь.
— Эх ты, а еще королева мезозоя. — Руди обнял Магу за подрагивающие плечи.
Вечер сменился тихой звездной ночью. Неожиданно темное небо озарилось. Будто новое солнце народилось и затмило своим светом сияние луны.
— Сверхновая! — воскликнул Руди.
— Вот после нее все и случится, — сказала Мага. — Уйдем на несколько дней дальше, и увидишь.
И снова они пошли медленно-медленно, снова солнце скакало с востока на запад. Но пылающая сверхновая звезда висела на месте, потом начала тихо угасать. Руди и Мага вышли из времени в пространство, когда сверхновая совсем погасла и затерялась среди звезд. Под лунным сиянием лежали все те же яйца.
— Смотри, — прошептала Мага.
К ним приближались два призрака и о чем-то говорили. Кажется, переругивались. Перед яйцами они заколыхались и струйками дыма исчезли.
— Они скрылись в яйцах, — боязливо прошептала Мага. — Понимаешь? Их словно втянули в себя яйца. А теперь посмотрим, что случится через несколько дней.
Мага и Руди шагнули чуть дальше во времени и через несколько промелькнувших дней стояли перед теми же яйцами, но уже под палящим солнцем. Неожиданно яйца вздрогнули и шевельнулись, скорлупа треснула, и выползли на свет Божий мокренькие малюсенькие динозавры.
— Фу, какая гадость! — вскрикнула Мага и попятилась. — Уйдем и вернемся в эти места через несколько лет.
Взявшись за руки, они с облегчением нырнули во мглу мелькающих лет. Вышли из времени в пространство, когда малютки динозавры выросли уже в чудовищных тиранозавров. Их огромные глаза блестели под лунным светом, как выпуклые линзы телескопов. Тиранозавры стояли друг перед другом и, шипя, злобно размахивали длинными хвостами.
— Ну что, Крысоед, — прорычал один из них, — перехватил мою добычу? Сожрал бронтозавра и мне ничего не оставил. Прожорливая скотина.
— Ха! Ха! Ха! — Крысоед-тиранозавр зашелся в каком-то жутком булькающем хохоте. — Ты такая же скотина. Сейчас мы с тобой равны. Подожди, я и тебя сожру.
— Животное, — прошипел второй тиранозавр.
Бывшие призраки-люди еще какое-то время переругивались, рыкали, размахивая когтистыми лапами, но разошлись как будто мирно.
— Успокойся. — Руди обнял дрожавшую от страха Магу. — Ну и зрелище. Что же дальше?
— Скоро день. Отдохнем на цветущей поляне и послушаем третьего призрака.
— Как? Еще и третий?! — воскликнул Руди. — Откуда он взялся? Из яйца?
— Нет, у меня такое впечатление, что он возник из урагана. Из того, из космического. Видела однажды ночью, как ураган разнес все в пух и прах и утих мгновенно, свернувшись в человека-призрака. А может, тот призрак и есть ураган? Странно, не правда ли? Идем.
Пошли они на этот раз просто в пространстве, не прибегая к переходу во времени. Занималось утро, и вдали, на одной из полян, в редеющей мгле сверкнула искорка и погасла.
— Это он, — шепнула Мага. — Спрячемся в кустах и будем слушать.
Всходило солнце, и началась удивительная игра света и тени. Зарделись макушки самых высоких деревьев, раскидистые кроны пальм заалели шатрами. А свет ширился, гнал и выметал остатки мглы. Наконец туман совсем рассеялся, и открылась красивая лесостепь с рощами и цветущими лужайками.
— Удивительное местечко выбрал себе призрак, — улыбнулась Мага. — И сам этот пришелец-невидимка удивительный.
— Смотри не влюбись. Ревновать буду. — Руди притянул к себе девушку, и их губы сомкнулись в долгом поцелуе.
— Потом, милый, — прошептала Мага. — Подождем и послушаем призрака. Он великий талант.
— С кем же он говорить будет?
— Сам с собой и со всем миром. Слушала я его и ревела как дура.
— Чудно ты говоришь… Что это? Опять вроде искорка. Сверкнула и погасла.
— Это он, мучитель мой, — сказала Мага. — Днем он будет бродить невидимкой. Сейчас он у реки. Не видишь? А я вот не раз бывала здесь, присмотрелась. Изредка он выступает из дневного света дымными контурами и снова тает. Вот он идет сюда, часто приостанавливается, любуется цветами.
— Сочиняешь, Мага. На полянах пусто.
— Уйдем во времени на несколько часов подальше, и в сумерках увидишь.
Взявшись за руки, они шагнули из одного кустарника к другому и одновременно шагнули чуть в будущее. Утреннее солнце, вздрогнув, описало огненную дугу в небе и упало за горизонт. В соседнем кустарнике Мага и Руди присели и притаились уже глубоким вечером. В призрачном лунном свете Руди наконец-то заметил не менее призрачную человеческую фигуру Незнакомец присел на бугорок и поднес к губам какую-то трубочку.
— Свирель это или еще что-то, я не знаю. Но это волшебная дудочка.
Что это за дудочка, разглядеть невозможно. Но призрак заиграл на ней так, что Руди позавидовал. Никогда не удавалось ему извлекать из своей флейты таких чарующих звуков. Мага прижалась к нему и прошептала:
— Боюсь. Сейчас начнется что-то непонятное и страшное.
За волокнистыми облаками скрылась луна, и в это время в лесу затрещали деревья, земля дрогнула, оттуда прыгнуло что-то черное и громадное, как гора. Из-за облаков выкатилась луна и серебряным водопадом осветила темную громадину. Это был тиранозавр.
Десятиметровой высоты хищник замер и уставился на дымно мерцающий силуэт. Призрак, прекратив играть, встал и хотел уйти. Но передумал. Понял, видимо, что для него ничто материальное не опасно, и снова уселся. А тиранозавр, это исполинское чудище мезозоя, разглядывал сидящее на холме привидение с возрастающим вниманием. В его глазах, похожих на громадные линзы, засветилось любопытство.
— Это он, — дрожа от страха, шепнула Мага. — Говорящий. Но не Крысоед, а другой.
Минуту или две длилась странная тишина. Нарушил ее призрак. Он снова заиграл. Да так, что у Руди перехватило дыхание и защемило в груди. Пленительные звуки словно обволакивали его и уводили в за звездные таинственные дали, в миры, где печально шелестели травы, грустили закаты и пели невиданные птицы. Мага прислонилась к Руди и затряслась в Рыданиях. -
— Что он делает, мучитель! — всхлипывая, шептала она. — Как играет, с какой силой!
Но самое невероятное творилось с мезозойским чудовищем. Тиранозавр поднял морду к звездам и заскулил, завыл от тоски и отчаяния. И вдруг, будто рухнувший с неба гром, раздалось оглушительное рыканье тиранозавра и его человеческие слова:
— Мерзавец! Душу терзаешь!
Оцепеневший Руди не верил ушам своим, но, собравшись с духом, внимательно слушал. «Тут что-то важное», — мелькнула у него мысль. Призрак перестал играть и, колыхнувшись туманом, встал на ноги. К нему осторожно приблизился тиранозавр, присел на задние лапы и заговорил:
— Ну что, художник, удивлен? Увы, это я. Старпом.
— Не может быть! — воскликнул призрак.
— У этого дьявола все может быть! — с яростью загремел тиранозавр и передней лапой ткнул в мигающее звездами небо. — Видишь? Подмигивает, смеется надо мной.
Затаившийся за кустами Руди с возрастающим изумлением взирал на разъяренное мезозойское чудище. Старпом-тиранозавр! Через миллионы лет в будущем — Старпом-ясень! А еще датьше… Нет, эту чертовщину надо переварить и осмыслить. Тут что-то главное. Руди слушал, стараясь запомнить каждое слово. К сожалению, беседа двух ошеломляющих созданий прервалась: в лесу что-то зашумело, затрещали деревья. Тиранозавр-сапиенс, злобно рыкнув, ускакал в ту сторону и растаял в ночи. Призрак-музыкант поднялся над землей и, слившись с лунным сиянием, улетел в небо.
— Вот и все, — сказала Мага. — Показывать тебе уже нечего. Страшные чудеса кончились. Ты о чем задумался? Вернемся ко мне.
Вернулись. Но и солнечным днем, под звонкой листвой магнолии задумчивость не покидала Руди. Девушка с тревогой смотрела на него.
— Я уже раскаиваюсь, что сразу показала все. Сейчас уйдешь и забудешь меня.
— Не забуду, — очнувшись, сказал Руди. — Но мне надо побыть одному и подумать. Я еще приду к тебе.
Домой он вернулся в то же самое раннее утро с его редеющим туманом и первыми солнечными лучами. Словно странствий во времени и не было. Под старым тополем сидел дед и улыбался, внимая птичьим песням. Услышав, что Руди сейчас же намерен отправиться к Старпому-ясеню, нахмурился:
— Не советую. Непонятный он тип. Сначала расскажи, что выведал. Говоришь, побывал в юрском и меловом периодах? Любопытно.
Слушал дед с изумлением, а весть о двух Старпомах — тиранозавре в мезозое и ясене в ближних веках — его крепко озадачила.
— М-да. Чудные дела творятся на нашей планете. Ты прав. Тут что-то важное. Сходи к нему, но будь осторожен.
Утром следующего дня Руди отправился по уже знакомому и привычному маршруту: к Толику и вместе с ним к Вере. Та сидела на берегу недалеко от вербы.
— Не дымишь? — удивился Толик. — Неужто бросила?
— Не, просто сигареты кончились, — честно призналась Вера. Услышав, что дядя Руди желает посетить Старпома, она пришла в восторг. — Ой как хорошо. Он тебе, дядя Руди, понравится. Он давно ждет тебя.
— Меня? — удивился Руди. — С чего бы это? Ну, идем.
СТАРПОМ-ЯСЕНЬ
Тропинку в недалекое прошлое (всего-то в тысячу лет) Вера давно протоптала. Несколько шагов во мгле веков — и перед Руди то же самое озеро, но с несколько иными берегами. Вместо вербы и густого ивняка росли березы, не было топких низин. Кругом светло, на цветущей поляне ни листьев, ни единой соринки.
— Сам подметает, — с уважением прошептала Вера. — Любит чистоту и порядок.
В утреннем тумане плавилось встающее дымное солнце, его лучи расплескались на листьях и ветках деревьев. А вот и красавец ясень — высокий и стройный, с раскидистой густой вершиной. Рядом уютная бухточка с крутыми берегами.
— А соизволит ли ясень явиться к нам в человеческом виде? — с усмешкой спросил Руди.
— Он в это время часто гуляет по озеру. Да вот он, смотри!
Недалеко от бухты из сиреневой дымки выплыл белый парус.
— Красивая яхта, — сказал Руди. — Слышал, что он сам ее смастерил.
— Сам. Он же Старпом-с-топором, — рассмеялась Вера.
Человек на озере, видимо, услышал знакомый детский смех. Он направил яхту в бухту, бросил якорь и выскочил на берег.
«Решительный субъект», — подумал Руди, взглянув на волевое лицо незнакомца.
— Ну что, художник? Не узнаешь? — усмехнулся человек. — Все правильно. Сейчас твой бессмертный дух в беспамятстве томится под бременем земной материи. Вот умрешь — и все вспомнишь.
— Для меня твои слова, господин Старпом, сущий бред, — в свою очередь усмехнулся Руди.
— Так и должно быть, — сказал Старпом и протянул пачку сигарет. — Закуривай. Говорят, что ты начал курить.
— А еще говорят, что ты сигареты у туристов украл.
— Ах, это Вера разболтала. Сейчас я ей всыплю. А ну, иди сюда! — грозно возвысил голос Старпом и ласково погладил по голове безбоязненно подбежавшую девочку.
— Простил? Какой ты добрый, дядя Старпом, — улыбнулась Вера.
— Вот видишь, дети считают меня добрым, — с грустью сказал Старпом. — А вот ты, художник, считал меня лютым зверем. А зря. Да, ты выл и визжал, когда я пытал, терзал твою плоть. Но я ненавидел не тебя. Нет, я ненавидел вот этого притаившегося в тебе дьявола. — Старпом показал на небо. — Хотел вырвать у вопящей материи ее тайну.
— Хватит! — хмуро и грубо оборвал его Руди. — Не желаю слушать бред. Я пришел по делу.
— Иди, Верочка, погуляй, а я поговорю вот с этим сердитым дяденькой. Присаживайся, господин сердитый.
Руди сел напротив не то насмешливо, не то добродушно улыбающегося Старпома.
— Дай, я хоть погляжу на тебя, — сказал Старпом. — Каким, однако, стал ты молодцом. Стройный, подтянутый. В лице чувствуется сила, целеустремленность. В глазах, правда, грустинка. Ну, это понятно. Обстоятельства не позволяют проявиться твоей космической, поистине дьявольской гениальности. Бред, говоришь? Нет, не бред. Да, досталась тебе не очень счастливая Доля, прямо-таки скажем — окаянная доля. Слышал об этом кое-что. Ну что ж, на пользу пошло. Ты стал другим человеком. Поздравляю. А каким ты был пошляком и размазней там, под счастливыми облаками! Тошно вспомнить.
— Никогда пошляком не был и не буду. Этого не может быть. Или, по-твоему, у этого дьявола все может быть? — усмехнулся Руди.
— Откуда ты знаешь этот крик отчаяния? — удивился Старпом и, выслушав Руди, рассмеялся. — Вон оно что. Ты сидел в ночных мезозойских зарослях и подслушивал мой разговор с музыкантом-призраком? И многое разведал? Ну ты даешь, художник. Молодец! Так мы быстрее столкуемся. Ведь у нас сейчас общая цель — вернуть планету на прежний естественный путь развития. Что ты собираешься предпринять?
— Разобью яйца, из которых вылупился ты и еще какой-то Крысоед.
— Глупости. Тиранозавры-сапиенсы, то есть мы с Крысоедом, вылупятся в другом месте. Корень зла не в нас, а в тебе. Удивлен? Вот ты видел еще одного призрака и слушал его потрясающую игру на свирели. А знаешь ли, кто этот призрак, это милое и сатанинско-гени-альное привиденьице? Это ты!
— Не может быть! — испугался Руди.
— У этого дьявола все может быть, — с грустной усмешкой возразил Старпом. — Природа способна на и не такие дьявольские выкрутасы. Еще больше удивишься, когда скажу, что тебя и капитана жаба пощадила, освободила ваши души для лучшей доли. Кем стал капитан, не знаю. Но с тобой произошла прекрасная метаморфоза. А со мной! Со мной что случилось!
Старпом вскочил и, багровея от ярости, разразился такими ругательствами, такими угрозами, что Руди стало страшно. «Да, это серьезный тип», — подумал он.
— У, проклятая жаба! — гремел Старпом. — Вогнал мою бессмертную душу в шкуру мерзкого тиранозавра Доберусь до тебя! Расправлюсь! А потом… — Старпом вдруг улыбнулся, подошел к ясеню и нежно погладил его красноватый гладкий ствол. — Потом я стал вот этим благородным деревом. Не знаешь, художник, какое это счастье — жить мыслящим деревом Видеть листьями мир, думать. А какое блаженство ловить трепещущими от радости листочками лучи солнца, ночных звезд и всего космоса. Но так жить вечно, в плену этой дурацкой петли времени? Удивлен, какой петли? Тогда слушай.
Старпом сел, собрался с мыслями и поведал Руди о том, что вспомнил, о чем передумал, будучи, как он выразился, «благородным ясенем». По его словам, бессмертный дух Руди-художника, как и дух какого-то капитана, миллиарды лет назад был заключен в подземелье средневекового замка. Освободил их некий Вычислитель в виде жабы и подсказал якобы единственный путь из мрака мертвой Вселенной. На самом же деле путь этот — вихрь космического времени, который замкнулся в гигантское кольцо.
— И завертелась вселенская карусель, — с горечью продолжал Старпом. — В эту ловушку подлой жабы попали и мы с Крысоедом. Тебе повезло: просвистел космическим ураганом по планете и высвободил из песка два яйца динозавров. Из них-то под лучами сверхновой и вылупились мы с Крысоедом мерзкими чудовищами. Тебе-то ничего, любимчик жабы. Потешил себя, поиграл на дудочке и рвал, терзал мою душу вселенской тоской. О, как ты играл, подлец! С какой сатанинской силой!
— Ладно, бредни с Сатаной отложим в сторону, — прервал его Руди. — О твоем пути догадываюсь. После тиранозавра стал ясенем, потом внедрился в человеческое первобытное общество и был людоедом…
— Ну-ну, художник, — примирительно улыбнулся Старпом. — Не надо преувеличивать, в тебе заговорила застарелая ненависть ко мне. Нет, людоедом я не был. Но смутно помню, что был дворянином и писателем. Так, неважным писателем. Потом еще ряд каких-то сереньких существований-метаморфоз…
— Кстати, почему твои собратья — мыслящие деревья ничего не помнят о своих былых жизнях?
— Опомнись, художник. Я ведь изначальное явление, и мои метаморфозы шли из глуби миллионолетий в будущее, а у тех наоборот. Верочка-вербочка, твой любимый дед и все остальные думающие деревья возникли в будущем после ядерной войны. Это просто мутанты.
— Извини, я действительно запамятовал, — смутился Руди. — Статус твоего нынешнего существования иной. Так сказать, с космическим и метафизическим уклоном.
— Верно. Ты малый сообразительный, — одобрил Старпом. — Итак, после неясных сереньких существований я…
— Стал все же людоедом, — с иронией ввернул Руди.
— Не терзай душу, художник! — взвыл Старпом и в отчаянии обхватил голову руками. Помолчав, он продолжал: — Да, твои родители все рассказали и показали, ты многое знаешь. А знаешь ли, до чего сейчас омерзителен мне этот Дальвери, этот плюгавенький вождь и мудрец. В своих прошлых жизнях я тоже зверствовал, но с великим смыслом, с целью вырвать тайну. А тот… Нет, тот лютовал без всякого смысла. Вот уж людоед так людоед, каких и во всей Вселенной не было. И самое странное в том, что этот подонок — я, мое вечное будущее. Вечное!
«Однако сейчас он здорово переживает. Сложный тип», — подумал Руди и сказал:
— Вижу, что раскаиваешься. В образе ясеня ты начинаешь мне нравиться.
— Спасибо, художник. Спасибо, друг, — с просветлевшим лицом сказал Старпом. — Это все жаба, это Вычислитель вычислил нам с тобой дурацкую космическую судьбу. И это идиотство будет повторяться бесчисленное множество раз, без конца, если не сумеем вырваться из петли.
— Петля, кольцо времени… Вспомнил! — воскликнул Руди и рассказал о безуспешной попытке деда-тополя шагнуть в будущее, о том, что какая-то сила закружила его, завертела и бросила на место.
— Это он легко отделался, — усмехнулся Старпом. — Он не космический, как мы с тобой, а местный. Потому и попал в местные колечки времени, в земные микровихри. Нам же с тобой предстоит долгая, в миллиарды лет, космическая круговерть.
— Аж голова кружится…
— Охотно верю. Земному человеку, в каковой стадии ты сейчас пребываешь, нелегко свыкнуться с этими дьявольскими штучками Вселенной.
— Ладно. Предположим, что в далеком прошлом я призраком побывал на этой планете, поиграл на дудочке, побеседовал с тиранозавром. А потом?
— Потом, покинув планету, ты, видимо, какое-то время блуждал по Вселенной, набрел на волшебную галактику и материализовался под счастливыми облаками. Я же продолжил свой нелепый путь на этой планете: тиранозавр, ясень, смутные метаморфозы и в качестве апофеоза… — Губы Старпома не то иронически, не то страдальчески искривились. — В качестве апофеоза — людоед Дальвери. Когда он подох… то есть когда я умер и с облегчением сбросил вещественную шкуру этого подонка, то сразу же отправился по предначертанному мерзкой жабой космическому пути и очутился под счастливыми облаками. Ты был там уже вполне законченным пошляком… Ну-ну, не надо морщиться. От космического дьявола у тебя тогда осталось лишь сатанински-гениальное творчество да отдельные жуткие выходки вроде мясорубки на корабле. Да, были дела… Потом наше вещественное бытие под дурацкими облаками кончилось, а дальше… Вот дальше мне не совсем понятнl: hо, все в каком-то туманчике. Ясно одно: мы снова на планете Окаянной. Ты — призрак, потом Руди. А я опять тиранозавр, потом ясень… Тебе не кажется, что мы беседуем вот под этим ясенем уже не первый раз?
— Не знаю.
— Вот и я не знаю. Может быть, хватит на сегодня?
— Пожалуй, хватит. Все это надо переварить. Расстались они как-то странно, с каким-то чуть насмешливым и в то же время дружеским расположением. А тут еще Старпом пробормотал что-то странное:
— Ну а вдруг… В это не очень верю, но, если вдруг мелькнет в твоей памяти, что я не раз пытал тебя, не обижайся. Пойми, что я был зверем не из любви к палачеству. Какой там зверь, когда душа изнывает от жалости ко всему живому…
Дома Руди, как и следовало ожидать, оказался росистым ранним утром. Только дед на сей раз не улыбался, не нежился в лучах солнца, а беспокойно расхаживал в тени под тополем.
— Ну как? — с тревогой спросил дед.
— Представь, Старпом совсем не страшный. Мне он понравился, но ошеломил, рассказал такое, что голова кругом идет.
Вдали из кустарника пугливо выглядывал Мистер Грей и жестами подзывал Руди к себе.
— Завтрак, Руди! — отважился крикнуть он. — Завтрак готов!
— Вот у кого голова кругом идет, — рассмеялся дед. — Все еще боится подойти ко мне. Иди. Потом поговорим.
Днем Руди смотрел фильмы и проверял в пилотской кабине маршрут корабля. У него была надежда, что вся эта чертовщина происходила не на той планете, где жили раньше родители, а на другой. Но нет, отец прав: корабль, стартовав с планеты Земля, попал не в суперпространство, а в супервремя и висел на одном месте долгие годы, столетия, промелькнувшие, однако, для экипажа за минуты. За эти годы (по земному времени) термоядерная война испепелила планету, от разбитой Луны остались обломки и пыль. Планета Земля стала планетой Окаянной: призраки, мыслящие тиранозавры, искаженная история, ядерная война, радиоактивный пепел, деревья-мутанты… Круг где-то замыкается. И снова: призраки, тиранозавры… Планета вертится как белка в колесе.
— Пожалуй, ты прав. Белка в колесе, — подумав, согласился дед, когда Руди рассказал все, что он узнал от Старпома. — Но вот как планета попала в петлю? Хоть убей, не пойму.
— И я не знаю. Но это факт. Старпом уверяет… — Руди поморщился. — Он говорит, что это мои проделки. Дескать, шутка Сатаны.
— А, это о том, что ты промчался по планете ураганом и стал привидением? А почему бы и нет?
— Ну, дед, ты даешь. Такой чепухи от тебя не ожидал.
— Опять за свое, — с досадой проворчал дед. — А твои нынешние странствия во времени? Это что? Тоже мистика и чепуха?
— Да, ты прав. Надо подумать.
— Думай, дружок. Думай.
Несколько дней Руди был во власти мучительных раздумий. То сидел где-нибудь на пригорке, то часами ходил по кают-компании из угла в угол. «Мечусь как зверь, загнанный в клетку, — усмехался Руди. — Где же выход?»
Выхода было два: либо признать мистику реальностью, либо плюнуть на все и уйти в бездумную жизнь во времени. Вспомнились милые ребятишки — Толик и Вера, вспомнилась Мага, ее вьющиеся на ветру золотистые волосы, ее любящие нежные глаза. Уйти бы к ним навсегда, ходить с любимой по цветущим полям прошлого. И многие годы, столетия и тысячелетия, пролетят как в сказке, как в золотисто-розовом сне… «Ну уж нет, — опомнился Руди. — Счастье не для меня. Да и счастье ли это?»
Однажды вечером он встал перед могилами родителей и с грустью спрашивал их: как быть? И тут охватило его необоримое желание увидеть маму и папу живыми. Но как? «А что, если Старпом?.. — мелькнула догадка. — Этот пройдоха многое может».
Утром он отправился в прошлое и вместе с Верой пришел к красавцу ясеню. Его человеческий образ развернул в это время паруса и поплыл по тихой озерной глади. Но, заметив гостей, вернулся в бухту и выскочил на берег.
— Как? — удивился он. — Неужели уже решился встретиться с самим собой? Так быстро?
— С самим собой? С призраком? — По спине у Руди пробежал холодок страха. — Нет, нет! Я еще не готов.
— Тогда зачем пришел? — Старпом внимательно посмотрел на Руди и расхохотался. — Ах вон оно что! Еще раз хочешь взглянуть на живых родителей?
— Еще раз? Нет, я только вчера подумал об этом. Или… — В памяти у Руди мелькнуло что-то смутное и погасло. — Нет, я прошу впервые.
— Нет, художник. Ты уже надоел мне с этими просьбами. Ты просто забыл. Ну что ж, не могу противиться вихрям времени. Против веления природы не попрешь. Так что взбирайся на яхту.
— Разве на яхте?..
— Ты и это забыл, — усмехнулся Старпом и обратился к девочке: — Подожди нас, Верочка. Мы с этим забывчивым дяденькой прогуляемся и скоро вернемся.
Яхта отплыла от берега, вошла в кружившийся над озером густой туман, потом во мглу веков. Вышла она из тьмы и такого же утреннего тумана, но в другом времени и на другом месте — в океане рядом с небольшим островом. На его берегу — пальма. Высокая, с заметно покривившимся стволом.
— Пальмира, — улыбнулся Старпом. — В молодости, говорят, была стройной красавицей. А сейчас сильно постарела, сгорбилась. Поблизости ни одного мыслящего деревца. Одна-одинешенька. Да вот и сама. Стеснительная стала.
Из-за ствола показалась старушка, махнула рукой, подзывая к себе яхту, и скрылась. Яхта вошла в бухту и очутилась в тени под густой кроной пальмы. Гости сошли на берег.
— Вон там твои родители, — махнул рукой Старпом. — Отправляйся к ним один. Ты все забыл, но навыки управления яхтой остались.
Руди выкурил несколько сигарет, готовясь к волнующей встрече, потом отправился в указанном направлении. Дул слабый ветер, разгоняя утреннюю дымку. Показался знакомый Лазурный берег с тростниковым бунгало. На песчаном пляже Руди увидел маму, сестренку, ошеломленного папу и… самого себя.
— Руди! Сыночек! — закричала мама и кинулась к Я яхте…
Последовала сцена, уже не раз повторявшаяся и каждый раз забываемая Руди.
Вернувшись на остров, Руди упал на песок и зарыдал.
— Ну-ну, художник, — с сочувствующей и чуть насмешливой улыбкой сказал Старпом. — Стыдно. Что подумает Верочка, увидев у дяди детские слезы?
Слезы на щеках у Руди высохли, когда яхта вернулась на озеро. Девочка встретила их с букетом цветов.
— Приходи к нам почаще, художник, — сказал Старпом. — Но не смей приставать с этими просьбами. Надоело. Хватит душераздирающих встреч. Разорви петлю времени. Только ты сможешь сделать это.
«Но как сделать? — размышлял Руди, вернувшись домой. — Уйти в далекие времена и поговорить с тем призраком, который первым спустился с небес на планету? Неужели призрак тот — я? Мое прошлое? Как это понять? Как совместить с представлениями о мире, которые усвоил с детства от родителей? Вам-то было хорошо, мама и папа. Мир для вас был прост и поня тен, а я брошен в бездну тайн и загадок».
Незаметно подкралась осень. Хмурая, непогожая. Руди не раз приходил советоваться с дедом, но видел лишь гнущиеся под ветром ветви. С них слетали ржа-вые листья и падали в лужи, то зеркально светившиеся под тусклым солнцем, то вскипающие от хлестких дождевых струй. И только раз показался дед в каком-то рваном тулупчике. Глядя в слезливое небо и зябко поеживаясь, он сказал:
— Ухожу в зимнюю спячку, Руди. Грустно.
Руди остался один. Даже Мистер Грей уединялся. Он хворал: биологические детали старели, а попытки заменить их механическими кончались неудачно.
ВСТРЕЧА В ОЛИГОЦЕНЕ
Приближалась зима. Тоска гнала Руди из опустевших кают под хмурое небо. Он бродил в лесу среди голых, как скелеты, деревьев, выходил в луга, где в мертвых травах шуршала поземка. Быстро темнело. Над головой висел косматый свинец облаков. В их размывах и промоинах снежно белела дуга — пыльные остатки Луны, выступали крупные холодные звезды.
Отчаяние охватило юношу. «Зачем мне выпала такая тяжкая, такая окаянная жизнь? Зачем вообще жизнь? Откуда и зачем сознание, мысль? Кто знает? Кто скажет?» Руди вглядывался в черный омут неба с дрожащими льдинками звезд, вслушивался в свинцовое молчание вечности, и мир представился вдруг в виде хаоса, беспорядочного, ужасающего и полного невыразимых тайн потока, лишенного направления, смысла и цели.
«А не уйти ли от вселенской бессмыслицы совсем? Не уйти ли из постылой жизни? Не покончить ли с собой?» Эта нечаянно свалившаяся трусливая мыслишка так испугала юношу, что он заметался, бегая по лугам, и начал колотить себя по голове. «Негодяй! Трусливый подонок и дурак! Глупее нет ничего. Я обязан поступать не так, как хочу, а так, как должен. Долг! Мой святой долг! Перед кем? Перед родителями или… человечеством? А разве родители и человечество не одно и то же?»
Эта неожиданная мысль так почему-то поразила юношу, что он остановился и увидел, что случайно заскочил в тополиную рощу. А если это не случайно? Вот бы сейчас уйти в прошлое и все сделать, перевернуть историю, спасти человечество. Ну, если не сейчас, то как можно скорее. Завтра, послезавтра. А получится ли без помощи деда? Не попробовать ли?
Ничего не получилось бы у Руди, если бы не причуда природы. Не успела зима разгуляться, как нежданно-негаданно, словно позабыв что-то, вернулась осень и подарила лесам и лугам немало чудесных теплых дней. Какое-то невиданное бабье лето. Стаяли снежинки на ветвях, подсохли луга.
Однажды утром Руди помогал Мистеру Грею готовить завтрак. Мистер Грей выздоравливал, но кое-какие детальки у него все еше барахлили, и чувствовал он себя неважно. Но крепился и всячески старался приободрить, развеселить своего, как ему показалось, приунывшего шефа и друга.
— Утро-то какое! — восхищался он. — Не пойму, Руди, весна сейчас или лето? Да подними же голову, наконец! Посмотри!
Руди осмотрелся и ахнул: весна! И в самом деле весна! Кое-где проклюнулась свежая травка, какой-то взбалмошный жаворонок ликующе заливался в чистом, по-июньски синем небе. Душа у юноши наливалась радостью и восторгом, невольно приходили мысли о красоте и величии природы, приходила и та… да, приходила, возвращалась та самая «минутка-вестница», тот вещий миг-откровение, когда деду и Руди однажды приоткрылось безграничие Мироздания, его великая тайна, чуть ли не Бог…
Руди еще раз огляделся: как тут не прийти той «минутке-вестнице», когда рощи, перелески, степные дали словно утопали и неясно забылись в теплой сизо-золотистой дымке, а за ней чудилось что-то зовущее и бесконечное. Не Бог, но что-то близкое и родное. «Там же дед!» — вспомнил Руди, и ноги сами собой понесли его в тополиную рощу.
— К своему деду топаешь? — съехидничал Мистер Грей. — Бесполезно. Дрыхнет он сейчас.
Тополя в роще действительно спали. Руди сел на корни старика тополя, закрыл глаза и ощутил, что роща под греющими лучами встающего солнца медленно пробуждалась, в деревьях оживали… биотоки! Оживали они и у старого тополя. Нащупав постороннее биополе, они «узнали» Руди, его «Я» и приступили к привычной работе. Волнуясь и затаив дыхание, Руди почувствовал, как его «Я» медленнее, чем обычно, но все же приобретало иное состояние и переселилось в другое тело, пригодное для жизни во времени.
Руди чуть не вскрикнул. «Дед и не знает! Он спит! Я могу без него, без Дубака и потешных старух уйти в меловой период и все сделать! Прямо сейчас! Без соблазнительницы Маги не обойтись, — вспомнил он и твердо решил: — Буду с ней строг».
Руди встал и шагнул во мглу тысячелетий. Вот и жутковатая веха на пути — багровая вспышка и протяжный гул ядерной войны. Еще немного, всего несколько миллионов лет, — и где-то здесь местечко, где однажды с дедом они пытались передохнуть, но им помешали. Руди вышел в пространство и впрямь очутился на знакомой солнечной поляне. Поблизости опушка леса и те самые «милые обезьянки», с которыми дед в тот раз крупно повздорил. Как и тогда, обезьяны висели на ветвях и с чмоканьем жевали плоды. Увидев незнакомое двуногое существо, завизжали, и Руди поспешил уйти.
Но что это? Шаги во времени становились все более тугими и вязкими, как в болоте с кустарником. Руди с усилием продирался через чащобы тысячелетий и начал выдыхаться. Нет, не сам он, а его биополе начало обессиливать, таять. Еще немного — и оно рассеется совсем, и Руди, его «Я» перелетит в свое настоящее тело, в тот самый бездыханный чурбан, сидящий на корнях старого тополя. Он просто вернется домой. Руди вспомнил дедовы уроки и понял, в чем дело: он получил столь малую дозу энергии, что ее не хватит на дальнее путешествие. Может быть, до Толика с Верой добраться? У них он мог бы «дозаправиться», запастись биоэнергией — этого у ребятишек хоть отбавляй. Резвые они, веселые и шумные, энергия так и плещет через край.
Руди рискнул, вышел в пространство и сразу понял, что до Толика он не дошел. Нет ни каменистого холма с молодым стройным тополем, ни озера вдали, где растет вербочка. Он в густом кустарнике с тучей звенящих москитов. Отмахиваясь от них, Руди осторожно выглянул. В ночной степи, ярко освещенной луной, проскакали, стуча копытами, животные, и Руди узнал в них предков лошадей. Что здесь? Доледниковый период? Олигоцен? Желая сориентироваться, он вышел из кустарника и наткнулся на двух дерущихся кабанов. Эти великаны с клыкастыми, длиной в целый метр, мордами что-то не поделили. Соседство не очень приятное. Руди отскочил в сторону и очутился рядом с каменистой стеной. Гора? Не без труда, цепляясь за выемки и карнизы, Руди взобрался наверх. Оказывается, это горное плато с двумя зазубренными скалами. Внизу в пепельном свете луны раскинулась лесостепь. Слышались звоны и трели сумеречных насекомых, приглушенные далью рыки хищников, хохот гиен — обычная симфония олигоценовой ночи.
Наверху он в безопасности. Но делать здесь, в олигоцене, нечего, и Руди хотел вернуться домой, как вдруг У подножия дальней скалы заметил пляшущий огонек. Костер? Первобытные люди? Но они появятся лишь через миллионы лет. Кто же там?
Озадаченный и заинтригованный, Руди осторожно приблизился и увидел человека — какого-то странного оборванца — за весьма странным занятием: горящей веткой тот подпаливал у себя изрядно отросшие усы. Потом принялся таким же манером укорачивать бороду. При этом человек чертыхался и ругал себя:
— Какой же я болван. Ни ножниц, ни бритвы не захватил. Ах, какой болван.
Руди чуть не ахнул от изумления: человек говорил на родном языке папы и мамы! Желая привлечь к себе внимание, Руди кашлянул. Оборванец отбросил ветку и посмотрел на Руди. Странно, он ничуть не испугался. Напротив.
— Наконец-то! — обрадовался он. — Еще один бедолага попал в ловушку. Теперь я не один. Подойди, дай хоть погляжу на тебя. Да ты молодой еще, но бриться уже начал. Слушай, парень, нет ли у тебя бритвы?
— С собой нет, — удивленно пробормотал Руди. — Но я схожу домой и принесу.
— Не дури, парень, — рассмеялся человек и погрозил пальцем. — Не разыгрывай. Нет здесь у тебя никакого дома. Бездомные мы с тобой. Давай для начала познакомимся. Профессор биофизики Олег Коряков. А тебя как?
— Руди Свенсон.
— Уж не родственник ли профессора Свена Свенсона?
— Это мой папа, — все более изумляясь, сказал Руди.
— Не дури, парень. — Профессор снова погрозил пальцем. — Нет у Свена сына, а была дочь.
— Катя? Это моя сестра.
— Точно! Катей ее звать! — воскликнул профессор. — Откуда ты знаешь?
— Я родился потом, уже здесь.
— Ну и ну. Ничего не пойму. Вот что, парень, присаживайся и расскажи о себе.
Руди присел на камень и как следует рассмотрел профессора. Это был человек лет шестидесяти, но с удивительно молодыми, весело блестящими глазами. Они с жадным любопытством рассматривали Руди и словно поторапливали: «Ну, ну! Выкладывай!»
Руди собрался с мыслями и рассказал о побеге родителей, о том, как их звездолет, нечаянно попав в какую-то дыру времени, снова очутился на той же планете, но уже в будущем.
— Супервремя! — воскликнул ученый и, вскочив, заметался, бегая вокруг костра. — Так и есть! Через супервремя, через его местную ловушку, я и провалился сюда. Моя догадка подтвердилась. Ай да я! Молодец! Пространство вокруг планеты получило такую встряску, что перескочило в супервремя.
— Но почему? Отчего перескочило? — заулыбался Руди. Очень уж радостно стало ему с таким неунывающим, живым и подвижным, как ртуть, профессором.
— Да потому, что сама планета получила встряску. Ее тряхнуло так, что все поля переменили заряд. Даже северный и южный полюса поменялись местами. И знаешь отчего?
— Атомная война!
— Ай да парень! Сообразил! Впрочем, что тут удивительного. У Свена Свенсона не могло быть плохого сына.
— Откуда вы знаете моего отца? И как попали сюда? Да присядьте же, профессор, расскажите.
— Нет, парень. Рассказывай сначала ты. Пришлось Руди поведать нетерпеливому профессору о мыслящих деревьях, о своей жизни во времени.
— Вот так чудеса, — бормотал ученый, но, кажется, всему поверил.
— А теперь, профессор, я послушаю вас.
Профессор подбросил в костер сухих веток, присел и поведал свою историю. Был он, оказывается, вместе с отцом Руди в одном концлагере. Дерзкий побег Свена Свенсона вызвал у стражников и начальства невиданный переполох. Биофизику и еще некоторым ученым в той суматохе удалось бежать. Что стало с его товарищами, он не знает. Может быть, их поймали. Но сам биофизик затерялся в непроходимых дебрях суровой тайги. Наткнулся на кем-то оставленную охотничью избушку со всем необходимым. Года два, живя в одиночестве, промышлял охотой. И однажды ночью небо осветилось незатухающим багровым заревом, потом с далекого юга докатился гул. То лишь цветочки всепланетной ядерной бойни, сообразил ученый-охотник и, прихватив побольше патронов, бежал подальше на север. Но водородные бомбы, целые их серии и пачки, настигали его и здесь. Вместе с тайгой охотник превратился бы в радиоактивный пепел, но раньше подоспели микровихри и локальные дыры супервремени. В одну такую ловушку попал охотник и ухнул вниз, в далекое прошлое.
— Вот так я очутился здесь, — невесело усмехнулся профессор. — Промышляю охотой уже не в морозной тайге, а в тепленьком олигоцене. Все бы ничего, лучше, чем в концлагере. Да тоскливо одному. Вот и обрадовался, увидев тебя. Вот, думаю, еше один бедняга попал в ловушку. Оказывается, другое: твой дом — корабль в далеком будущем, и ты ходишь туда-сюда пешочком по тропинкам времени. И прихватить меня с собой, как понимаю, не можешь.
— Не могу, — с жалостью сказал Руди. — Вещи могу принести, но перемещать человека, его биополе — нет. Трудно вам здесь и опасно. Кругом хищные звери.
— Да, саблезубых тигров здесь до черта. Но устроился я не так уж плохо. В этой скале небольшая пещера. Это мой дом, и подняться сюда звери не могут. Это ведь не степь, а горное плато. Видишь?
В небе гасли звезды, таяла луна. В предрассветных сумерках недалеко от скаты угадывался еще один обрыв.
— С этой кручи вы и спускаетесь на охоту?
— С охотой стало туго, осталось три патрона. Да и двустволка старая.
— Я принесу! У меня все есть! — заторопился Руди. — Не пройдет и минуты, как буду здесь.
Руди нырнул во мглу веков и шел домой с максимально допустимой скоростью. Бежать нельзя, но что ни шаг — то десятки и сотни тысячелетий. И вот он уже сидит на дедовых корнях в сизо-золотистом тумане, тающем под горячими лучами встающего солнца. «И у меня тоже
климат олигоцена», — подумал Руди и помчался к кораблю. У пылающего костра суетился, к удивлению Руди, совсем оживший Мистер Грей.
— Ура, Руди! Я выздоровел! — кричал он. — Но куда ты? А завтракать?
— Некогда! Потом! — весело откликнулся Руди.
На лифте он поднялся наверх, в саду и кают-компании нашел все, что нужно. Руди засунул в объёмистый рюкзак кое-что из одежды, мыло, ножницы, бритву и кучу патронов. С двустволкой в руках и рюкзаком за плечами спустился вниз.
— На охоту идем! — ликовал Мистер Грей. — Позавтракаем и пойдем на охоту. Ура!
— Я с дедом иду. Хочешь с нами?
— С дедом? — Мистер Грей испуганно замахал руками. — Нет, нет! Ну его к черту. Он сам черт.
Руди рассмеялся и побежал к тополю. На сей раз ждать перехода из «пространственного» тела в тело «временное» пришлось довольно долго: биоэнергетика старика тополя слабела. «Неужто к перемене погоды?» — с тревогой подумал Руди. Но все обошлось — он благополучно зашагал в прошлое. Из времени в пространство Руди вышел в точно рассчитанном месте, но с временем чуточку промахнулся: над горным плато уже сияло жаркое солнце олигоцена. Но костер еще горел, из его углей и золы профессор веткой вытаскивал какие-то клубни.
— Наконец-то! Заждался я! — воскликнул он. — Садись завтракать. Вот печеная картошка, или что-то вроде нее. Вкусно!
Руди молча развязал рюкзак и выложил содержимое, которое привело профессора в неописуемый восторг.
— Двустволка! И одежду прихватил? Молодец! Обносился здесь. Сейчас сброшу тряпье, переоденусь.
— Сначала выслушайте.
Но профессор, натянув новые охотничьи сапоги, бегал вокруг костра, счастливо похлопывал по голенищам и хохотал. «Какой живчик», — усмехнулся Руди и, нахмурив брови, повысил голос:
— Сядьте, профессор! Выслушайте!
— Ого! Какой властный тон! — Профессор замер и с одобрительным удивлением уставился на Руди. — Да ты крепкий парень, весь в отца. С таким не пропадешь. Жаль, что уйдешь, и останусь я один. Умру здесь, а потом, через миллионы лет, ученые-палеонтологи откопают в слоях олигоцена человеческие кости. Как они будут ошарашены!
— В том-то и дело, что не дам вам умереть здесь. Я вас верну в прежнюю жизнь.
— Опять в концлагерь? Не шути, парень.
— Извините, профессор, за обмолвку. Со мной такое бывает, — сказал Руди. — Присядем, и вы услышите от меня более ошеломляющее, чем скелет человека в олигоцене.
Руди начал рассказывать о возможности вернуть планету на прежний путь развития, но живчик-профессор и соображал так же живо и быстро.
— Я все понял! — воскликнул он и вскочил на ноги. — На прежний путь развития, говоришь? Ай да я! Я же сам подозревал, что у нас дурная и кем-то изуродованная история. К такому же выводу пришел и твой отец? Ай да молодец! Но ты сейчас один. Справишься?
— Справлюсь. Вы и знать не будете, что была дурная история. Вместо концлагеря и вот этой пещеры будет у вас, профессор, прежний рабочий кабинет, полки с книгами…
— Книги, — вздохнул профессор. — Как я истосковался по ним. Ах, парень, приволок бы ты мне хоть один романчик!
— Какой я дурак! — Руди вскочил на ноги. — Не догадался! Я сейчас! Еще есть возможность!
Руди вернулся домой. В тополиной роще все то же встающее солнце, все та же теплынь — возможность еще была. Но пока Руди выбирал и упаковывал книги, прошло часа три, и погода начала меняться, что почувствовали деревья. Их пробудившиеся биополя начали слабеть, съеживаться и наконец ушли в себя.
Руди примчался к старому тополю, сел на его корни, но, увы, не ощутил живительных биолучей. Он взглянул на солнце, появившееся уже довольно высоко, на темную тучу, выплывавшую из-за горизонта, и зябко поежился — подул холодный ветер.
Пришлось ему коротать зиму вместе с Мистером Греем, которому опять стало плохо с туго работающими новыми органами-деталями. Да и Руди несколько приуныл — откладывалось его дело. Однако прежнего отчаяния, тяжких мыслей и сумрачных видений вселенского хаоса уже не было. Недавняя солнечно-золотистая осень не забывалась, и та, еще раз посетившая странная «минутка-вестница», как светлый лучик, не угасала в душе. Да и нечаянная встреча в олигоцене повлияла — у Руди росла решимость выручить профессора, спасти человечество.
Если временами и наползали надушу хмурые тучки, то месяца через два, с уходом зимы, все изменилось. Растаял скопившийся в ложбинках снег, зазеленели травы, наливаясь весенними соками. Прогрохотали животворящие ливневые грозы и будто смыли в душе у Руди все темное, очистили от сомнений и колебаний. Даже Мистер Грей повеселел: механические детали прижились в его организме. А когда все кругом зацвело и заблагоухало, Руди с утра до вечера бродил по лугам и чувствовал себя удивительно юным и свежим, как ветер полей.
С таким настроением он и пришел однажды росистым и лучистым утром в тополиную рощу.
— Эй, Мефистофель! — весело крикнул Руди. — Чую, ты где-то здесь. Явись!
Услышав за спиной шорох кустарника, Руди обернулся и увидел деда. Он счастливо потирал руки, блаженно щурился и с благодарностью посматривал на свой древесный образ: тополь шелестел, искрился молодыми листьями и хватал ими, пил ранние розовые лучи.
— Пьешь чаек? — улыбнулся Руди. — Ну и жизнелюб ты, дедушка. Завидно.
— А ты сейчас разве не такой же? Ты, я вижу, за зиму здорово изменился. Или осенью, когда я спал? С чего бы это?
— С чего? А если признаюсь, бить не будешь? Руди рассказал о чудно-золотистом бабьем лете, о неземной «минутке-вестнице», о знакомстве в олигоцене с профессором биофизики.
— Ходил в прошлое без меня? Без моих друзей? — Дед погрозил пальцем. — Бить бы надо, но я прощаю. А с «минуткой-вестницей» просто завидую. Ах, минут ка, минутка. Озарила что-то великое и погасла… Милая, где ты? Завидую и твоему знакомству с профессором. Ведь и я когда-то был им.
Дед подмигнул и расшалился, как дитя. Ему взбрела в голову блажь подражать университетскому профессору. Он встал в позу, какую принимают лекторы на кафедре, важно прокашлялся и заговорил поучительным тоном. Но на первом же трудном слове споткнулся.
— Одно из глубочайших заблуждений тропо… нет, антросо… трософизма… Тьфу, какое корявое, окаянное слово.
— Антропоморфизма, — рассмеялся Руди. — Проще говори, дедушка, по-своему.
— М-да, — крякнул дед. — Профессор из меня не получился. А ведь когда-то был им. Все забыл. Я хотел сказать, что одно из заблуждений человека в том, что свой мыслящий дух он считает единственным и неповторимым достижением природы. А с какими формами мысли ты столкнулся на одной только нашей планете!
— С тобой, дедушка. Живешь во времени и видишь мир по-своему. Потом непонятная жизнь Старпома, его перевоплощения. А еще эти… призраки.
— И один из них — ты сам в своем нетелесном виде. Встретиться тебе надо с ним и поговорить. Не трусишь?
— И не думаю.
ПРИЗРАКИ
Руди все же побаивался призраков и со дня на день откладывал мистическую встречу, придумывая разные предлоги. Сначала он погостил у ребятишек. Жили Толик и Вера дружно. Потом он пошел к Старпому, желая будто бы обговорить с ним кое-какие детали. Но тот все понял и, презрительно усмехнувшись, погрозил кулаком.
— Вон отсюда! — рявкнул Старпом. — Марш к самому себе, к призраку, и поговори с этим негодяем.
Собравшись с духом, отправился Руди знакомыми дорогами миллионолетий. Дед остался у Толика на его высоком каменистом холме. Оттуда ему удобнее следить за передвижениями Руди и в случае чего прийти на помощь. Но Руди уже накопил немалый опыт самостоятельных хождений. Один только олигоцен чего стоит. Без труда он нашел в миллионолетиях рокочущий, как океан, лес из тысячелетних секвой. К несчастью, старушка умерла на его глазах. Ее трухлявый ствол пошатнулся, затрещал и шумно упал на землю. Пришлось идти в дубовую рощу.
— Не очень-то дружил с ехидной старухой, — сказал Дубак, когда узнал от Руди о смерти соседки, — а все-таки жаль. Скучно без нее. И поругаться не с кем. А ты, конечно, не ко мне, — осклабился он. — Желаешь припасть к прекрасным ножкам? Валяй, холоп. Дорогу туда знаешь и без меня.
Мага встретила Руди с заплаканными глазами.
— Знаю уже. Нет милой старушки, — сказала она и вдруг улыбнулась сквозь слезы. — Ну и что? Развернется ее душа в какой-нибудь молоденькой сосенке или березке. Мы найдем ее. Хочешь, поищем? Идем.
«Отпускать меня не хочет», — подумал Руди. Но была она так трогательно-прекрасна в своей печали, что Руди не мог устоять. И очутился он высоко в горах, в прекрасной долине, защищенной неприступными скалами. Не слышно здесь ни рыканья динозавров, ни пронзительного скрежета птеродактилей. Одни лишь пчелы гудели в цветущих травах.
— Нет ее, — вздохнула Мага. — Здесь только кусты да травы. Поищем в другом месте.
— Не хитри, Мага. Ее, наверное, вообще нет на этой планете. Нашла она пристанище в другом мире.
— Догадался, что я заманиваю тебя, — опустив голову, с грустью сказала она. — Знаю, сделаешь свое дело, и расстанемся мы навсегда.
— А хорошо здесь, — вздохнул Руди. — Тихо, не жарко, прекрасный горный воздух.
— Нравится? — оживилась Мага. — Знаю места и получше. Ты только представь: синий океан, коралловый атолл с голубой лагуной и кругом пальмы. Одна из них моя подружка. Поживем у нее в тростниковой хижине. Пальма будет ухаживать за нами, приносить бананы, цветы. Потом уйдем в другие времена и страны, и будет у нас вечная радость.
«А не уйти ли с ней в бесконечные просторы миллионолетий, затеряться в них навсегда? Погрузиться в сладкий сон, в иллюзию вечного счастья», — подумал Руди и с грустной усмешкой сказал:
— Нет, Мага. Счастье не для меня. Не за ним я пришел. Ну-ну, не плачь.
— А если я от счастья плачу? Я рада, что люблю такого непреклонного, мужественного и прекрасного принца.
Руди посмотрел на Магу и понял: согласись он на тихую бесцельную жизнь, она разочаровалась бы в нем.
— Я хочу быть достойной подругой принца, — с грустной улыбкой сказала она. — Пока ты зимовал у себя дома, я разведала новые удобные тропинки к тому времени и месту, где возник самый первый небесный гость. Вот он тебе и нужен. Сначала сходим в ближние к нам времена. Еще раз посмотрим страшный ураган, но уже из другой точки. Очень важный ураган. То ли Ураган, то ли какой-то призрак еще раздумывает: стать ему ураганом или нет? Понимаю, это главный миг. Поймать тебе надо его на этом моменте и остановить.
— Все-то ты поняла, умница моя, — растроганны до слез, не удержался Руди, обнял ее и поцеловал, — Ну хватит. Идем.
Пришли они в этот раз к одинокой скале, высившейся над рошами и полями. Вдали клокотали черные тучи сверкали молнии. В их ярком свете видно было, как на далекой поляне в панике метались динозавры. Налетевший ураган смел их словно метлой. Вырванные с корнем деревья, многотонные туши тиранозавров, бронтозавров, всех мезозойских чудищ неслись мимо скалы как мусор. Скала находилась в стороне от эпицентра беснующейся бури, но и она дрожала. Дрожала и Мага, выглядывая из-за каменистого выступа. А Руди не мог оторвать взгляда от поразительного зрелища. В игриво ветвистых молниях, в грохоте-хохоте грома, в свистящем ветре было что-то живое и одушевленное. Ураган будто веселился, сокрушая все на своем пути. И утих он как-то внезапно, свернувшись в крохотную искру. «Это он! — понял Руди. — Тот самый призрак. Неужто я?» Я В чистом небе висел фонарь луны. В его сиянии искра мерцала, гасла и вновь возникала из тьмы. Но уже ближе к скале. Искра легко скакнула на скалу и приближалась, временами пропадая за выступами. Но вот она выплыла из-за выступа и погасла, развернувшись в призрачные контуры человека с мерцающими глазами. «Страшно», — поежился Руди.
Призрак с высоты обвел взглядом опустошенную им равнину и пробормотал:
— Крепко я поработал. Прекрасное зрелище, сказал бы Старпом.
— Любуется, — с возмущением прошептала Мага, взяла Руди за руку и во внезапно опустившейся полной тьме увела еще чуть глубже во времени, к тому мигу, когда дьявольский призрак впервые появится на планете.
Тьма веков рассеялась, стало чуть светлее. И Руди показалось, что он на прежнем месте, на одинокой крутой скале. Но нет, из-за тучки выплыла луна и озарила огромный горный массив. Мага подвела его к обрывистому краю. Глубоко внизу угадывалась ночная лесостепь с извилистой, тускло светившейся лентой реки.
— Отсюда он спрыгнет и загремит, — шепнула Мага. — Спрячемся вон за той скалой и подождем.
Ждать пришлось недолго. Призрак возник внезапно и мерцающим туманом подошел к обрыву. «Вот оно, начало! — догадался Руди. — Начало не только урагана, но и всей чертовщины».
Призрак раскинул руки, словно крылья, и собрался броситься вниз, полететь ураганом. Тем самым одушевленным, по-разбойничьи лихо свистящим ураганом, который, замкнув кольцо времени, повторялся, видимо, уже несчетное множество раз.
— Стой, мерзавец! — крикнул Руди и выскочил из-за скалы.
Призрак, отступив назад, заколыхался.
— Человек! — послышался его удивленный возглас. — Живой человек! Здесь? В мезозое? Не может быть!
— У этого дьявола все может быть! — воскликнул Руди, ткнув пальцем в звездное небо.
— Неужто Старпом? — растерянно пробормотал призрак. — Да нет, не похож.
— Ну что, художник, не узнаешь? — продолжал Руди разыгрывать ту же роль и повелительным жестом Старпома показал на камень. — Садись, негодяй. Поговорим.
Изумленное привидение послушно уселось спиной к скале. Оттуда выглядывала Мага и жестами одобряла Руди. «Молодцом держится. Да и я, кажется, не пасую», — подумал Руди и продолжал ошеломлять собеседника такими подробностями из его прежних жиз, ней, что тот воскликнул:
— Кто ты такой, в конце концов? Вижу, что це Старпом. Но кто?
— Я — это ты в будущем, твоя бессмертная метафизическая сущность…
— Получившая в будущем смертное физическое тело? Невероятно! Ведь физического будущего еще нет — В том-то и дело, что уже есть. И оно вертится без конца по твоей вине. — Руди рассказал все, что знал о петле времени. Собеседник оказался сметливым и все понял сразу.
— Вот так дела! Неужели это жаба вычислила и уготовила мне такую судьбу? Если я сейчас полечу ураганом, то как бы замкну кольцо времени, и начнется вечное повторение одних и тех же событий. После урагана я буду играть на свирели, затем увижу Старпома в образе… Как ты говоришь? В образе тиранозавра? Любопытно. — Призрак хохотнул. — Потом, говоришь, он станет деревом? И ты знаешь, где растет этот мыслящий чурбан? Вот что, отведи меня к нему. Втроем и поговорим.
— Дорожки во времени довольно запутанные. Настоящие джунгли, — сказал Руди. — Нас отведет в свое время мыслящая магнолия. Мага, ты не боишься? Сейчас ты увидишь ее в человеческом виде.
Из-за скалы вышла Мага. Восхищенный призрак вскочил на ноги.
— Какая красавица! — воскликнул он и рассмеялся. — Вон оно что! Твоя метафизическая возлюбленная? Каких только чудес не бывает на свете.
Многоступенчатые переходы состоялись без особых затруднений. Была, правда, небольшая заминка с Дубаком. Пришли они к нему солнечным днем, когда призрак находился в состоянии полной невидимости. Услышав его голос из пустоты, Дубак отскочил в сторону и завопил:
— Чур меня! Чур!
— Стыдно, ваше сиятельство, — упрекнул его Руди. — Вы усвоили привычки глупого простонародья, его дикие суеверия.
— Не учи, холоп, — высокомерно вскинул голову Дубак. — Почудилось что-то. Чего желаешь?
— Хотелось бы повидать, ваше сиятельство, одного знакомого. Растет он ясенем в далеком будущем, а дорожку к нему хорошо протоптала старушка. Та, что живет на болоте.
— Вот уж дура так дура, — расхохотался Дубак, довольный тем, что есть деревья глупее его. — Давно не видал ее. Идем.
Дубак и Руди вместе с невидимым спутником пришли в болото, где в свое время побывал дед. Тогда он еле выбрался из топи. Но Руди и Дубаку повезло: явились они в засушливую пору, и можно было без опаски ходить по острову, на котором росла трухлявая ольха с бессильно свисающими ветвями. Под стать ей была и старуха — морщинистая, с кривым носом, согбенная и опирающаяся при ходьбе на клюку. Настоящая ведьма. К счастью, была она не только глуповата, но и глуховата, и голос невидимки, которому не терпелось что-то спросить, не испугал ее.
— Ветер, батюшка, — жаловалась она. — Это ветер гуляет по болоту. Спать не дает. Так и гудёт, проклятый, гудёт.
Но Дубака слова, несущиеся из пустоты, привели в Ужас, и он мгновенно исчез, юркнул в свое время и на свое место. Пришлось без него договариваться.
— Слышал, что ты знаешь дорожку в будущее, к своему соседу, к Старпому, — сказал Руди.
— Ась? — спросила старуха. — Не поняла, батюшка.
Стараясь говорить погромче, Руди описал внешность Старпома.
— Поняла, батюшка, — заулыбалась старуха. — Какой видный мужчина! На солнышке так и блестят… забыла мудреное слово… Аксельбанты! А еще погоны Нравится он мне. Ой как нравится.
«Старпом пользуется у старух огромным успехом», — с усмешкой подумал Руди.
Пришли они к Старпому вечером, когда распухшее красное солнце купалось в закатных тучках и в озерной глади. Розовея парусами, скользила яхта.
— Катается, милый, — улыбалась старуха. — Гуляет, красавец. Дай хоть полюбуюсь…
— Аксельбантами? Потом, бабушка. Иди-ка ты лучше домой.
Яхта вошла в бухту, когда совсем стемнело. Заискрились звезды, и замерцали еле видимые контуры призрака. Старпом спустил паруса и закурил. При затяжках сигарета разгоралась и освещала его лицо, грудь с аксельбантами и погоны на плечах.
— Да, это он, пижон, — с незримой, но хорошо угат: дываемой усмешкой прошептал призрак.
Старпом выскочил на берег и, увидев Руди, удивился.
— Ты зачем здесь? Поздно уже, спать пора. А это что за привидение? — Сообразив, в чем дело, он учтиво раскланялся и начал рассыпаться в слащавых любезностях: — Какое счастье! Ко мне пожаловали сразу два художника. И прошлый, и будущий. Боже мой, какая радость! Как я истосковался! Да присаживайтесь же, милые, присаживайтесь.
— Не ломай комедию, — буркнуло привидение.
И в дальнейшем оно разговаривало со Старпомом сердитым голосом, часто раздражалось. Отношения их в прошлом, понял Руди, были весьма натянутыми. Понемногу привидение оттаяло и вместе со Старпомом с большой теплотой вспоминало о капитане, боцмане, юнге. Потом они дружно обрушились с проклятиями на общего врага, на какую-то мыслящую жабу.
— Но хватит об этом, — сказал Старпом и кивнул в сторону Руди. — Видишь? Твоя вещественная ипостась ничего не понимает. Давай о деле.
О деле они договорились быстро. «Толковые мужики», — усмехнулся Руди.
— Итак, Сатана… Ну-ну, не обижайся, — примирительно улыбнулся Старпом. — Итак, художник, ты больше не станешь терзать планету ураганом. И не вздумай потешить свою душу каким-нибудь грандиозным землетрясением. Может быть, и это предвидела и рассчитала мерзкая жаба. Ты просто тихо и мирно удалишься с планеты. Иначе она станет кошмаром. А со мной что будет! Вот послушай.
Старпом с горечью поведал о своих дальнейших превращениях, о зверствах, какие творил он в облике «мирового вождя». Призрак колыхнулся дымным туманом, встал на ноги и заговорил дрожащим от гнева голосом:
— Ну и негодяй же ты. Палач! Подонок!
— Не я это был, а мерзкий Дальвери!.. — закричал Старпом и тоже вскочил на ноги. Потом он снова уселся и, поникнув головой, уныло признался: — Нет, все же то был я. И буду еще раз! И еще! Освободи меня от этого ужаса, вырви из петли. О многом я передумал, будучи благородным ясенем, и поверь: стал я совсем иным.
— Странно… — Призрак уселся и, подумав, сказал: — Странно, я почему-то вдруг поверил, что ты изменился к лучшему. Меня одно смущает и беспокоит. Если я разорву петлю времени, то вся история Планеты станет другой. Но тогда не будет и моего нынешнего будущего, вот этого молодца. — Привидение показало на Руди. — А жаль.
— Мне он тоже нравится, — улыбнулся Старпом. О нем я тоже много думал и пришел к выводу, что он исчезнет лишь в вещественном, лишь в этом физическом мире. Но в метафизическом, в бессмертном, он останется навсегда. И вот эта твоя чудесная метаморфоза, вот этот Руди не совсем пропадет и скажется в дальнейшем на твоей личности.
— Да, это было бы хорошо.
Помолчали. Потом привидение и Старпом вновь заспорили о непонятных для Руди вещах, даже чуть не разругались, но расстались мирно. Расстались уже утром. Вернулся в свое время и Руди.
— Ну как? — спросил дед, сидевший на своем неизменном месте под тополем.
— Как будто порядок. — Руди вкратце рассказал обо всем и попросил: — А сейчас отпусти, дедушка. Подробности потом. Устал я страшно, да и Мистер Грей заждался.
Около корабля догорал костер, на столе бутерброды, остывший чай, а в кресле понуро сидел Мистер Грей. Новые детали в его организме работали, видимо, не так уж гладко.
— Сегодня фруктов не достал, — смущенно улыбнулся он, извиняясь за свою немощь.
«Помрет скоро», — с тоской подумал Руди.
— И не надо, дружище. Отдыхай. А сейчас извини, устал я зверски. Спать хочу.
В каюте Руди наспех разделся и повалился на кровать. «А если во сне и произойдет? Я исчезну и ничего не узнаю», — испугался он и привстал, но тут же упал и провалился в сон. Проснулся он вечером, подскочил к иллюминатору и увидел, что ничего не изменилось. Это испугало его еще больше. «А что, если все останется как прежде? А что, если призрак передумал? Вот негодяй!»
Руди поспешил к тополю. Дед ждал его. Руди поделился своими страхами.
— А ты думал, что все случится в один миг, как в сказке? Эх, люди, несмышленыши вы. Время не так просто сокрушить. Уж я-то знаю. Я сам время.
— Считаешь, что изменения будут продвигаться по планете медленно? Поэтапно?
— Поэтапно? — усмехнулся дед. — Экие вы, люди. Все хотите пронумеровать и разложить по полочкам. Можешь считать изменения поэтапными, если тебе так удобно.
— Я сейчас же пойду туда и проверю.
— Не торопись. Утро вечера мудренее. Завтра спозаранку и потопаем вместе. Хочу повидать ребятишек. А сейчас чайку попьем, поговорим.
Добродушно-ворчливый голос деда, его уютный костерок сняли с Руди душевное напряжение. Он охотно выпил чаю и расстался с дедом, когда вся живность в полях затихла. Одни лишь перепела скакали и звенели, взрывая ночную тишину:
— Спать пора! Спать пора!
Спать Руди не хотелось. В лаборатории он застал повеселевшего Мистера Грея.
— Подлечился я. Мы еще поживем! Мы еще поборемся! — храбрился Мистер Грей.
Руди присел перед машиной времени и включил экран, нацеленный на тот миг истории, когда зверствовал какой-то Крысоед — преемник Старпома. Прокручивался один и тот же эпизод: суета вокруг космического корабля, крики надзирателей. Вот шествует молодой Мистер Грей, за ним ведут под конвоем папу и маму, готовых к побегу. «Родные мои! Скоро вам не надо будет удирать отсюда. Ветер изменений долетит до вас, сметет колючую проволоку, пулеметные вышки и всю нечисть — надзирателей, кровавых вождей. Вы останетесь, не подозревая, что жили в концлагере в каком-то исчезнувшем времени. Будете счастливы, будут у вас другие дети. Но меня-то уже не будет никогда. Странно все это и страшно».
— О чем задумался? — ворчливым тоном заботливой няньки спросил Мистер Грей и выключил экран. — Хватит мучить себя страшными картинками. Идем спать.
— Хороший ты мой. — Руди с грустной нежностью погладил Мистера Грея по плечу. — Один ты у меня остался. Покоряюсь. Иду спать.
Проснулся он до рассвета и с первыми лучами солнца был уже под тополем.
— Хе! Хе! Хе! — посмеивался дед, выступая из тумана. — Торопыга! Так уж и быть. Идем.
Пришли они к Толику в то время, когда у него гостила Вера. Сиротка радостно взвизгнула и кинулась в объятия деда.
— Ты почему плачешь? — спросила она.
— От радости, — ответил дед, вытирая слезы.
Дед лукавил. Он понимал, что видит ребятишек, быть может, в последний раз.
— Дедушка посидит с Толиком, а мы с тобой, Вера, сходим к Старпому, — предложил Руди и подумал: «Если там все без изменений, то каким мы увидим Старпома? Хмурым?»
Какое там хмурым! Старпома они застали в страшной ярости. Гремели проклятия, летели во все стороны щепки: Старпом кромсал топором свою любимую яхту.
— Мерзавец! — подскочил он к Руди. — Зарублю! Видишь? Все по-прежнему. Мы с тобой живы, подонок!
— А я тут при чем? — отступая и уклоняясь от топора, сказал Руди. — Спрашивай со своего привидения.
— Привидение — это ты, подонок!
— Перестань! Выслушай меня!
Но Старпом продолжал неистовствовать. Руди влепил ему пощечину, и Старпом ошеломленно выронил топор.
— Пощечину? Это мне-то? — изумился он. — Ай да художник. Молодец, Не размазня, каким был в прошлых жизнях.
— Перестань молоть чепуху и выслушай. — Руди рассказал о дедовых предположениях.
— Поэтапно, говоришь? — улыбнулся Старпом. — Любопытно. Вот что, художник. Побывай в прошлом и проверь. Я бы сам это сделал, но мне не к кому идти. Все считают меня чужаком. Никто не любит меня, кроме Верочки. Кстати, где она?
Вера пряталась за стволом ясеня и со страхом выглядывала оттуда. Таким сердитым дядю Старпома она никогда не видела.
— Испугалась, крошка? — рассмеялся Старпом. — Ну иди же сюда. Побудь со мной. Дядя сходит кое-куда, а мы подождем.
Дорогу к старой ольхе Руди отлично помнил и пришел к ней в сухой солнечный день. Осмотрелся. Болото выглядело таким же, как и в прошлый раз. Вот и старушка, опираясь на клюку, подошла и, узнав Руди, обрадовалась:
— К нему сходим? К красавцу? Наглядеться хочу…
— На аксельбанты? Потом, бабушка. У тебя все по-прежнему? Ничего не случилось?
— Нет, батюшка, ничего не случилось. Только вот недавно прискакал ко мне этот… Как ты его называешь? Дубак! Непонятный какой-то, взлохмаченный, испуганный. Пробормотал что-то и ускакал.
Испуганный? Там явно что-то происходит. Сходить бы и узнать. Но в пути могли произойти такие изменения, что, чего доброго, завязнешь в каких-нибудь вихрях времени, как в паутине, и не вернешься. Руди все же решился и махнул далеко в прошлое. На знакомой тропинке времени ничего страшного с ним не случилось. Ничего не изменилось и в лесу, где жил Дубак. Все та же тихая, уютная полянка с кустарником, все тот же крепкий кудрявый дуб.
Но сам Дубак вышел из кустарника с не привычной своей величавостью и важностью, а робко, со страхом озираясь по сторонам.
— Мага пропала, — сиплым голосом прошептал он.
— Как пропала? Сходим посмотрим.
— Боюсь. Там все другое. Только и осталась моя станция… Тот кустарник.
— Вот и прекрасно. Идем.
Кустарник действительно чудом сохранился. Уцелела, конечно, и река с высоким берегом — явления геологические, а не биологические. Но ни цветущей, озаренной солнцем поляны, ни одинокой магнолии. Кругом глухой тенистый лес из незнакомых деревьев.
Где сейчас Мага? В каких мирах скитается ее одинокая душа? Может быть, уже нашла приют на далекой планете, на атолле с голубой лагуной, и растет красавицей пальмой?
Из задумчивости вывел Дубак, беспрерывно толкающий Руди в бок.
— Идем обратно. Боюсь, — прошептал он. Вернулись на поляну с кудрявым дубом. С часу на час и здесь надо ждать перемен. Каких? Руди хотел поговорить об этом с Дубаком, но передумал. Ничего не поймет Дубак. Будет лишь бессмысленно моргать глазами и дрожать от страха. «Пойду-ка я к Старпому, — подумал Руди. — Вот кто поймет и обрадуется».
— Наконец-то! — возликовал Старпом, услышав вести о переменах. — Катится волна и смоет всю эту дьявольщину. Смоет и нас, художник. Попрощаемся?
— Катятся сюда перемены не спеша. Успеем попрощаться. Я еще приду к тебе. — Подумав, Руди добавил: — Странный ты тип, но симпатичный.
— Спасибо, художник, — улыбнулся Старпом и, показав на вечернее небо с крапинками звезд, сказал: — Верю, что встретимся с тобой там. А сейчас иди к своему деду. Боюсь, не очень-то он обрадуется. Неженка он. Жаль ему будет расставаться с приятным древесным существованием.
Руди с Верой пришли на горку, где жил Толик. Дед вопросительно взглянул на Руди, и тот молча кивнул. Дед все понял и, не желая расстраивать ребятишек, попрощался с ними с наигранным весельем. Но дома загрустил.
— Вот и подходит к концу моя здешняя жизнь, — вздыхал он, поглаживая кору древнего тополя. — Ах, дерево, дерево. Не хочется уходить из тебя.
— Не расстраивайся, дедушка. Ты же веришь в свое бессмертие. Вырастешь далеко отсюда красивым и умным дубом.
— Утешаешь, хитрюга? — усмехнулся дед. — Нет, разумная древесная жизнь — большая редкость во Вселенной. Иди-ка домой, утешитель, и посматривай на экран. Жив он будет, пока я жив.
На экране все те же мрачные эпизоды: суета около космического корабля, папа с мамой под конвоем, колючая проволока, пулеметные вышки. До человеческой истории вал перемен не докатился. Сейчас он в позднем мезозое, наверняка уже смыл Дубака и подбирается к старушке ольхе.
Волнения и тревоги последних дней сказались на сердце Руди. От острой, кинжально полоснувшей боли он застонал и повалился в кресло. «Инфаркт, — мелькнуло у него. — Вот умру сейчас и ничего не узнаю». К нему поспешил Мистер Грей, на ходу вынимая из карманов какие-то пузырьки и таблетки. «Знал, что с сердцем у меня не все в порядке, и держал лекарства наготове. Ай да друг», — с нежностью подумал Руди. Он проглотил пару таблеток, запил какой-то сладкой жидкостью, и сразу стало легче.
— Не бережешь себя, — сердился Мистер Грей.
— Ну-ну, дружище. Не ворчи.
Прошло несколько дней. На экране изменений никаких. У Руди закрадывались опасения: а что, если волна перемен обессилела и застряла в пути?
— Ну уж нет, — усмехнувшись, успокоил дед. — Началось, и теперь не остановить. Хорошо бы еще раз взглянуть на ребятишек, но боюсь. А вдруг уже не застану? Сходим к ним?
К счастью, с ребятишками ничего не приключилось. Они даже не подозревали о своем грядущем переселении и были все так же веселы и беззаботны. Дед был особенно нежен с Верой. С Толей они всегда будут вместе, в этом он почему-то не сомневался. Но где, на какой планете будет расти сиротка Вера?
Неизменность окружающей природы тревожила Руди.
— Схожу я, дедушка, к старухе ольхе. Проверю.
— А если завязнешь в пути?
Как ни отговаривал дед, Руди все же осторожно прокрался давно протоптанной тропинкой. Ему опять неслыханно повезло. Нет, болото не высохло. Наоборот, оно превратилось в чистое озеро, в его зеркальной синеве отражались белые облака. Повезло в другом: он не утонул, островок, где он сейчас возник, сохранился, был на прежнем месте. Он даже стал сухим: ни кочек с лягушками, ни камышей. А старой ольхи, конечно, и в помине нет. Улетела старушка в дальние края и растет где-нибудь юной красавицей.
«Ей-то хорошо. А я вот исчезну навсегда», — с грустью подумал Руди и поймал себя на странном противоречии: в бессмертии других душ он уже не сомневался, но в бесконечность своей собственной не верил ни капли. Призрак? Его якобы бестелесное состояние? Чепуха, это что-то другое и непонятное.
Своими мыслями и сомнениями Руди поделился с дедом, когда они вернулись домой, под ветви старого тополя.
— Идеалистический материалист, — посмеивался дед. — Вот уйдешь из этой жизни и увидишь себя бессмертным. Что тогда? Воображаю. «Караул! — завопишь. — Это не согласуется с моим материализмом!»
Руди, невзирая на протесты Мистера Грея, постоянно дежурил у экрана. Но только осенью заметил изменения. Изображение чуть дрогнуло, затуманилось. Пулеметные вышки концлагеря искривились, как водоросли в текущей мутной воде, и погрузились во мглу. Но вот мгла рассеялась, и у Руди радостно забилось сердце. Колючей проволоки, пулеметных вышек, суетящихся стражников как не бывало! Ландшафт тот же. Справа та же гора, вдали кромка леса. Но вместо концлагеря небольшой и довольно красивый город: дворцы, фонтаны, парки. Руди так и впился глазами в людей. Вот, приближаясь, идет по улице высокий светловолосый человек. Папа! Рядом женщина ведет за руку крохотульку девочку. Неужто сестренка? Мужчина и женщина подошли ближе, и Руди разочарованно откинулся на спинку кресла: совсем другие люди! Откуда он взял, что это непременно папа и мама? Может быть, они живут в другом городе? Но они живут! И не знают, и никогда не узнают, что было совсем по-другому: концлагерь, побег на звездолете, жизнь на планете Окаянной. Все это ушло в небытие.
С этой радостной вестью Руди помчался в тополиную рошу. Но здесь его ждало огорчение. Дед покряхтывал и морщился от боли.
— Заболел?
— Нет, сынок. Просто стар я. Слышишь, как под ветром скрипит и жалуется мой ствол? Совсем никудышный, трухлявый он стал. Болью отзывается в моей спине. Вот, кажется, полегчало. А у тебя, вижу, случилось что-то приятное? Перемены на экране? Вот передаю изображение и сам не знаю что, — усмехнулся дед. — Ох, старость, старость.
Руди рассказал, что на экране уже не концлагерь, а красивый город и живут в нем счастливые люди.
— Очистительная волна перемен! — подняв палец, торжественно и напыщенно произнес дед.
«Бодрится старый», — с жалостью подумал Руди.
— Катится освежающий вал прямо к нам. По пути смоет атомную войну, пепел. И скоро здесь вместо безлюдья зашумит многолюдная планета, — в том же напыщенном духе продолжал дед, но закашлялся, сгорбился и закончил уныло: — Хорошо это и грустно. Ведь нас с тобой уже не будет.
— А когда докатится до нас?
— Не торопись, торопыга. Мы еще успеем попрощаться.
Однако попрощаться не успели. Нет, не волна их смыла, а случилось совсем другое. Вечером того же дня Руди сидел у экрана и смотрел на улыбающихся люде красивого города. И вдруг экран погас. Руди так и под скочил от страшной догадки: дед!
Руди примчался в рощу, и в голове у него помути лось от горя. Старый тополь, переломившись пополам рухнул и лежал на земле. Дед умер… Руди постоял немного и не разбирая дороги пошел наугад — в поля, рощи, леса.
Закатилось солнце. Тучки на горизонте, посияв дотлевающими углями, погасли. Руди поднял голову к небу, где уже заискрились звезды. «Где ты, дедушка, сейчас?» Спать Руди не хотелось. Оглушенный тоской и отчаянием, пробродил он до утра. С первыми лучами солнца направился к кораблю.
Мистер Грей, прихрамывая и пошатываясь, медленно топал к очагу. «Последнего друга теряю», — со страхом подумал Руди и побежал к нему.
— Не надо, дружище! Отдохни! — запыхавшись, крикнул Руди и, схватившись за грудь, упал. Сознание погасло.
И в тот же миг проснулось — ясное и чистое, как никогда. Со стороны и немножко сверху Руди с изумлением уставился на самого себя, на свое тело, лежавшее у незажженного очага.
«Впрочем, Руди уже нет, — опомнился я. — Вместо него я — бессмертная личность, только что бывшая в вещественном облике Руди. А я-то не верил».
Я снизился и невидимкой присел на скамейку рядом с могилками родных. Мистер Грей доковылял до Руди и пытался влить в его рот какую-то жидкость. «Поздно, дружище», — с грустью подумал я и улетел к океану: попрощаться с теми местами, где с родителями и сестренкой прожил несколько счастливых лет. От бунгало остались лишь бамбуковые стены. Камышовая крыша, снесенная бурей, валялась на пляже.
В стенах бунгало я посидел около рояля, в котором свила гнездо какая-то птаха, погрустил, потом взлетел ввысь и увидел планету Окаянную из далекой дали. Кое-как выбрался из звездной сутолоки Млечного Пути и полетел. Куда? «Вон оно что, — с усмешкой сообразил я. — Так и тянет меня взглянуть на планету Счастливую».
Дорога туда мне уже знакома, и на краю Вселенной я без труда отыскал ту самую реликтовую галактику. Промелькнули голубые, лиловые, оранжевые «живые» светила, и наконец я наткнулся на знакомую светло-золотистую звезду, похожую на наше Солнце, с тремя космическими облаками. Вот и «мое» облако, а под ним — планета Счастливая.
Я осторожно коснулся руками клубящегося и мягкого, как вата, края облака, и — странно! — ничего с моей невесомостью и незримостью не случилось. В прошлый раз я тяжелел, овеществлялся и стремительно падал на земную твердь, а сейчас легко парил и, снизившись, опустился на остров с дымящимся вулканом посередине. Остров Юнги! Вот и уютная круглая бухточка — остаток затонувшего кратера. Но кругом все изменилось неузнаваемо. Полное безлюдье и тишина. На песчаном берегу догнивала корма шлюпки, на крутых каменистых склонах ржавели пушки. Те самые, из которых пираты громили наши фрегаты. Вместо тростниковых хижин — пепел, вдали, на месте зеленых джунглей, — обгоревшие черные стволы и тоже пепел… На острове ничего живого, ни единой травинки. Неужто война?
Я поднялся к редкой стайке облаков и покружился над океаном. Ни птиц внизу, ни единого паруса. Вдали сверкнула молния, за ней другая. Я подлетел к клокочущей грозовой туче и, надеясь получить ответ, крикнул:
— Черный Джим! Где ты?
— Здесь я! — загромыхал голос.
— Ты видишь меня? — удивился я.
— Нет. Но я чувствую чье-то присутствие и сльп знакомый голос. Это вы, милорд?
— Это я, Джим. Что здесь случилось?
— Летим, я покажу, что натворили люди.
Под нами разгромленная ядерной войной планета. На материках — бурый дымящийся пепел, вместо городов — щебень, оплавленные металлические конструкции, блеск битого стекла. Я надеялся на затерявшихся в Бирюзовом океане островах найти хоть одно живое дерево, хоть одну зеленую травинку. Тщетно. Не видно ни одного человека, не слышно ни одного птичьего крика. Пепел, пепел, пепел… Планета Счастливая превратилась в планету Окаянную.
— Видели, что вы натворили? — В голосе черной птицы клокотала ярость.
— Не кипятись, Джим. Опустимся где-нибудь и поговорим спокойно.
Место для посадки Джим выбрал удачно — остров на озере сиреневых птиц. Сюда не упала ни одна бомба. Дворец царицы уцелел, но выглядел заброшенным: ржавая крыша, покосившиеся балконы, выбитые окна. В парке стояли деревья — мертвые, засохшие, без единого листочка. Долго и отчаянно боролись они за выживание, но против докатившейся сюда чудовищной радиации не устояли.
Я зашел в мастерскую, где когда-то с упоением и знобящим восторгом писал картину «Пепел». От нее сейчас ничего не осталось, кроме чистого холста. Картина моя уже там — за окном. Сбежала из тесной мастерской на вольную волюшку и прошлась, с грохотом прогулялась по планете.
Побывал я и в кабинете Аннабель Ли. Вот камин, стол, за которым мы попивали чаек и предавались радостям земного бытия. Как я выглядел тогда? Дай бог вспомнить. И память ожила: из незримости выступил изрядно располневший обыватель в парадной форме штурмана звездного парусного флота. В таком виде я вышел из дворца и спросил:
— Джим, ты и сейчас не видишь меня?
— Нет, но слышу голос. Не пойму, милорд, вы живы или нет?
— Я и сам не пойму. А вот ты жив и все такой же статный и крепкий мужчина. Но почему хмурый?
— Тоскливо одному.
— А сиреневые птицы? Неужто погибли?
— Оживают понемногу, — ухмыльнулся Джим и показал на плывущие над озером облака. — Уж очень они нежные. А я вот ожил. Правда, сначала здорово оглушило, но через день или два очухался, прогремел грозой и увидел…
Джим вновь нахмурился и рассвирепел, когда начал рассказывать о том, что он увидел…
Это был кромешный ад. Людей уже не было, но планета еще долго грохотала, бурлила и клокотала пламенем. Взрывались арсеналы ядерного оружия, из ангаров вылетали самоуправляющиеся бомбовозы и бомбили, бомбили уже опустошенную и безлюдную землю. Но вскоре и они, горящие и оплавленные, рухнули вниз. И планета утихла, дымясь остывающим пеплом.
— Проклятые люди! — гремел Черный Джим. — Чего им не хватало? Нигде они не были так счастливы, как у нас.
— Вот это и погубило их. Волшебные облачка подарили им счастье просто так, задарма. А такое счастье хуже несчастья. Может быть, счастье — вообще зло? А? Как ты думаешь, Джим? Ведь добро и зло — одно и то же. И от этого единства нигде не спрячешься, даже под волшебными облаками.
Но Черный Джим, привыкший действовать, а не рассуждать, только пожал плечами. Я взглянул вверх:
— А как они сами, волшебные облака? Тоже погибли?
— Не знаю, милорд.
— Подожди меня здесь, Джим. Я проверю.
Я воспарил в синее небо. Внизу безжизненные материки, рядом реденькие кучевые облака. Еще выше — и кучевые облака вместе с планетой исчезли, ушли то ли в небытие, то ли в иное временное пространство. Вместо них густое космическое облако, пронизанное лучиками солнечного света. Я присмотрелся своими всевидящими бессмертными глазами. Передо мной не материя в привычном смысле слова, а нечто иное — остаток, реликт Вселенной, какой она была до Большого Взрыва. Однако это загадочное, чуть ли не мыслящее и не вещественное облако сильно разбавлено, замутнено обычным веществом с его неизменными электронами и протонами.
Видимо, космическое облако, как и Черный Джим, на первых порах было оглушено внезапно взорвавшейся планетой и, мертвея, превращалось в обычную материю. Но планета не разлетелась вдребезги, уцелела, и облако, подобно тому же Джиму, «очухалось» и возвращалось в изначальное состояние. Оно оживало! И с часу на час готово овеществить меня, подарить земное счастье.
Нет уж, хватит! Попрощаюсь я с Черным Джимом и удеру отсюда подобру-поздорову. Я спустился вниз, на одном из материков присмотрелся к пеплу и увидел то, чего и ожидал увидеть: убийственная для жизни радиация сказочно убывала. Сквозь остывающий пепел уже проклюнулись первые зеленые травинки. Скоро вся планета покроется лесами, зацветет благоухающими полями и будет готова для приема новых поселенцев — наивных дурачков, жаждущих дарового счастья.
Подлетая к острову, я еще с высоты увидел нервно расхаживающего и оглядывающегося по сторонам беднягу Джима. Я опустился и сказал:
— Не волнуйся, Джим. Здесь я.
— Наконец-то! — обрадовался Джим. — Боялся, что вы совсем умерли.
— Совсем умереть я не смогу никогда. Скорее наоборот. Волшебное облако, как ты выражаешься, «очухалось» и готово с минуты на минуту вернуть меня к прежней видимой жизни.
— Прекрасно, милорд! Прекрасно! И царица оживет? И юнга? И Билли Боне? Какой решительный мужчина!
— Тебе больше нравился Старпом.
Но лучше бы я не упоминал этого имени. Джим побагровел, злобно сжал кулаки и начал метаться из стороны в сторону. Подвернувшуюся под ноги скамейку он пнул с такой яростью, что та разлетелась в щепки.
— Негодяй! Подонок! Попадись мне еще раз! Растерзаю! Снова брошу в огонь!
В вулкан!
— Не такой уж он плохой.
— Вы что, милорд? Забыли? — Джим изумленно замер на месте. — Он же вас мучал, пытал. Он всех терзал. Убийца! Палач!
— Он сам мучался. Да не кипятись ты. Выслушай меня. Я хочу покинуть планету.
— Как, милорд? — не понял Джим. — Насовсем? Вы не хотите здесь жить?
— И снова стать обывателем? Ни в коем случае.
— Опять я один, — простонал Джим.
— Придут другие.
— То другие.
— Ну-ну, дружище. Не унывай. Все образуется. А сейчас давай попрощаемся. И знаешь где? — Ко мне пришла удачная мысль. — В грозовых тучах! Летим!
В океане мы нашли бушующую, раздираемую молниями тучу и под грохот грозы распрощались. Джим, рассеявшись, вернулся в свою стихию — в тучу, а я в свою — в космическую мглу.
ОКАЯННАЯ МЕНЯЕТ ЛИК
Я мчался к Окаянной. По пути мелькнуло что-то еще более темное, чем космическая мгла, какая-то глыба странной формы. Я вернулся и увидел астероид, похожий на потерпевший крушение парусный фрегат. Ни парусов, конечно, ни мачт. Но на ровной площадке-палубе торчали три гранитных выступа. «Вот все, что осталось от мачт», — с усмешкой подумал я. Вот и массивное возвышение — корма. Я присел на нее и осмотрелся. Кругом безграничная пустота. Лишь в немыслимых далях светились пылинки-галактики. Ближе всех две соседки — Туманность Андромеды и Млечный Путь. Но и до них многие миллиарды световых лет. Как залетел сюда этот причудливый скалистый обломок? Я походил по «палубе» — удивительно ровной запыленной поверхности обломка. «Корма» и «палуба» чуть заметно светились под жиденькими лучами далеких галактик. Я полюбовался игрой тусклого света, погрустил о своих земных и звездных плаваниях, потом снялся с астероида-корабля и полетел к Млечному Пути. Здесь, в месиве пылающих звезд, без труда отыскал золотое родное Солнце со свитой планет. Третья от Солнца — Окаянная.
Ничего на ней за мое недолгое отсутствие не произошло. Полное безлюдье, и лишь вдали сверкала нержавеющая сигара корабля. Но и там сейчас пусто. Была небольшая семья — и не стало. Последним умер Руди. «Его и похоронить-то некому», — с тоской подумал я.
Но я ошибся. Рядом с могилой сестренки Кати вырос еще один холмик с весьма замысловатым памятником, с какими-то завитушками по краям и наверху. Вполне во вкусе Мистера Грея. На памятнике надпись: «Руди Свенсон». И все. Даже дат не указано. Из последних сил пытался сделать это Мистер Грей. И не успел, тут же с кисточкой в руках скончался. «Вот уж кого действительно похоронить было некому», — с тоской подумал я и поднялся над планетой. Вот и кольцо из пыли и мелких камешков, из остатков бывшей Луны.
И вдруг на моих глазах кольцо колыхнулось, как дымная струя, и пропало. Вместо него — Луна! Но не та, какую видел раньше, не голый каменистый шар с боевыми ракетами. Вокруг Луны медленно и тихо засветился нимб. Это же атмосфера! Сияющий ободок атмосферы! С волнением наблюдал, как поверхность Луны покрывалась зеленой ворсистой тканью. Леса и луга?
С величайшей осторожностью, словно боясь сломать это хрупкое создание, я вошел в атмосферу и парил чуть ниже облаков. Откуда они взялись? Ах вон оно что! Увлажняя воздух, сверкали искусственные озера и реки. Это же я делаю! Это же я, будучи горемыкой Руди, все начал!
Я полетел над обновленной Луной, над ее лесами и лугами. И что-то вдруг скучно стало. Вместо лесов — четко расчерченные парки, вместо прихотливых лугов — круги и квадраты трав. Не луга, а клумбы. Это уж слишком. Можно было бы придать ландшафту более естественный вид. Я снизился и увидел людей, прокладывающих прямые, как стрелы, дороги, воздвигающих круги и квадраты городов. Лихо устраиваются поселенцы — сухо и рассудочно, словно сверяясь с учебником геометрии.
Но что же с планетой? Я вернулся на землю и приземлился в том месте, где недавно покинул скрюченное тело Мистера Грея с кисточкой в руке. Место как будто то же самое, с теми же пригорками и холмами. Но ни Мистера Грея, ни замысловатого памятника, ни высоченной сигары звездолета. Ничего. Лишь цветущее поле с разросшимися кустами шиповника и боярышника. Пыльная тропинка вела на холм, где белела красивая беседка. В ней, спасаясь от палящего солнца, сидели какие-то люди.
Итак, свершилось! От планеты Окаянной не осталось и следа. О ней не знают, и никогда не узнают вот эти люди, о чем-то шумно спорящие в беседке. Лишь в моей бессмертной памяти она останется навсегда.
Что же все-таки с планетой? Неужели и ее, как и Луну, люди расчертили, разграфили и пронумеровали? К счастью, нет. Биосфера росла и развивалась как ей вздумается, и получилось, по-моему, неплохо. Правда, портили планету не очень опрятные дороги и пыльные города.
Очертания материка те же самые, что и на исчезнувшей Окаянной. Но так и должно быть. Провалилась в небытие не сама планета, а ее бывшая, до ужаса искореженная история. Сохранился и тот берег на океане, и наш желто-лимонный пляж. Но вместо бунгало — курортный городок с ажурно-легкими дворцами, сделанными словно из пены морской. Красиво! Но загрустила что-то моя бессмертная душа по только что ушедшей вещественной жизни. В тоске и смятении улетел я с планеты.
Промелькнули звезды Млечного Пути, и снова я в безграничной пустоте. Приостановил полет и огляделся. Тьма. Лишь в невообразимых далях светились пылинки галактик, а внизу, прямо под ногами, тускло серел какой-то каменный обломок. Ба! Это же старый знакомый — астероид, так заманчиво смахивающий на мятежный наш фрегат «Аларис». Словно магнит, притягивает он меня к себе.
В форме штурмана межзвездного флота я уселся на «корму» — на скалистый выступ — и задумался. Кем я только не был и чего только не натворил. Созидал миры из ничего (планета с мальчуганом-пастушком), но и разрушал немало. Старпом уверен, что я выпал из какого-то необыкновенного мира, чуть ли не из Вечности, и разгромил, может быть и не желая того, свою нормальную галактику и превратил ее в шальную — с космическими морями, с пустотами в пространстве и вихрями времени. Шалость Сатаны? Ну, это иряд ли. А мертвая Вселенная? Это тоже моих рук дело? Нет, тут Старпом явно загнул. Но вот не так давно я просвистел сокрушительным ураганом и расчистил дорогу для зла, превратил нормальную планету в Окаянную — это уж точно. Но Руди, вещественный образ моего вечного «Я», своей нелегкой жизнью исправил мою оплошность и вернул планете естественный путь развития.
Естественный? Но какой? Что там сейчас? По моим подсчетам, пока я размышлял и предавался воспоминаниям, на планете прошли сотни земных лет. Во что превратилась планета? В подобие Счастливой? Это тоже ведь естественный путь развития… Мысль до того неприятная, что я вскочил и в беспокойстве стал расхаживать по «палубе» астероида-корабля. Что делать? Вернуться и посмотреть? Что сейчас, к примеру, в курортном городке, где было наше бунгало? Такое же свинство, как и в курортном городке на планете Счастливой? Пират Билли Боне под свирепые вопли «Йо-хо-хо и бутылка рома!» разгромил это, по выражению Старпома, «лежбище динозавров». «Не учинить ли мне то же самое?» — усмехнулся я. Только это будет не пират с его медными пушчонками, это будет уже космический Билли Боне, способный испепелять миры и планеты. Но мои непонятные демонические силы сейчас, кажется, совсем угасли. Да и желания повеселиться вселенскими разбоями уже не было.
И все же неприятное, саднящее душу чувство гнало меня посмотреть. Что там, на бывшей Окаянной? И снова я в звездной сутолоке Млечного Пути, снова подлетаю к знакомой планете. Подлетаю на сей раз с опаской и вижу те же материки и океаны, такие же леса и буйно цветущие поля. И… больше ничего! Ни шоссейных и железных дорог, ни городов и деревень. И даже обширных пашен, как в прошлый раз, не было, нет ни малейших признаков сельхозугодий и жилья. Планета обезлюдела!
С возрастающим опасением и страхом снижаюсь, иду по нехоженым полям, не смяв при этом ни травинки, не спугнув ни одного кузнечика. Ведь я незрим и невесом. Сквозь меня, треща крыльями, пролетели две стрекозы, а из рощи, резвясь, выскочили три лошади. Они подошли к реке и стали пить воду. Река заметно изменилась, но узнать ее можно. По одну ее сторону когда-то давным-давно была роща с мыслящим тополем-дедом, по другую простиралась холмистая степь. Во времена Окаянной там стояла, возвышаясь почти до облаков, металлическая громадина корабля. Но сейчас ее нет и не должно быть. Я подошел к знакомому холму и — странно! — увидел беседку. Ту самую, где в прошлый раз сидели и шумно спорили два человека. Но сейчас там никого, и даже когда-то пыльная, заросшая травой тропинка еле-еле угадывалась.
Почему беседка сохранилась, если города и села исчезли? Она как будто даже помолодела.
Я поднялся в небо, где парил и звенел жаворонок. Откуда ни возьмись, к нему подлетели два мальчика. Из облаков они вынырнули, что ли? Подражая птицам, они взмахивали руками, словно крыльями, кружились вокруг жаворонка и хохотали. Потом, резвясь и купаясь в воздушном океане, ребятишки начали снижаться. Снижался и я. Ребята опустились на холм, вошли в беседку и… пропали! Я за ними…
ПАСТУШЬЯ СВИРЕЛЬ
Передо мной открылся дивный город, будто сотканный из нитей хрусталя и цветного тумана. Дворцы и жилые здания, легкие как облака, сверкали куполами, искрились шпилями. Я спустился из беседки на улицу и кинулся за пацанами, только что кувыркавшимися в воздухе. Хотел спросить их, где я? Обращаться к взрослым постеснялся. И вдруг опомнился: меня же никто не услышит. Меня вообще нет в материальном мире. Я — внетелесный дух, которому надо самому осваиваться в этом мире.
Я глянул вверх. Вот и похожее на гитару облако, из которого вылетели ребятишки, и звонкоголосый жаворонок висел в небе тот же самый. И внизу та же река и те же холмы. Только город откуда-то взялся. Из цветов и трав он вырос, что ли?
Вдоль реки тянулись гранитные набережные и своей тяжеловесностью несколько портили ощущение невесомости, воздушности улиц и зданий. Но мосты, паутинно легкие и ажурные, дугами перекинувшиеся через реку, мне понравились. Я поднялся на один из них и осмотрелся. Город небольшой, за изгибом реки в золотистой дымке угадывалась его окраина. Я пошел туда, то и дело оглядываясь назад. Купола и шпили слегка затуманились. Я шагнул еще дальше, и город исчез совсем, словно рассеялся в воздухе, в травах и цветах.
Чудеса! Не хотелось думать о параллельном пространстве, о других измерениях и прочих ученых вещах, не хотелось портить ощущение сказочности. Я шел вдоль пустынного песчаного берега, и волшебство продолжалось. Из воды, смеясь и охорашиваясь, выбрались сказочные речные девы — светловолосые зеленоглазые красавицы в нарядных платьях. Наверняка русалки.
Молоденькая русалочка оглянулась по сторонам, сложила ладони рупором и крикнула:
— Ау! Где вы?
Из рощи выбежали мальчишки и девчонки с цветами в руках и завопили:
— Русалки пришли! Ур-ра!
«Ну и ну. Ко всему этому мне надо привыкать постепенно», — подумал я и взлетел в небо. Облако разлохматилось, из гитары расползлось во что-то бесформенное. Да и серебряный колокольчик — жаворонок, старательно исполнявший звонкие песни, видимо, утомился, камнем упал вниз и сел на тот же холмик, на котором недавно был дворец растаявшего города.
То снижаясь, то взмывая к облакам, я летел на север, видел озаренные солнцем луга и рощи. Изредка попадались люди, но строений по-прежнему никаких. Наконец мелькнула внизу старинная часовенка. «Наверняка здесь город», — усмехнулся я и, снизившись, вошел в часовенку. И точно — стройные колоннады дворцов, дремлющие в нишах статуи… Город! Не такой модернистский и воздушный, как предыдущий, с более строгими классическими ансамблями. Но понравился он мне больше. На улицах ни автомашин, ни движущихся тротуаров. Люди ходили пешком. А те, кто торопился, летали, как птицы. Я увязался за одним такимспешащим субъектом, вместе с ним влетел в раскрытое окно многоэтажного здания и очутился в какой-то лаборатории. Люди сидели за пультами, склонялись над приборами, о чем-то спорили. Язык мне был знаком, но толком понять жизнь людей мне не удавалось.
«Нет, учиться мне надо у малышей, у дошколят и первоклашек», — с усмешкой подумал я, вылетел в окно и парил над куполами и крышами. Искать школу не стал. Познакомиться с малышами лучше всего где-нибудь на воле. Я взлетел еще выше, почти к облакам, и город, затуманившись, исчез. «Вот так-то лучше», — обрадовался я и спустился вниз. Та же река, но ни набережной со статуями, ни мостов. Первозданная река с довольно заболоченными берегами, с осокой и камышами. Вряд ли здесь найду малышей.
Полетел дальше. Промелькнули рощи, озера, и на берегу небольшой речки увидел… нет, не какую-нибудь крохотную беседку или часовенку — вход в город, а большую церковь с золотистыми куполами и крестами. Но самое удивительное: вокруг церкви — старинное село. Оно не пряталось в цветущих травах (вернее, в иных пространствах), а вольготно раскинулось вдоль речки. Невидимкой я шагал по улице, не потревожив, разумеется, ни одной пылинки. По сторонам белые уютные хаты, под крышами которых гнездились шумные воробьи. Зашел в одну из хат и увидел за столом человека средних лет с чуть заметной сединой на висках. Человек что-то писал. Я присмотрелся: стихи! Поэт искал вдохновения в деревенской тиши. На столе ни пишущей машинки, никакой компьютерной техники. Поэт писал гусиным пером! «Вот оно что! Ностальгисты, — догадался я. — В селе живут люди, тоскующие по старине».
Поэт хмурился. Рифма у него не наклевывалась, что ли? Он рассеянно посматривал в окно. Там, на завалинке, воробьи затеяли крикливую возню. Поэт улыбнулся им и стал торопливо писать. Позавидовал я ему, его вещественной жизни. Еще больше позавидовал босоногим мальчишкам, с визгом промчавшимся по пыльной дороге. Наверное, очень приятно бежать босиком по мягкой, прокаленной солнцем пыли.
Незримым ветром я погнался за ребятишками. За околицей села они уселись на берегу речки и заспорили о травах и цветах, о таящихся в них… знаниях!
Ослышался? Нет, ребята всерьез говорили о том, что в каждом дереве и каждой травинке живут мысли и знания.
— Только вот прячутся они от нас, — пожаловался белобрысый малец, которого звали Василем.
Его приятель Андрей утешал:
— Ничего. Скоро пойдем в школу и научимся брать у трав и цветов все, что захотим.
— И стихи тоже?
— Конечно. Смешной ты, Василь. Тебе бы только стихи. А я вот хочу все знать о звездах, — мечтательно сказал Андрей.
— О звездах даже тетя Зина не все знает, — возразил Василь. — А вдруг это она? Слышишь?
Вдали за рекой, за полями и рощами кто-то пел. Ребята прислушались и закричали:
— Она! Фея! Бежим!
Я опередил их и за березовой рощей обнаружил девушку с каким-то удивительно ясным лицом. Прямо-таки не лицо, а утренняя заря. Напевая, девушка ласкала цветы, и, когда наклонялась, синие васильки, казалось, улыбались ее таким же синим глазам, как своим родным сестрам-близнецам. «Не девушка, а цветущий луг, — подумал я. — Вот уж фея так фея».
Услышав топот, девушка замолкла. Вскоре из рощи выскочили запыхавшиеся ребята.
— А, это вы, — с приветливой лукавинкой сказала девушка. — Что-то давно ко мне не приходили. Забыли меня, нехорошие.
— Ну и обманщица ты, тетя Зина, — обиделись ребята. — Сколько раз приходили, а ты все пряталась.
Невидимкой я присел рядом с ребятами и из их беседы с феей понял, что вся планета стала волшебной сказкой. И не сама по себе возникла она, а сотворили се люди, сделали так, что цветы, травы, деревья — вся биосфера выполняла работу гремящей и коптящей техносферы. Биосфера заменила заводы, хранила в своих таинственных недрах все нужные людям вещи и накопленные веками знания. Нет, это не какая-то искусственная природа, она возникла и развивалась самым естественным путем. С помощью людей, конечно. Она даже думала, подсказывала людям идеи и гипотезы. Не случайно биосферу сейчас называли Сферой Разума.
Я вскочил, невидимкой скакал вокруг ребятишек, спорящих с тетей Зиной, и ликовал. Ай да я! Ай да молодец! Это ведь я, когда был страдальцем Руди, вызволил сказку из небытия, обратив Окаянную в ничто.
А не рано ли я радуюсь? Не превратилась ли Земля в разновидность планеты Счастливой, а жители ее в нежащееся, по выражению Старпома, «стадо динозавров»? Я еще раз побывал в городах, присмотрелся. Нет, я попал не в страну вечных песнопений и бездумного блаженства. Я заметил в людях много общего с Руди, какую-то одухотворенную целеустремленность. Удач и радостей у них, конечно, неизмеримо больше, чем у Руди. Но и они знали горечь потерь. Особенно в космосе.
Как раз в эти дни планета оплакивала гибель звездолета «Стрела». Корабль и в самом деле стрелой пролетел миллионы световых лет и вынырнул из минус-пространства в точно вычисленном месте, рядом со звездой с богатой планетной системой. И надо же такому случиться: нежданно-негаданно звезде вздумалось взорваться сверхновой. Умная и чуткая биосфера трепещущими листьями деревьев, цветущими травами уловила сигналы бедствия и выяснила, что корабль сгорел не сразу. Многим членам экипажа удалось катапультироваться и на юрких космических шлюпках приземлиться на планетах соседней звезды. К сожалению, все планеты там были безжизненными льдистыми мирами. Люди Земли лихорадочно готовили экспедицию для спасения экипажа «Стрелы».
Через несколько дней я вернулся в село, заглянул в знакомую хату. Поэта дома не было. Отыскал я его, хмурого и озабоченного, за околицей. В самом селе очень мало взрослых. Почти все они разлетелись по своим делам. Лишь шумные ребятишки носились по улицам, играли за околицей и держались подальше от поэта. Старались не мешать ему.
Побывал я и в тропических джунглях, где благоухали невиданные цветы и пели яркие птицы. Но неизменно тянуло меня в умеренные пояса, к скромным ивам и березкам, к неброским синицам и жаворонкам. Дыхание трав и деревьев здесь особое, что ли? Но я заметил за собой одну странность. По ночам я не мерцал и не колыхался жутким привидением, а чуточку выступал из небытия. Овеществлялся? Не то слово. Раньше только я мог видеть себя и себе подобных. Но то бессмертная суть моя созерцала не вещество, а память о нем. А здесь земные обитатели, люди и животные, как будто замечали что-то в сумерках. Была ли то тень или сгусток тумана, похожий на человеческую фигуру? Не знаю. Но рассеивались сумерки, редел туман, и я исчезал. Днем я абсолютно незрим.
Однажды лунной ночью я в шароварах и куртке — обычной одежде Руди — подошел к лошадям. Они так и потянулись ко мне, к еле видимой тени. Я гладил их и в ответ слышал радостное ржание. Я пошел — они за мной.
Незаметно табунок мой приблизился к селу. Таяли сумерки, занималась заря — дымно-жемчужная, росистая и тихая-тихая. Я вынул из кармана дудочку, подаренную пастушком, и заиграл. Люди просыпались, выходили на околицу и, замерев, слушали. Кто-то пожелал познакомиться со мной, осторожно приблизил ся, но увидел лишь мелькнувшую, исчезнувшую в тумане тень. Минут через пять, с восходом солнца, я стал совсем невидим и вошел в село.
Боже мой, какой там поднялся переполох! Обо мне только и говорили, гадали: кто таинственный пастух? Откуда? Сказать, что сельчанам моя игра понравилась, — значит ничего не сказать. Пробуждал ли я в людях забытые чувства и память об иных жизнях и мирах? Не знаю. Но сельчане буквально ошалели от зовущих песен космической свирели.
Вероятно, Старпом прав: есть в моем таланте что-то нечеловеческое. Сатанинское? Ну, это вряд ли. Капитан тут ближе к истине: метафизическая печаль. Во мне таится невыразимая тоска по утраченной родине, затерявшейся не во Вселенной даже, а в самой Вечности.
Где она, эта родина? Я умчался в пустоту и видел проносившиеся мимо галактики. Но эти видимые звездные миры — всего лишь знаки, шифры, за которыми скрывались иные — незримые и, быть может, подлинные миры. И среди них мой… «Видимость невидимого» — вспомнил я название философского труда капитана-профессора. Как знать? Может быть, он прав?
Незаметно подлетел к тому самому камню, похожему на потрепанный бурей фрегат. И вот неожиданность: мое любимое место занято! На «корме» кто-то сидел, обхватив голову руками и пригорюнившись.
Я не стал мешать ему, вернулся на планету и в предрассветных сумерках в тающем тумане пошел с табунком к селу. Сельчане уже ждали и слушали печальные песни свирели. С рассветом я исчез, а сельчане разлетелись по своим делам. Я поинтересовался: что они думают обо мне, что говорят? Тщеславия, унаследованного от прежних земных жизней, у меня предостаточно. И оказалось: в школах, университетах, научных учреждениях сельчане рассказывали об удивительном пастухе и приглашали в гости послушать. Слухи обо мне ширились. Вместе с улетающими к звездам астронавтами весть о таинственном пастухе и его волшебной свирели проникла и на другие населенные миры. Слава моя росла, приобретала поистине космические размеры. Мне стало приятно и немножко грустно.
Днем я незримым и, увы, никому не нужным духом бродил по лугам. Все чаще задумывался о другом бессмертном духе, об одиноком человеке на камне-корабле. Заинтриговал он меня до чрезвычайности. Кто он, несчастный?
В один из таких томительных дней я покинул планету и решил посетить камень-корабль, болтающийся в космической мгле. Я подлетел к нему, ступил на «палубу». На «корме» сидел все тот же понурый человек, все в той же позе горемыки-сироты. Присмотрелся: на плечах погоны, на груди аксельбанты… Боже мой, Старпом!
— А, художник, — подняв голову, с горькой усмешкой сказал он. — И ты здесь? Кто же это, думаю, шатается неясной тенью? Там, на зеленой планете. Оказывается, ты. Видать, сам черт повязал нас одной веревочкой.
— Видать, так, — ответил я и с участием спросил: — Что? Камень Сизифа сорвался с вершины?
— Откуда знаешь о камне? Ах да. Ты же читал мой Дневник. Еще там, на планете под счастливыми облаками… Да, камень Сизифа упал в пропасть. Вселенская тоска грызет меня. Не поймешь ты меня, художник. Обыватель ты.
— Почему же обыватель?
— Поселился на блаженной планетке и доволен.
— Ты успел ознакомиться со Сферой Разума? Но ты не разобрался…
— Разобрался. Такие же дурацкие счастливые облака. Только зеленые. И живут там такие же обыватели. — И, скривив губы, Старпом презрительно добавил: — Динозавры.
— Клевета! — возмутился я.
Слово за слово, и разругался я со Старпомом окончательно. Невыносим он стал в своей ненависти к материи, к вещественной жизни духа.
А мне эта жизнь нравилась. Еще нигде, ни на одной обитаемой планете я не встречал такой гармонии духа и материи и такой красоты. А бессмертная душа моя, душа художника, всегда тянулась к красоте.
Что может быть прекраснее такой картины: отзвучали мои тоскующие звездные песни, эхо свирели погасло в тумане, и вдруг послышалась иная, земная песня. То фея весенних лугов вышла из своего небытия, из трав и цветов. Таяли сумерки, ночная влага, жемчужинами скопившаяся в травах и цветах, заискрилась в лучах проснувшейся зари, и я увидел ее — земную богиню, сотворенную дыханием полей. И она увидела меня, мою тающую тень в редеющей дымке.
— Кто ты? — удивилась она. — Покажись.
Но я молча отступил и растаял во вьющихся нитях тумана. Это возмутило фею до глубины души. Днем на вопрос ребятишек, кто такой таинственный пастух, нахмурившись, ответила:
— Нахал.
Я усмехнулся: не права тетя Зина. Не нахал я, не чужак. Подобно ей я слился с разумной природой, с ее рассветами и туманами. Подобно ей я творю красоту.
Вскоре вблизи села появился еще один пастух. Но земной пастух — ученый, которого сельские ребятишки называли дядей Антоном. Он пас небольшой табунок лошадей, в будущем дивных хронорысаков, способных, по его замыслу, разорвать завесу времени и скакать по дорогам веков. К нему зачастил знакомый мне мальчишка Василь. Часто разговор у них заходил обо мне. Однажды мальчик высказал предположение:
— А что, если таинственный пастух вовсе не из древних песен и легенд, не из земной старины, а с далеких космических пастбищ?
— Космических пастбищ? — рассмеялся дядя Антон. — Ну, это вряд ли.
А ведь мальчик-то прав! Я из далеких звездных полей и, быть может, из иных, неизвестных людям Вселенных. Я, словно эстафетную палочку, несу свирель мальчика-пастушка, затерявшегося где-то в туманах Вечности. И кто счастливее — Василь, купающийся в неге волшебной природы, или босоногий пастушок? Трудно сказать. Пожалуй, я… Да, то был я! Я переверну все времена и пространства, а себя, свое дивное пастушье детство, попытаюсь найти. Найду ли?..
Прошли годы. Василь и Андрей заканчивали школу. Их одноклассники взволновали однажды мою безмятежную жизнь разговорами о… Лебедином озере! Что это? Случайное совпадение названий?
Отыскал я то озеро, затерявшееся в лесной глуши. Ничем не примечательное днем, оно ночами, при свете звезд и луны, преображалось, раскрывало свое волшебство и красоту. Из далекой небесной выси, словно из глубин мироздания, опускались лебеди. Коснувшись волн, встряхивали крыльями и становились русалками в кисейных белых платьях. Словно невесомые, они скользили по зеркальной водной глади и кружились, исполняя под музыку свои удивительные воздушные танцы.
Однажды они вышли на берег, уселись недалеко от меня и о чем-то разговорились. Я прислушался и вздрогнул: русалки тосковали по своей королеве по имени… Аннабель Ли! Нет, вряд ли это совпадение.
Тут какая-то тайна. Зачастил я на это озеро и однажды услышал радостные крики:.
— Вернулась! Королева вернулась!
Вдали на озере толпились белоснежные русалки вокруг своей подруги, одетой в сиреневое платье. Видимо, это и была их таинственная королева. Смеясь, с ликующими возгласами русалки подняли ее на руки и по серебряной лунной дорожке понесли к берегу, прямо к тому месту, где в кустах притаился я. Сердце замерло в груди: это она! Царица сиреневых птиц, моя жена, моя космическая возлюбленная.
Русалки бережно опустили свою королеву на траву и, усевшись, затараторили:
— Вернулась! Аннабель Ли вернулась! Где же ты была? Где пропадала столько лет?
— Была я на далекой планете и жила как обычные люди.
— Как? Земной жизнью? Разве это возможно?
— Там волшебные облака, там многое возможно.
— Земной жизнью! Как люди! — ахали русалки. — Какая ты счастливая!
— Не завидуйте, подружки, людям. Не такая уж у них сладкая жизнь. Вот послушайте. Сначала все шло хорошо. Была я на озере сиреневых птиц, учила их танцевать и неожиданно встретила любимого. Смутно помнится, словно то был волшебный сон, что мы уже любили друг друга. Давно это было. Давным-давно и в какой-то исчезнувшей Вселенной. Страстная и горькая была эта любовь. И вот новая встреча, и ничто не мешало нашему счастью. О, земная жизнь! Какая жгучая радость, какое упоение! Но, как у всех людей, пришла расплата: неизбежное старение, болезни… Но самое страшное — войны, мятежи, пытки каленым железом…
Аннабель Ли вздрогнула и с застывшим ужасом в глазах замолкла.
— Ну а потом? — торопили русалки. — Что было потом?
— К счастью, я скоро умерла, — вздохнув, продолжала Аннабель Ли. — Сбросила я бремя несчастной и так люто страдающей материи и вернулась в сказку, в свою вечную юность. Покинула я страшную планету Счастливую и многие годы космической феей ходила по цветущим звездным полям. Заскучала. И вот я снова на своем родном озере.
— Навсегда? — В глазах русалок промелькнул страх: неужели опять покинет их?
— Навсегда.
— Ур-ра! — закричали русалки и ушли со своей королевой на водную гладь, закружились в веселом танце.
«Им-то хорошо, — позавидовал я. — У них своя жизнь, они — сказка. И даже Аннабель Ли после недолгой и очень невеселой жизни вернулась в свою сказку, словно в родной дом. А я кто? Где мой дом?»
И столько неуютных, тоскливых и смутных мыслей навалилось на меня, что я, желая обдумать их, полетел в космическую тьму к своему камню-кораблю.
Что за чертовщина! Прошло много лет, а Старпом все еще на камне. Еще издали увидел я, как он вставал, в глубокой задумчивости ходил по «палубе» и снова усаживался. Навечно он поселился здесь, что ли?
В досаде я вернулся на планету, высоко в горах нашел удобный скалистый выступ, сел и задумался о своем космическом сиротстве. Кто же я, в конце концов? И не сказка, и не совсем человек. Лишь ненадолго вхожу я в материальное тело, в этот мимолетный страдающий ковчег духа. Духа? Вот тут-то главная закавыка. Временами кажется, что никакого духа нет, что это выдумка земных мыслителей, которых я начитался на блаженной планете, под счастливыми облаками. Тогда что же такое мои кратковременные земные жизни и мое нынешнее состояние, мое бестелесное бессмертное «Я»? Сон? Метафизический обман? А что, если?..
Страшная мысль так оглушила меня, что я вскочил и подобно Старпому начал метаться, ходить… Однако не по ровной и гладкой «палубе» камня-корабля, как Старпом, а по горам, по снежным вершинам. А что, если я — выдумка? Вот выдумал меня хотя бы тот же поэт в деревенской тиши, сочинил легенду о космическом скитальце, который, пройдя через мертвую Вселенную, через Большой Взрыв и массу других занятных приключений, вернулся на Землю и бродит с дудочкой в руках, воображая при этом, что поступает по собственной воле.
Свобода воли… Какая-то смутная, недозревшая мысль тревожила меня, не давала покоя. Желая додумать ее, я спустился со снежной вершины, хотел присесть на облюбованный мной камень и замер… Камень! Вспомнились вдруг слова Спинозы в одном из его частных писем: «Если одарить камень сознанием, то он, будучи брошен, воображал бы, что летит по собственной воле». А что, если я такой же брошенный сочини телем камень, неукоснительно следующий всем сюжетным ходам легенды и воображающий, что все вокруг происходит по его собственной воле? Я камень… Не камень Сизифа, как Старпом, а камень Спинозы.
Уничтоженный, подавленный страшной догадкой, я снялся с планеты и полетел к Старпому. Может, у него найду утешение? Все-таки сильная личность. Не я.
ДОРОГА
Вот и камень-корабль. Старпом, сидящий на «корме». Я притаился за выступом на другом конце камня. Вот подожду немного, соберусь с мыслями и тогда пойду к своему мучителю и собрату.
И вдруг — на тебе! Здесь, в пустоте, в немыслимой дали от населенных миров возникла обыкновенная сельская дорога — пыльная, с ухабами, но по-домашнему уютная, невыразимо притягательная. В мире физическом ее, конечно, нет. Эта бестелесная дорога — проекция памяти или мечта такого же бестелесного существа, как я. Но чья мечта? Кто творец удивительной дороги? А вот и он: из-за поворота вышел старец, обутый в лапти, подпоясанный бечевкой. В руке у него посох, а за плечами котомка. Старец подошел к камню-астероиду и остановился. Старпом поднял голову, а старец шагнул к нему и присел рядом.
— Вот и отдохнуть можно. Умаялся я, — молвил старец, вытирая пот со лба. — Жарко.
— Ты кто? — усмехнулся Старпом. — Странствующий богомолец?
— Считай что итак, милый. Хожу по святым местам. Где я только не побывал, чего только не повидал. Сейчас я из сельской церквушки. Потолкался в народе, послушал… Где же она, церквушка? — Вглядываясь в пустоту, дед козырьком приложил ладонь к глазам, словно закрываясь от яркого света, и вздохнул. — Потерял ту деревеньку. Потерял.
Старец развязал котомку, аккуратно расстелил на камне тряпицу и разложил огурцы, помидоры, сало, краюху хлеба.
— Откушай, милый, — предложил он и потер руки, предвкушая трапезу.
— Не хочется, дедушка.
— Думы одолевают? — участливо спросил старец и, окинув взглядом парадную форму с аксельбантами, добродушно усмехнулся. — Видать, из господ. Потешил свою душеньку, поиздевался над простым людом. Ох, грехи наши, грехи…
— Нет, дедуля. Не тешился я и не издевался, а сам мучался. — Старпом улыбнулся, оттаял душой. — Да, помучался я на своем веку, да и других помучал, по-зверствовал. Хотел правды добиться вот у этого дьявола. — Старпом махнул рукой в пространство.
— Правды надо искать не у дьявола, а у Бога.
— Э, дед. Нет никакого Бога. Был бы он, был бы и смысл во всей этой кутерьме. — Снова жест в сторону далеких галактик.
— Есть смысл, милый. Есть.
— У этой великой бессмыслицы? Очнись, дед.
— Великая бессмыслица, — недовольно пробурчал дед. — Возьмем мою палку. У нее два конца. Но попробуем у палки отсечь один конец. — Старец положил свой посох на траву и сделал жест ладонью, будто топором рассек его пополам. — Отбросим один конец. Но вот беда: в оставшейся половине опять два конца. Рубанем еще раз — и опять же в оставшейся коротышке два конца. И так до бесконечности.
— К чему ты это? — Старпом с любопытством посмотрел на деда.
— К тому, что у этой, как ты говоришь, кутерьмы, два конца. У палки всегда два конца, так и у этой видимой великой бессмыслицы есть невидимый великий смысл. Мы же видим только один конец палки.
— Видимость невидимого! — воскликнул Старпом. — Странно, я где-то уже слышал эти слова. Но где он, этот невидимый конец? Где великий смысл?
— Торопыга, — рассмеялся старец. — Я вот веками странствую, ищу и не нахожу. Случилось даже, притаившись невидимкой, как-то послушать ученых. Смехота! Шумят, спорят, перебивают друг друга. У каждого свое и непонятное. Нет, проще и понятнее народ с его думами и церквушками, а последнее время я похаживаю по святым местам. Может быть, там найду хоть крохотный намек, хоть обломочек правды?
— Однако ты, дед, преинтересный тип, — улыбнулся Старпом. — Вот что, дедуля. Собирай свою котомку и пойдем по святым местам. Ты Бога искать — невидимый конец, а я дьявола — конец видимый. Но и он прячется, негодяй. Прячется. — Старпом оживился, вместе с дедом ступил на дорогу, но вернулся и сел на прежнее место. — Иди, дед, один. Надумаю — догоню. Не поймешь ты меня. Я и сам не пойму: Бог во мне сидит или дьявол?
Старец постоял немного, с грустью посмотрел на Старпома, потом повернулся и пошел, вздымая пыль. Удивительная все-таки у него дорога. Над ней ни солнца, ни звезд, ни луны — одна бездонная пустота. И в то же время лучи, палящие и яркие солнечные лучи, словно ниоткуда, падали на иссушенную колею, на холмы, где искрились травы и шелестели листвой кусты. Я расслышал даже звон кузнечиков, упоенно славящих полуденный зной. Да и дед — отчаяннейший жизнелюб, и ему по душе жара. Мила она ему, видимо, по затерявшейся в дали времен вещественной жизни. На краю дороги протекал ручеек с чистой студеной водой. Старец присел, вытер со лба пот, набрал в котелок воды, с видимым удовольствием попил и снова не спеша потопал дальше. За одним из поворотов, за холмиком с одиноким кустом скрылся, оставив свою мечту-дорогу Старпому: надумает — догонит. А тот поник головой и снова горько задумался.
Я покинул великого мученика и горемыку и вернулся на планету несколько успокоенный. Нет, ни один человек, ни один сочинитель не смог бы придумать такие вселенские страдания — мои и Старпома. Не легенды мы с ним, не выдумка.
А кто? И опять мучительный вопрос этот зашевелился во мне, заерзал с нестерпимой силой. Да, я не камень Спинозы, не выдумка. Это ясно. Теперь меня волновало другое, и главное: что такое человек вообще, его телесное и бестелесное состояние, какое место он занимает в мире, о котором, кстати, тоже нельзя сказать с полной уверенностью — есть он или нет?
Сыграв в утренних туманах на свирели, я на весь день, подобно Заратустре, уходил в полюбившиеся мне горы. Но не Заратустрой я себя чувствовал, не уверенным в себе сверхчеловеком, а существом жалким, пришибленным грудой сомнений. Побродив по снежным вершинам, я спускался чуть ниже, в альпийские луга, садился на камень и задумывался о природе всего сущего, о себе…
Предположим, — хотя это и невероятно, ведь мое вечное «Я» есть и будет всегда, — но все же предположим, что мое бестелесное состояние — фикция, мираж. Во всяком случае, нечто производное, вторичное по отношению к телесному, грубо материальному. Тогда что такое человек — это первичное и земное? Вот и сижу сейчас на камне и думаю об этом, думаю…
Хорошо мудрецам, не знавшим никаких сомнений, особенно так называемым последовательным материалистам вроде Великого Вычислителя. Они уверены, что человек — это просто кожаный мешок, напичканный всяческими реактивами. Человек — химический фокус. И все! И не надо, дескать, мучаться, искать какой-то великий смысл. Есть только один конец палки — великая бессмыслица. И в самом деле, какая может идти речь о Боге, о бессмертном духе, если внутренний мир человека, его высокие мысли и его светозарные мечты — всего лишь химические реакции, которые могут и в пробирке получаться.
Один из таких философов, живший на этой планете (кажется, Ипполит Тэн), так и писал: «Пороки и добродетель — такие же продукты, как купорос и сахар». Ну как не позавидуешь такому мудрецу или тургеневскому Базарову, который проводил на лягушках свои нехитрые опыты. Дергает лапкой лягушка — вот так, дескать, и человек реагирует на раздражения внешнего мира своими «лапками» — научными теориями, философскими доктринами, бессмертными творениями искусства. До чего все просто. Завидно!
Завидую я и солдафонам с марксистско-ленинским казарменным мышлением. Им тоже все ясно: Бога нет, а есть рефлексы…
Мне же, к сожалению, ничего не ясно. Наступает вечер, зажигаются звезды. И я, подняв взор к небу, вопрошаю не Бога, — его, вероятно, и в самом деле нет, — я вопрошаю две реальные вещи, которые, по выражению Канта и моего капитана, «наполняют душу удивлением и благоговением — звездное небо надо мной и нравственный закон во мне».
Так что же такое нравственный и духовный мир во мне? Комбинация купороса и сахара? Кучка гниющего, химически активного навоза?
Ипполит Тэн не одинок. Вспомнилось еще одно направление философской мысли, широко распространенное во Вселенной, — очень уж полюбилось оно разного рода Великим Вычислителям, будь они в образе жабы или двуногого существа. Из моих далеких и ушедших жизней смутно помню, что на одной планетке такого мудреца звали Зелезуаци… Или нет! Желедруазо… Тьфу, какое длинное, корявое и трудное имя. На планете, на которой я сейчас нахожусь, подобного же мудреца звали куда проще. Чуть ли не Фрида… Вспомнил: Фрейд! Он был уверен, что внутренний мир человека — это скопище, месиво первобытных разрушительных инстинктов: агрессивности, жажды наслаждений и в первую очередь сексуальных устремлений, похоти. Это, по его мнению, великое бессознательное «Оно» и высматривает, выискивает, как бы схитрить, переключить (по терминологии Фрейда — сублимировать) похоть в общественно узаконенные формы. Мысли ученых, творения поэтов, композиторов, вообще вся культура — это, дескать, и есть сублимация, вытеснение похоти и другого дерьма, это что-то вроде прекрасного цветка, выросшего на куче навоза. И невдомек таким мудрецам: цветок этот радует глаз и благоухает лишь потому, что питается не только соками навоза, но и ветрами полей, солнечным светом, космическими лучами…
Осенило! Вот оно — поистине космическое опровержение фрейдизма. Правда, кое в чем с фрейдизмом надо согласиться. Вещественный, земной человек создан из земного праха и несет в себе груз мезозойских, палеозойских и более поздних пластов психики. Но Земля — лишь крохотная частица Вселенной, и происхождение ее, как и человека, в основном оттуда. Человек не только земная пылинка, но и космическая безбрежность. Взять, к примеру, мои земные картины с их метафизической печалью или чарующие песни свирели — мои и того парнишки пастуха. Что это? Сублимация жадности к наслаждениям? Голоса земного навоза? Какая чушь! Это голоса забытых нами прежних бесконечных жизней, это звучание космических струн души, зовы и тревоги Вселенной. Человек не менее бесконечен, чем Вселенная.
Нет, фрейдизм — это еще один позор жабьего, так называемого последовательного материализма, его зловонный тупик. Но и последовательным идеалистом себя я тоже не считаю.
Так что же я такое? Вот сейчас, в своем бестелесном виде? Духовное средоточие Вселенной? Этакая монада Лейбница? Далеко в пространстве на камне-корабле сидит еще одна монада и горько размышляет о своей небезгрешной жизни, о тайне и смысле дьявола-Вселенной. Слетаю я к нему, к своему мучителю и палачу. Нет у меня на него ни обиды, ни зла. Все давно перегорело и покрылось пеплом.
Еще не долетев до камня, услышал тихую пленительную музыку. Мельмот Скиталец? Да, это он, еще один космический страдалец. Из мглы выступил и подошел к Старпому уже знакомый мне субъект в камзоле, с гордо посаженной головой и пылающим взором.
— Опять ты? — недовольно проворчал Старпом.
— Что? Маешься? — мстительно проговорил Мельмот. — Вот так и будешь вечно носить в себе ад, пока не согласишься на мои условия.
— Ну и хитрец ты. Угадал, пройдоха, что я сейчас терзаюсь, как никогда, и готов пойти вместо тебя в ад, если он есть. Но взамен-то что дашь? То, что я ищу? Не можешь ты дать ничего. Нищий ты.
— Это я-то нищий? Да я богаче всех. Дам земную жизнь, а в ней неувядаемую юность и несметные богатства.
— Господи, опять те же пошлости, — простонал Старпом. — Пошляк ты, Мельмот. Неисправимый пошляк.
— Это уж слишком, — возмутился Мельмот. — Ты еще пожалеешь. Вот уйду, и придут другие, совесть терзать начнут. Совесть! Не такие они добренькие будут, как этот дуралей. — Мельмот показал на уходящую вдаль дорогу. — Стар, а ума не нажил. Ищет, как и ты, то, чего нет.
Мельмот Скиталец повернулся спиной и, рассеявшись во мгле, ушел. Вместо него из пространства вышел я.
— А, еще один пошляк, — усмехнулся Старпом.
— Я к тебе по-хорошему, а ты встречаешь оскорблениями, — не обидевшись, улыбнулся я.
— Извини, художник. Тошно мне. Приходи в другой раз. А еще лучше — топай вот по этой пыльной дорожке. Догонишь странствующего старца. Прелюбопытный старец, скажу я тебе. А радостную зеленую планетку брось. Пусть люди сами разбираются. Что-то у них не так.
— Почему не так?
— А ты послушай свою свистульку и, может быть, поймешь. Свистулька твоя умнее тебя. Иди, иди.
Я вернулся на планету. И снова я брожу с привязавшимся ко мне табунком, снова свои вселенские вопросы и тревоги изливаю в звуках пастушьей свирели. Прислушался, как советовал Старпом. Чудится ли мне или на самом деле так, но вся природа, ее росные рассветы и просыпающиеся поля эхом отзываются на звуки свирели, придают ее песням какую-то особую силу, объемность и глубину.
Боже мой, как я играл! Чего только не вытворял с людьми! Не только женщины, но и
мужчины плакали. И не поймешь от чего — от радости или горькой печали?
Неужели и впрямь люди чувствуют, что в их жизни что-то не так? Неужели их безоблачное счастье — зло не меньшее, чем несчастье? Да и есть ли на свете счастье? Что на это сказал бы мой любимый учитель Гераклит? Добро и зло — одно и то же? Счастье и несчастье — одно и то же?
Вот такие грустные и тревожные мысли и чувства навевают песни пастушьей свирели, песни непонятных глубин и неразрешимых вопросов, так и остающихся загадкой для самого художника. Извечная трагедия истинного искусства — творение всегда выше творца.
Прав Старпом: свистулька моя умнее меня. Пойду-ка я к нему, посоветуюсь.
Подлетаю к камню-кораблю и вижу: с другой стороны что-то забелело, кто-то выступает из тьмы. Он все ближе и ближе. Волевое, гладко бритое лицо, белый плащ с красной полосой внизу… И я узнал пятого прокуратора Иудеи. Он сел рядом со Старпомом и спросил:
— Ну что, брат, тяжко?
— Отвяжись, художник, — отмахнулся Старпом и, подняв голову, удивился: — Ты? Понтий Пилат?
— Да. Прохожу мимо и вижу: у человека такое же горе.
— А у тебя-то какое горе? — Старпом страдальчески искривил губы. — Подумаешь, отправил на виселицу…
— Не на виселицу, а на крест.
— Ну на крест. Подумаешь, послал на распятие одного человека.
— Но зато какого человека! И человека ли?
— Как?! — воскликнул Старпом. — И ты поверил, что это Он? Ты стал верующим?
— Не знаю, брат. Чувствую, что сделал что-то не так. Грех какой-то на мне, страшный грех. Вот хожу по Вселенной миллионы лет и не пойму, что со мной.
— И я не пойму.
Я незаметно удалился. Не буду мешать, пусть поговорят два великих грешника.
Снова я на планете. Однажды ночью в форме штурмана парусного флота подошел к Лебединому озеру. Увидят ли меня балерины, танцующие на лунной зеркальной глади? Узнает ли меня Аннабель Ли?
— Смотрите! — воскликнула одна из балерин. — На берегу кто-то есть. Не человек, а какая-то тень. Леший?
— Не похож, — возразили другие русалки. — Леший страшный нахал. А этот какой-то робкий. Боится показаться. Даже не тень, а какая-то тень от тени. Подойдем?
Подошли, и королева русалок узнала меня.
— Ты здесь? — обрадовалась Аннабель Ли. — Идем же, дорогой, куда-нибудь, поговорим.
Бродили мы с ней по лунным полям почти до рассвета. Странной показалась бы людям эта призрачная пара. Я — смутная тень, она — белесое привидение в белесом тумане. Иногда она, в своем кружевном, с блестками платье, совсем сливалась с лунным сиянием, с кружевами тумана, с искрами на луговых травах. И я слышал лишь ее голос. Такой знакомый, волнующий душу грудной голос.
Печальными были наши воспоминания о телесной жизни на планете Счастливой, о нашей любви. Мы и сейчас любили друг друга. Но грустной была и эта любовь — невещественная и призрачная. А тут еще я заиграл, и тоскующие песни свирели взволновали Аннабель Ли. Она зарыдала.
— Что с тобой, подружка?
— Еще никогда ты так не играл. Даже лошади плачут.
Я не заметил, как две лошадки из моего табуна подошли и с грустью смотрели на меня.
— Иногда мне кажется миражем не только наша с тобой жизнь, но и вообще все это. — Аннабель Ли показала на небо. — Помнишь нашу несчастную любовь совсем уж в далекой дали, еще до Большого Взрыва? Не сон ли то был?
— Сон? Не знаю. О нем у меня до сих пор сохранилась запись. — Я вынул из кармана свиток и, вспомнив Старпома, с усмешкой сказал: — Здесь все мои странствия. Так сказать, записки Саганы, его исповедь.
— Сатаны? Чепуха. Обычное старпомовское преувеличение. Просто ты великий талант. Настолько великий, что и мне кажется… нет, не кажется, а уверена, что есть в тебе что-то демоническое, не от мира сего. Давай свои записки, свою исповедь Сатаны, — улыбнулась Аннабель Ли. — Я ведь здесь почти наполовину земная, и в моих руках твоя невещественная запись, быть может, станет чуть вещественнее. Я передам свиток людям. К нам на озеро приходят не только школьники, но и взрослые. Вдруг ученые сумеют с помощью Сферы Разума прочитать записки?
— Не поверят.
— Конечно не поверят. Людям свойственно не верить в их же собственную иную жизнь. Пусть считают тебя еще одной легендой, самой удивительной космической легендой.
Светало. Приходила пора моей полной невидимости, да и спутница моя при дневном свете чувствовала себя неуютно. Ей пора домой. И мы расстались с грустной надеждой, что еще встретимся. Пусть через миллиарды лет, но встретимся, и даже — чего только не бывает на свете! — в вещественной, земной жизни.
Расстаться надо и с людьми этой планеты. В предрассветной мгле с табунком лошадей я подошел к околице села, заиграл… Господи, до чего все-таки чуткие мои сельчане! Они не только ждали, но и чувствовали, что в утреннем тумане слышат мою прощальную песню.
— Не уходи, — со слезами на глазах умоляли они. — Научи, как жить?
Чему я могу научить, если сам ничего не знаю? Взошло солнце, я рассеялся в тумане и ушел в свою бесконечность, в космическую мглу. Подлетаю к камню-кораблю, от него все так же тянется в таинственную даль сельская дорога с кустами на обочине и поющими птицами на них. Где-то там странствующий старец. Идет он не спеша: может быть, одумается великий грешник? Догонит?
А великий грешник все сидел опустив голову. Изредка поднимал ее и пугливо озирался, словно чего-то боялся. В чем дело? Неужели Мельмот, мерзавец, напророчествовал, и к Старпому начали приходить, тревожа совесть, не очень приятные гости?
Я хотел подойти к Старпому и утешить. Но мне опять помешали. Во мгле что-то забелело. Наверняка Понтий Пилат. Вот навязался. Неужели не поймет, что он не пара Старпому?
Но то был не Понтий Пилат. Из космического мрака дохнуло холодом и сыростью, оттуда, словно из подземелья древнего замка, вынырнула какая-то дама с растрепанными волосами и с блуждающим взором. В руке у нее свеча с колеблющимся язычком пламени. Она ведьмой покружилась над задумавшимся и ничего не замечающим Старпомом, опустилась и села рядом. Старпом искоса взглянул на ее бледное лицо, на белое платье в кровавых пятнах и брезгливо отодвинулся:
— А это еще кто такая?
— Как? — возмутилась дама. — Не узнаешь? Да меня весь мир знает. О моих злодеяниях писал великий Шекспир.
— А, так ты леди Макбет.
— Да. Долго же я странствовала и наконец нашла достойного попутчика.
— Меня выбрала в попутчики? Это меня-то? — Старпом в ужасе отшатнулся и замахал руками. — А ну, уходи! Проваливай!
— Напрасно. Позлодействовали мы с тобой в жизни. Ой как позлодействовали. Есть что вспомнить.
— Вон отсюда, стерва! — взорвался Старпом и, вскочив на ноги, разразился отборной моряцкой бранью. И голос его гремел на всю Вселенную.
— Подумаешь, завоображал. — Леди Макбет жеманно скривила губы, погасила свечу и скрылась во мраке.
Старпом в ярости пнул валявшийся под ногами небольшой камень. Увы, не сдвинулся камешек, не шелохнулась ни одна пылинка. Сапог его, как и он сам, не существует в физическом мире. Старпом шагнул с физического камня-астероида на метафизическую дедову дорогу и — другое дело! — с улыбкой наблюдал, как взметнулась и медленно оседала пыль. Постоял, подумал и пошел.
А я так и не решил: стоит ли навязываться? Сойдемся ли? Пожалуй, сойдемся. Все такой же неистовый и неукротимый, Старпом в чем-то главном стал иным. О многом он передумал, сидя на камне-корабле, и многое, очень многое пришлось ему пережить. Один тиранозавр чего стоит! А кровавый «мудрец» и диктатор? Ну, этот еще хуже. Да, жестоко обошлась с ним космическая судьба.
А старец, топающий впереди? С самого начала показался он мне каким-то пророческим и загадочным, как загадочная его дорога. Пока не поздно, пойду-ка я за ними, догоню.
Дорога петляла между холмами и оврагами. Слева и справа — пустота, позади — знойная мгла. Старпом затерялся где-то далеко впереди. Я пошел быстрее. Что ни шаг, то сотни и тысячи парсек. Нагнал я его с дедом вблизи какой-то шаровой галактики, занявшей своим сиянием почти полнеба.
— Ну наконец-то! — обрадовался Старпом, увидев меня. — А мы уже собрались обедать и ждать тебя… Присаживайся к нам, перекусим.
Не успел я присесть, как позади послышались звуки гармошки и кто-то запел веселую песню.
— Да, промашку я дал. — Старец озадаченно почесал затылок. — Что-то не додумал со своей дорогой. Шляются теперь по ней всякие пройдохи.
— Кто там? — полюбопытствовал Старпом.
— Увязался за мной один пьянчуга из сельского кабачка. Все следит за мной, выпытывает, куда я иду. Он и вас заприметил исподтишка. Заприметил, проныра.
Звуки гармошки затихли. Из-за холмика, пошатываясь, вышел мужик в стоптанных рваных сапогах. Но рубашка на нем новая и модная. Рукава ее и штаны заляпаны грязью — успел, видимо, мужик побывать и в канаве. Нетвердо перебирая ногами и пошатываясь, он снова заиграл на гармошке и запел песню о каком-то лихом разбойнике, но споткнулся о корягу и упал. С трудом поднявшись, выругался:
— Тьфу, старый хрыч! И дорогу-то не смог придумать поровнее. — Но, увидев нас, захохотал: — А вот и он. А с ним эти… полоумные… Ха! Ха! Ха! Смысл какой-то ищут, придурки.
Мужик заиграл на гармошке и снова запел, но не о лихом разбойнике, а песню с намеком:
Бей в барабан и не бойся, Целуй маркитанку сильней — Вот смысл глубочайший науки, Вот смысл философии всей.
Продолжал бы он еще куражиться, но ему помешали: послышалась чарующая нежная музыка. Подействовала она на пьянчужку отрезвляюще.
— Это он! — побледнев от ужаса, завопил он. — Он! В ад засунуть хочет!
Мужик заметался, подскочил к краю дороги и, спрыгнув, рассеялся в пространстве. С другой стороны на дорогу ступил Мельмот Скиталец и пальцем показал во мглу, где скрылся беглец:
— Видели? Слышали песенку? «Вот смысл глубочайший науки, вот смысл философии всей». Каково? А? Вот где истина. Она проста, как песенка этого бродяги.
— Шагай под дробь барабанную в земную жизнь с ее пошленькими прелестями? Так, что ли? — нахмурился Старпом. — Жаль мне тебя, Мельмот. Вырождаешься. Шутом гороховым становишься. Космическим паяцем.
— Я — космический паяц?
Как всегда в таких случаях, Мельмот покраснел от гнева. Но на сей раз — странно! — быстро взял себя в руки и не то чтобы успокоился, а как-то даже сник, ссутулился, сгорбился. Неудачи, видать, надломили его гордыню.
— Беру свои слова назад. — Старпом посмотрел на гостя с вниманием и сочувствием. — Давай присядем и поговорим хоть раз серьезно. Вижу, не шут ты, а личность очень даже не простая.
— И вы не простые. — Мельмот присел на пригорок, тут же расположились и мы. — Горемыки вы, — со вздохом продолжал он. — Маетесь высокой целью. А доступна ли вам она? Вот мне эта цель, кажется, доступна. Кажется! Может быть, вы разрешите мои сомнения? Подумайте. Ступеньки… У меня есть ступеньки к истине.
— Какие же это ступеньки? — заинтересовался Старпом. — Ну-ну. Слушаем.
— Видения меня посещают. Все они в понятных для людей образах. Как истолковать их? Чаще всего вижу… Знаете что? — Глубокие глаза Мельмота расширились от страха. Он зашептал: — Вижу саму Вечность в образе…
— В образе Бога? Старо, — отмахнулся Старпом.
— В том-то и дело, что не в образе седенького бородатого дяденьки, а совсем даже наоборот. Смотрите.
Мельмот взмахнул рукой, показав на разбегающиеся звезды и галактики и словно пригласив этим жестом за пределы нашего звездного мира. И что удивительно: мы в самом деле как бы со стороны, из далекой дали увидели Вселенную в виде… мыльного пузыря. И не одного, а целого табуна. Пузыри, точь-в-точь как Вселенные, расширяются, играя искринками звезд и цветными туманностями галактик. Потом лопаются, свертываясь в крохотные, меньше росинок, капельки, исчезают совсем. «Сингулярность», — мелькнула у меня мысль. А на смену лопнувшим из черного зева небытия выплывают новые Вселенные, целые караваны пузырей, сияющих всеми цветами радуги.
— Кто пускает мыльные пузыри? Кто? — От волнения Старпом вскочил и снова сел. — Кто же? Не томи. Дьявол?
— Не дьявол, — испуганно прошептал Мельмот. — Ступеньки к нему вам пока не дам, а покажу его самого. Смотрите.
Но и без загадочных ступенек Мельмота мы будто вознеслись в недосягаемую высь и увидели… младенца. Златокудрый, с ямочками на пухлых щечках, сидит он на чем-то пушисто-серебристом, овеян каким-то невиданным сиянием. А под ним бездонная пустота и мгла. Шалун улыбается, подносит к губам золотистую соломинку, пускает пузыри и весело, заливисто смеется. Пузыри опускаются во мглу, искрятся звездным светом, лопаются. А на смену им плывут сверху все новые и новые мыльные пузыри, и слышится детский смех.
Признаюсь, Вечность в виде играющего дитя произвела на меня впечатление. «Картину бы написать! — заскакали у меня взбудораженные мысли. — Картину! Это же ослепительный образ».
А со Старпомом-то что случилось! Образ Вечности, образ забавляющегося проказника оглушил его до такой степени, что он потерял голову, как в тот раз на фрегате, когда ему показалось, будто мы с капитаном знаем шифр пришельцев. Он вскочил и заметался.
— Вечность! Играющий младенец! — восклицал он, бегая вокруг Мельмота. — А что, если это так? Издевается… Играет нами вовсе не дьявол, а малолетний несмышленыш. Он сам не понимает, что делает… Где ступеньки? Ступеньки к нему!
— Успокойся, ступеньки со мной. — Мельмот встал и протянул Старпому какую-то бумагу. — Сначала оформим обмен. Подпиши вот этот документик.
— А взамен что? Ад?
— Да нет. — Мельмот несколько замялся. — Взамен получишь всего лишь мою обреченность. Так, пустячок.
— Ничего себе пустячок! — воскликнул я.
— Твою обреченность? — Старпом побледнел и, кажется, начал трезветь. — Вон оно что! Твою обреченность на вечное служение злу? Ну уж нет, прослужил я злу на своем веку. Хватит. Это страшнее ада. — Старпом окончательно пришел в себя и рассмеялся. — Братцы! Друзья мои! — повернулся он к нам. — Мельмот голову морочит своими видениями. Фокусник!
— Ну зачем же так? — Старец с жалостью посмотрел на обиженного и уныло сгорбившегося Мельмота. — Он не фокусник. Вечность — играющее дитя! Это не шутка. Над этим стоит подумать.
— Да, да! — подхватил я. — Это исполинский смыслоизлучающий образ. Он так и просится в мою картину. Это что-то светлое…
— Светлое? — усмехнулся Старпом, пытаясь охладить мой пыл. — Ошибаешься, художник. Согласен, Мельмот личность непростая и посещают его видения грандиозные. Видения начала всех начал. Но знаешь ли, кто этот шалун, пускающий пузыри-Вселенные? Это безобидное с виду дитя в сиянии света и радости? Это же сам дьявол во младенчестве.
— Ты опять за свое, — недовольно проворчал я и замолк, взглянув на Мельмота.
С ним происходило что-то необычное. Он, видимо, радовался тому, что его видения начинают принимать всерьез. Он даже улыбнулся и, потирая руки, порывался поведать нам еще что-то.
— Что? Еще одно видение? — загорелся я. — Говори же. Говори. У тебя дар художественного проникновения в самую суть.
— Да, еще одно видение. Пострашнее. — Мельмот испуганно огляделся по сторонам и, показав на далекие галактики, зашептал: — Думаете, это Вселенная? Думаете, она есть? Ошибаетесь. Есть только время и пространство, все остальное — пустота. Смотрите.
У Мельмота оказался не только художественный дар, но и дар внушать свои видения. Мы — жутко вспомнить! — очутились вдруг в центре гигантской темной пещеры. Ее стены — это то, что мы принимаем за время и пространство. Стены, одни лишь голые стены. И ничего больше! Звезды, планеты, разумная жизнь на них и мы сами — обман, мнимость зеркального отражения мира истинного, светоносного. Оттуда через трещину в пространстве, через узкую щель проникает в пещеру тонкий лучик света и, словно в камере-обскуре, рисует на стенах смутные, искаженные образы.
Нет ничего, кроме времени и пространства, этих стен пустой и мрачной катакомбы. Все остальное, все, что мы принимаем за реальность, — пляска теней, оптический обман.
Сумрачная катакомба взволновала меня еще больше, чем играющее дитя.
— Верно! — закричал я. — Вселенная и мы сами лишь отблески и тени мира идеального. Знаю! Я сам оттуда… А дорогу в мир истинный ты знаешь? Что это? — вздрогнул я, заметив, что Мельмот торопливо сует свою бумагу. — Документик?
— Да, подпишешь и увидишь дорогу.
— А взамен твою обреченность? — Я опомнился и замахал руками. — Нет, нет!
— Испугался, художник? — рассмеялся Старпом. — И правильно сделал.
Мельмот встал и в отчаянии разорвал «документик». Опять неудача! Понурившись и ссутулив плечи, он повернулся и уходил в свое вечное странствие. Не успел Мельмот рассеяться во мгле, как старец перекрестил его и со вздохом промолвил:
— Господи, успокой его душу. А вы чего смеетесь? — повернулся он к нам. — Жалко ведь.
— Над собой смеемся, дедуля, — сказал Старпом. — Одурманил он нас своими видениями. Суеверными мы стали и чуть документик не подписали.
— А видения у него нешуточные. Подумать бы над ними, — настаивал дед.
— Подумаем, дедуля. Особенно над этим шалуном. Страшное дитя! А второе видение мне напоминает что-то. Жил когда-то философ, свое учение связывал для наглядности с образом пещеры.
— Нет, катакомба у Мельмота куда значительнее и страшнее, — сказал я. — Катакомба у него со всеми признаками научной космологии. Стены ее — не что иное, как время и пространство. А материальные частицы, движущиеся на этом фоне, — всего лишь тени мира истинного и неведомого нам. Да, не простенькая катакомба у Мельмота, со значением. Может быть, это и есть реальность? А у того, у древнего философа — обыкновенная земная пешера и просто образ для наглядности. Только вот как звали того философа — не помню. Жил он миллиарды лет назад.
— И я, художник, не могу вспомнить. Хоть убей, не могу.
— Платошей его звали, — вмешался старец и ласковым голосом добавил: — Платошенька. Платоша. Знавал я его.
— Вспомнил! Не Платоша, а Платон! — воскликнул Старпом и с удивлением посмотрел на старца: — Да ты, дедуля, хитрюга. Скрываешь что-то, непомнящим прикидываешься. Веди нас по своей дороге. С тобой очень даже интересно. Но сначала накорми нас. Видишь, художник глазами уже съел твои запасы.
И в самом деле, я пожирал глазами дедову котомку и носом чуял запах огурцов. Я уже представил, как на зубах хрустит огурец, и голова у меня затуманилась от земных ароматов. Что поделаешь, бессмертному духу приятно вспомнить земную жизнь. Я уже присел и протянул руку к котомке, но меня остановил дед:
— Не торопись, сынок. Сначала я приготовлю чайку. Горяченького, вкусненького чайку. — Старец с приятностью потер руки и сладко зажмурил глаза.
«А дед сластена», — подумал я и, вскочив на ноги, замер с раскрытым ртом. Чайку! Вспомнился такой же любитель чая и такой же жизнелюб — дед тополь. А до него был нищий старец и профессор Рум на планете Счастливой. А еще раньше — Дед Мороз в мертвой Вселенной. Но в самом начале, еще в межзвездном океане… капитан! Одна и та же бессмертная личность!
— О чем задумался, сынок? — ласково спросил старец.
— Почудилось что-то, дедушка.
— Почудилось? Это бывает. Это память чуточку просыпается.
— Просыпается и, к сожалению, тут же засыпает.
— Да, это жаль, — сказал старец. — Но последнюю свою жизнь, как вижу, ты хорошо помнишь. Не оттуда ли простая и скромная одежонка? Шаровары, куртка — приятно посмотреть. А вот друг твой никак не может разлучиться с яркими побрякушками. Эх, слабы люди, слабы.
— Не ворчи, дедуля, — сказал Старпом.
Старец отошел на обочину дороги, где в низинке журчал ручеек, и начал собирать сухие листья, сучки. Заметив, что я то и дело посматриваю на старца, пытавшегося разжечь костер, Старпом приблизился ко мне и прошептал:
— Гадаешь, кто этот симпатичный ворчун? Не ломай напрасно голову. Просто мы тоскуем по капитану. Вот нам и мерешится. — И, пожав плечами, в глубокой задумчивости добавил: — А может, и не мерещится. Но хитрюга дед! Простачком прикидывается, а ведь дорогу-то какую смастерил. А? Не простую. Идет она через все звездные миры — и нет ей конца.
Наконец у деда разгорелся костер, и в котелке закипела вода.
— Не унывайте, сынки. Будет у нас чаек. Будет! — радовался старец и, взглянув на старпомовские аксельбанты, снова усмехнулся.
— Ума не приложу, как мне одеться? — нахмурился Старпом.
— Жалко расставаться с парадной формой? — рассмеялся я. — И не надо переодеваться. Пофорси уж аксельбантами. Пофорси.
— Ладно, потопаю сначала так. А там подумаем с тобой, в какой одежонке просить подаяние. А не взять ли пример с нашего старца? Посмотри на него. Нищий! Мудро, очень мудро. Ведь и мы с тобой такие же нищие. Ничего не выпросили у этого дьявола. — Старпом махнул рукой в пустоту, а потом ткнул пальцем в мерцающую рядом галактику. — Сходим сначала сюда.
— А что это за галактика?
— Понятия не имею. Но какая красавица!
Галактика и в самом деле выглядела в космической ночи нарядной новогодней елкой. Она тихо вращалась вокруг своей оси, сияла разноцветными фонариками, искрилась алмазной пылью бесчисленных светил.
— Видишь, сколько там звездных миров! — восторгался нищий Старпом. — А дорога-то! Дорога! Разве не чудо!
Взглянул я на дорогу, и дух захватило от волнения. Еще более странной, какой-то вещей показалась она. Искрились листвой кустарники, ласково шелестели травы, трещали кузнечики, славящие полуденный зной. И серебрилась пыль, мягкая как пух, прокаленная солнцем земная пыль. Очень уж полюбилась она деду.
— О чем задумался, милый? — прервал мои размышления старец.
Я и не заметил, как он разложил перед нами сельские дары и поставил кружки с горячим, пахнущим луговыми ароматами чаем.
— Не грусти, сынок. Сходим в деревеньку, потолкаемся в народе, послушаем, и станет веселее. Видишь, какая красавица приглашает нас в гости. — Старец показал на приблизившуюся к нам праздничную елку-галактику. — А пока попьем чайку, поговорим и не спеша пойдем.
Ну что ж, согласился я, пообедаем, чайку попьем и пойдем. Пошагаем и по огненной россыпи галактик, и по скромным деревенькам. Пойдем по звездной пыли и пыли земной. Что ждет нас впереди? И куда, в какие дали ведет эта пыльная, эта наша вечная и бесконечная дорога?
Семен Слепынин
СФЕРА РАЗУМА
Соблазны
Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
Ф. И. Тютчев
Уснули звуки, сгустились сумерки, и в душу мою вновь закрадываются страхи, недобрые предчувствия. В соседней комнате, превратившись в мышей, спят мои конвоиры и слуги. Как ни странно, к ним я уже привык. Куда труднее привыкнуть к маленькому садику перед окном. Стараясь унять тревогу, поглядываю на кусты сирени и одинокую ободранную яблоньку. Ущербная луна роняет вниз голубой пепел и тонким слоем, словно изморозью, покрывает траву. В этом зыбком, почти нереальном свете все выглядит особенно жутким и пугающим.
Подул слабый ветер. Мне же почудилось, что кусты качнулись сами собой. В них мелькнула какая-то тень, притаилась и… снова скакнула!
«Начинается», — с замиранием сердца подумал я. Но вот ветер улегся, ветви сирени замерли, и тени приняли обычный вид. «Слава богу, пронесло», — вздохнул я.
Вслед за облегчением в груди поднималось нехорошее, злое чувство к моему таинственному собеседнику, этому змею-искусителю, соблазнившему меня «магией приключений и неведомого». Нахлебался я этой «магии» до чертиков, до дрожи в коленях. Ему бы такое!
Желая как-то забыться, избавиться от тяжких ощущений, вспоминаю, что начались мои странствия далеко, совсем в ином месте и с иных, куда более приятных, прямо-таки мажорных ощущений.
Именно ощущений… Я еще ничего не видел и ничего не сознавал, но чувствовал всеми порами родное, теплое, ласковое солнце. Я ловил его губами, пил его лучи. Потом пришло сознание. Я открыл глаза и в волнении вскочил на ноги: кругом плескалось бескрайнее море трав и цветов. А в груди такое чувство, будто появился в этом мире внезапно, будто шагнул сюда из другого существования или из небытия.
Так оно почти и было на самом деле. Третий день я здесь и никак не могу освоиться с мыслью, что мою индивидуальность, мое психическое «я» взяли из двадцатого века и временно поселили в организм человека будущего. И зовут этого человека Василием Синцовым. Третий день я обживаю его тело и привыкаю к новому миру.
А привыкнуть не в моих силах. До того острым было ощущение радости и жажды жизни, что я беспричинно рассмеялся, повалился на землю и начал с детским восторгом кататься на траве.
— Смотрите, дядя Василь кувыркается, — раздался звонкий мальчишеский голос.
Я встал. Из высоких, волнами качающихся трав выплыли ребятишки. С ними высокий смуглый человек с внушительной дымчатой, седеющей шевелюрой, уложенной наподобие чалмы. Серебрившаяся борода его кривилась, как ятаган. Прямо-таки картинка из книжки арабских сказок. Он и был арабом по имени Абу Мухамед. Но обожавшие его детишки и многие взрослые звали просто дядей Абу.
— Резвишься, Василек? — с улыбкой спросил дядя Абу. — Вспомнил детство?
— Вспомнил, — смущенно ответил я, не зная, под каким предлогом поскорее отсюда убраться: контакты с людьми нежелательны.
— Вспомни заодно и Кувшина. Попрощайся с ним, — дядя Абу показал на запад.
Это был хороший предлог. Я поднялся ввысь и полетел на запад. Как и в прошлый раз, с любопытством ощупываю пояс, или, как его здесь называют, — антипояс. Изготовленный из мягкой биоткани, он обладает свойством создавать послушное малейшему желанию поле.
«Повыше», — мысленно попросил я, и желание мгновенно исполнилось. Парил я уже рядом с жаворонком, оглушительно и залихватски выводившим свои серебряные трели. Мимо, взмахивая руками и подражая птицам, пролетели двое малышей. А внизу ни малейших признаков железных или шоссейных дорог, ни одного здания. Лишь озаренные солнцем луга, рощи и перелески.
Я чуть снизился, набрал скорость, и рубашка на спине вздулась, захлопала, как парус. Замелькали верхушки деревьев. Но вот лес кончился, и в камышовой низине засверкало озеро. Никакой Кувшин меня здесь, конечно, не ждал. Да я и не знал, кто это такой.
Плавно спустившись, я пошел по воде, как Иисус Христос. Под ногами, в зеркальной глади, — глубокая синева с медленно плывущими облаками и стремительными, как черные молнии, птицами. Непривычно, даже жутковато шагать по перевернутому бездонному небу. Ступив на берег, я с облегчением почувствовал привычную тяжесть и углубился в лес.
Было в нем много неясного, жгуче таинственного. Вчера мой невидимый собеседник чуть приоткрыл завесу над загадкой лесов и полей, упомянул о какой-то Памяти, или иначе — Сфере Разума. Но лишь раздразнил меня, растравил любопытство. «Природа — сфинкс». Так сказал один из самых почитаемых мною поэтов. Да, окружающая меня живая природа — сфинкс. Но не в метафизическом, не в философском смысле, какой имел в виду поэт, а в самом что ни на есть физическом, в естественном. Быть может, «никакой от века загадки нет и не было у ней»? И все объясняется просто? Как желудь развертывается в дуб со всеми его корнями, ветвями, листвой, так и дремлющие необъятные силы, изначально заложенные в самом фундаменте материи, развертываются или уже развернулись во всей здешней природе. «Вон куда забрел», — усмехнулся я, не подозревая, как близок был к истине.
На одной из полян я присел рядом с дубом, потрогал его шершавую кору, потом сорвал травинку, растер ее, понюхал и пожал плечами — ничего особенного. И в то же время в каждой ветке, в каждой травинке и в каждом жуке, качающемся на цветке, чувствовал присутствие иной и непонятной жизни, даже что-то сказочное. Но что?
Поднявшись ввысь и пролетев над лесом километра три, вновь увидел под собой поля, рощи, перелески. На одном из холмов паслись лошади. Рядом с ними играли ребятишки.
Изредка попадались беседки с белыми колоннами, арки и даже старинные, празднично красивые часовенки. Чеканно изящные и легкие, как кружева, они естественно и просто, с какой-то музыкальной легкостью вписывались в пейзаж — в лужайку с высокой травой, в берег реки. Они манили меня, казались воротами в недоступный мир.
На берегу реки я приземлился вблизи арки, белевшей между высокими вербами. Справа из-за холмов неожиданно вылетел всадник на великолепном скакуне. Он спрыгнул с коня, вошел под своды арки и… пропал. Будто растаял в траве.
Бес любопытства зашевелился во мне, и я нарушил один из запретов — шагнул за арку. И ничего не случилось. Та же река и те же вербы на ее берегах, даже птицы те же носились в вышине. Еще шаг, и… Что это? Медленно, как из редеющего тумана, над рекой выступили мосты, появились гранитно серые набережные, заискрились купола и шпили дворцов. В нишах под колоннами дремали вереницы статуй… Город — прекрасный, как мираж, и странный, как фантазия сновидения, — вышел из ландшафта, будто вырос из лугов и рощ, как вырастают яблоки на яблоне или как в травах распускаются цветы.
Вверху над крышами домов и куполами дворцов проплывали пассажирские аэролодки. Но чаще люди ходили пешком. Мое поведение, видать, им казалось странным. Они с любопытством оглядывались на меня.
Я поспешил обратно за арку, и город исчез. Он тихо растворился в реке, вернулся в травы, в листья тополей и верб. Чудно все это.
Возвратившись в тот же лес, я отыскал укромный уголок, присел и задумался. Вряд ли город явился из загадочной Памяти. Пожалуй, тут все проще и связано скорей всего с геометрией пространства, с его изгибами и параллелями. Нет, Память — совсем другое. Память — сокровеннейшая тайна цивилизации. О ней ночной собеседник, мой дьявол-искуситель, лишь намекнул… А что, если?
Мысль внезапная и яркая, как молния, озарила меня. Я вскочил и начал в волнении ходить по поляне. Вверху пролетели двое взрослых с малышами, и я поспешил в свое укрытие, снова сел и стал спокойно рассуждать. А что если Память — это вся история человечества? Ушедшая в небытие, она как бы оживает здесь и присутствует в виде… В виде чего? Невидимки? Мой таинственный собеседник туманно упомянул о материализации. По желанию людей все созданное человечеством Память может представить здесь в самом натуральном вещественном виде. Но в последние годы, как я понял, с Памятью что-то стряслось. Образы прошлого, и образы дурные, стали оживать и помимо воли людей. Выброшенные в далекую доисторическую эпоху, они образовали там свой непонятный замкнутый мир. Целую страну. Ее надо изучить, и в качестве разведчика выбрали меня.
Почему именно меня? Вчера собеседник все объяснил. Он сказал, что уже были попытки заслать туда своих людей с хорошими актерскими данными. Один из них прикинулся средневековым инквизитором, другой — человеком двадцатого века. И тоже человеком довольно скверным — там такие и нужны. Но обитатели того мира при проверке разоблачили разведчиков.
— Личность каждого человека, его «я» — это его современность, сгусток символов внешнего мира, наисложнейший клубок понятий, образов и ассоциаций, — разъяснил он, как будто я недоумок.
— Это я знаю, — не слишком вежливо прервал я его.
Мой собеседник не обиделся и продолжал объяснять. Оказывается, их ученые еще не могут подделывать внутренний мир людей прошлых эпох. Поэтому их разведчики провалились и погибли.
Тогда ученые стали шарить в историческом прошлом в поисках подходящей кандидатуры и наткнулись… Нет, не могу без возмущения вспоминать вчерашний разговор. Они наткнулись, видите ли, на мою… «гаденькую душу». Боже мой, чего только не пришлось услышать! Я, оказывается, и ханжа, и повеса, и еще черт знает кто. Единственное мое жизненное правило, как он выразился, — «со вкусом ловить каждое пробегающее мгновение». Но самое «ценное»… Опять же его ехидное словечко! Самое «ценное» — я приспособленец. Я, дескать, прекрасно вживусь в любую социальную среду, какой бы гнусной она ни была.
Кажется, в тот раз я здорово нагрубил ему и потребовал вернуть мою столь непривлекательную душу на прежнее место, в свое столетие. Пытаясь исправить свою ошибку, змей-искуситель начал льстить. Он с похвалой отозвался о моих способностях как писателя-фантаста, о моей начитанности. Я не поддался. Он прибег к другой уловке — стал соблазнять.
Вот тут-то я, болван, и развесил уши. Миссия разведчика и впрямь сулила много интригующего. Во-первых, в тот мир, в доисторическое прошлое, минуя тысячелетия, я отправлюсь… на коне. На самом обыкновенном живом коне из породы орловских рысаков. Его даже звали Орленком. Во-вторых, страна, где мне предстоит побывать, загадочна невероятно. Наряду с вымышленными персонажами (какими — этого никто не знает), я могу встретиться с реально жившими и давно умершими людьми, с так называемыми историческими личностями. И даже как будто с моим любимым философом… Побеседовать с воскресшим Шопенгауэром? И жутко, и заманчиво.
И, наконец, самое главное: я проживу еще одну и совсем неведомую жизнь! Мне обещают, что я смогу родиться вот в этом дивном мире. С самого раннего детства перед моими жаждущими чувствами, перед моим пробуждающимся разумом во всей своей сокровенности предстанет вот этот мир-загадка, эта цивилизация-сфинкс.
— Тебя с детства влечет магия приключений и неведомого, — сказал вчера мой соблазнитель. — Меня тоже. Вот это общее в наших психических матрицах, общее от рождения, позволит ученым проделать эксперимент, названный ими рокировкой. Ты полностью состыкуешься с нашим миром и с детства проживешь мою жизнь как свою.
— Для чего? — допытывался я. — Не для моего же удовольствия. Как я понял, вы грубые прагматики.
Он попробовал объяснить. Но я понял лишь что-то очень обидное для себя. Оказывается, конь не потерпит чужака с «гаденькой душонкой», то есть меня. Поэтому туда поскачет он сам и лишь в конце путешествия предоставит свое тело мне, моей «психической матрице». Сам же он исчезнет надолго, свернется в особое состояние, сходное с полным небытием. И лишь временами я буду слышать его голос. А я, прожив во время рокировок новую жизнь, стану другим — таким или почти таким, как он, нравственно чуть ли не сольюсь с ним. Вот тогда конь примет меня, промчится через тысячелетия обратно и вернется сюда.
Все это звучало настолько интригующе, что я согласился. И впрямь: что я видел хорошего в моем скучном, томительно однообразном веке?
Занятый размышлениями, не заметил, как солнце перевалило через зенит и склонилось к закату. Пока не стемнело, решил посмотреть, каков я сейчас. Сначала попытался вызвать из прошлого, из моего двадцатого века зеркало, что находится в прихожей моей квартиры. Ничего не получилось — зеркало не материализовалось. Видимо, в загадочной Памяти нет его: слишком малозначительная вещь. Тогда я вспомнил один из залов Лувра, где в простенке стоит знакомое всем посетителям старинное зеркало. И вот оно… Овальное, в золоченой раме, с пылинками двадцатого века зеркало выступило прямо из воздуха. Любуйся!
И в самом деле: передо мной красивый малый — стройный, с хорошо посаженной головой, с большими задумчивыми глазами. Это же я, каким я был лет в двадцать-тридцать! И в то же время это Василий Синцов, его организм, или, как он выразился, его «биологический сосуд». Только в сосуд этот влили другое и (опять же его грубые слова!) «довольно дурно пахнущее содержание» — мое внутреннее «я».
Как я понял, наше внешнее сходство очень важно при проверке, которую мне предстоит выдержать там. Проверка… Признаюсь, она меня изрядно тревожит. Уж не пытки ли?
Зеркало исчезло, словно знало, что оно уже не нужно. Да и темнеть стало. В лесу стелились такие мягкие и ласковые тени, а листва, затихая, шепталась так дружески и братски, что тревога моя рассеялась, как дым. Нет, «природа-сфинкс» не даст в обиду даже там, в ином и неведомом краю, оградит от опасности. Я глядел на догорающие облака, на верхушки деревьев, где розовели брызги заката, и дивился: откуда эта неожиданная убежденность. Поднялся. И опять чувствовал, что в листьях клена, в ветвях дуба, в каждой травинке таится что-то доброе и чародейское.
Наконец до того распалил свое воображение, что меня начали посещать галлюцинации. Уже под вечер, когда в небе выступили первые звезды, я вышел к реке. На крутом берегу сидела девушка и, тихо напевая, расчесывала гребнем волосы. В каждом жесте, во всем облике ее было что-то от глубокой старины, от древних народных поверий.
Заметив меня, девушка вздрогнула, бросилась с обрыва и скрылась под водой. «Русалка», — мелькнула нелепая мысль. Охваченный детскими страхами, побежал. Через полчаса, уже в открытом поле, остановился и перевел дыхание. Начитался я в своем веке Гоголя и Погорельского. И вот на тебе: русалка! Даже сейчас в крупных звездах и тихой ночи чудилось что-то малороссийское.
В двух шагах беззвучно переливался в ложбинке ручеек, дробя зеркало лунного света на сотни зыбких осколков. Я сел перед ним и стал ждать. Наконец неведомо откуда — из небытия или из глубин моего «я» — стал выплывать он, мой ночной собеседник. Точнее, его голос, отчетливо звучащий в моих ушах, но неслышимый для других.
— Ты где сейчас?
— Не бойся, — мысленно ответил я. — Меня никто не видит.
— Днем тебе дали возможность еще раз погулять, познакомиться с нашим миром. Ты не накуролесил?
— Не такой уж я дикарь… Не варвар.
— Опять обиделся. Какой все-таки несносный человек.
— Вам, как я понял, такой и нужен.
— Не нам, а им, — поправил он. — Что делал сегодня? Кого видел?
— Опять столкнулся с вездесущим дядей Абу и его ребятишками. Но они посчитали, что это ты. Потом все же нарушил запрет и на минуту зашел в город.
— Ну это не беда.
— Но под конец случилось что-то с моим воображением. Это уже беда. Вечером на реке я видел будто бы русалку. Бред, конечно.
— Не совсем… Ну а общее впечатление?
— Тоже бредовое. Такое, словно попал в сказку.
— Отлично! Именно этого мы и добивались. В какой-то степени подготовили тебя, ибо попадешь в мир, очень похожий на сказку. Но сказку страшноватую.
— Не пугай. Страшит он меня, но одновременно интригует. А волшебный Орленок? Вы же можете показать его?
— Сейчас тебя посетит другое видение, что-то вроде научно-популярного фильма. Если оно понравится тебе и ты выразишь свое окончательное согласие, будем считать…
— Что эксперимент начался.
— Верно. Будем считать, что ты гаденькую душу свою… Ну-ну, не обижайся. Я же по-дружески.
— Хороша дружба…
— Не ворчи. Будем считать, что душу свою ты продал дьяволу и скоро попадешь в ад.
— Все шутишь…
— Какие там шутки! Признаюсь, мне здорово не по себе и хочу подбодрить себя. Опасно доверить свою судьбу и судьбу важного дела такому, как ты. Ведь там моим организмом и свободой воли будешь обладать только ты.
— Опасаетесь, что я могу продаться и верно служить, как выражаешься, дьяволу?
— Опасаемся. Но надеемся, что после рокировок ты изменишься нравственно и пожелаешь вернуться к нам.
— Опять загадочные рокировки! Интригуешь меня… И хочется, и боязно. Но больше хочется.
— Тогда начинаем?
— Начинаем.
— Ну что ж, верил бы в бога, сказал бы — с богом.
Голос с его дружелюбно-шутливыми интонациями затих. В тот же миг справа послышался странный звук. Я повернул голову и затаил дыхание. Ничего более прекрасного и захватывающего в жизни не видел! Из мглы выступил лунно-белый конь, величавый, как божество. На высокой, лебединой шее гордо красовалась голова с выпуклыми, звездно сверкающими глазами.
Орленок! Я понимал, что передо мной лишь копия, видение, фильм. И в то же время чувствовал, что это тот самый обещанный мне Орленок — повелитель времени, сказочный потомок орловских рысаков.
Немножко капризный, с надменной осанкой, он гарцевал на холме. Затем вдруг сорвался с места и бесшумным ураганом проскочил мимо. И — странно! — будто подхватил меня. Я почувствовал себя на месте всадника, и подо мной, мелькнув, исчезла степь… Нет, исчезло само пространство, и конь вырвался на просторы времени, на его мглистые дороги. Глухо рокотали копыта, проносились неясные тени, вмиг возникающие и вмиг рушащиеся города, древние цивилизации, эпохи…
Конь унесся, белой звездочкой сверкнул вдали и утонул во тьме тысячелетий… Видение исчезло. Я сидел на прежнем месте… С бьющимся сердцем огляделся. Тихо струился лунный свет. Он все так же дробился в ручейке и серебрил пустынную лесостепь.
И все это я смогу пережить наяву, а вернувшись на рысаке в чародейский мир, разгадаю его тайну? Да кто устоит пред таким соблазном! Кинув прощальный взгляд на искрившиеся травы, я почти вслух произнес свое окончательное:
— Согласен!
Лесостепь затуманилась, качнулась, стала уходить из-под ног. Сознание гасло… На миг кольнул страх перед проверкой в какой-то загадочной стране.
Страна изгнанников. Проверка
Сначала проснулись ощущения. В ушах свистел ветер, какие-то шелковистые пряди обхватывали меня, плескались волнами и мягко касались лица. «Конская грива», — возникла неясная мысль. Вскоре услышал топот копыт и увидел мелькавшие в ночной мгле стволы деревьев.
Моя личность медленно пробуждалась, прояснялось сознание. И пришла догадка: я на месте, в доисторическом лесу. Подо мной хронорысак, только что вылетевший из тьмы веков в пространство и в обычное течение времени. Приятно покалывая, по моему телу, по всем нервным клеткам растеклись электропсихические импульсы — мое «я», моя индивидуальность. Наконец я полностью овладел телом.
Конь почувствовал подмену и, замедлив бег, старался скинуть чужака, крайне ему неприятного. На одной из полян Орленок сделал свечу, но я обхватил его шею и удержался. Тогда он дугой выгнул спину и подбросил меня с такой силой, что я перелетел через его голову и плюхнулся в болотистую лужицу. Вскочив на ноги, я со злостью крикнул:
— Ты что, ошалел?
Шагах в десяти, презрительно вскинув голову, стоял снежно-белый красавец. Я не решался подойти к нему. Когда-то давно читал, что даже в моем «отсталом» веке лошади чувствовали дурного человека и шарахались от него. Как же поведет себя вот это совершеннейшее создание, этот нравственный чистюля? Что, если конь воспринимает человеческие биотоки как запах? А душа у меня, как убеждал мой собеседник, не слишком благоухающая. Кстати, где ты, дьявол-искуситель?
Отзовись! Подскажи, что делать? В ответ — ни звука…
Из-за туч выплыла луна и осветила меня. Мое внешнее сходство с Василем, прежним владельцем тела, ввело Орленка в заблуждение. В его глазах почти человеческие чувства смущения и вины. Опустив голову и словно прося прощения, конь начал приближаться. В трех шагах от меня он вздрогнул и замер. «Учуял, мерзавец», — пронеслась неприятная мысль. Всхрапнув, Орленок с отвращением отскочил в сторону, побежал и на соседней поляне присоединился к другому красавцу — серому в яблоках коню.
Откуда взялся второй конь? Кто он? Такой же чуткий хронорысак? Я не стал ломать над этим голову. Здесь меня наверняка подстерегают неожиданности куда более странные.
Они и впрямь не заставили себя ждать! Не прошел по лесу и двух километров, как за спиной послышался шорох, словно слабый ветерок коснулся сухих былинок. В душе нарастал страх: кто-то крался за мной! Обернулся. Шагах в десяти за жиденьким кустарником шевелился клубок тьмы более черной и плотной, чем окружающая ночная мгла. Клубок колыхнулся и, зашипев, рассеялся.
Я стоял, не веря страшной догадке. За кустарником снова что-то шевельнулось. Оттуда, змеино извиваясь, выползли черные волокна и мохнатые клочья. В ложбинке передо мной волокна и клочья мглы сплетались, густели, приобретали четкую форму… Тьма овеществилась!
Волосы поднялись у меня на голове: Черный паук! Создание моей же собственной фантазии! В одном из своих романов я изобразил паукообразное чудовище — пожирателя разумной протоплазмы. И вот мой жуткий вымысел ожил… Материализовался! Большой, почти в человеческий рост, сгусток приземистой тьмы выполз из ложбинки и приближался на членистых паучьих лапах.
Есть единственное средство спасения — свет. Причем только естественный свет. Но до рассвета еще далеко. Что делать?
Я вскрикнул и побежал. Помогало сильное, хорошо натренированное тело, ставшее моим. Я мчался, как лучший в мире спринтер, делал чемпионские прыжки. Запнувшись о корягу, упал. Вскочил и оцепенел от ужаса. На меня глядел Черный паук своими зеленовато мерцающими и словно оценивающими глазами. Удостоверившись, что перед ним то, что надо, паук протянул ко мне мохнатую лапу и удовлетворенно прохрипел:
— Разумная протоплазма… Вкусно!
Изо всех сил я бросился туда, где редели деревья. На сравнительно большой поляне остановился.
К счастью, светало. В сереющем небе таял диск луны, гасли звезды. Но Черный паук жаждал во что бы то ни стало полакомиться мною. Уж очень «вкусным» я ему казался. Он выкатился на опушку, с треском, словно танк, подминая кусты. На поляне однако сник, полз медленно и осторожно, придерживаясь темных низинок. И все же Черный паук перед рассветом не устоял. Зашипев в бессильной злобе, растаял. Рассеялся, как рассеивается обычная тьма.
Дрожа от страха и предутреннего холода, я простоял на поляне еще с полчаса. Мысли метались в голове, как перепуганные куры в курятнике. Понемногу начал успокаиваться и кое-что соображать. Итак, я, видимо, в стране, где оживает все самое страшное и злое, что придумано человеком, где материализуются все его кошмары, химеры и даже… стереотипы мышления. Почему бы нет? Чем ведьмы, черти или мой паук не стереотипы в образном, так сказать, «художественном» виде?
И странно: одновременно я забывал и об Орленке, и о миссии разведчика, и о многом другом. Знал только, что я Пьер Гранье и что здесь я как бы заново родился, воскрес после смерти. «Материализовался» вместе с кошмарами! Но среди них я, как реально живший человек, как будто на особом положении. Каком? Боже мой, уж не попаду ли я к ним в плен или в рабство? Вот это влип! И кто-то ведь подтолкнул меня на авантюру, соблазнил. Но кто? В памяти полный провал. В памяти лишь отдельные смутные представления о моей новой «родине» и кое-какие слова: «материализация», «персонаж». Да еще сказанное кем-то по моему адресу «гаденькая душа». Но кем?
Выглянувшее солнце позолотило макушки сосен, заискрились травы, и я робко шагнул в лес.
Сосновый бор наливался светом. Солнечные лучи острыми иглами протыкали ветви. Иглы накалялись, ширились и превращались в сияющие клинки, рубившие и рассекавшие панически уползающую паучью тьму. Я ободрился: мой жуткий вымысел материализоваться уже не сможет. А когда бор сменился смешанным лесом, почувствовал себя еще увереннее. Маленькими зеркалами сверкали листья клена, а белые стволы берез светились, как свечи. Я шел и шел в одном направлении. Куда-нибудь да выйду. Однако загадочному лесу не было конца.
Становилось жарко. Преградившая путь река дышала прохладой, и я решил здесь передохнуть. По стволу, поваленному ветром, перебрался на другой берег. Плакучие ивы полоскали свои косы в бегущей воде, сквозь шелестящую листву пробивались лезвия лучей и рисовали на реке искристые узоры.
Я присел у широкой излучины со стоячей водой. На глянцевых листьях кувшинок сидели лягушки и с любопытством таращили на меня глаза.
В середине излучины торчал сухой островок с чахлым кустиком. Рядом с ним, раздвинув слой ряски, из воды вынырнул горбатый незнакомец с водорослями, запутавшимися в седых волосах. Лицо у него широкое, с кривым носом и отвисшей нижней губой.
«Не красавец», — усмехнулся я, не испытывая ни удивления, ни страха. Мне ли, пережившему черный ужас, бояться какого-то водяного.
Водяной уселся на островок, меланхолично зевнул и огляделся. Увидев меня, захохотал.
— Ему жарко! — закричал он. — Девки, искупайте его!
Невесть откуда взявшиеся «девки» — светловолосые русалки — схватили меня за руки. Одна из них упала с ветвей прямо на плечи.
— Искупаем! — смеялись они. — Мы его хорошо искупаем!
В тот же миг я барахтался в тине глубоко под водой. «Утопят, мерзавки», — со страхом подумал я, с трудом высвобождаясь из цепких русалочьих рук. Вынырнул и перевел дыхание.
— Так его, девки! — веселился водяной, но, увидев мое испуганное лицо, сжалился и махнул рукой: — Хватит с него.
Взметнув брызги, он скрылся под водой. Исчезли и русалки. «Ну и ну, — подумал я. — Надо поскорее убираться из чертова леса».
Через час лес наконец кончился и открылась равнина. Далеко у горизонта виднелись какие-то строения, чуть ближе коптили небо высокие заводские трубы. Я с облегчением вздохнул: знакомый с детства, привычный пейзаж!
Шагах в десяти от опушки, раскинув мохнатые ветви, росла одинокая сосна. Под ней стояла, сверкая черным лаком, новая «Волга». Я спрятался за куст и стал наблюдать.
Из машины вылез мужчина и начал озираться. Лицо у него как будто неглупое, худое, как щепка, изрытое глубокими морщинами. И вообще он имел вид опустившегося и рано состарившегося человека. В том, что это человек («исторический персонаж», как здесь его, видимо, величают), я не сомневался. А знакомство с новым миром лучше всего начинать с человека. Какой он национальности, я не знал. Но столкуемся: ведь мы с ним наверняка говорим на одном и том же, неведомо кем вложенном в нас языке.
Я осмотрел свою измятую, еще не просохшую одежду. На брюках и пиджаке налипли листики ряски и висели зеленые нити водорослей. «Сойдет», — решил я и выступил из-за куста. Однако мой костюм произвел на незнакомца паническое впечатление.
— Водяной! — попятился он и замахал руками. — А ну сгинь, проклятый. Сгинь!
— Я не водяной, — успокоил я его. — И вообще не мифологический и не сказочный…
Слово «персонаж» из предосторожности не произнес. Ждал, что скажет незнакомец.
— Литературный персонаж? — с явным разочарованием спросил он.
Итак, «персонаж» и другие слова, навязчиво вертевшиеся в моем мозгу, здесь как будто в большом ходу. И я уверенно, даже с бахвальством заявил:
— Я исторический персонаж.
— Штурмбанфюрер! — радостно воскликнул человек. Он подскочил ко мне и, похлопывая по плечу, счастливо приговаривал: — Штурмбанфюрер! Палач! Наконец-то. Я так ждал тебя.
— Этого еще не хватало, — голос мой задрожал от обиды. — Хоть и гадкая душонка у меня, но я не штурмбанфюрер.
— А ты когда жил?
— В конце двадцатого века.
— А-а, — протянул незнакомец. — А звать как?
— Пьер Гранье.
— Немец? — Человек ободряюще подмигнул. Он все еще надеялся, что перед ним замаскировавшийся штурмбанфюрер. — Да ты не бойся. Здесь в почете будешь.
— Скорее француз. Но еще точнее — никто. По происхождению и местожительству я гражданин мира, перекати-поле. Но в последние годы жил в Западной Германии.
— Ладно, — подумав, сказал человек. — Сгодишься на что-нибудь, если пройдешь проверку на бесчеловечность. Неплохо, если бы ты был инженером или ученым. Им нужен этот… Как его. Научный и технический прогресс.
— Я писатель-фантаст.
— Очень неплохо! Был тут у нас один писатель. Но оказался бесполезным. Он мог писать только то, что хотел, а не то, что нужно. За ненадобностью его вчера сожгли.
«Ничего себе», — поежился я.
— Не бойся, — усмехнулся человек. — Исторические персонажи, то есть люди, большая редкость. Они дорожат нами.
— Кто они?
— Изгнанники, — ответил незнакомец и почему-то показал на ту самую одинокую сосну. На ее нижних ветвях сидели две вороны и с явным вниманием разглядывали нас.
— Видишь? — шепнул человек. — Следят.
— Следят? — Я испуганно огляделся. На соседний кустик присела стайка птиц, повертелась и улетела прочь. На опушке дятел деловито долбил дерево и не обращал на нас никакого внимания. И я успокоился.
— Их будто бы изгнали с родины, из далекого будущего, — продолжал человек. — Кто они и почему дорожат нами? Это драконы, ведьмы и вообще нечистая сила. Они действительно сила. Даже страшно. Но они… Как это? Не могут сделать новое.
— Понимаю, — вслух соображал я. — Они умеют только то, что заложено в них сказочной и мифологической традицией. К творчеству, к широкому поиску способны только люди.
— Ловко чешешь! — восхитился мой собеседник. — Ты толковый малый. Гроссмейстер будет доволен.
— А это кто такой?
— Наш диктатор, — шепнул человек. — И знаешь, кто сейчас на троне Гроссмейстера? Сам сатана.
— А почему Гроссмейстер?
— Не знаю… Все мы пешки в его руках. Может быть, поэтому? — Человек вдруг оживился и спросил: — Кстати, ты играешь в шахматы? Вот и хорошо. А то надоели карты.
Он подошел к машине и вытащил из багажника не шахматы, как я ожидал, а две бутылки водки и закуску.
— Выпьем для знакомства, — предложил он, усевшись на траву. — Меня зовут Алкаш.
— То есть Аркадий?
— Нет, просто Алкаш, — с затаенной обидой ответил он. — В прежней жизни меня почти всегда называли Алкашом. На собраниях, в вытрезвителе и даже в газете. Алкаш да Алкаш. Ну и черт с ними! Пусть буду Алкаш. Здесь я воскрес давно. Проверки еще были мягкими. Это сейчас боятся каких-то разведчиков. А тогда мне сразу поверили и дали право на жительство. Смотри!
На лацкане его пиджака красовался квадратный знак, служивший, как я догадывался, чем-то вроде паспорта. На нем светилась надпись:
«Алкаш (1940–2001).
Слесарь-сантехник.
Сомнений не вызывает.
Бесчеловечен в слабой степени».
«А я в какой степени?» — с упавшим настроением подумал я.
— Не унывай, дружище, — ободрял Алкаш. — Выпей, и сразу станет легче.
Пожалуй, он был прав. Вслед за Алкашом я выпил полный стакан водки. С непривычки закашлялся; но, закусив, почувствовал приятное головокружение, прилив уверенности и храбрости. Услышав о Черном пауке, я нисколько не смутился и спросил почти с искренним удивлением:
— А это еще кто такой?
— Что-то очень страшное. В городе Черный паук появиться не может. Он выползает в лесу из темноты. А чертям, драконам и даже Гроссмейстеру очень хочется посмотреть на него, полюбоваться.
— Вот пошли бы ночью и полюбовались.
— Что ты! Они ненавидят лес и боятся нечистой силы. Это они так называют русалок и других лесных жителей. Кроме черного страшилища. Паука они обожают. Он их союзник.
— А как получить паспорт? — спросил я, желая переменить разговор. Я и сам догадывался, чьим союзником может быть мое жуткое создание.
— Мне его выдал сам директор департамента. Это какой-то нечистый, очень похожий на кота. Зовут его Аристарх Фалелеич.
— Аристарх Фалелеич! — воскликнул я. — Уж не Мурлыкин ли?
— Мурлыкин, — с удивлением подтвердил Алкаш. — А ты откуда его знаешь?
— В фантастической повести Погорельского «Лафертовская маковница» есть такой нечистый дух. Кот-оборотень и чиновник. Уж не он ли?
Алкаш пожал плечами. Ну, конечно! Откуда ему знать Погорельского? «Все равно с ним полезно поговорить и кое-что выведать», — подумал я. А чтобы речь Алкаша лилась свободнее, наполнил его стакан. И сделал это напрасно. Собеседник мой совсем захмелел и заплетающимся языком с трудом выговаривал слова.
— Ты где мат… мат… Тьфу, мать твою!
— Материализовался? — подсказал я.
— Верно! Где появился?
— Вон там, около реки.
— Тогда понятно… Ик! Понятно, почему похож на водяного. Искупали? Меня русалки тоже чуть не утопили. Во стервы! Мне сейчас надо туда. Но боюсь.
— А зачем надо?
— У них есть сведения, что там должен мат… Тьфу, мать твою! Должен появиться исторический… Этот… Штурм… Штурм…
— Штурмбанфюрер?
— Он, подлюга! За доставку обещали орден.
— А зачем он им нужен?
— Пытатель им нужен, — шепнул Алкаш. — При допросах.
— Здесь же чертей до черта!
— Черти слабаки, сейчас сам увидишь. — Алкаш обернулся к сосне, где по-прежнему сидели вороны, и крикнул: — Эй, вы! Носач! Мефодий! Ко мне!
Вороны каркнули, спрыгнули на землю и превратились в чертей, в традиционных слуг дьявола — с рогами и копытами, с коричневой шерстью, пахнущей серой. Один из них — высокий и худой — обладал унылой лошадиной физиономией и большим, висячим, как банан, носом. Видимо, это и есть Носач. В противоположность ему Мефодий — коренаст, широколиц и курнос.
Черти подскочили и наставили на меня сверкнувшие на солнце вилы.
— Видел? — Алкаш засмеялся. — Вилы! Ничего умнее не придумали.
Однако вилы касались моих плеч и портили мне настроение. К счастью, чертей отвлекло одно странное происшествие.
Из леса выскочило существо, похожее на черта, но гораздо меньших размеров. Увидев нас, жалкое и плюгавое создание заметалось и запрыгало. Кинулось было в лес, но, взвизгнув от ужаса, отскочило обратно.
— Мелкий бес! — закричал Мефодий. — Лови его!
В охоте принял участие и Алкаш. Покачнувшись, он упал, но сумел схватить беса за хвост. Мефодий вцепился в рога, а в лапах Носача неведомо как оказались ремни и веревки.
Вскоре туго связанный бес валялся у машины и жалобно скулил. Над ним склонился Носач, нюхнул и отвернулся с величайшим омерзением.
— Какая гадость!
— Видел? — подмигнул мне Алкаш. — Стыдятся они своего родства с мелкими бесами. Соберут десятка два, свалят в кучу и сожгут.
Мефодий и Носач, засунув мелкого беса в багажник, снова наставили на меня вилы.
— Этого туда же? В багажник?
— Сдурели, — рассердился Алкаш. — Мне за него медаль дадут. Вам надо иметь при нем приличный вид. Человеческий! Это же персонаж исторический.
Услышав, что я персона историческая, черти с любопытством взглянули на меня и приняли человеческий образ. Передо мной стояли мушкетеры времен кардинала Ришелье. Рослый Носач мог бы сойти за Портоса, если бы не сутуловатость и непомерно большой нос. Щеголеватый Мефодий то и дело поглаживал эфес шпаги, поправлял богато расшитый пояс и улыбался. Форма мушкетера, видать, ему очень нравилась.
— А ну, проваливайте, — махнул рукой Алкаш. — Не мешайте нам.
Мушкетеры уменьшились, вновь обратились в ворон, взмахнули крыльями и уселись на прежнее место — на нижние ветви сосны.
— Видел? — весело спрашивал Алкаш, хвастаясь своей властью над чертями.
Власть, однако, оказалась призрачной. Речь Алкаша становилась все более бессвязной, но я все же выяснил, что Мефодий и Носач действительно его слуги. Но одновременно и конвоиры. Они неотступно следовали за ним, жили в одной квартире и по малейшему подозрению в неблаговидных намерениях могли доставить в ЦДП. Что это такое — не знаю. Но когда Алкаш, с трудом ворочая языком, выговаривал «цедепе», он бледнел. И ужас этот невольно передавался мне.
Для храбрости я выпил еще полстакана водки, потом еще… Дальнейшее помню смутно. Кажется, мы с Алкашом обнимались, клялись в вечной дружбе и, как это частенько бывает, тут же подрались.
Опомнился я, когда в голове зазвенело, а из глаз посыпались искры. Мефодий, стукнувший меня копытом по лбу, стоял рядом и волосатой лапой поддерживал за плечи. Рога и копыта исчезли, и на меня с презрением и насмешкой смотрел уже Мефодий-мушкетер.
— Эх вы, а еще люди. Напились, как свиньи.
Обмякшего Алкаша держал за шиворот Носач. Брезгливо обнюхав его, он пробормотал:
— Свиньи. Возись теперь с ними.
— Ничего, — усмехнулся Мефодий. — Мы их в цедепе. Там они очнутся.
— Не смеете, — встрепенулся Алкаш.
Ужас перед ЦДП был так велик, что Алкаш на миг протрезвел. Он засуетился, усадил меня и своих конвоиров в машину и взялся за руль. Машина, однако, виляла, шарахаясь из стороны в сторону, наконец съехала во влажную луговину и забуксовала. Водитель бессильно уронил голову на руль.
— Говорил же, — уныло гнусавил Носач. — Возись теперь.
Черти вышли из машины, подхватили ее с двух сторон, и… У меня сердце зашлось от страха, когда увидел, что летим высоко в поднебесье. От толчка Алкаш очнулся, равнодушно посмотрел на проплывающие внизу облака и, сплюнув, снова уронил голову на руль.
«Привык уже, — шевельнулась у меня злая мысль. — Как же, старожил!»
Машина приземлилась около высокого здания. Мефодий ввел меня в вестибюль, сзади плелся Алкаш и кричал:
— Доставлю! Я сам!
— Сначала выспись, — прогнусавил Носач.
Поднялись на лифте, шли какими-то запутанными коридорами. Меня бережно передавали из рук в руки и наконец усадили перед огромным экраном. На нем заплясали искры, поползли разноцветные полосы.
«Мои нервные токи, — мелькали догадки. — Это что? Проверяют на бесчеловечность? А, плевать!»
Рядом стояли какие-то люди. Но люди ли? Нет, не боялся я их нисколько. В груди бродила хмельная отвага. Я был смел до дерзости и несколько уязвлен: окружающие вели себя, как мне казалось, не слишком учтиво. Они тыкали в меня пальцами, жестикулировали и о чем-то громко спорили. До моего затуманенного сознания доходили лишь обрывки фраз.
— Сейчас бесполезно… Все его импульсы перепутались.
— Исторический?
— Несомненно… Это человек.
— Уверены? Почему?
— Хотя бы потому, что он пьян… — Я ожидал, что говорящий скажет «как свинья», но услышал еще более оскорбительное: — Он пьян, как человек.
— Это Алкаш его…
— Я не Алкаш! — взвился я. — Не путайте меня с ним. Я Пьер Гранье, известный писатель-фантаст и композитор. Это ты Алкаш!
Я ткнул пальцем в полного субъекта с красными губами и плюнул ему в лицо. Субъект злобно зарычал. Сжав кулаки, он шагнул ко мне, но сдержался и отошел в сторону.
Ко мне отнеслись терпимо. Кажется, даже уговаривали, пытались снова усадить в кресло. Особенно обходительной была молодая блондинка с нежным голосом и до того красивая, что я, взмахнув кулаком, закричал:
— Не притворяйся. Знаю, кто ты. Ты ведьма!
— Уведите его! — послышался чей-то повелительный голос. — Пусть проспится.
Проснулся я утром следующего дня в светлой уютной комнате. Сознание было ясным, но настроение — хуже не придумаешь. «Что я натворил вчера? — с отвращением вспоминал я. — А впрочем, все к лучшему. Они убедились, что я подхожу им, что я достаточно… Как это у них? Бесчеловечен?»
Немного побаливала голова. Умывшись, почувствовал облегчение и стал одеваться. Отлично отутюженная одежда лежала на стуле, ботинки были начищены до блеска. Кто это постарался? Невидимые слуги? Мои конвоиры?
Я сел за стол и неуверенно произнес:
— Эй! Есть кто-нибудь?
Перед столом бесшумно возникли два субъекта. Пышные эполеты на плечах, сапоги со шпорами, сабли… «Э, да мне достались гусары времен Кутузова», — усмехнулся я, и настроение почему-то начало повышаться. Одному из субъектов — высокому и стройному, с лихо закрученными усами — подходит, пожалуй, имя Усач. Другого, пониже ростом, но кряжистого, я мысленно назвал Крепышом.
— Чего изволите? — вежливо спросил Усач.
— Вы… черти?
— Так точно! — отозвались гусары и прищелкнули…
Вот чем прищелкнули — каблуками сапог или копытами — разглядеть не успел, ибо в мгновение ока передо мной стояли черти. Высокий и стройный черт копытами передних лап гладил свои усы, а коренастый Крепыш уставился на меня внимательными немигающими глазами. Это меня все больше забавляло, и я с усмешкой спросил:
— А еще кем умеете быть? Воронами?
— Прошу не оскорблять, — Крепыш обидчиво вскинул рогатую голову. — Мы не вороны.
— А кто же вы?
— Мышки, — ответил Усач.
Шерсть на чертях чуть задымилась, сами они затуманились и быстро свернулись в серых мышей, резво бегавших под столом. Одна из них — с длинными усами — так и норовила взобраться на мои ботинки. Я поспешно замахал руками.
— Хватит! Хватит! Верю, что вы мышки.
Смешные конвоиры мои вернулись в гусарский вид. Вежливый и галантный Усач, звякнув шпорами, слегка склонился и спросил:
— Что желаете? Завтракать? Нет ничего проще.
Он взмахнул над столом рукой. Появились скатерть и чрезмерно обильный завтрак: стаканы с кофе и чаем, разнообразные салаты, банки с вареньем. В большой посудине, шипя в масле, дымился поросенок.
— Куда столько? — удивился я. — Может быть, и вы со мной позавтракаете?
— Разумеется, — ответил Крепыш и без тени юмора добавил: — Ничто человеческое нам не чуждо.
Крепыш оказался прожорливым чертом. Рыбу отправлял в рот почти целиком и перемалывал кости крепкими зубами, поросенка рвал руками, а засаленные пальцы вытирал о скатерть. Усач поморщился и толкнул его в бок. Вздрогнув, Крепыш огляделся по сторонам, взял вилку и начал есть аккуратнее. Буквально во всем черти старались походить на людей.
Позавтракав, Крепыш сказал:
— А сейчас на проверку.
— Надо, так надо. — Я понимал, что процедуры, которую вчера сорвал, не избежать.
Вышли на улицу. Одноэтажный коттедж, данный мне, вероятно, в личное пользование, стоял на краю города. Перед окнами небольшой сад с яблоней и кустами сирени, позади расстилался пустырь. Вдали синела кромка леса.
На пустыре суетились изгнанники. Кто кем был, разобрать невозможно, ибо все они имели человеческий облик и были одеты в рабочие спецовки.
Внезапно, словно из-под земли, вырос цех с дымящейся трубой, потом второй, третий… Под ликующие крики «Ура!» возник завод. Кажется, точно такой я уже видел в своем двадцатом веке.
Но когда приступили к «постройке» рабочего поселка, начались споры. Изгнанники не могли даже договориться, какую эпоху предпочесть. Поочередно появлялись то небоскребы Нью-Йорка, то средневековые замки. Кто-то из озорства или по ошибке выхватил из прошлого и поставил рядом с заводом нарядную церковь, кресты которой жарко засверкали под солнцем. Это возмутило одного низкорослого типа. Он развернулся в стометрового гиганта и пнул церковь с такой яростью, что та разлетелась на куски. Обломки растаяли в воздухе, уйдя в небытие, а сам гигант вернулся в человеческий образ. Все произошло так быстро, что я не успел сообразить, кто этот разгневанный субъект. Вероятно, то был злой великан из какой-то сказки.
— Засмотрелся, — хмыкнул Крепыш и грубовато толкнул меня в плечо. — Идем в город.
Вошли в город, в это хаотическое нагромождение зданий из разных эпох. Арабская мечеть стояла рядом с Кельнским собором, под небоскребом приютился замок с полуразрушенными бойницами. И тут же высилась Эйфелева башня.
Однако чем ближе к центру, тем больше единообразия и порядка. Ровными рядами тянулись знакомые с детства многоэтажные дома. На какое-то время показалось, что я в родном городе. По широким улицам привычно сновали автомашины, витрины магазинов светились рекламными огнями. На минуту остановился у книжного прилавка. Романы о шпионах и гангстерах, свирепая и кровожадная фантастика, американские комиксы — все, как дома. Хотел взять с собой редкое издание Шопенгауэра. Но, вспомнив, где я нахожусь, бессильно опустил руки.
«Держаться, — приказал я себе. — Главное выжить, а там будет видно».
Конвоиры не торопили меня, давая возможность освоиться. И я проникся к ним чуть ли не благодарностью. Во всяком случае, приободрился и начал с любопытством присматриваться к прохожим. Вскидывая тощие ноги, впереди шел какой-то долговязый тип в джинсах. Может быть, Кощей Бессмертный? Рядом с ним, тяжело ступая, шагал толстяк. «Наверняка дракон в своем истинном виде», — подумал я. Мог я, конечно, и ошибаться. Но что поделаешь, если внешность многих горожан была выразительна до шаржа! На другой стороне улицы стремительно мчался, чуть ли не летел субъект в кавалерийской бурке с лихими и острыми, как пики, усами. Чем не крылатый Змей Горыныч?
По сопровождавшим меня конвоирам прохожие догадывались, что я персонаж реально живший, а не вымышленный, как в большинстве они сами. Они приостанавливались и бесцеремонно разглядывали меня. Хорошенькие девушки приветливо улыбались. Увы, и в этом мире мне льстило их сладостное внимание, хотя я прекрасно понимал, что каждая из здешних красавиц может оказаться черт знает кем.
Одна миловидная и со вкусом одетая девица с зонтиком давно следовала за мной, иногда забегала вперед, пытаясь лучше рассмотреть. Густой поток прохожих мешал ей. Она уселась на зонтик, ставший вдруг метлой, превратилась в старую отвратительную ведьму с кривым носом, взмыла вверх и начала кружиться надо мной.
— Позор! — послышались возмущенные возгласы. — Куда смотрит полиция?
Подскочили полицейские, ловко стянули ведьму вниз и начали избивать ее резиновыми дубинками.
— Не буду больше! — кричала она.
Не обращая внимания на вопли, полицейские продолжали «вколачивать» ведьму в человеческий вид. Когда они ушли, на тротуаре беспомощно лежала давешняя девица. Ее полноватые губы рассечены, хорошенькое личико исполосовано синими рубцами. Я хотел поднять ее, но девица встала сама и, прихрамывая, поспешно завернула за угол.
— Так ей и надо, — злорадствовали прохожие. — Надолго запомнит.
Вероятно, появляться в общественных местах в своем истинном, первородном образе считалось у нечистой силы неприличным.
Но где же исторические персонажи? Хотя бы один? Как ни вглядывался в прохожих, среди них собрата не нашел. А когда неожиданно столкнулся с таковым, то не обрадовался. Фальшивая, будто наклеенная улыбка, липкие и верткие глаза… «Скользкий тип», — поморщился я. По сравнению с ним его конвоиры — рослые гренадеры выглядели бравыми и симпатичными молодцами.
На другой сравнительно малолюдной улице встретил одноногого с костылем, до того знакомого, будто я дружил с ним в своей прошлой жизни. Но был он без конвоиров. Стало быть, это не реально живший человек, как я, а вымышленный. От его широкой треугольной шляпы, от синего камзола и торчащих за поясом пистолетов веяло разгульной морской романтикой. На плече одноногого сидел попугай. И что-то радостное, давно забытое дрогнуло в моей груди. Это же пират Джон Сильвер! Ожил он здесь, словно шагнул из моего детства и со страниц романа Стивенсона «Остров сокровищ».
Встретив мой восхищенный взгляд, Джон Сильвер удивленно приостановился. Потом, стуча костылем, подошел и с широкой улыбкой спросил:
— Мой читатель?
Я кивнул. Крепыш толкнул меня в плечо и проворчал:
— Не задерживайся. Здесь еще не таких типов увидишь.
Вышли на большую, покрытую гранитной брусчаткой площадь. «Парламент», — светилось над одним из дворцов. Почти в сотне метров от парламента, на другом краю площади, стояло хорошо знакомое сооружение прошлого — собор Парижской богоматери. Над ним зловещим багровым огнем полыхали буквы — «ЦДП». Чуть ниже светилась разъясняющая надпись: «Центр допросов и пыток».
«Веселенькое заведеньице», — поежился я и хотел повернуть на боковую улицу. Но конвоиры, гаденько ухмыляясь, подталкивали меня к страшному собору. «За что?!» — хотел я крикнуть, но из горла вырвался лишь сиплый невнятный звук.
Сердце у меня останавливалось, потом гулко колотилось и снова замирало. Ноги подкосились, словно стали ватными. Гусары подхватили меня под мышки и подвели к дверям собора, где, подмигивая, насмешливо искрились слова: «Добро пожаловать».
Но тут конвоиры вдруг круто свернули в сторону. Уже далеко от собора, на узкой тихой улочке, страх понемногу отпустил меня, разжал свои тиски. Колени дрожали, но шел я уже самостоятельно. По бокам шагали мои конвоиры. Они поглядывали на меня, весело перемигивались и похохатывали.
— Что это вы затеяли? — с раздражением спросил я.
— Мы пошутили, — хихикнул Усач.
— Дурацкая шутка!
— Как умеем, — обиделся Крепыш.
Недовольные друг другом, молча подошли к многоэтажному зданию, над которым светились буквы «ДИП».
«Департамент исторических персонажей», — сообразил я. Конвоиры ввели меня в прохладный вестибюль, потом мы поднялись в лифте и остановились на шестом этаже.
— Мы будем ждать здесь, — сказал Крепыш и впихнул меня в одну из дверей.
Я очутился в маленькой темной прихожей перед тяжелыми бархатными портьерами. Чуть раздвинул их и в щелочку увидел просторный светлый кабинет. На столе кипы бумаг, телефоны, пишущая машинка. Кресло секретарши пустовало.
На столе сидела пушистая белая кошечка и, поглядывая в зеркало, умывалась. Услышав шорох портьер, она вздрогнула и спрыгнула в кресло.
Предварительно кашлянув, я вошел в кабинет. В кресле сидела молодая блондинка с высокой пушистой прической. «Ведьма, — понял я. — Кажется, та самая, которой я вчера нагрубил».
Секретарша встала и подошла ко мне. «Да она прехорошенькая», — улыбнулся я, стараясь при этом не гнать столь привычные для меня в прежней жизни блудливые мысли. В них-то, быть может, сейчас мое спасение…
Я слегка поклонился и с искренним сожалением сказал:
— Извините, мадемуазель. Вчера получилось не очень красиво.
— Что вы, голубчик, — нежным голосом заговорила она. — Не переживайте. Мы же понимаем, что это Алкаш напоил вас. Сами, надеюсь, не пьете?
— Почти, мадемуазель… Простите, как вас?..
— Элизабет, — улыбнулась блондинка. — Зовите просто Элизабет.
— Пьер Гранье, — в свою очередь представился я. — Известный в прошлом писатель-фантаст и немножко композитор.
— Это вранье мы слышали еще вчера, — раздался сзади сиплый бас.
Я обернулся, и сердце у меня зашлось в груди: дракон! Вернее, тот самый толстый тип, в которого я вчера плюнул. Хотя он имел вид респектабельного дельца, вырядившегося в старомодный фрак, но я почему-то не сомневался, что это дракон.
— Наш сотрудник мистер Ванвейден, — представила его Элизабет.
— Не вранье, — собравшись с духом, возразил я. — Говорю правду.
— Это мы сейчас проверим, — голос донесся из угла, в котором до того никого не было.
Среднего роста субъект, одетый в зеленый сюртук, выступил из угла и прошелся по комнате. Походка у него мягкая и вкрадчивая, на круглой физиономии сладко жмурились глаза и шевелились длинные усы. И я чуть не воскликнул: бабушкин кот! Выразительный образ Погорельского. Неужто он?
— Директор нашего департамента, — почтительно шепнула Элизабет. — Аристарх Фалелеич Мурлыкин.
— Вы… из повести Погорельского? — спросил я.
— Ах, ты читал «Лафертовскую маковницу», — приятно удивился Аристарх Фалелеич и чуть не замурлыкал от удовольствия. — Прелестная вещица. Прелестная. Не правда ли?
Посчитав, что запанибратские отношения с непроверенным персонажем неуместны, он нахмурился и властным голосом приказал:
— Введите его!
Мистер Ванвейден грубо втолкнул меня еще в одну неведомо как возникшую дверь. Я споткнулся о порог и упал. «Дурная примета», — неприятно кольнуло в груди. Встал и обнаружил, что нахожусь в огромном светлом зале. Какие-то субъекты в белых халатах вертелись около помигивающей огоньками электронной аппаратуры.
Директор департамента хотел усадить меня за стол — знакомый мне по прежней жизни детектор лжи. Но мистер Ванвейден, скривив красные губы, сказал:
— Дурацкий примитив. Он так же врет, как этот тип.
— Ладно, — согласился Мурлыкин. — Веди его к главному экрану.
Меня посадили перед огромным, почти во всю стену экраном, от тускло-свинцовой поверхности которого веяло пугающим холодом. Я смотрел на него с неприязненным чувством. «Он все знает, — думал я. — Он сейчас вывернет меня наизнанку и все им расскажет».
Похожий на гнома низкорослый человечек суетился, нажимая кнопки, но экран не загорался.
— Опять не работает, — недовольно проворчал Мурлыкин.
— Сложная неисправность, — заискивающе юлил гном. — Нам не справиться. Согласился помочь Непобедимый. Сейчас придет.
— Сам Непобедимый! — воскликнул директор. — Будем ждать.
К моим рукам, к груди и вискам пиявками присосались датчики. Потом меня привязали к креслу и стали ждать. Немного погодя по залу прошелестел, как ветерок в камышах, почтительный шепот:
— Непобедимый… Непобедимый…
Я повернул голову в сторону двери и застыл с разинутым ртом… Дядя Абу! Откуда он? Из каких закоулков памяти вынырнул этот добряк и любимец детворы? Где мог я его видеть? «Вздор, — убеждал я себя. — У меня начинаются галлюцинации».
Таинственный посетитель с усмешкой оглядел рабски согнувшихся изгнанников. Увидев меня, он удивленно вскинул брови и… подмигнул. «Опять мерещится», — мелькнула мысль. Незнакомец подошел к экрану, повозился минуты две и удалился, сопровождаемый подобострастными поклонами.
Экран засветился, и Аристарх Фалелеич Мурлыкин восхищенно прошептал:
— Маг, просто волшебник.
А я все еще не мог опомниться и сидел с глупо разинутым ртом. Мурлыкин хмуро усмехнулся и обратился к своему помощнику:
— Понюхай на всякий случай. Уж не пьян ли?
— Дыхни! — грубо приказал мистер Ванвейден. Он склонился, понюхал и заявил: — Притворяется. Можно начинать.
На экране поплыли зеленые круги, заколыхались оранжевые полосы. Все это слилось в многоцветное волнующееся облако — в наглядную картину моей «гаденькой души». Горькие слова эти вспомнились потому, что облако было какое-то скользкое, с неясными расплывчатыми краями. Глядя на него, директор департамента удовлетворенно потирал руки.
— Видишь? — улыбаясь и показывая на экран, обратился он к мистеру Ванвейдену. — У него аморфная нравственность… Приспособленческая! Это хорошо.
Нечто подобное я где-то уже слышал не раз, к подобным оскорблениям почти привык. Вскоре я мысленно поблагодарил своих конвоиров. Их злая шутка неожиданно сыграла спасительную роль, пришлась при проверке весьма кстати. Ужас перед ЦДП с большой силой всколыхнул инстинкт самосохранения, и тот до сих пор не улегся, рисуя на экране четкие линии. Директор Мурлыкин умело расшифровывал их и, не стесняясь в выражениях, давал обидные для меня пояснения.
— Что характерно для него, так это трусость и преувеличенное представление о своей особе. Чтобы сохранить свою шкуру, он будет исправно служить нам. — Обернувшись ко мне, он с усмешкой спросил: — Будешь служить сатане?
— А что мне остается?
— Верно. Ничего тебе больше не остается, — искривив губы, злорадно ухмыльнулся мистер Ванвейден.
— Внешне он умеет вести себя как порядочный человек, — беспощадно продолжал директор департамента. — Но внутри-то! Видишь? Прекрасная картина. Нравственный вакуум! Полное отсутствие ненужных идеалов и моральных устоев.
— Тоже верно, — осклабился мистер Ванвейден. — Перед нами законченный подонок.
Это уж слишком! Я дернулся в кресле, но быстро совладал с собой и успокоился. Вернее, просто сник. «Я такой и нужен», — метнулась тоскливая мысль.
— Подонок? — добродушно рассмеялся Мурлыкин. — Преувеличиваешь. Никак не можешь простить вчерашнее. Помню, как он метко плюнул в тебя. Что поделаешь, поведение исторических персонажей непредсказуемо и опасно. Но так же непредсказуемы, игривы скачки их мышления и воображения. И в этом творческая полезность людей, их эвристическая ценность для нашего прогресса. Они способны на любую дьявольскую выдумку. И не только в технике. Без них не было бы сейчас ни нас с тобой, ни нашего любимого Гроссмейстера. Иной раз люди выдумают такое, чему и сами потом не рады.
«Это уж точно», — подумал я, удивляясь, откуда нахватался эрудиции кот-оборотень, этот ветхозаветный нечистый дух.
Экран погас, и я с облегчением вздохнул: проверку выдержал.
— Не радуйся, — хмуро усмехнулся Мурлыкин. — Осталось самое главное: установить твою идентичность с историческим Пьером Гранье.
— Трудное это дело, — сказал мистер Ванвейден. — Сейчас Память работает с перебоями. Для начала вызову стол и стулья.
Загадочная Память работала и в самом деле из рук вон плохо, с большим трудом и неохотой выбрасывая вещи из исторического прошлого. Правда, стол она материализовала новый и крепкий, сверкающий коричневым лаком. Но что за стулья! Старые и колченогие, они будто выхвачены из захламленного, затянутого паутиной сарая. Один из стульев под грузным Ванвейденом треснул и развалился. Мистер Ванвейден тяжело поднялся и, чертыхнувшись, со злостью пнул обломки.
— Приведи референта по идентичности, — усмехнулся Мурлыкин. — У нее получается лучше.
«А дракон-то с ленцой», — отметил я, глядя, как Ванвейден нехотя, вразвалочку зашагал в приемную. Вернулся он с Элизабет.
— Все материалы по Пьеру Гранье, какие удалось взять из Памяти, здесь, — Элизабет подняла миниатюрную дамскую сумочку, в которой могли уместиться лишь зеркальце и пудреница.
«Небогато», — подумал я, забыв, что сумочка принадлежит ведьме. Элизабет раскрыла ее и вытащила внушительную по размерам партитуру оперы «Раймонда» — мое юношеское заносчивое подражание Сен-Сансу. Оперу забраковали, но партитура каким-то чудом сохранилась в архивах театра. И вот ее материализовавшаяся копия здесь.
— Не надо, — Аристарх Фалелеич отшвырнул партитуру.
Ее края на лету начали дымиться, исчезать. Но полностью дематериализоваться она не успела: мистер Ванвейден подхватил ее и положил на пол. Книги, газеты, журналы — все, что за ненадобностью отбрасывал директор, его помощник ловил и аккуратно складывал.
— Зачем это? — удивился директор.
— В случае, если этот тип не пройдет проверку, он будет прекрасно гореть на бумаге.
— Дельно, — одобрил Мурлыкин.
С возрастающим страхом взирал я на дьявольскую сумочку, из которой Элизабет выхватывала, как из бездонной ямы, все новые и новые кипы бумаг. Понемногу кое о чем начал догадываться. И я проникся благодарностью к Элизабет: пытаясь как-то помочь мне, она нарочно вносила в проверку хаос и неразбериху.
— Все не то, — хмурился Аристарх Фалелеич. — Как я могу по этому барахлу установить идентичность? Давайте книгу с его биографией и портретом.
— Есть и с портретом, — Элизабет положила на стол книгу, на обложке которой золотом блеснул портрет.
Я испугался. Если найдут несоответствие портрета с оригиналом — что тогда? ЦДП? Осторожно скосил глаза и присмотрелся. Увидев на обложке знакомое лицо с окладистой бородой — портрет величайшего в мире писателя, успокоился.
— Что вы мне суете! — рассердился директор. — Это же Лев Толстой!
— Извините, — смутилась Элизабет. — Вот, кажется, то, что надо.
Мистер Ванвейден взял у нее том «Литературной энциклопедии» и начал листать. На одной из страниц нашел мой портрет и к нему небольшой текст на одну колонку.
— Вроде похож, — сказал Аристарх Фалелеич, взглянув на протрет.
— Похожих людей много, — возразил его помощник. — А вот биографии неповторимы.
Сверяясь с текстом, он выспрашивал у меня, где я жил, в каких странах и когда путешествовал, какие произведения написал. Я отвечал подробно и уверенно.
— Все совпадает, — разочарованно пробубнил мистер Ванвейден. Очень уж хотелось ему сжечь меня. — Но этого мало. Нужна спецпроверка.
— Спецпроверка? — Мурлыкин пожал плечами. — А если он от страха с ума спятит? Кто отвечать будет? Но для идентификации энциклопедии маловато.
Элизабет настойчиво предлагала шефу еще какие-то книги.
— Что это? — спросил он.
— Фантастические произведения самого Пьера Гранье.
— Не надо, — Мурлыкин махнул рукой.
— Как не надо, — возразила Элизабет, — в самый раз. Его книги расскажут больше, чем экран. В творчестве художник проявляет свою личность, его произведения — это его духовный и нравственный автопортрет.
«Умница», — отметил я. Аристарх Фалелеич подумал и улыбнулся.
— А ведь дельно говорит.
Он взял у нее три книги. И одна из них — жуткая фантасмагория «Черный паук». Мурлыкин бережно полистал этот роман, а потом посмотрел на меня с любопытством и уважением.
— Так это ты придумал Черного паука?
Я кивнул.
— Врет, — угрюмо упорствовал мистер Ванвейден. — Спецпроверка. Нужна спецпроверка.
— Ладно, — сдался Аристарх Фалелеич. — Против спецпроверки не возражаю. Вот ты и проведешь ее.
— Опять я, — недовольно проворчал Ванвейден, но ослушаться не посмел. Он защелкнул на моих запястьях стальные наручники, похожие скорее на кандалы, и со зловещей усмешкой сказал: — Через несколько часов сниму.
«Ерунда, — успокаивал я себя. — Снимет кандалы и расшифрует показания датчиков». В кандалах, как я понимал, вмонтирована микроаппаратура, регистрирующая мои самые затаенные мысли, чувства и настроения. Скрыться от этого микросоглядатая, притвориться иным, чем я есть, — невозможно. И я решил быть самим собой. Будь что будет.
Тем временем директор департамента подозвал одного из служащих и вручил ему «Черного паука».
— Бестселлер. Размножить и распространить.
Служащий бегом кинулся выполнять поручение.
— А самого автора отпустим, — сказал Мурлыкин. — Пусть пока живет. Ценный экземпляр!
Вместе с Элизабет я вышел в приемную. В груди бродила, плескалась животная радость: я уцелел! Я им нужен! На пиджаке светился квадратный знак, дающий право жить. На нем даты моего прежнего земного бытия и указано, что владелец его — писатель и что он «достаточно бесчеловечен». Внизу, правда, красным предупреждающим огнем горели слова: «Вызывает сомнения». Но они погаснут, как
только снимут кандалы. Однако Элизабет, взглянув на кандалы, озабоченно покачала головой.
— Неплохо бы найти историческое лицо, которое может подтвердить, что вы — Пьер Гранье. Немца или француза, вашего современника. Знаете здесь кого-нибудь?
— Никого.
— А д’Артаньян?
— Мушкетер? — удивился я. — Он здесь?
— Здесь, — улыбнулась Элизабет. — Забавный молодой человек. Пользы от него мало. Но ему разрешили жить, потому что он безвреден.
— Он не сможет удостоверить мою идентичность, — с сожалением сказал я. — Это персонаж литературный.
В коридоре меня поджидали Усач и Крепыш, мои простоватые и смешные конвоиры. Я был почти счастлив. С ними я чувствовал себя куда свободнее и безопаснее, чем в обществе страшного мистера Ванвейдена и добродушного с виду Мурлыкина.
— Отпустили! — обрадовался Усач. — С удовольствием буду служить ему.
Крепыш все еще хмурился, но с Усачом согласился.
— Я тоже готов работать с этим типом, хоть он и зануда.
— Ну и везет же мне сегодня, — рассмеялся я. — То подонок, то зануда. И почему зануда?
— А кто обзывал нас воронами, а потом дураками?
— Извините, братцы, — с чувством сказал я. — Идемте домой.
Вышли на улицу, и первое, что бросилось в глаза, — новый книжный магазин. Перед ним толпилось множество изгнанников. Расталкивая друг друга, каждый стремился протиснуться к лотку и схватить книгу. «Какая однако, культурная страна, — удивлялся я. — Сколько книголюбов».
Размахивая дубинкой, подскочил какой-то тип в новенькой полицейской форме и с ромбовидным знаком литературного персонажа на груди. Как я догадался чуть позже, это был знаменитый чеховский унтер Пришибеев.
— Нар-род, не толпись! — кричал он и лупил дубинкой по спинам книголюбов. — Р-разойдись!
— Осторожнее, болван! — возмущались в толпе. — Не видишь разве? Книги. Это разрешено.
Я протолкался вперед и увидел на лотке внушительные стопки моего «Черного паука». Вот этот роман и вызвал у нечистой силы ажиотаж: книга шла нарасхват. Раньше, в прежней жизни, такой успех привел бы меня в самовлюбленное и счастливое настроение. Но сейчас я отвернулся от лотка со стыдом и унынием. Тем более, что самого автора вели под конвоем и в кандалах.
На центральной площади, между Парламентом и страшным собором Парижской богоматери, тоже колыхалась толпа.
— Катастрофа! — слышались возбужденные голоса. — Автомобильная катастрофа!
Решительно работая локтями, из толпы выбрался уже знакомый мне субъект в кавалерийской бурке и разочарованно махнул рукой:
— Ничего особенного. Никого не раздавило.
Толпа понемногу рассасывалась, а когда вдали замаячила фигура унтера Пришибеева, исчезла совсем. На опустевшей площади — черная «Волга» с помятой фарой и врезавшийся в нее роскошный «Опель-рекорд». За его рулем сидела покрасневшая от смущения молодая девушка. Она открыла дверцу, вышла и завертела головой, не зная, куда деваться от стыда.
— Не умеешь, не берись! — сердито прогремел водитель «Волги» и тоже вышел из машины.
«Алкаш», — обрадовался я. Подступая к сконфуженной девушке, Алкаш потрясал кулаком и кричал:
— Не берись, говорю, за руль. У, старая ведьма!
Девушка и в самом деле мигом стала дряхлой сгорбленной каргой, села на метлу и улетела. Да так проворно, что полицейские только рты разинули.
— Тьфу, нечистая сила, — хмурился Алкаш. Но увидев меня, просиял: — Дружище! Жив!
— Жив. Директору департамента я понравился, — не без бахвальства ответил я. — И знаешь, почему? Именно я придумал…
Хотел сказать: «Черного паука», но передумал. Опять как-то нехорошо стало, стыдно. Если Алкаш узнает, будет ли он меня уважать? Вряд ли.
— Однако что это? — спросил Алкаш. — Кандалы? Спецпроверка? Скверное дело.
— Ерунда. Снимут показания датчиков, и все.
— Снять-то снимут. Но выдержишь ли? Три дня назад один монах не выдержал кошмаров и в ужасе что-то наговорил на себя. Заподозрили, что он разведчик. По дороге в «цедепе» он скончался.
— Не пугай. Меня сейчас беспокоит вон тот исторический.
— Гадкий тип, — согласился Алкаш, увидев того самого невзрачного господина с наклеенной улыбкой, не спускавшего с меня липкого взгляда. — Как-то он и ко мне прицепился, словно банный лист. Еле отвязался. Его здесь ценят.
— Кто он в историческом прошлом?
— Агент царской охранки. На машине мы удерем от него.
Я уселся рядом со своим приятелем. Но с конвоирами вышла заминка, немало меня позабавившая. Я и в дальнейшем я цеплялся за каждый смешной пустяк, чтобы забыть страхи и поддерживать помогавшее жить беззаботное настроение.
Все четверо — конвоиры Алкаша и мои — на заднем сидении уместиться не могли. Зашел спор, кому уходить в микросостояние. Никому не хотелось расставаться ни с плащами мушкетеров, ни с гусарскими мундирами.
— Воронам неприятно находиться в машине, — заносчиво заявил Мефодий. — Мы вольные птицы.
Моих гусар ущемило самолюбие. Они кричали, называли своих недругов глупыми черными воронами. Дело чуть не закончилось потасовкой. Усач и Крепыш выхватили сабли и подступили к мушкетерам Алкаша. Те ощетинились шпагами.
— Довольно! — прикрикнул Алкаш. — В «цедепе» захотели? Сейчас полицейского позову.
На краю площади, около синагоги, прохаживался полицейский — плечистый мужчина с резиновой дубинкой. Конвоиры приутихли и начали вполголоса совещаться. Более сговорчивыми оказались мои гусары. Они сели в машину и тихими мышками притаились в углу сидения.
Вскоре липкого агента охранки мы оставили далеко позади, а еще через полчаса Алкаш подкатил к крыльцу моего коттеджа.
— Уютный домик, — похвалил он.
А я с изумлением взирал на ставший неузнаваемым завод. Появились новые корпуса, аккуратными рядами тянулись четырехэтажные дома поселка. В рабочих спецовках сновали изгнанники. И все у них получалось быстро, добротно и ладно.
— Здорово орудуют, черти, — отозвался Алкаш. — Наловчились хватать откуда-то из ничего.
— Но зачем им промышленность? — спросил я. — Из ничего они могут брать все, что угодно.
Оказалось, далеко не все. Есть какие-то барьеры или запреты на термоядерную энергию, на лазерное и силовое оружие. Изгнанники хотят сделать все это с помощью «эвристических способностей» исторических персонажей.
— Но зачем?
— Дурацкий колпак, — загадочно ответил Алкаш и показал на небо.
Я взглянул вверх, увидел темно-синее предвечернее небо, редкие облака — и ничего больше.
Тем временем Алкаш с помощью конвоиров из «ничего» вытащил для меня новенькую голубого цвета машину.
— Это дело надо обмыть, — сказал Алкаш.
— Я с тобой пообедаю, но пить не буду.
— Правильно, — согласился мой друг. — Кандалам выпивка помешает. Да и ночь лучше встретить трезвым. Кошмары будут.
«Причем тут кошмары?» — хотел я спросить, но не успел. Алкаш подскочил к своей машине, взял из багажника закуску и бутылку, которая оказалась пустой. Он с сожалением повертел ее и отбросил в сторону.
— Мефодий, достань выпивку, — Алкаш подмигнул мне. — У них это красиво получается.
— Свинья, — процедил Мефодий, но просьбу выполнил охотно и ловко. Бутылку выхватил прямо из воздуха.
— Носач! — воскликнул Алкаш, протянув стакан с водкой. — Выпей хоть ты со мной. Ну хоть капельку.
Носач понюхал водку и, замахав руками, в ужасе отскочил. Отчихавшись, брезгливо прогнусавил:
— Не понимаю, как люди пьют такую гадость.
— Видел? — подмигнул мне Алкаш. — Никак не могут. А жаль. Зато в карты они научились здорово. Они и твоих научат.
И верно: сдружившиеся мушкетеры и гусары вскоре сидели за столом и с увлечением играли в подкидного дурака.
Меня же все больше занимала, даже чуть тревожила лихорадочная деятельность изгнанников. В заводских корпусах мелькали огни, какие-то готовые машины и приборы взлетали так высоко в поднебесье, что искорками вспыхивали под лучами упавшего за горизонт солнца. Покружившись, искорки разбегались. Видимо, на другие заводы и в лаборатории. Зачем все это? Хотят создать новое оружие и разрушить «дурацкий колпак»? И что это за колпак? Силовая сфера?
Задумавшись, не заметил, как потемнело. Густые тучи обложили небо, начал накрапывать дождик. Осоловевшего Алкаша конвоиры втискивали в автомашину.
— Свинья, — брюзжал Носач. — Возись теперь с ним.
Носач и Мефодий подхватили машину, взлетели вверх и затерялись в низко клубящихся влажных тучах. Они унесли Алкаша домой. Мне стало так грустно и одиноко, что я поспешил к своим гусарам. Все-таки какое-то общество.
В большой комнате Усач прилаживал к стене трехэкранный телевизор. Близился торжественный час, что-то вроде вечернего дьяволослужения. Я уже кое-что слышал об этой церемонии, призванной возвеличить Гроссмейстера. Оно и понятно. Диктатура сильной личности и диктатура страха — только на этом может держаться разношерстное и буйное общество изгнанников.
«Любопытно взглянуть на сильную личность, на самого Люцифера», — подумал я, удобно усаживаясь перед телевизором. Крепыш выбил из-под меня стул с такой стремительностью, что я упал на пол.
— Ты что? В костер захотел? — испуганно зашептал он. — Стоять!
Превратившись в чертей, конвоиры вытянулись в струнку. И в это время засветился телевизор. Крохотные телепередатчики, летающие повсюду подобно комарам или москитам, передавали изображения на все три экрана. На левом — улицы и площади, на которых горожане вдруг засуетились и заметались. Одни стремились домой к своим телевизорам, другие ломились в храмы, мечети, синагоги, где их поджидали светившиеся экраны. Опоздавших хватали и тут же на улицах сжигали. Ужас и благоговение должен внушить этот час.
На правом экране — просторный, с высокими сводами зал какого-то храма и сотни изгнанников. В час дьяволослужения нечистой силе позволялось расслабиться, побыть в своем истинном виде и поэтому люди — исторические и литературные персонажи — выглядели особенно жалкими и запуганными. Их почти и не видно. Толпились рогатые черти, с визгом перелетали растрепанные ведьмы, толкались и переругивались какие-то непонятные лупоглазые чудища. Сильное впечатление производил дракон, возвышающийся над остальными наподобие исполинского динозавра.
Однако центральный экран — средоточие всеобщего внимания — скучно серел клубящимися дождевыми тучами. Но вот тучи бесшумно раздвинулись, разошлись красиво, как театральный занавес. Открылось чистое густо-синее небо. Из-за горизонта торжественно выплыло большое кучевое облако, золотисто подкрашенное закатившимся солнцем. Под грохот барабанов облако приближалось, и стали видны хрустальные дворцы — чертоги сатаны. Засверкали купола, замелькала колоннада. Барабанный гром нарастал и вдруг мгновенно смолк. Зритель как бы вместе с тишиной влетал в огромный, напоенный светом зал.
В центре на небольшом возвышении — золотой трон. Меня постигло разочарование: Гроссмейстер предстал не в своем подлинном грозно-сатанинском виде, а в образе обыкновенного человека со скипетром в руке. Справа выстроились директора департаментов, другие влиятельные администраторы. И тоже в строго подтянутом человеческом виде. Среди них и Аристарх Фалелеич Мурлыкин.
Я посмотрел налево и не поверил глазам своим… Ангелы! Слева от трона тихо и скромно стояли белокрылые, с нежными и кроткими взглядами ангелы. Кто они? Ближайшие советники сатаны? Быть может, по совместительству еще и палачи? Все могло статься в этом странном и страшном мире.
Сатана поднял скипетр, и тот стал похож на мерцающий факел: во все стороны вылетали из него искры. Потом Гроссмейстер встал, и среди нечистой силы, толпившейся в храме на правом экране, прокатился гул восторга. Встал он и в самом деле внушительно. Театрально величественный поворот головы, и я как следует рассмотрел его лицо — не слишком умное, но как будто волевое. Во всяком случае крупное, грубовато рубленное, как у какого-то римского императора. Не помню какого.
Под нарастающие аплодисменты Гроссмейстер подошел к микрофонам и заговорил. О чем? Смешно подумать, но мне показалось, что о «демократии», которой он «призван управлять». Слова тонули в шуме, трещали копытами черти, лупоглазые чудища в храме подпрыгивали, гулко хлопал когтистыми лапами дракон, взвизгивали ведьмы. Аплодировали не только в храме, но, как я догадывался, все изгнанники, прильнувшие к экранам.
Крепыш грозно взглянул на меня. Звякая цепями кандалов, я старательно захлопал в ладоши. Речь Гроссмейстера перестал слышать совсем. Возможно, она вообще не имела особого значения. Да и смысла тоже.
Важен был ритуал. Сначала подумал, что он тоже лишен смысла. Но тут случилось со мной что-то непостижимое, что-то такое, что лежит за пределами моего разумения и опыта. Какая-то непонятная сила подхватила меня и, как трясина, засосала в ликующий аплодирующий поток. Я как бы воспарил и очутился в храме среди сотен тех, кто с гамом и свистом летал под сводами, кто восторженно взирал на Гроссмейстера и трещал копытами, хлопал когтистыми лапами.
Крутясь в беснующемся хороводе, я пытался кое-как рассуждать: что это? Имитация коллективизма? Шабаш обожания? Дальше я вообще перестал что-либо соображать. С каким-то невообразимо приятным остервенением я хлопал в ладоши, выколачивал остатки своего «я» и погружался во всеобщее блаженное одурение. Кажется, вместе со всей нечистой силой начал даже подвывать.
Сколько времени продолжался шабаш? Час? Полтора? Ничего не помню. Я и не заметил, как под грохот барабанов и звуки фанфар телевизор погас. Мои конвоиры-черти, облачившись в человеческий вид и гусарскую форму, ушли в соседнюю комнату и с картами в руках уселись за стол. А я с непривычки еще долго не мог выйти из сладостного оцепенения и, звякая кандалами, продолжал с упоением хлопать в ладоши.
— Бывает, — усмехнулся Усач, заглянув в мою комнату.
Я опомнился и, утомленный обилием впечатлений, решил лечь пораньше. Погасив в своей комнате свет и не раздеваясь (руки были скованы), положил голову на подушку. Сомкнуть глаз, однако, не удалось. За окном мелькнула какая-то тень. Птица?
Охваченный тревогой, я сел на кровати. За окном качались под ветром жиденькие кустики сирени. Листья влажно блестели под тусклой, выглядывающей из-за туч луной. Но дождь перестал. «Почудилось», — подумал я. Но птица появилась снова, неподвижно повисла и… заглядывала в окно! Не птица это… Летучая мышь! А вид летучих мышей, вспомнилось, принимали вампиры-покойники, встающие по ночам и сосущие кровь живых.
«Спецпроверка!» — пронеслась догадка. Еле дыша, я заглянул в соседнюю комнату. Из-за неплотно прикрытой двери падал сноп света. Шумно игравшие в карты конвоиры вдруг приумолкли и, съежившись, с испугом глядели в окно. Летучая мышь слепо тыкалась в стекла. Искала, видимо, раскрытую форточку. Не найдя ее, отлетела назад, упала наземь и развернулась… в мистера Ванвейдена!
Так вот кто он на самом деле! Не дракон, как я предполагал, а вампир. И внешность его сейчас на глазах заметно менялась. По бледному лицу разлилась синева, глаза загорелись кровавым огнем, а на измятом фраке, ранее отлично отутюженном и чистом, появились следы плесени и кусочки земли. Будто он только что вылез из могилы.
Вампир приблизился и подергал рамы. Стекла задребезжали, но окна не открывались. Тогда он подошел к наружной двери, и та загрохотала, заходила ходуном под ударами его ног и кулаков. Дверные запоры прыгали, но держались.
Ища поддержки, я заглянул в соседнюю комнату. На столе валялись карты, стулья опустели — моих гусар словно ветром сдуло. Под диваном, шурша бумажным мусором, бегали и жалобно попискивали мыши — насмерть перепуганные черти. Что это? Нечистая сила страшится другой — более высокого ранга? Или это входит в общий спектакль спецпроверки?
Спектакль… Смешно подумать, как подобными ироническими словечками я пытался спасти душевное равновесие. Изо всех сил я цеплялся за свои материалистические подпорки. Гнилыми они оказались. Они треснули, развалились. И я ухнул в жуткую невесомость, в бездну мистики…
Луна выкатилась из-за туч и осветила поляну перед окнами. Неподвижно стоявший вампир смотрел на меня с застывшим смехом мертвеца… Он будто читал мои мысли! Вампир шевельнулся, перевел взгляд на крышу и догадался, что в комнату можно проникнуть через трубу. Но он слишком толст для этого. Начнет худеть? Случилось, однако, куда более жуткое. Щеки и рыхлые губы мистера Ванвейдена, его жирные плечи и живот начали гнить, разлагаться и кусками падать на землю. Через минуту вампир сбросил с себя земную плоть, как истлевший скафандр, и ярко забелел скелетом.
Поскрипывая костями, скелет подошел к водосточной трубе и взобрался наверх. Железная крыша загремела под его шагами, а меня начала бить ледяная дрожь. Вскоре скелет выпал из камина. Да так неловко, что с грохотом покатился по полу.
Чертыхнувшись, скелет поднялся, растопырил костяшки пальцев и медленно двинулся ко мне… И тут случилось то, что вспоминалось потом с отвращением и стыдом. Я безобразно заверещал. Животные вопли, прерываемые короткими всхлипываниями, неудержимо рвались из горла. Кажется, я кричал: «Не надо!» — и даже: «Мама!»
Скелет захохотал, протянул костлявые руки к моим запястьям и снял кандалы. Потом повернулся и влез в камин.
Я потерял сознание. Очнулся, когда скелет находился за окном и «одевался» в земную плоть. Минуты через две он стал прежним грузным, но изысканно одетым сотрудником департамента. Мистер Ванвейден постоял немного, одернул фалды фрака, поправил галстук. Потом, позвякивая кандалами, снятыми с моих рук, вразвалочку зашагал и вскоре растаял во тьме.
С бьющимся сердцем я посидел на кровати минут пять. Потом простыней вытер с лица холодный пот и вышел на улицу: надо освежиться, прийти в себя.
По небу мчались рваные тучи, озарявшиеся багровыми всполохами, когда на заводе разливали сталь. Невдалеке, светясь обуглившимися костями, на плахе догорал какой-то изгнанник, опоздавший на дьяволослужение.
Я свернул в сторону леса и подошел почти к самой опушке. Уж не сбежать ли и зажить в лесу вольной жизнью? И вдруг похолодел: там поджидает меня Черный паук! Мое же собственное детище, вымысел еще более жуткий, чем вампир. Нет, из города выходить нельзя. Вспомнил, что паук не может появиться в городе, не приняв человеческого вида. А этого ему делать не положено. Слава богу, хоть это я предусмотрел в своем романе.
Я поспешно повернул назад. Уже недалеко от коттеджа замер: со знаком на моем пиджаке что-то творилось. Слова «вызывает сомнения» засветились ярче обычного. Потом почти погасли, еле-еле мерцая. И снова вспыхнули. Я стоял, с замиранием сердца ожидая результатов спецпроверки. Сейчас в департаменте наверняка анализируют показания кандалов, вычитывают самое затаенное в моей психике. Страх! В этом они поднаторели. С помощью страха они вычерпали из меня все до донышка. И сейчас, подлецы, любуются моим «нравственным вакуумом». Устанавливая идентичность, наверное, сравнивают с моими произведениями — моим «автопортретом».
Слова «вызывает сомнения» еще раз вспыхнули и погасли. Вместо них ровным светом засияло: «Сомнений не вызывает».
Слава богу! На меня в буквальном смысле слова рухнуло облегчение. Одновременно начала рушиться и стена забвения. Будто плотина размывалась под напором воды: стали просачиваться какие-то воспоминания, а в глубине моего «я» зашевелился «он» — мой ночной собеседник. Кажется, он призывал продолжить диалог, начатый совсем в ином мире. В каком? Смутно, неясно мир тот начал выступать из мглы. И вдруг я вспомнил все!
Я поспешил в коттедж. В комнате, где поселились мои конвоиры, все так же валялись на столе карты и горел свет. Я прислушался. Под диваном тихо… Заснули! Я погасил свет, прикрыл дверь, разделся и сел на кровати. Я ждал его голоса, я жаждал встречи с собеседником с каким-то злым нетерпением. В груди у меня так и кипело: ну, подожди!
— Наконец-то, — в ушах моих послышался слабый, но все более крепнущий голос. — Проверку ты прошел, иначе мы не вступили бы в контакт.
— Слушай, ты!.. Это подло! Втравили меня в такой кошмар. Мы так не договаривались. Вы обманули. Это подло!
Он что-то говорил. Но голоса его почти не слышал — так я был разъярен. Ругательства и проклятия сыпались из меня, как горох из разорванного мешка. Он торопливо уговаривал, но до моего сознания доходили лишь отдельные слова: «Успокойся… Расскажи, что видел… Вместе подумаем… Руганью делу не поможешь…»
Пожалуй, он прав. Минуты три я помолчал, собираясь с мыслями. Потом стал рассказывать обо всем, что со мной приключилось. Наконец я так разошелся, что начал рассказывать образно, иногда с искорками юмора, что собеседнику моему особенно понравилось.
— Молодец! Давно бы так.
— Но… что это? В твоем голосе я слышу боль.
— Погиб мой друг и напарник. Помнишь, ты говорил о монахе, погибшем после спецпроверки? Это он.
— Вон оно что! Это был мой дублер! Тогда понятно, почему в лесу оказался второй конь.
— Его конь осиротел…
— Что поделаешь, — мне хотелось как-то утешить собеседника. — Ваши ученые многое предусмотрели, кроме мистической спецпроверки. К нему ночью кто-то приходил. Не обязательно вампир. Может, кое-кто и пострашнее. Вот он и не выдержал.
— Но ты ведь выдержал.
— Мне повезло. С первых же минут я был приучен к неожиданностям.
— Алкаш?
— Не только. Гораздо важнее другая встреча. В ночном лесу к кошмарам подготовил этот… — Я слегка замялся. — Ну, этот… Черный паук.
— Как? — удивился он. — И твой паук материализовался? Удостоился чести?.. Поздравляю!
— Не ехидничай. Он чуть было не съел меня в лесу, очень похожем на ваш. — В моем мозгу, как озарение, пронеслась догадка, и я воскликнул: — Постой! А что, если пауки, вампиры и прочая гадость — это продолжение вашего дивного мира?
— Ты прав. Увы, это продукты нашей высокой цивилизации.
— Однако продукты у вашей цивилизации довольно странные.
— И весь мир наш покажется тебе странным. Частично ты видел его. А сейчас увидишь как бы изнутри. За считанные секунды, протекшие во внешнем мире, ты проживешь почти всю мою жизнь и тогда сам все поймешь. Начнешь с детства. Как я завидую тебе! Для меня оно позади, а ты к нему подключишься… Нет, ты заново родишься! После нескольких сеансов новой жизни ты психически, нравственно изменишься, станешь почти таким, как я. Это важно, ибо конь…
— Не говори о нем. Мне страшно и стыдно за себя. Как он посмотрел на меня! С каким омерзением!
— А ведь ты должен на нем вернуться. Но конь не подпустит чужака с гадкой душонкой… Ты не обижаешься?
— Нет, нет! Валяй. Продукты вашей цивилизации ко многому приучили. От них я слышал и не такое. Кстати, Шопенгауэра я здесь так и не встретил. Говорят, он не материализовался.
— Тоскуешь по своему любимцу? — насмешливо спросил он. — Еще увидишь в своей новой жизни. А сейчас вспомни наши тренировки и приведи свою психику в особое состояние.
— Состояние альфа-ритма? Помню.
— Перед этим отрешись от внешнего мира, забудь о нем.
Легко сказать — забудь. За окном послышался шум, в кустах заскакали тени, душу опять оледенил страх. Кто там еще? Неужели им мало вампира? Но тени улеглись, тихо и мирно сияла луна.
Страх отступил, и взамен вновь заерзало злое чувство. Змей-искуситель! Соблазнил меня «магией приключений». Да будь она проклята, такая «магия»!
Конечно, я свалял дурака, согласившись на авантюру. Но отступать уже некуда. Я вздохнул, сел за стол и… взялся за перо. Попробую вспомнить, с чего все началось. Привычная писательская работа лучше всего поможет отрешиться от окружающего. И… Попробую писать на немецком языке. Его здесь никто не знает.
Через полчаса, в половине первого ночи, я окончательно сбросил напряжение, лег и на удивление легко ушел в особое, наиболее спокойное состояние духа, состояние альфа-ритма. Незаметно и тихо погрузился в удивительный сон…
Это был сон-пробуждение! Надо мной склонилось лицо в сиянии утренних лучей, и я воскликнул:
— Мама!
— Вася проснулся! — засмеялась мама. — Смотрите! Засоня Василь встает…
Все… Кратковременная вспышка во мраке. Ни с чем не связанная картина, клочок жизни, выхваченный из небытия. Что было со мной до этого? Что после? Лучик вспыхнул и погас.
И снова пробуждение… Снова утро, но уже другое. Мне уже года два. На ярко освещенной стене прыгают, скачут тени. «Воробьи!» — рассмеялся я и вскочил на ноги… И опять мгла забвения, но уже тонкая, как кисея. Кажется, я бегу босиком по мягкой траве, и сзади меня кто-то окликает… Но почему меня зовут Василь? И почему могу летать в воздухе, как птица?
Эти вопросы — словно камни, брошенные в озеро и возмутившие его чистую гладь. Картины раннего детства, как отражения в воде, колыхались, дрожали и, затуманившись, исчезли совсем… Откуда-то издали, из неведомых глубин поднялся тихий, но встревоженный голос:
— В чем дело? Ты прервал сеанс…
— Не понимаю… Кто там родился? Кто малютка Василь? Я?
— Ты, конечно. Может, подключение твоей нервной цепи было неполным?.. Нет, нет! Не думай о подключении! Я не так выразился. Это не иллюзия, а твоя новая жизнь. Может быть, единственная и что ни на есть настоящая…
Странно все это, настолько необычно, что сейчас, когда пишу эти строки, не знаю, как и поступить. А не лучше ли, пока не привыкну, смотреть на себя, на нового себя как бы со стороны? Да, так лучше. Буду писать о себе… то есть о Василе — как о другом лице.
… И снова из самых глухих пластов жизни, из самого раннего детства выступают следы. Вижу блеск весеннего ручейка, слышу шум половодья… Потом, кажется, лето. Сладкий шелест листвы, солнечные блики…
Нет, так не годится. Все это вспыхивающие и тут же гаснущие искорки жизни, капризы неопределившегося бытия. Начну с того времени, когда мне… Когда Василю было четыре или пять лет. Картины тех лет текут в моей памяти связно и последовательно. И начну непременно с утра — с порога, за которым каждый раз по-новому открывался мир. Помню, отчетливо помню, с каким радостным, с каким солнечным ощущением жизни Василь пробуждался по утрам!
Пастушья свирель
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Ф. И. Тютчев
По утрам его будили воробьи. Звонко перекликаясь, они скакали на завалинке, с пушинками в клювах взлетали под крышу. Василь с улыбкой следил, как на ярко освещенной стене комнаты мелькают их тени. Сегодня у воробьев особенно шумно: начало весны, надо готовить гнезда.
Но вот луч солнца коснулся дверного косяка, и Василь вздохнул — пора вставать. Иначе невидимый Красавчик будет ворчать и браниться. Василь вскочил, принял лучевой душ, брызнувший с потолка, оделся и выбежал в соседнюю комнату. На столе его ждали вкусные хрустящие булочки и кружка молока. Это Красавчик постарался, но сам он уже исчез.
«А как увидеть папу?» Едва успел подумать Василь, а экран тут как тут — возник неведомо откуда и засветился в темном углу.
— Внеземная станция! — воскликнул Василь, увидев папу среди решетчатых сооружений. — Внеземная!
— Верно! — улыбнулся папа. — Сегодня я далеко. Жди только к вечеру и поступай, как хочешь. Мама, конечно, сердиться будет, но мы как-нибудь стерпим.
И папа заговорщически подмигнул. Мигнул и экран, погас и растаял. Будто и не было его.
Василь знал, что его отца, немало испытавшего в Дальнем Космосе, считают человеком волевым и суровым. Но Василь не чувствовал этой суровости. Отец всячески баловал своего единственного сына и давал ему полную свободу.
И Василь беззастенчиво пользовался ею. Миновав сенки, он босиком (видела бы мама!) выбежал на крыльцо. Нагретые солнцем доски приятно щекотали ступни ног. Но Василь нежился недолго. Он решил походить на папу и закалять волю.
Спрыгнув с крыльца, Василь с замиранием сердца помчался по снегу, еще белевшему в низинках, по холодным льдистым лужам. Потом сел на сухой пригорок, где уже золотились цветы мать-и-мачехи. Снова, как и вчера, обнаружил на ногах носки и греющие туфельки. «Кто-то опять постарался», — подумал мальчик. Но кто? Взрослые эту невидимую няньку называют Сферой Разума, иногда — Памятью.
Говорят, что их село — чуть ли не единственное на всей планете — целиком взято из Памяти, из какого-то далекого девятнадцатого века. С пригорка далеко видны уходящие ряды хат. Все они нарядно белые, под соломенными крышами. Яблони и вишни в садах стояли еще с голыми ветками, но уже вовсю сочился запах набухающих почек.
Из соседней хаты выскочили братья-близнецы, одногодки Василя.
— Сюда! Ко мне! — кричал им Василь.
Под пригорком, звеня льдинками, искрился под солнцем ручей. Ребята пускали по нему сухие прошлогодние листья-кораблики, а на быстрине долго мастерили водяную мельницу.
Незаметно текли минуты и часы, солнце уже припекало вовсю. Пора обедать! — вспомнил Василь. Он снял туфельки и носки, отбросил их в сторону. Не коснувшись земли, они вдруг пропали, ушли обратно в Память.
И снова босиком поскакал Василь по лужам. Только дух захватывало, да брызги сияющие сеялись вокруг. Влетел в хату и сел за стол. Сегодня он решил непременно познакомиться с домовым — домашним другом и помощником. В шутку его называли Красавчиком. Видимо, за то, что красотой он как раз и не отличался. Но как выглядит Красавчик на самом деле, Василь не знал.
— Красавчик, кушать хочу, — сказал Василь и затаился.
Из-за спины показалась рука и поставила тарелку с борщом. Василь живо обернулся, но сзади никого не оказалось.
— Опять спрятался, — обиделся Василь. — Покажись.
— Нельзя, — голос Красавчика слышался уже из соседней комнаты. — Испугаешься. Я страшный.
— Не испугаюсь, — говорил Василь, тихонько подкрадываясь к двери. Заглянул, а в комнате пусто. Только тень какая-то мелькнула и растаяла.
Вечером Василь жаловался отцу:
— Красавчик злой. Он не хочет подружиться со мной.
— Он добрый и старается не пугать маленьких.
— А он страшный?
— Не страшный. Однако и не красавец. Что поделаешь, таким его создала народная фантазия еще в глубокой древности.
— А сам он фантазия или живет на самом деле?
— И да, и нет. Сложный это вопрос, малыш. Потом поймешь. А сейчас посмотрим маму. Она выступает где-то на орбите Сатурна.
Мама у Василя — знаменитая танцовщица. Но где Сфера Разума отыщет ее? И каким вообразит себе папа экран? Взрослые иногда такое выдумывают…
Под ногами разверзлась вдруг мглистая бездна, усеянная звездами. По спине мальчика поползли мурашки: вместе с лучом-телепередатчиком он совершал межпланетный перелет. Василь догадывался, что вместе с папой сидит в хате. Но его не покидало жутковатое чувство, что со скоростью света мчится в ледяных просторах. Вот уже Марс остался позади, сверкающими камешками промелькнули астероиды, и через несколько минут Василь влетел в искусственную атмосферу Титана — спутника Сатурна. На его освещенной стороне, в недавно выращенных лесах, люди что-то строили. Но вот ночная сторона. Вместе с папой Василь приземлился перед освещенной сценой под открытым небом.
— Опоздали мы, — огорчился папа.
Зрители, аплодируя, уже провожали со сцены маму. Появились акробаты. Но все внимание Василя приковало черное полотнище космоса, где среди звезд медленно плыла хвостатая комета и где полнеба занимали кольца Сатурна.
Через час вернулась мама, и Василь с ухмылкой взирал на шутливую ссору, возникавшую всегда из-за него.
— Какой дикарь! — глядя на сына, мама в ужасе хваталась за голову. — Взлохмаченный, грязный дикарь. А ноги? Скоро они потрескаются от цыпок. Опять по лужам бегал? Босиком?
— Пусть закаляется, — пытался вставить слово папа.
— И за что я люблю этих варваров? — недоумевала мама. — Все люди живут в городах, в удобных домах и дворцах. А мои? Древнее село им подавай. Ностальгисты, видите ли. Затосковали по старине.
— Наши хаты по гигиеничности не уступают твоим дворцам и по-своему красивы. К тому же… — И отец подмигнул сыну: сейчас, дескать, выкрутимся. В голову ему пришла, видимо, спасительная мысль. — К тому же, в твоих дворцах домовые не водятся.
И Василь видел: довод этот сразил маму. Красавчика она обожала.
— Вчера мы с ним не доиграли шахматную партию, отложили, — улыбнулась мама и взяла сына за руку. — Идем спать, а то Красавчика испугаешься.
— Это он меня пугается, — обиженно ответил Василь, но покорился и ушел в свою комнату.
Он лег и пытался заснуть. Но за дверью то и дело слышался смех, веселый разговор. Василь садился на кровати и прислушивался.
— Меня обманули! — с возмущением воскликнул Красавчик. — Я не откладывал такую дурацкую партию.
— А мы можем проверить, — смеялась мама. — Или сдаешься?
— Красавчик никогда не сдается, — заявил домовой. — Красавчик непобедим.
Как закончилась игра, Василь так и не узнал: сон сморил его.
С утра Красавчик ухаживал за Василем все так же заботливо, но на просьбы показаться не откликался, оставаясь в своей невидимости. Только зимой понемногу наладилась их «видимая» дружба. Но Василь помнит зиму очень смутно. От нее остались лишь ощущения шумных вьюг за окном, домашнего уюта и того завораживающего холодка, с каким он слушал страшные старинные сказки. Их рассказывал Красавчик, иногда мама.
Снова пришла весна, зацвели яблони, и в воробьиных гнездах вовсю попискивали крохотные птенцы. Вместе с весной в жизнь Василя вошло что-то новое, неведомое и значительное — по утрам его будили уже не воробьи, а таинственный гость. Взрослые называли его Пастухом. Говорят, что он вместе с вечерними сумерками и туманами приходит неизвестно откуда, чуть ли не из прошлых веков, и всю ночь пасет в степи лошадей. К утру вместе с табуном Пастух появлялся вблизи села, и люди просыпались от звуков его удивительной свирели — таких нежных, задушевных мелодий не давала ни одна флейта, ни один кларнет. Все попытки увидеть Пастуха кончались ничем: гость неясной и бесшумной тенью уходил в туман.
Однажды Василь проснулся, и от задумчивой музыки древних степей ему стало так сладко, тревожно и грустно, что захотелось когда-нибудь непременно познакомиться с Пастухом, узнать, кто он.
Когда луч солнца коснулся косяка дверей, Василь быстро оделся, позавтракал и поспешил на улицу. Со своим другом Андреем он договорился уйти сегодня из села надолго, может быть, до самого вечера.
Жил Андрей по другую сторону оврага. По его дну протекал ручей. Ранней весной он разливался шумным пенистым потоком, но сейчас воды в нем стало намного меньше. По деревянному мостику Василь перешел ручей, преодолел крутой склон и очутился на обрыве. Здесь под вербами его ждал Андрей со стаканчиком мороженого.
— Хочешь? Я научился брать из Памяти.
Андрей был годом старше, поэтому многое умел и знал куда больше своего друга. По его словам, не только мороженое, но и все вещи невидимками живут в Памяти — в травах и вербах, в их корнях и листьях, во всей природе.
— И в крапиве тоже? — спросил Василь. Он только что, поднимаясь по склону, обжегся об эту траву и сердился на нее.
— Конечно.
Василь не поверил другу, но спорить не стал. Он засмотрелся на дали, где стлался и курился туман. Вербы и тополя громоздились в нем диковинными башнями и становились за селом совсем смутными и расплывчатыми, как дым. А еще дальше почудилась Василю все та же еле слышная музыка древних степей. И снова сладко и тревожно заныло в груди.
— Идем скорее, — дернул он за рукав своего друга. — Может быть, увидим его.
— Кого? Пастуха? — рассмеялся Андрей. — Да никогда!
За крайними хатами и в самом деле пусто и так тихо, что слышно было, как с ветвей лозняка падали капли влаги. Солнце взбиралось все выше, легким паром поднимались к нему таявшие росы. Туман как-то сразу пропал, раскрыв перед ребятами просыпающийся луг. И уже пчелы вовсю гудели, золотым дождем падая на подсохшие клевера.
За холмами и высокими травами скрылось село. Ребята, не желая потерять к нему дорогу, шли вдоль берега. Ручей, напитываясь влагой полей, ширился и в одной из рощ, похожей на шумный птичий город, стал небольшой речкой. Попалась еще одна роща… и ребята очутились наконец в лесу. Небо скрылось за густым кружевом листвы; вверху среди ветвей прыгали солнечные пятна, темнели гнезда с горластыми птенцами. Легкий ветер шевелил верхушки деревьев, и те шептались, будто хотели что-то сказать.
— Дриады? — спросил Василь.
— В наших краях дриады редко бывают.
— А лешие? — Во рту у Василя пересохло от волнения. — Здесь водятся лешие?
— Не бойся, — ободрял его Андрей, но тоже почему-то шепотом. — Это в старинных сказках лешие злые. Они заводили маленьких ребят в глухие места. А сейчас лешие добрые. Они помогут, если что случится.
Однако никто не пришел на помощь, когда друзья попали в беду. Виновницей была кукушка, привораживающий голос которой слышался справа.
— Пойдем посмотрим, — предложил Андрей.
Ребята свернули от берега, миновали кустарник и очутились на залитой солнцем полянке. Большая серая птица, качнув ветку, вспорхнула, перелетела на другую полянку и снова заманивала:
— Ку-ку! Ку-ку!
Ребята — за ней. Сколько так продолжалось, они не помнят. А когда огляделись, поняли, что забрели в глухие, нехоженые места.
— Пойдем обратно по реке и выберемся, — заявил Андрей.
Но где река? Слева или справа? Еще через час или полтора Андрей уже не так уверенно, но еще храбрясь, сказал:
— Смотри под ноги. Ищи тропинку.
Но какая там тропинка! Кругом ни малейшего следа, ни одной примятой травинки.
Упавшие духом и уставшие друзья сели на бугрившиеся сухие корни сосны. Василь начал всхлипывать. Андрей хмурился, но еще крепился и посматривал по сторонам. Вдруг он насторожился: за кустом слышался голос. Ребята выглянули и на лесной лужайке увидели молодую светловолосую девушку. Она сидела на траве, нежно гладила цветы и тихо напевала.
Заметив малышей, девушка удивленно вскинула брови. Потом встала и засмеялась.
— Заблудились? И даже плакали? Ай-ай-ай, как не стыдно! Давайте знакомиться. Меня зовут тетей Зиной.
— Какая вы тетя, — возразил Андрей. — Может, на год старше моей сестры. А ей всего шестнадцать.
— Ну нет, я на тысячи лет старше, — улыбнулась тетя Зина. — Я родилась в глубокой древности.
Шутка, конечно, не из самых удачных, но ребята весело рассмеялись. Уж очень они были довольны тем, что их приключение закончилось благополучно. Да и тетя Зина была такой простой и приветливой. Лицо у нее ясное, как утренний рассвет, и синие-синие глаза. Не глаза, а васильки. А что за туфельки! Словно они сотканы из стеблей травы и пуха одуванчиков. Но еще удивительнее платье. Так и казалось, что на тете Зине сарафан, сшитый из весеннего луга, на котором фиолетовыми огоньками цвели фиалки. Василь понюхал — пахло фиалками, потрогал — вроде бы обычная ткань. И в то же время живой луг с пахучими фиалками.
— Красивое платье? — горделиво улыбаясь, спросила тетя Зина. — Это я сама придумала. Весенние луга — мое увлечение и моя специальность. Хотите, расскажу о травах и цветах?
— Есть хотим, — признался Андрей.
— Ах, да! Извините меня, хвастунью, — сконфузилась тетя Зина. — Пора обедать. Вы что умеете брать из Памяти? Только мороженое? Сейчас многому научу. Смотрите.
Девушка начала с простого, что ребята сумели бы и без нее, — набрала земляники, рдевшей тут же под ногами. Но потом пошло самое главное: на траве расстелилась белая с узорчатой вышивкой скатерть. И чего только здесь не было! Бананы и самые вкусные апельсины с далеких Балеарских островов. Рядом варенье, красивые ореховые пирожные и торты. Они будто таяли во рту, а когда Василь попробовал медовых кексов, голова у него приятно закружилась. Тетя Зина не отставала от ребят. На ее белых зубках так и хрустели поджаристые и рассыпчатые пончики.
— Я такая же сластена, как и вы, — смущенно призналась она, а после обеда предложила: — Попробуйте напиток «розовая заря».
— Разве такой напиток бывает? — засомневался Андрей.
— У меня многое бывает, — с лукавинкой ответила тетя Зина и подала ребятам забавные зеленые стаканчики, будто свитые из листьев и трав. Со дна луговых стаканчиков, наполненных розоватой жидкостью, поднимались пузырьки и лопались, рассыпались сияющей пылью. Друзья попробовали и переглянулись: и в самом деле пахло зарей, свежестью росистых полей и даже — странно! — голосами птиц.
— А теперь идемте и запоминайте дорогу.
По пути она рассказывала о лугах, что возносятся на заре к распахнувшимся небесам, о птицах, о своих любимых цветах.
— Пастушья сумка! Какое странное и чудесное название.
— А Пастух? — вспомнил Василь. — Кто он?
— Нахал, — нахмурилась тетя Зина, и словно тучка набежала на ее ясное лицо. — Не хотел познакомиться даже со мной. Ушел в туман, не сказав ни слова.
— Он приходит из легенд? С древних пастбищ?
— Кто его знает. Но пасет лошадок он хорошо. Кони всегда у него ухоженные и веселые. Да вот смотрите!
В это время ребята вышли из леса. В поле, гоняясь друг за дружкой, резвились кони.
Друзья делились со словоохотливой тетей своими мечтами. Андрей заявил, что обязательно станет астронавтом и будет, как он выразился, «бороздить звездное небо». Но тетя Зина, улыбнувшись, опять свернула на свое.
— Земные луга с их звездами-цветами лучше и красивее. Да и живут они со звездным небом одной жизнью. Не верите? Недавно вы ели землянику с наших родных полей. Так вот: вы ели Вселенную, ощущали вкус далеких звезд, вдыхали ароматы неведомых планет и галактик.
Шутку тети Зины ребята сочли на сей раз совсем уж неудачной. Но они из вежливости улыбнулись.
— Эх, вы, — обиделась тетя Зина. — Ничего-то вы не поняли.
Некоторое время она шла молча. Потом остановилась перед низинкой, где ярко, ну просто осколками солнца горели цветы, и на лице девушки словно заря утренняя засветилась — так славно улыбалась тетя Зина.
— Полевые лютики, — с нежностью произнесла она. — Бедные вы мои. Какие вы хрупкие рядом с грозными стихиями космоса. И в то же время какая сила неодолимая таится в вас!
Друзья слушали тетю Зину, ошеломленно разинув рты. По ее словам получалось, что космос — ничто, просто почва, на которой произрастают ее любимцы. Она говорила:
— Вселенная только для того и развивалась миллиарды лет, чтобы создать
фиалки, ромашки, васильки и всю остальную жизнь.
Иногда тетя Зина присаживалась, чтобы ласково погладить цветы, потом вставала и, продолжая рассказывать, шла дальше. И перед ребятами раскрывался мир, о котором они не подозревали, мир, где все связано и переплелось в единую и бесконечно живую ткань. И очень кстати прозвучали в устах тети Зины стихи старинного поэта:
И связь всеобщую вещей
Открыв, легко мы подытожим:
Когда касаемся цветка,
Звезду далекую тревожим.
— Каждая травинка на лугу и каждая бабочка на цветке испытали в своей жизни уйму космических приключений, — говорила она. — Васильки в поле и деревья в лесу питаются не только земной влагой, но и соками Вселенной. Видите, как трепещут листья на вербах, как волнуются травы? Их колышет не только ветер. Они отзываются на волны тяготения черных дыр, они жадно ловят лучик Полярной звезды.
— Еще стихи! И побольше о цветах и звездах! — просили друзья, когда тетя Зина замолчала.
— В следующий раз, ребята. Мы почти пришли.
Василь и Андрей, поднявшись на холмик, увидели хаты под высокими тополями и белые облака цветущих яблонь в садах.
— А мне пора, я ухожу, — услышали они за спиной голос тети Зины.
Странным почудился ее голос, последний звук «у» будто слился с ветром и улетел… Обернулись, а тети Зины нет! Будто она сама стала весенним ветром, а ее изумрудное платье расстелилось цветущим лугом.
Ничего не понимая, друзья с минуту ошарашенно глядели друг на друга. Потом догадались и, расхохотавшись, начали плясать.
— Фея! — кричали они. — Фея!
Радостно возбужденные, друзья ворвались в село и заскочили в хату, где жил Андрей. Его мама была дома. Она и поведала ребятам о фее весенних лугов. Поселилась фея в их краю недавно, но уже полюбилась жителям села и ближних городов. Чаще всего ее можно было встретить весной и ранним летом, когда зацветают поля и поет в лесу кукушка. Ближе к осени фея становится грустной, избегает людей. Лишь изредка слышится ее голос — она поет печальные песни уходящего лета.
— Феи, русалки и другие природные существа не только выручают вас, ребята, из беды, — говорила мама Андрея. — Они учат вас видеть мир, становятся первыми учителями и наставниками.
Тетя Зина — наставница? Об этом смешно даже подумать! Нет, друзья следующим же утром спешили не к наставнице, а просто к тете Зине — приветливой, словоохотливой и такой же сластене, как они сами. Любила она, правда, прихвастнуть своими нарядными туфельками и платьем. Но у кого не бывает маленьких слабостей.
Как и вчера, в призрачной дреме дымились луга и рощи. И вновь в груди Василя защипало сладко и тревожно: в тумане как будто проплыл табун лошадей и послышалось далекое эхо свирели. Мальчик хотел пойти туда, но его остановил трезво и прозаически настроенный Андрей.
— Нет там никого, — рассмеялся он. — Тебе почудилось.
Под теплыми лучами солнца истаяли последние клочья тумана, и таинственность утра исчезла. Раскаленным золотом загорелись лютики, закачались на ветру опутанные повиликой колокольчики. Присаживаясь у какого-нибудь цветка, Василь и Андрей видели в нем теперь синее небо, а с его ароматами вдыхали запахи Вселенной. Перебивая друг друга, они спорили о жизни галактик и земных полей. На многое им раскрыла глаза тетя Зина. Но многое почему-то утаила. Только растравила желание все знать и все понимать.
Из солнечных лугов друзья вошли в дубраву, как в сумеречный древний храм с высокими ветвистыми сводами. Попадались знакомые светлые полянки. Как и в прошлый раз, в глухую чащобу заманивала коварная кукушка. На нее Василь и Андрей не обращали внимания.
Но где же сама тетя Зина? На лесной поляне, где они вчера обедали, ее не было. Ребята поискали вокруг, потом заметались, делая вид, что заблудились. Присев на корень сосны, Василь даже выдавил несколько слезинок. Но ничего из их хитрости не получилось. Тетя Зина не пришла.
Домой друзья вернулись, опустив головы. Леса и поля казались печальными и осиротевшими: фея весенних лугов покинула их.
К счастью, Василь и Андрей ошиблись. Скоро они услышали о фее. Ее недавно видели даже взрослые, а к детям и подросткам фея приходит запросто, как к старым и добрым друзьям.
Однажды, когда приятели вслух читали книжку, в хату шумно влетела Наташа — старшая сестра Андрея. Друзья считали ее девушкой легкомысленной, что и подтвердилось на этот раз.
— Какое платье! — с восхищением воскликнула она. — Я пыталась узнать секрет изумительного лугового платья. Но фея только засмеялась и ушла. Какая досада!
Платье феи весенних лугов стало предметом зависти молодых женщин и девушек. Они не раз пытались выведать его тайну. Стараясь задобрить луговую незнакомку, называли ее ласковым именем — фея Фиалка. Но фея Фиалка, посмеиваясь и подзадоривая, уходила в поля, ничего не сказав. Наконец сжалилась и передала свой секрет в земную Память. Оттуда фиалковые платья можно получать в любом количестве и любых размеров.
Теперь, когда Василь приходил к своему другу и чувствовал тонкий запах фиалок, он знал, что в соседней комнате сестра Андрея. Дня через два он увидел луговое платье даже на экранах. Оно стало модой, в нем щеголяли девушки и женщины не только села, но и ближних городов.
Такая шумиха с платьем друзьям не понравилась, и мнение их о фее весенних лугов несколько упало. Они забыли о фее совсем, когда в селе появился дядя Абу.
Это было знаменательное событие. По пыльной тропинке шагал высокий, опаленный южным загаром человек и со снисходительным одобрением поглядывал на уютные хаты. Человек еще далеко не старый, но с заметно поседевшей пышной шевелюрой и бородой. Шел он важно, закинув руки назад. Сельские мальчишки сопровождали его молча и с почтительным удивлением. И вдруг незнакомец подмигнул. Да так добродушно и лукаво, что ребята сразу почувствовали: свой!
К удивлению Василя, незнакомец зашел в его хату. Мальчик нырнул вслед за ним. Оказалось, пришел тот к отцу для личного знакомства — у них было общее увлечение древней историей. Жил незнакомец в Багдаде и звали его Абу Мухамед.
Обо всем этом Василь доложил своим сверстникам, толпившимся у крыльца. Минут через пятнадцать вышел гость. Остановившись на крыльце, он с потешным высокомерием окинул взглядом ребятишек и снова подмигнул.
— Ну что, сорванцы? Ждали?
— Ждали, дядя Абу.
Гость сел на ступеньку. Вокруг расположились ребята; и у всех у них такое чувство, будто дружны с дядей Абу много лет. Только вот к его внешности еще не привыкли. Особенно поражала воображение обширная и пышная шевелюра. Андрей, которому и во сне снился космос, так и уставился на нее. В седых, спиралями уложенных волосах дымились лучи солнца, проплывали туманности, звездами вспыхивали и гасли искры.
— Галактика, — прошептал Андрей.
Ребята рассмеялись, а дядя Абу смущенно замахал руками и скромно возразил:
— Что ты! До галактики далеко. Это просто чалма. Вернее, раньше была чалма. Но сейчас этот головной убор не в моде, и ткань чалмы превратилась в волосы. Чего доброго, вы и бороду мою назовете кометой.
Заостренная книзу и сверкавшая на солнце борода и впрямь изгибалась в сторону, как сияющий хвост кометы.
— Ятаган! — сообразил Василь. — Раньше у арабов был такой кривой кинжал.
— Верно. Тысячи лет назад я был шейхом и визирем при султане, — с важностью говорил о себе дядя Абу. — На голове была чалма, а ятаган носил не на подбородке, как сейчас, а за поясом.
А еще раньше, уверял дядя Абу, он был простым бедуином и странствовал по аравийской пустыне. Однажды чуть не погиб, застигнутый самумом — грохочущей и мглистой песчаной бурей. Потом стал разбойником, с саблей на боку и с ятаганом за поясом нападал на кочующие караваны.
Ребята с жадностью внимали небылицам. Живописал их дядя Абу с таким вдохновением, с такими подробностями, что четырехлетний малыш Антон верил всему безоговорочно. В его широко раскрытых глазах и удивление, и страх, и любопытство. Набравшись храбрости, он спросил:
— А ты пиратом не был?
— Увы, — дядя Абу развел руками с таким огорчением, что ребята расхохотались. — Но я был сухопутным пиратом и плавал по песчаным волнам на двугорбых кораблях.
— На верблюдах, — смекнул кто-то.
Покидая село, дядя Абу обещал навещать ребят. Слово свое он сдержал и пришел в самое подходящее время, когда из-за непогоды приходилось подолгу оставаться дома.
Начались дожди… Начались они празднично — с ослепительных, как фейерверки, молний и гулких громов. Вместе с дядей Абу ребята в трусиках выбегали на улицу, плясали, раскрытыми ртами ловили тугие струи дождя. Счастливые лица их озарялись молниями.
От вспышек и грохота в груди Василя что-то вздрагивало и замирало.
— Не бойтесь! — кричал дядя Абу сквозь шум и клекот воды. — Это в старину грозы причиняли вред, их пугались даже взрослые. Но сейчас они добрые, а в ваших краях иногда очень необычные.
И ребята, присев под густо сросшимися ветвями тополя, слушали рассказы дяди Абу о небесных всадницах. Валькирии!.. Кое-что Василь уже слышал о них. Но видеть? Нет, такое счастье выпадало редким людям. А может быть, все это выдумка взрослых, и валькирии существуют лишь на страницах древних скандинавских сказаний?
Но дядя Абу повествовал так здорово, что Василю чудилось: сейчас по крышам туч навстречу распахнутым небесам скачут на волшебных конях грозные девы-воительницы. Скачут сотни и тысячи километров, по пути вбирая в себя штормы Атлантики, росы альпийских лугов, ветры и грозовые разряды Европейского материка.
Наконец Василь не выдержал, вышел из-под тополя и уставился в дымно клубящиеся тучи, в ветвистые молнии. И ничего особенного — самая обычная гроза. Какие там небесные всадницы, если даже на земле все живое попряталось и в воробьиных гнездах притихли неугомонные птенцы.
Один лишь ворон, нахохлившийся и мокрый, сидел поодаль на вербе и угрюмо взирал на ребят. Дядя Абу на удивление быстро подружился с хмурой птицей. Прервав рассказ, он покидал ребят и уходил к вербе. Ворон доверчиво усаживался на руку или плечо и внимательно слушал, что шептал ему человек. А потом и сам что-то каркал. И о чем мог говорить дядя Абу с вороном?
Гроза утихла. С неба сеялся мелкий дождик — нудный, скучный, но столь необходимый лесам и полям. Погрустневшие ребята направились к хате. Ворон провожал их хмурым взглядом. Не доходя до крыльца, дядя Абу обернулся к нему и крикнул:
— Эй, приятель! Тебя хоть как зовут?
Ворон хрипло, но четко выделяя «р», ответил:
— Гр-ришка!
— Заговорил? — удивился Василь.
— А сколько тебе лет? — спросил дядя Абу.
— Тр-риста лет!
— Что-то много, — рассмеялись ребята. — А не обманываешь?
— Тр-риста лет! Тр-риста лет! — настаивал Гришка.
К сожалению, никаких других слов Гришка пока не знал.
В хате ребята обсушились под инфракрасным душем и сели за стол. Дядя Абу учил, как из нижних этажей Памяти получать старинные детские книги, написанные на разных и ныне многими забытых языках. Два из них — русский и, конечно, арабский — дядя Абу знал. Книги, хранившиеся в давние времена на полках библиотек, попадались иногда потрепанные, зачитанные до дыр. И все с уважением листали страницы, зная, что их касались руки ребят далеких веков, опаленных гремящими пепелищами войн. То были трудные и легендарные века непонятной «железной технологии». Ребята, выросшие в окружении живой и разумной природы, и железа-то никогда не видели.
Полюбилось дяде Абу старинное село, но еще больше — детвора. А та в свою очередь была от него без памяти и отвечала преданной дружбой. Хмурым дождливым утром следующего дня сельские мальчишки встречали дядю Абу весело и шумно. Даже ворон Гришка старательно выкрикивал только что заученное слово:
— Пр-ривет! Пр-ривет!
Дней через десять дядя Абу надолго покинул ребят: дела! Но тут и дожди прекратились, на землю опрокинулась невиданная жара. В чистом небе висели осоловелые облака; напоенные влагой поля и рощи дымились и сверкали, словно от счастья. Когда совсем подсохло, Андрей и Василь возобновили свои вылазки за околицу села.
Околица… Слово-то какое! Оно звучало как слово «вольница»; в нем слышались посвисты ветра, журавлиные крики, гул волнующихся трав. В роще, куда шли ребята, звучала красивая песня. Поди разберись, кто певунья: девушка из ближнего города или сама фея весенних лугов? К сожалению, это была знакомая женщина из их села.
Но как увидеть фею, добрую тетю Зину? В роще меж деревьев мелькнуло вдруг ее знаменитое платье. Друзья бросились туда… Но нет, то не платье, а просто полянка, усеянная, словно брызгами июньского неба, синими цветами.
Становилось жарко, и ребята с облегчением шагнули в дубраву, пересекли полянку, перелески и вошли наконец в совсем незнакомый сосновый бор — глухой, тихий и тенистый. Сквозь ветви пробивались паутинки солнечных лучей, и тогда рыжие стволы сосен вспыхивали, отбрасывая на подлесок и лица ребят слабый розовый свет. Иногда прошуршит по стволу поползень да гулко пробарабанит дятел. И снова тишина.
Сосновый бор расступился, и открылось гладкое, без единой морщинки озеро. В нем, как в перевернутом синем небе, недвижно застыли облака. И здесь тишина. Одни лишь стрекозы звенели в камышах.
На берегу попался сухой, поросший травой мыс с высоким, густо разросшимся тополем. Ребята укрылись под его зеленой крышей. Василь вынул из кармана камешек, подобранный по дороге. Размахнувшись, швырнул его в озерную гладь, любуясь кругами и задрожавшими, заплясавшими в воде облаками.
— Перестань, — сказал Андрей. — Заругают.
— Кто заругает? Ерунда, — ответил Василь и бросил еще один камень.
Из воды неожиданно высунулась голова с рыжими, прилипшими к узкому черепу волосами. Рыжеволосый незнакомец осторожно потрогал свой висок, поморщился, словно от боли, и проворчал:
— Вот разбойники. Прямо в голову попали.
Василь видел, что странный незнакомец обманывает: камень упал далеко в стороне. Рыжеволосый подплыл и остановился, когда вода была ему по колено. Влажно блестели его зеленые и будто сотканные из водорослей короткие брюки. Незнакомец свирепо сдвинул брови, погрозил пальцем и прогремел:
— Не засоряйте водоемы!
— А ты, дяденька, кто? — спросил нисколько не испугавшийся Василь. — Водяной?
— Он самый, — рыжеволосый самодовольно разгладил свои усы. — Я хозяин местных вод. Я царь!
— А русалки здесь водятся?
— Спят, лентяйки, — нахмурился водяной. — Всю ночь плясали под луной, а сейчас спят. Проснутся, я им задам взбучку.
— А ты, дяденька, не ругай их, — уговаривали ребята. — Они ведь устали.
Рыжеволосый вышел из воды и, разминаясь, с удовольствием прошелся. Друзья залюбовались его хорошо развитой грудной клеткой, стройной фигурой и мускулами, игравшими под атласной кожей. Прямо-таки античный бог, скульптуру которого ребята недавно видели. Но лицо некрасивое — рябое, курносое, с рыжими и шевелящимися, как у жука, усиками, которыми водяной весьма гордился.
Водяной сел на сухой пригорок. Рядом расположились ребята и, желая познакомиться, назвали свои имена. Водяной почему-то опустил голову и ничего не ответил.
— А тебя, дяденька, как звать?
Но лучше бы не спрашивали: вопрос этот, кажется, был ему крайне неприятен. Лицо его искривилось, стало плаксивым и обиженным.
— Нелепое у меня имя, ребята, — уныло проговорил он. — Дурацкое. Смеяться будете.
— Не будем! — восклицали заинтригованные ребята. — Назови свое имя! Назови!
Водяной кряхтел, морщился и наконец произнес:
— Кувшин.
— Знаю! — воскликнул Василь. — Есть такой старинный сосуд. Пузатый-препузатый.
— Ну какой же я пузатый, — горько жаловался водяной. — А все из-за моей матери-русалки. Она любила купаться среди кувшинок. Ее так и прозвали — Кувшинка. Свое имя она хотела передать дочери. Но у нее вместо дочери-русалочки родился сын, то есть я. Не долго думая, меня назвали Кувшином. Смешно? Глупо?
— Нисколько, — заверили друзья, которым рассказ о жизни водяных существ очень понравился. Имя Кувшин, сказали они, очень даже красивое.
— Вы находите? — Кувшин с подозрением покосился на ребят. Но увидев их внимательные и серьезные лица, повеселел и стал расхваливать свою стихию.
— Вода! — подняв палец, торжественно произнес он. — Колыбель эволюции и жизни.
Рассказывал водяной напыщенно и нудно. У тети Зины получалось лучше. Желая остановить Кувшина и заодно показать свою ученость, Андрей спросил:
— Кто еще живет в местной экологической нише?
— Есть тут один тип, — лицо Кувшина искривилось вдруг, как от зубной боли. — Пренеприятнейший тип! Ругатель. Видите на том берегу березу со сломанной веткой? Это я случайно надломил, прыгая в воду. И что же вы думаете? За одну ветку крикливый старикан целый год пилил меня. Он, видите ли, лес бережет…
— Так это же дедушка Савелий! — догадались ребята. — Старик-лесовик! Слышали о нем.
— Только слышали? И ни разу не видели? Завидую вам. Встречаться с ним не советую. Сварливый старикашка. Зануда.
Кувшин доказывал, что дед Савелий вообще не имеет права ругать водяных — существ, как известно, более древнего и знатного происхождения. О дедушке Савелии, о русалках и леших, даже о малютках эльфах Кувшин рассказывал с иронией, подмечая у каждого смешные недостатки. Получалось у него это просто здорово. Правда, Кувшин вынужден был признать, что Аполлон, Зевс и другие «типы» античности более благородного происхождения, чем он сам. Но и о них отзывался пренебрежительно, считая зазнавшимися аристократами.
— Люди восторгаются: Посейдон! Посейдон! — кривил губы Кувшин. — Подумаешь, царь морских глубин! А я плаваю даже лучше его. Смотрите!
Кувшин взобрался на тополь и бросился вниз. Плавно перевернувшись в воздухе, вошел в воду без брызг, без всплеска. Потом поплыл. Да так, что глаза у ребят засветились завистью и восхищением. Кувшин в воде был быстр, ловок и красив, как птица в воздухе.
— А вы почему не купаетесь? — спросил он, выйдя на берег. Потом внимательно окинул взглядом ребят и заговорил с нескрываемым презрением: — Догадываюсь. Плавать не умеете. Какой позор! Теперь понятно, почему вы такие немощные. Да на вас просто тошно смотреть. Слабый ветерок подует, и вы повалитесь. Жалкие заморыши! Хлюпики! Хиленькие слабаки!
Это было настолько несправедливо, что друзья, вскочив на ноги и размахивая руками, стали горячо доказывать, что они играют в спортивные игры и закаляются под дождями, что они ловкие и сильные.
— Сильные? А это сейчас посмотрим. — Кувшин пощупал у ребят бицепсы и брезгливо фыркнул: — Кисель, а не мускулы.
— Неправда! — чуть не плача от обиды, возражали ребята. — Чем ругаться, лучше бы научил плавать.
— Плавать? А получится ли?
— Получится! Получится! Научи!
В тот же миг друзья раскаялись в своей просьбе. Кувшин швырнул их в воду, как беспомощных котят. Ребята визжали и суматошно колотили руками, взметывая брызги. Кувшин находился рядом и учил держаться на воде. Учил решительно и безжалостно. За непослушание он даже отшлепал Василя по мягкому месту.
— Разве так учат?! — рассердился Василь.
— Только так! — с веселой свирепостью отвечал Кувшин. — И не вопите. А то русалок разбудите. Вот смеху-то будет.
И точно: одна из них уже сидела на кочке и, глядя на барахтающихся ребятишек, хохотала.
— Брысь отсюда! — сверкнул глазами Кувшин.
Русалка проворно скрылась под водой.
Минут через двадцать Андрей и Василь не очень умело, но уже самостоятельно подплыли к берегу и хотели бежать домой. Пристыдил их, буквально пригвоздил к месту презрительный, полный сарказма голос:
— Улепетываете? Трусы!
Пришлось остаться. Вместе с Кувшином пробежались до опушки леса, потом сделали несколько дыхательных упражнений.
— Не пора ли обедать? — спросил Кувшин.
— Пора! Конечно, пора! — обрадовались друзья.
Но получится ли у них, как у тети Зины? Еще как получилось! Вмиг расстелилась та самая с узорчатой вышивкой скатерть, и запахло чудесными медовыми кексами, топлеными сливками, зарябило в глазах от рассыпчатых пончиков и красиво расписанных пирожных.
Василь уже протянул руку, чтобы поскорее отправить в рот лакомый кусочек. Но Кувшин посмотрел на роскошные яства с такой яростью, что те мгновенно исчезли.
— Я вас отучу от обжорства! — кричал он. — Это фея избаловала вас. Знаю ее. Легкомысленная и вздорная особа! Модница! Вертихвостка!
Ребята уставились на водяного: ругался тот так же здорово, как и плавал. Дал он им всего лишь по тарелке с кашей и по кружке молока с булочками. Сам Кувшин ел ту же простую пищу и нахваливал. Каша и вправду оказалась очень вкусной и сытной.
После обеда Кувшин отпустил друзей, не забыв присовокупить при этом обидные слова:
— Слабаки вы. Хлюпики.
Дома Василь жаловался на грубого и драчливого водяного. К его удивлению, отец только позавидовал:
— Ай да Кувшин! Молодец! Мне бы такого в детстве.
Но Андрей и Василь твердо решили: к озеру больше не ходить и водяному не показываться. Весь следующий день они играли на лугу вблизи села.
К вечеру вернулись из леса сельские ребятишки. Одни с удовольствием вспоминали дедушку Савелия, другие расхваливали даже лешего, с которым состязались в беге и прыжках. Потом пришли девочки. Тут уж восторгам не было конца.
— Какие русалки! Мы с ними играли и купались в реке. А как они поют!
И друзьям стало не то чтобы завидно, а как-то не по себе. Может быть, они ошибаются, и Кувшин не такой уж плохой?
Утром Андрей и Василь отправились знакомой дорогой. Вот и озеро. Под тополем, спиной к ним, сидел водяной. Друзья в нерешительности остановились: Кувшин казался еще более задиристым, чем в прошлый раз. Особенно смущали его огненно-рыжие волосы. Подсохшие на солнце, они топорщились воинственно и драчливо, как гребень петуха. Но настроение у водяного как будто хорошее. Он глядел в воду и хохотал над резвившимися мальками.
Ребята собрались с духом и приблизились. Услышав шаги, Кувшин обернулся и насмешливо скривил губы:
— А-а, это вы? Хлипкие заморыши. Трусы.
Друзья проглотили оскорбление молча. Потом робко попросили водяного, чтобы он научил хорошо плавать.
— Мы хотим стать чемпионами, — не подумав, ляпнул Василь.
Кувшин глядел на ребят с таким удивлением, что долго не мог вымолвить ни слова. Потом повалился на траву и захохотал.
— Чемпионами? Ха-ха-ха! Вот это рассмешили. Юмористы! Комики!
Ребята стерпели и это. Такая покорность растрогала Кувшина. Не чурбан же он в конце концов.
Сегодня решили учиться брассу. Андрей и Василь все движения усваивали легко и быстро, что приводило Кувшина в искреннее и поощрявшее ребят изумление. Потом пробежка, гимнастические упражнения, прыжки в воду. Неизвестно, как это получалось у Кувшина, но Василь и Андрей нисколько не уставали. Напротив, они возвращались домой с таким ощущением, будто на ногах у них выросли крылья. А ложась спать, чувствовали, что их загорелые тела пахнут солнцем, озерной водой и камышами. Утром вновь спешили к озеру, хотя Кувшин был все так же насмешлив, привередлив и кормил одной лишь кашей.
Были у друзей и другие дела — книги, фильмы, игры за селом. Но без Кувшина они не могли прожить и одного дня.
Незаметно подкралась осень. Отцветали поля, улетела на юг певунья иволга и словно оставила свой золотистый наряд на листьях березняка. Андрей и Василь купались и в холодной воде. Но когда берега к утру покрылись однажды хрустким ледком, пришла печальная пора расставаться со своенравным, но полюбившимся водяным.
— До свидания, Кувшин! До следующего лета! — ребята то и дело оборачивались и с грустью махали руками.
Недели полторы лил холодный дождь, падал мокрый снег. В такие дни друзья сидели дома и читали. Вместе с героями книг они странствовали по развалинам древних государств, по каменистым плато неисследованных планет. А с дядей Абу совершили дальнее путешествие на самом деле.
Оказывается, это очень просто. С дядей Абу друзья вошли в свою сельскую церковь. Она была не только памятником старины, но и станцией дальних трасс. Под гулкими сводами все, как в былые времена — иконы, красивые росписи на стенах. Но сидения новые, с мигающими огоньками пультов управления. Андрей и Василь уселись и вмиг перенеслись в опаленную солнцем страну, в родные края дяди Абу.
Багдад поразил друзей древними минаретами, спиралевидными современными дворцами, ажурными набережными, кокосовыми и веерными пальмами. Но дядя Абу морщился и брюзжал:
— Скучно. Города везде одинаковые. Ваше село куда уютнее и симпатичнее.
В одном из парков они поднялись на холм, поросший душистым жасмином. Зашли в беседку с голубой крышей, и многолюдный город рассеялся, как дым.
— Ушел в природу, чтобы не мешать ей жить и развиваться, — с усмешкой пояснил дядя Абу. — Вон там, на другом холме, вы видите исторический памятник — мечеть с серебряным полумесяцем. Это еще одно место перехода.
Там, кстати, из города-невидимки только что вышли ребятишки.
— Дядя Абу! — закричали они.
Его, оказывается, знала почти вся детвора города. Дядя Абу познакомил Андрея и Василя со своими багдадскими друзьями. Вместе они искупались, потом в абрикосовой роще играли в игры, которые на ходу изобретал неистощимый на выдумку дядя Абу.
Всем хорош дядя Абу, но временами был, увы, хвастлив, как Кувшин. И бахвалился он так же: древностью и знатностью своего происхождения.
— Я из рода самого Гаруна аль-Рашида! — вдруг заявил он.
— Такого не было, — пытался возражать Андрей. — Он выдумка. Сказка.
— Был, — обижался дядя Абу. — Я-то лучше знаю. Я историк.
Побывали друзья и в других городах и даже в знаменитой Аравийской пустыне.
— Пустыни необходимы для экологического равновесия планеты, — сказал дядя Абу.
— И для того, чтобы ты странствовал простым бедуином, — смеялись ребята.
От пустыни, правда, остался не очень большой заповедник с оазисами. Но барханы и верблюдов они все-таки видели.
Вернулись однажды Андрей и Василь из жаркой Аравийской пустыни и едва узнали родные места: кругом белым-бело. Одевшись в куртки с антипоясами, они парили над завьюженными полями. Спустившись вниз, шагали по белому пушистому ковру. Тянулись длинные голубые тени, и холмы впереди сверкали, как купола. Присыпанные инеем березы казались белоструйными сияющими фонтанами.
Друзья перелетели в сосновый бор, и тот выглядел еще чудеснее.
— Сказка, — прошептал Андрей и, подняв палец, торжественно продекламировал:
СТИХ
Заходишь в лес, как в город сонный.
Здесь все построила зима.
Деревья белые — колонны,
Сугробы пухлые — дома.
— Сам сочинил? — удивился Василь.
— Нет, это Наташа, моя сестра.
— Вот тебе и легкомысленная!
— Все равно модница. Сейчас мечтает о красивой шубке, как у снежной королевы. И где она видела королеву?
Следующим утром, едва алая макушка солнца вылезла из-за горизонта, друзья отправились на поиски снежной королевы. Над порозовевшими холмами и рощами неслись, как подхваченные ветром снежинки. Пролетев километров десять, Василь и Андрей спустились в лесной глухомани, побродили под снежными шатрами, но королевы не нашли. Наверное, Наташа ее просто выдумала.
Снова перелет, потом еще, и вскоре забрались друзья в незнакомую лесостепь. Все чаще попадались лыжники. Взметая снежную пыль, из-за холмов, как из глубины веков, вылетела воспетая в песнях старинная русская тройка с бубенцами и шумной ребятней в санках.
— Где-то здесь город, — догадался Андрей и показал на часовенку с золотистым куполом. — Это станция и место перехода. Зайдем?
Зашли, миновали кресла-пульты управления, потом вышли по другую сторону и замерли в удивлении. Из завьюженной лесостепи, по которой они только что бродили, вырос сказочный город с высокими сверкающими шпилями, хрустальными дворцами, легкими и блестевшими, как паутинки, мостами. Так и казалось, что город выковала сама зима из снежинок, инея и льда. Особенно красив фонтан. Вместо воды в чистое небо взлетала морозная пыль. Она тихо звенела, сияла и переливалась всеми цветами радуги.
К часовенке-станции шел высокий человек с лыжами на плечах. Рядом с ним девочка.
— Смотри, папа, — насмешливо сказала она. — Ротозеи уставились на наш город. Они, наверное, из той самой деревни.
— Мы не из деревни, а из села, — поправил Василь.
— Какая разница, — рассмеялась девочка. — Все равно деревенщина. Города никогда не видели.
Задетые за живое, друзья стали доказывать, что видели города и почище — Багдад, Каир, Александрию. Названия экзотических городов произвели на девочку впечатление. Она подошла к ребятам и уважительно пожала руки.
— Давайте знакомиться. Меня зовут Вика.
— Вика, горох, овес, — перечислял Андрей луговые растения в отместку за «деревенщину».
Вика не обиделась и предложила вместе покататься за городом на лыжах.
— Если не умеете, буду вашим тренером.
К сожалению, тренером она была еще более язвительным, чем Кувшин. Восклицая: «Браво!», Вика то и дело иронически хлопала в ладоши, придумывала разные обидные клички. Андрей и Василь сначала крепились, понимая, что лыжники из них пока неважные. Палки как назло вываливались из рук, лыжи не слушались. Столкнувшись друг с другом, друзья упали и, поднимаясь, встали на четвереньки.
— Коровы! — расхохоталась Вика. — Смотри, папа. Две коровы на лыжах.
Этого друзья стерпеть уже не смогли. Коровы! Надо же придумать такую жгуче-оскорбительную кличку.
— Ты не Вика, а Крапива! — в сердцах воскликнул Василь.
Сбросив лыжи, друзья заскочили в часовенку-станцию, уселись в кресла и в тот же миг оказались в своем селе.
Утро следующего дня выдалось морозное, но тихое и солнечное, сверкающее инеем и смеющееся миллионами искринок. С коньками, сделанными из затвердевшего воздуха, Василь и Андрей помчались на каток. У самой околицы Василь обернулся и увидел, как из церкви-станции выбежала девочка. Она махала ребятам руками и что-то кричала.
— Андрей, смотри! — удивился Василь. — Крапива!
Это была действительно Вика. Она пришла мириться и выглядела такой виноватой и робкой, что друзья простили ей все.
Через час или полтора на катке очутилась еще одна девочка, совсем незнакомая. Откуда она взялась? Прилетела, видимо, из соседнего города. Была она постарше остальных и одевалась не совсем обычно. На ней ладно сидела легкая меховая шубка, на голове такая же белая пушистая шапка. Тина — так звали девочку. С ней все быстро сдружились и называли по-свойски: Тинка-Льдинка.
Приходила Тина каждый день, и сельская ребятня уже души в ней не чаяла. Оказалась она озорной и шумной заводилой, придумывала разные игры. А каталась на коньках — одно загляденье. Не каталась, а словно порхала; взлетев вверх и сделав несколько оборотов, бесшумно и красиво опускалась на лед. Один мальчик, считавшийся неплохим фигуристом, следил за ней сначала с восхищением и завистью, потом с подозрением, и вдруг воскликнул:
— Это нечестно! У нее антиподошвы.
Ребятишки обступили Тину и, приплясывая, хором кричали:
— Тинка-Льдинка, покажи ботинки! Тинка-Льдинка, покажи ботинки!
Тина, смеясь, поочередно показала ботинки. Подошвы оказались обыкновенными.
— Тогда пояс! — догадался кто-то. — У нее антипояс!
— Нет у меня никакой техники, — говорила Тина.
— Пояс! Покажи пояс! — не унимались ребята.
Они хотели расстегнуть у Тины шубку, но девочка выскользнула и побежала к роще. Увязая в сугробах, все звонкоголосой гурьбой кинулись за ней. На миг Тина обернулась, засмеявшись, что-то крикнула и прибавила ходу. Но ребята догоняли и вот-вот, кажется, схватят за развевающиеся полы. Однако у самой рощи случилось непонятное. Поднялся ветер, взметнулась искристая круговерть. В шелестящем вихре мелькнула серебристая шубка Тины, в тот же миг смешалась со снежной пылью и… пропала. Стих ветер, улеглась поземка, но девочки уже не было.
Первым сообразил, в чем дело, тот самый мальчик, который несправедливо обвинил Тинку-Льдинку в обмане.
— Ребята! Это же снегурочка!
Трех и четырехлетние малыши счастливо взвизгивали, скакали и картаво восклицали:
— Снегулочка! Снегулочка!
Но что возьмешь с этих несмышленышей? Более взрослые ребята с грустью озирались вокруг: опустели, осиротели снежные поля. Даже смешливая Вика притихла, а грудь Василя сжало такое горе, что в глазах защипало. Боясь расплакаться при ребятах, он побежал домой. И только здесь дал волю слезам.
— Василек, что с тобой? — спросила мама.
— Снегурочка, — всхлипнул мальчик. — Умерла снегурочка.
Мама и папа утешили: снегурочка и другие стихийные существа никогда не умирают; они вечны, как вечна сама природа.
Может быть, взрослые правы, — подумал на другой день Василь. Но от этого все равно не легче. Андрей признался, что он тоже ревел дома вовсю. Вика ободряла друзей, как могла: «Такое, — говорила она, — случается почти со всеми».
Однажды под Новый год Вика принесла весть: к ним на большую загородную елку приходила снегурочка с дедом Морозом. Но то была совсем другая снегурочка — застенчивая и тихая. А Василь тосковал именно по Тинке-Льдинке, озорной и шумной, как снежная метель.
Ранним утром, когда над полями еще висела мгла, Василь вышел за село и остановился у той самой рощи.
— Тинка-Льдинка, где ты? — тихим голосом спросил он. — Покажись!
Но угрюмо молчали деревья, тихо в сумеречных полях. В космическом беззвучии, пульсируя в ледяных высотах, догорали перед рассветом последние звезды. И такой заброшенностью веяло от холодных высот и равнин, что на глазах мальчика навернулись слезы.
Но вот порозовели макушки снежных барханов, встающее солнце алыми брызгами расплескалось на пушистых шубах деревьев, на мохнатых шапках кустов. И все вокруг ожило и заулыбалось! Улыбались сугробы, сверкали и смеялись нарядившиеся в хрусталь березы. И даже в серебристой поземке звенел серебристый смех.
Василь счастливо ахнул: это же снегурочка! Живая, искристо озорная снегурочка!
— Здравствуй, Тинка-Льдинка! — воскликнул он и помчался поделиться радостью с мамой и папой.
С тех пор рощу эту Василь так и называл: Тинка-Льдинка. Даже летом, когда роща, давно сбросив белую снежную шубу, оделась в зеленое платье. В жаркие дни, как ни спешили друзья к Кувшину, они обязательно сворачивали сюда. И снегурочка-роща встречала их ласковой прохладой.
А за рощей, за этой звеневшей листвой и птичьими голосами Тинкой-Льдинкой, ярким многоцветьем открывалась степь — модница тетя Зина. Ребята часто слышали ее далекий певучий голос, иногда встречались, когда она становилась девушкой с приветливым и ясным лицом. Друзья делились с тетей Зиной новостями, спорили о цветах и звездах. Но о беседах с феей весенних лугов ничего не говорили Кувшину, опасаясь вызвать с его стороны град насмешек.
Однако ни снегурочка, ни Кувшин, ни тетя Зина — никто так не владел душой Василя, никто так не занимал его мысли и чувства, как таинственный Пастух. Однажды, еще затемно, мальчик прокрался за околицу и в предутреннем мглистом мареве увидел плавающие силуэты лошадей. Чуть в стороне на сухом пригорке, где всегда цветет иван-чай, сидел человек и тихо наигрывал на свирели — пробовал, видимо, какую-то новую мелодию. Какой человек — не разглядеть и не разгадать. Близкое присутствие мальчика обеспокоило его. Он встал и ушел в поле.
Василь кинулся за ним… Но только метелки трав колыхнулись и тень неясная мелькнула во мгле. Клубы тумана еще, казалось, хранили его дыхание и в травах будто слышался шорох шагов. Но самого Пастуха нет.
Мальчик чуть не заревел от досады, а днем часто спрашивал взрослых: как поговорить с Пастухом или хотя бы увидеть его? Но те только разводили руками.
А тут вскоре вокруг села возникла блуждающая зона. И снова загадки! Папа говорил, что в зоне, в радиусе до ста километров, биосфера освобождается от недобрых гостей.
— От колдунов и ведьм? — спросил Василь.
— И от многих других. Уходят они через зону невидимками, в виде сгустков информации. И только где-то в далеком прошлом материализуются. Толком мы не знаем. Незваные гости ночью на короткое время могут становиться видимыми и осязаемыми и здесь. Сфера Разума как бы в нерешимости: выбрасывать их в прошлое или нет. Но эти временные пришельцы не опасны — биосфера не даст людей в обиду.
— А правду говорят, что зона — болезнь биосферы?
— Да, малыш. И пока мы не знаем, как помочь природе избавиться от нее.
В жизни полей и рощ ничего не изменилось, будто блуждающей зоны и не было. Все так же сияли росы по утрам, пели птицы, и стрекозы электрическими разрядами мелькали в знойных камышах. Все так же требователен и насмешлив Кувшин, добра и приветлива фея весенних лугов. Люди понесли, однако, утрату, единственную, но горькую — исчез Пастух. На время или навсегда — этого никто не знал.
Василь теперь редко виделся со своим другом. Осенью Андрей собирался идти в первый класс. А до этого он должен с одногодками совершить многодневное кругосветное путешествие. Ребята побывают в джунглях Амазонки и в парках Гренландии, в американских прериях и в высокоствольных эвкалиптовых лесах Австралии. Они получат предварительное знакомство с жизнью многоликой Сферы Разума, или, как ее называли по старинке, — Биосферы… Именно из ее Памяти и приходят сейчас в блуждающей зоне странные и пугающие пришельцы.
Василь, однако, не остался один — он подружился с Викой. Странная это была дружба, временами и колючая. Острая на язычок девочка то и дело обжигала насмешками и обидными кличками — на них она была просто неистощима.
— Крапива! — обиженно восклицал Василь и сторонился девочки.
А та ходила с понурым видом и жалобным голосом просила:
— Прости меня. Ничего не могу с собой поделать. Такой уж родилась.
И Василь прощал. С ней все же интересно и весело.
В один из дней Андрей был свободен, и друзьям захотелось вместе с городскими ребятами поиграть в кузнечики. В куртках с антипоясами они, подобно кузнечикам, поскакали на запад. Прыгнув, километров через двадцать снижались, в гулких лесах аукали и, собравшись вместе, совершали новый прыжок. Наконец залетели совсем далеко. Наряду с привычными березами и кленами все чаще попадались гладкоствольные громадные буки, ветвистые платаны.
На большой поляне цвели невиданно крупные васильки и в траве меж стеблей скользили странные голубые блики. Ребята притаились за кустом и стали наблюдать. Чашечки цветов мерцали — оттуда язычками пламени выскакивали крохотные человечки.
— Васильковые эльфы, — прошептала Вика.
Одетые в разноцветные штанишки и куртки, васильковые духи закружились в танце. Один из них, в коротком синем плаще, выплясывал так старательно и забавно, что Василь чуть не рассмеялся.
Эльфы вдруг засуетились, вскочили в чашечки цветов, мелькнули голубыми мотыльками и пропали. Испугали их люди, буквально упавшие с неба. Они собрались на краю поляны и начали о чем-то совещаться. К ребятам подошел высокий светловолосый человек.
— Помешали вам, — извинившись, сказал он. — Но мы уйдем, как только местный лес изготовит по нашему проекту вот эту вещь.
Человек развернул свиток с объемным рисунком.
— Дельфин! — воскликнул Василь.
— Не дельфин, а космический корабль, — солидно поправил Андрей.
— Оба вы правы, — улыбнулся человек. — Детально разработанную идею корабля мы передали в Память биосферы. Она сейчас овеществит ее, представит в металле и пластике.
Верхушки деревьев слегка закурились. Дрожащие струи силовых полей, словно влажные испарения в знойный день, потянулись вверх. Там, в поднебесье, они потемнели и сплелись в сизое облако, похожее на исполинского дельфина. И даже на борту космического дива засветилась надпись: «Дельфин».
— Здорово! — восхитился Андрей.
— Это еще не все, — сказал конструктор. — Сейчас «Дельфин» улетит на один из космодромов Плутона. Завтра мы проверим все узлы, кое-что доделаем, и через неделю корабль будет готов.
Сиреневый «Дельфин», сверкая на солнце и словно любуясь собой, покружился, потом набрал скорость и растаял в синеве — улетел на далекий Плутон. Конструкторы, с минуту переговорив между собой, на невидимых лифтах вернулись в свою внеземную лабораторию.
Все же васильковые эльфы, видимо, обиделись и больше не показывались. И ребята полетели домой. В город вернулись, когда свалившееся за горизонт солнце слабо подсвечивало высокие перистые облака и те роняли вниз розовый пепел, золотили крыши домов, шпили дворцов. Вика настаивала, чтобы ребята вернулись в село через станцию миг-перехода.
Андрей так и сделал, а Василь не захотел.
— У вас сейчас блуждающая зона, в полях могут появиться чудища. Испугаешься.
— Ерунда, — махнул рукой Василь. — Ничего они со мной не сделают.
И запрыгал Василь кузнечиком над быстро темнеющими лесами и лугами навстречу голубому рогу луны. Километрах в двух от села с антипоясом что-то случилось, и дальше пришлось идти пешком. Из непроглядной тьмы леса Василь вышел на равнину, где в низинках ползли нити тумана и под луной лоснилась трава.
Яркий полумесяц задернулся тонкой косынкой облака, и по степи поплыли густые рваные тени. В этот миг ветви кустарника у реки шумно закачались, там раздался звон, удививший мальчика. Звякнул металл, а его дети почти не знали.
Из кустарника выступила лошадь со странным всадником. Василь отшатнулся: у человека как будто не было головы. Померещилось? Из-за тучки выплыла луна, ярко осветив все вокруг. И мальчика охватил ужас — в опущенной ниже колен руке всадник держал за волосы… голову. Свою собственную отрубленную голову!
Василь вскрикнул и бросился в спасительный лес. Он бежал, не разбирая дороги, перепрыгивая через кочки и бугрившиеся корни деревьев. Страх душил его, гнал все дальше. На одной из полян Василь остановился перевести дыхание. И тут из мглы послышался тихий голос — ласковый и журчащий, как лесной ручеек:
— Безголового испугался? Не бойся, малыш.
Кто говорил — в темноте не разобрать. Но страха как не бывало. К лесному незнакомцу Василь сразу почувствовал доверие.
— Я с тобой, малыш, не бойся. Безголовый скоро уйдет и не вернется.
Что за чудо-голос. Пожалуй, он похож не на журчание ручейка, а на шелест ветвей дружески
настроенного говорливого дерева. Из-за тучки вынырнула луна, и на поляну заструился тихий свет. Василь увидел старого человека с белыми, как снег, волосами, с бородой до пояса. Удивительная борода! Она чуть сияла, словно сотканная из паутины и лунных лучей.
— Старик-лесовик! — обрадовался Василь. — Дедушка Савелий! Мне рассказывали о тебе.
— Верно, — улыбнулся дедушка. — А кто рассказывал?
— Кувшин.
— Кувшин?! — Дед Савелий отшатнулся и сердито замахал руками. — И ты беседовал с ним? Это же негодяй! Разбойник! Его надо выселить из наших мест.
Губы Василя невольно расплылись в ухмылке: дедушка Савелий и Кувшин, понимал он, давно живут не в ладах. И ему захотелось когда-нибудь помирить их.
— Хам! Грубиян! — не унимался дедушка. — Он деревья ломает. Ругает фею. А вчера маленькую русалочку даже отшлепал. Для воспитания, говорит!
Василь рассмеялся — он узнал повадки задиристого Кувшина. Когда дедушка Савелий успокоился и сел на бугорок, мальчик примостился рядом.
— А безголовый? — В груди его снова шевельнулся страх. — Кто он?
— Не знаю. У людей надо спросить. Сами же люди когда-то выдумали его. Вот он сейчас и ожил. Бродит.
— Где бродит? Где он сейчас?
Дедушка Савелий понюхал воздух и сказал:
— На лужайке около реки. По железу чую. Это уздечка и стремена из железа. В старину даже лошадок заковывали в проклятое железо.
На «проклятое железо» лесной дух обрушился с еще большим гневом, чем на Кувшина. А когда упомянул о каком-то топоре, борода его сердито затряслась. Топор и железо, сказал он, в древние времена были главными врагами леса.
И вдруг дедушка замолк, прислушиваясь к тишине и принюхиваясь.
— Ушел безголовый, — улыбнулся он. — Куда? Не знаю, малыш. Но больше он не вернется. Дорога свободна, идем.
Он взял мальчика за руку. В непроглядном лесу дедушка чувствовал себя, как дома, знал каждую звериную тропинку, каждое птичье гнездо.
— Кто, по-твоему, шуршит за кустом?
— Мыши, — ответил Василь.
— Не угадал, — рассмеялся дедушка. — Это малютки-гномики помогают мне ухаживать за лесом: они убирают сучья, сгнившие листья.
Из леса Василь вышел с некоторой опаской. Но кругом тишина. Лишь травы чуть слышно вздыхали и мирно серебрились под ливнем лунных лучей. Рядом надежный спутник — добрый дух леса с его чудесным голосом, ласковым и шелестящим, как древесная листва. У околицы села дедушка Савелий попрощался и ушел, растаяв в дымном сиянии степи.
Дома Василю крепко досталось от мамы, но папа увел его в другую комнату и стал расспрашивать.
— Ночные гости не так пугливы с детьми. Внеземные станции, конечно, фиксируют все необычное в блуждающей зоне, но издали и в инфракрасных лучах. — Выслушав рассказ сына, папа сказал: — Это, малыш, уже что-то новое. Начали выступать из Памяти не мифологические и сказочные образы, а литературные. Завтра дам книгу, и ты все поймешь.
Утром отец дал сыну роман Майн Рида «Всадник без головы». Василь читал его и удивлялся, как это они с Андреем раньше не догадались взять из Памяти такую интересную книгу. Страшный всадник, напугавший его ночью, был в точности таким, каким он описан в романе.
Растревоженное воображение мальчика рисовало блуждающую зону в виде морского берега. Океан Памяти, плескавшийся в биосфере, во время шторма, или, как говорят взрослые, волновых флуктуаций, выбрасывает на берег вместе с пенистыми валами излучений разные образы прошлого. Как вчера ночью всадника без головы. Потом волны смывают их обратно в океан Памяти. Но самые злые образы — черти, драконы и другие — невидимками выплескиваются и улетают далеко назад, в доисторическое прошлое. И только там становятся видимыми.
Блуждающая зона, полная ночных тайн, и манила к себе Василя, и пугала. С разрешения папы он несколько раз бродил на лугу и вдоль опушки леса. К сожалению, ничего интересного не происходило. Однажды, правда, он столкнулся с лешим. Но то был обыкновенный лесной житель вроде дедушки Савелия. Мальчик ушел бы, если бы не забавное поведение лешего. Тот выскочил из леса и пугливо озирался, словно не понимал, где он и что с ним случилось. И оделся леший смешно: на нем старинный фрак, на шее галстук, повязанный бабочкой. Мальчик рассмеялся и попытался успокоить лесного жителя. Они сели рядышком на берегу реки и разговорились. Леший то и дело вздрагивал, оглядывался и прислушивался. Изредка прошелестит вверху ночная птица, глухо ухнет вдали филин. И снова тишина. Наконец леший окончательно успокоился и назвал себя философом.
— Задумывался ли ты над своими желаниями? — спросил он.
— Задумывался, — охотно отозвался Василь. — Иногда чего-то хочется. Но чего хочется — не знаю.
Вот это и есть, говорил лесной обитатель, кусочек осознанной человеком мировой воли. Твое личное хотение, утверждал философски настроенный леший, это дырка или, лучше сказать, подземный ход в мир, какой он есть на самом деле. А на самом деле есть только бесконечная мировая воля, слепое и бесцельное космическое хотение. Окружающий нас осязаемый мир в действительности не существует. Это всего лишь видимость мировой воли, наше представление. Это Майя — обманчивое покрывало, спускающееся на глаза смертных.
Лесной житель излагал свои мысли так просто и образно, что Василю стало чудиться, будто он и в самом деле живет в призрачном мире теней, в пещерном сумраке представлений.
Леший внезапно исчез, словно его и не было. Он оставил в душе мальчика смутный и тревожный след: раньше Василь совсем иначе понимал окружающий мир. «Что-то здесь не так», — думал он. Несколько раз порывался Василь поделиться своими сомнениями с Викой, но опасался ее насмешек.
— Что ты так странно смотришь на меня? — спросила как-то Вика.
— А знаешь, кто ты? — отважился Василь. — Ты мое представление, а на самом деле тебя нет.
Вика с недоумением посмотрела на мальчика, потом выразительно повертела пальцем около своего виска и, расхохотавшись, наградила до того уж обидным прозвищем, что Василь надулся и несколько дней сторонился девочки. Ничего другого от Крапивы и не следовало ждать.
В тот же день Василь разговорился с отцом. У того брови изумленно поползли вверх, когда услышал о мире как воле и представлении, о призрачной ткани Майя.
— Ты где нахватался этой чепухи? — спросил он. — Из старинных философских книг? Но ведь Сфера Разума выдает книги по возрасту и уровню подготовки. Ты ничего бы не понял, если бы даже получил такую книгу.
— Мне леший рассказывал.
— Не может быть. Природные существа учат здоровому и правильному взгляду на мир. А может, кто-то другой?
— Нет, это был леший. Дядя Артур. И фамилию он свою называл. Какая-то трудная фамилия. Кажется, Шопен… Или нет, Бауэр!
— Артур Шопенгауэр! — воскликнул отец. — Как я сразу не догадался. Это его философия. Это, малыш, уже не вымысел, а реально живший человек. И человек довольно недобрый. Но место ли ему там, среди недобрых вымыслов и злой мифологии? Странно все это…
Выход из Сферы Разума, из ее Памяти исторической личности, да еще такой известной, как Шопенгауэр, всерьез обеспокоил ученых. Их внеземная станция зафиксировала еще два похожих случая. Началась подготовка к рейду в доисторические времена для поисков места, где материализуются и скапливаются тени прошлого. Надо было выяснить, что представляет собой это явление и насколько оно опасно.
Вскоре в рощах и полях, примыкающих к селу, перестали возникать ночные гости: блуждающая зона переместилась совсем далеко, в район Карибского моря. А еще через день послышались звуки — глухой топот, пофыркивание лошадей и… музыка древних степей.
— Пастух! Вернулся Пастух! — радовались люди.
Радовался и Василь. Но непонятной, временами горькой была эта радость. Кто он, таинственный друг и мучитель? Откуда приходит? Из старинных сказаний и песен? С необозримых пастбищ давно ушедших веков? У мальчика возникало щемящее чувство общности, родства с древними пастухами и пахарями, воинами и мореходами.
А звуки свирели лились, проникали в душу и отзывались в ее глубине волнующим, как ветер, и куда-то зовущим эхом. Но куда зовут эти странные звуки? Кто знает? Кто скажет?
* * *
С такими вот неясными настроениями, с еще не угасшими в ушах звуками свирели я и проснулся, очнулся внезапно и мгновенно. И так же мгновенно, похолодев от ужаса, осознал свое истинное положение: я в стране изгнанников, в мире реализовавшихся кошмаров.
Прислушался: кругом ни души. Под диваном тихо спят конвоиры. Осторожно приблизился к окну. Все так же призрачно, тускло светится под луной полянка с жиденькой сиренью. Здесь час назад резвился страшный мистер Ванвейден… А потом волшебный сон с пробуждением в ином времени и месте. А сон ли?
Вдруг все помутилось перед глазами, голова закружилась, и я обессиленный сел на кровати… Нет, не сон! Ослепительно ярко возникли в памяти цветущие степи с поющей феей весенних лугов, а в ушах послышались звуки свирели.
Где я? На грани двух миров? И кто я, в конце концов? Василь? Василий Синцов или этот… Как его? Пьер Гранье? Кто разрешит мои сомнения? Мой ночной собеседник и друг?
Я прилег и усилием воли приглушил мятущиеся и мешающие контакту мысли. И наконец услышал… Из самых нижних этажей подсознания донесся голос:
— Ты как будто в смятении?
— Еще бы. Так и кажется, что тебя нет и что разговариваю сейчас с самим собой, с моим лучшим «я».
— В тебе прорастает новая личность, похожая на меня. Вот и все. Тебе дают новую жизнь не для забавы.
— Понимаю. Чудный конь! Бог пространства и времени! Да, он уже сейчас не шарахнется от меня, как от злого чудища. Примет меня.
— Не обольщайся. Ты должен прожить почти всю мою жизнь. Вот тогда станешь человеком нашего мира. И тогда конь…
— Вон оно что! Опасаетесь, что я на коне преждевременно сбегу и не выполню задания? Нет, нет! Я все сделаю, хотя от страха иногда случаются галлюцинации.
— Галлюцинации? Ты об этом не говорил.
— Чепуха. Во время проверки я будто бы видел здесь дядю Абу.
— Не может быть!
— Вот и я говорю, что померещилось от страха.
— А что, если?.. — в голосе моего собеседника чувствовалась такая тревога, что я с беспокойством спросил:
— Дружище, что с тобой?
— Припоминаю… В последнее время дяди Абу не было видно нигде. Ходили слухи, что он в межзвездной экспедиции. А что, если это не так?
— Да говори же толком! Мне становится страшно.
— Есть предположение, что в блуждающей зоне с человеком может произойти перестройка биологической структуры в энергетически-информационную. Его организм получит способность к самым невероятным превращениям.
— И его с волнами излучений занесет сюда, в этот страшный балаганный мир? Ну и ну! Ну и цивилизация!
— Всего лишь временная трудность, что-то вроде болезни Биосферы, ее Памяти.
— Догадываюсь. Биосфера дает вам возможность общаться с феями, таинственными пастухами и другими добрыми существами. Но для нормальной жизнедеятельности ей необходимо освободиться от такого же количества недобрых — ведьм, драконов и даже таких исторических, как я. Без этого ваш сказочный мир жить не может. Положительный полюс невозможен без отрицательного. Но дядя Абу! Друг моего детства! Это же сама доброта!
— По той же гипотезе, несчастье с человеком временное. Силовые микровихри израсходуют энергию, и организм вернется в обычное биологическое состояние.
— А если все же галлюцинации?
— Все может быть… — Голос собеседника прерывался и уходил куда-то вдаль. — А если несчастье?.. Тогда надо сойтись с дядей Абу… Для…
— Для пользы дела? — допытывался я.
В ответ ни звука. Может быть, время, отпущенное на диалог, кончилось и мне пора спать? Взглянул на часы и поразился. Прошел всего час с того момента, как мистер Ванвейден, позвякивая кандалами, ушел в темноту. А сколько событий! И главное из них — мое детство. За секунду или две прожил удивительные годы. Они освежили меня, словно ветер полей пронесся в моей душе. Прорастает во мне новая личность?
Однако личность эта изрядно трусила, когда еще раз выглянула в окно. Но там никого. Тихо и в соседней комнате. Я лег и сон обхватил меня. Спал крепко и без сновидений. Лишь перед тем, как уснуть, на миг кольнула и тут же погасла мысль: кто же такой дядя Абу?
Непобедимый дядя Абу
Проснулся, когда утренние лучи коснулись моих ресниц. Я осторожно приоткрыл глаза. За столом уже сидели конвоиры в гусарской форме. Но выглядели гусары жалкими и пришибленными. Виновато опустив головы, они время от времени смущенно посматривали на меня. Чувствовалось, что перетрусили они ночью не на шутку и сейчас им очень стыдно. Желая подбодрить их, а заодно и себя, я встал и весело спросил:
— Ну что, братцы? Напугал вас мистер Ванвейден?
— Прохвост, — с ненавистью отозвался о ночном госте Крепыш.
«Славные парни», — усмехнулся я и еще раз подумал, что с конвоирами мне повезло.
— Я должен, видимо, стараться, чтобы ночью нас никто не тревожил, — сказал я. — После завтрака отправимся в лес и добудем штурмбанфюрера. Пойдете со мной?
— Хоть к черту на рога, — весело ответил Усач.
Однако Усач задрожал от страха, когда машина подъехала к опушке.
— Нам нельзя туда, — прошептал он. — Там нечистая сила.
Себя черти считали, видимо, «чистой силой». Крепыш объяснил мне, что лешие, водяные и русалки очень враждебны к ним. Недавно ведьма совершала на метле патрульный полет вдоль опушки и нечаянно очутилась над лесом. «Нечистая сила» дематериализовала ее летательный аппарат. Ведьма ухнула вниз и сгинула.
— Пойду один, а вы оставайтесь в машине, — предложил я.
Лес встретил меня утренней полумглой и росистой прохладой. Лучи солнца выхватывали листья клена, и те загорались, как зеленые фонари. И такая тишина, что слышен был стук падающих капель.
Странный лес. Частица, осколок волшебной Биосферы — Сферы Разума, своего рода ретранслятор, «излучающий» изгнанников. Не знаю почему, но сегодня я доверял лесу, как надежному другу. И даже «нечистой силы» — лесных существ — не боялся. В прошлый раз водяной и русалки, искупав меня в омуте, не хотели причинить зла. Они просто озорничали.
Опасаться надо только Черного паука. Да и то ночью. А днем? Я зябко передернул плечами, вспомнив, что сейчас где-то здесь бродит штурмбанфюрер — столь желанный Гроссмейстеру изгнанник. Если он материализовался перед рассветом, то Черный паук не успел сожрать его.
Лес редел, и все чаще попадались светлые полянки. На одной из них под высоким, очень густым и ветвистым дубом лежал широкий пояс с металлической пряжкой и расстегнутой кобурой. Вороненой сталью блеснула рукоятка парабеллума. Ясное дело: штурмбанфюрер расстегнул пояс, чтобы проворнее взобраться наверх. Черный паук так напугал его, что он до сих пор не решается спуститься.
Но вот зашевелились, затрещали ветви, и сквозь листву я рассмотрел черный мундир со свастикой на рукаве. В один миг я очутился под деревом и выхватил из кобуры пистолет. Отскочив назад, наставил его на незнакомца. Высокий, плечистый, тот стоял уже внизу и спокойно рассматривал меня. Да, такого ничем не смутишь. Лицо его, крупное и волевое, могло бы понравиться, если бы не мутно-свинцовые, тяжелые глаза.
— Предлагаешь поднять руки? — хмуро усмехнулся он.
— На всякий случай подними. Кто такой?
— Штандартенфюрер СС Ганс Ойстерман.
— О, мне повезло. Даже штандартенфюрер! Идем, я тебя выведу в город.
Штандартенфюрер нерешительно потоптался и огляделся по сторонам.
— В чем дело?
— А если опять повесят?
— А, голубчик! Тебя уже один раз вешали? Не бойся, здесь будешь в большом почете. Только служить придется фюреру не совсем обычному.
Эсесовец и сам кое о чем догадывался. Все же я в общих чертах обрисовал наше положение в стране изгнанников и привел его на опушку леса. Крепыш сразу же оценил важность моей находки.
— Вот это зверь! — воскликнул он с явным одобрением.
В длинноруком и сутуловатом эсэсовце и впрямь было что-то звероподобное. Усач, прищелкивая языком, рассматривал штандартенфюрера с уважением и опаской. На всякий случай ему крепко связали руки, прежде чем усадить в машину.
К департаменту подъехали около полудня. Аристарх Фалелеич потирал руки, весьма довольный моим усердием.
— Дельно! — сказал он. — Кем этот тип был в прошлой жизни? Начальником концлагеря? Очень хорошо!
Мистер Ванвейден полоснул меня враждебным взглядом: моя удача его раздосадовала. То ли похвала директора придала мне храбрости, то ли я сам стал чуточку другим, но я бесстрашно погрозил мистеру Ванвейдену кулаком и крикнул:
— Эй, ты! Вампир! Если еще раз заявишься к нам скелетом, я переломаю тебе все ребра.
Аристарх Фалелеич усмехнулся и поощрительно подмигнул мне: своего заместителя он недолюбливал. Крепыш приятельски толкнул меня в плечо и шепнул на ухо:
— Браво!
Вечером во время ужина видеофон на моем письменном столе внезапно засветился. Конвоиры, поспешно вытерев засаленные пальцы о скатерть, вскочили и почтительно вытянулись в струнку — на экране возникал круглая физиономия директора департамента.
— Садитесь, — добродушно промурлыкал Аристарх Фалелеич.
Доставленный мной исторический персонаж, сказал он, проверку прошел, и его идентичность с реально жившим штандартенфюрером СС установлена. Глаза Мурлыкина сладко жмурились, когда он расхваливал этого палача.
— Бесчеловечен в высшей степени. Ценный экземпляр!
В груди у меня тоскливо заныло: вспомнил, что я ведь тоже признан «ценным экземпляром».
Экран погас. На моем пиджаке бабочкой заплясало светящееся пятно и оформилось в высший знак отличия — орден «Рог дьявола». Награда окончательно испортила мне настроение. Когда утром брился перед зеркалом, не мог смотреть на себя без стыда и омерзения. А тут еще в моей душе, в самом укромном ее уголке поселился кто-то другой и насмешливо взирал на меня.
На улице, однако, все переменилось: верх взял Пьер Гранье — приспособленец. Я повеселел и чувствовал себя с наградой в относительной безопасности. Прохожие уважительно уступали дорогу. Агент царской охранки, ранее неотступно следовавший за мной, с завистью посмотрел на орден и нелепо расшаркался. Следил он за мной теперь издали, а потом и совсем исчез.
Исчез из моей души и насмешливый бесенок — Василь. Ну и лучше: без него спокойнее жить.
У меня не совсем понятное задание — наблюдать. С утра я ходил по городу и наблюдал за его жизнью с возрастающим любопытством. Уж больно забавно копировала нечистая сила привычки людей и социальные формы исторического прошлого. После полудня усаживался за письменный стол. У меня уже были наброски романа о жизни этой страны. Надо стараться, чтобы не угодить в костер. Иногда подходил к пианино. А не написать ли симфонию?
Вечером я часто гостил у Алкаша, играл с ним в шахматы, беседовал с этим неглупым человеком.
— Наловчилась нечистая сила хватать из прошлого почти все, что пожелает, — сказал он как-то. — Но в электропроводке, в ремонте не смыслит ни бум-бум. Все это делают исторические, вроде меня.
Сам Алкаш следит за исправностью труб во дворце, где размещается парламент. От него услышал прелюбопытнейшую историю. Когда-то давно в зале заседаний в качестве депутатов сидели человекоподобные роботы. При появлении Гроссмейстера или другого важного докладчика они почтительно вставали. На трибуне — пульт управления роботами. Стоит выступающему нажать кнопку, и в нужном месте доклада гремят аплодисменты. Нажмешь другую кнопку — вспыхивают бурные аплодисменты, переходящие в овации. Нажмешь третью — из зала несутся крики «Правильно!» или «Браво!». Такое послушание очень нравилось Гроссмейстеру. Но потом его стали почему-то раздражать роботы. Их заменили живыми депутатами.
— И что ты думаешь? — смеялся Алкаш. — Живые депутаты оказались смекалистыми мужиками. Они ведут себя точь-в-точь, как роботы. Гроссмейстер доволен.
О том, что рядом в качестве какого-то всесильного изгнанника может находиться дядя Абу, я почти забыл. Вернее, трусливо пытался забыть. Да видел ли я его во время проверки? «Мне тогда померещилось, — убеждал я себя. — Мелькнул призрак и пропал».
Вскоре, однако, призрак напомнил о себе. Однажды, играя в шахматы, я задержался у Алкаша. Прохожие уже разбегались по домам, спешили в храмы, церкви и мечети — близился час дьяволослужения. Не желая опоздать, я решил встретить его в соборе Святого Павла, расположенном на пути к моему коттеджу.
До начала оставалось еще минут десять. У входа стоял крупный светловолосый тип («Уж не дракон ли?» — подумал я) и мирно беседовал с чернявым, похожим на грача низкорослым господином. Справа, строя мне глазки, посмеивались и щебетали хорошенькие девушки. От них исходил запах французских духов.
«Ароматные девушки, — усмехнулся я. — Но кто они? На ведьм не похожи».
— Красавчик, не желаешь ли освежиться? — спросила одна из них. Вынув из сумочки пульверизатор, она обрызгала меня духами.
Открылась дверь, и все устремились под гулкие своды собора. Нечистая сила, возвращаясь в свой первородный образ, старалась поудобнее устроиться у экрана. Впереди, сварливо переругиваясь, толкались черти и ведьмы. В самом темном углу испуганно жались к стене два литературных персонажа и один исторический.
Я стоял в центре. Позади меня — чернявый, похожий на грача господин, а рядом расположился тот самый светловолосый тип. К моему ужасу, он и в самом деле развернулся в огромного, покрытого панцирной чешуей дракона. Башка его касалась потолка. Я опасливо посматривал на дракона. Что от меня останется, если он случайно обопрется когтистой лапой? Но дракон стоял тихо, добродушно посматривал сверху на дерущихся чертей и лениво позевывал. При этом зубастая пасть его распахивалась и захлопывалась с лязгом стального капкана.
Позже всех вошли «ароматные девушки» и, превратившись в черных птиц с девичьими головами, взлетели вверх. В тот же миг я зажал нос от невыносимой вони. Это же гарпии! Те самые прожорливые и зловонные твари, что досаждали спутникам Одиссея и аргонавтам на их пути в Колхиду.
Дракон морщился, отмахиваясь лапой от вонючих птиц. Те подняли невообразимый гвалт, дрались за каждый карниз, за каждый выступ на стене. Наконец расселись и, сложив крылья, утихли. В это время у меня за спиной послышался чей-то визгливо-капризный голос:
— Поднимите мне веки! Не вижу!
Я обернулся. Вместо чернявого господина стояло чудище с квадратной физиономией, лоснящейся, как намасленный замок. Какие-то низкорослые, смахивающие на гномов создания кинулись к нему и стали услужливо поднимать свисающие до пола веки.
«Гоголевский Вий», — вздрогнул я и поспешно отвернулся. По спине пробегали холодные мурашки: вот-вот, казалось, Вию поднимут веки, и он, уставив на меня железный палец, завопит:
— Вижу! Это разведчик! Хватайте его!
С трудом унял я свои нервы и стал глядеть на экран: в чистом небе из-за горизонта выходило облако с дворцами сатаны.
Справа от меня, там, где находился запасной выход, кто-то вскрикнул, и вскоре зябким сквозняком пополз оттуда испуганно почтительный шепот:
— Непобедимый… Непобедимый.
Я посмотрел вправо, и сердце замерло: дядя Абу! Сомнений никаких — это он со своей знаменитой шевелюрой, смахивающей на галактику. Я находился в тени, и видеть меня посетитель, к счастью, не мог. Пришел сюда дядя Абу пошалить и развлечься: знакомая мне по детству Василя неуемная проказливость так и рвалась у него наружу.
— Кому поклоняетесь? — рассмеялся дядя Абу, показывая на экран. — Это же балаганный клоун. Жалкий фокусник! Плюгавый придурок!
Эффекта он добился ошеломляющего. Изгнанники запрыгали, заметались и в ужасе затыкали уши. Слушать сквернословие в адрес сатаны? Да за это сразу можно угодить на костер! Гарпии, подняв нестерпимую вонь, махали крыльями и визжали. Дракон свернулся в человека и кинулся к главному выходу. Там образовалась давка. А дядя Абу, потирая руки, хохотал и продолжал изрыгать страшные дьяволохульства:
— Ваш сатана — дерьмо! Ублюдок!
Мои черти оказались сообразительнее и проворнее всех. Они подхватили меня под мышки, взлетели вверх, рогами разбили цветные стекла витража и вырвались наружу.
Ночью я почти не спал. Часто подходил к зеркалу, откуда незнакомо выглядывала бледная растерянная физиономия. «Хорош», — хмуро поздравлял я себя. Каким-то чудом, последним усилием воли собрал в кулак остатки мужества и решил действовать так, как советовал ночной собеседник. Надо установить контакт с дядей Абу. Неведомая мне сила скрутила его, превратила в какое-то чудовище.
Заснул я поздно. Успокаивала юркая и трусливая мыслишка: а что, если мне снова померещилось и никакого дяди Абу в соборе Святого Павла не было?
Утром полистал первые выпуски газет и убедился: дядя Абу — не обман зрения, не галлюцинации, а реальный факт. И судя по трусливому тону газетных сообщений, факт значительный. В них говорилось, что вчера вечером всеми уважаемый Непобедимый снова допустил нехорошую выходку и обозвал Гроссмейстера разными словами.
Итак, дядя Абу — изгнанник, демон, могущественный и независимый, своего рода государство в государстве. Но какой демон? Я полистал старые газеты, но ответа на этот вопрос не нашел.
— Пишу роман о первых годах страны изгнанников, — сказал я Крепышу. — Но мне не хватает исторических данных. Сможешь помочь?
Крепыш отнесся к просьбе с уважением: от моего усердия зависит его благополучие, не оправдавших доверия людей сжигали обычно вместе с конвоирами. С одобрением отозвался о моем намерении и Аристарх Фалелеич. С его помощью Крепыш раздобыл заснятые летающими телепередатчиками и чудом сохранившиеся видеозаписи и обрывки кинолент. Сохранились они плохо и давали на экране смутные изображения. И все же прошлое диковинного мира вырисовывалось.
Вначале был хаос, буйное сборище злых чудовищ, родившихся в воображении людей и получивших здесь статус реальности. Христианская мифология объявила себя «высшей расой». Персонажи сказок, представители буддистской и языческой мифологий не уступали. Возникали склоки, переходящие в побоища с серным дымом чертей, с пламенем огнедышащих драконов. Иногда появлялись реально жившие и весьма недобрые люди. Но они немедленно истреблялись — хоть и злые, но все же люди. Из мглы средневековья выступил даже знаменитый инквизитор Торквемада, на свою беду показавший чертям, как устраивать аутодафе. С улюлюканьем и свистом черти привязали его к столбу и сожгли.
Кончилось тем, что все взвыли от свободы. Стали с нетерпением ждать изгнанника всесильного, способного избавить от непосильной обузы — от ненавистной свободы, иначе все истребят друг друга. Необходима диктатура страха — основа стабильности и коллективного счастья. На первых порах поговаривали о приходе Великого Инквизитора. Откуда взялись слухи об этом удивительном персонаже Достоевского, установить мне не удалось.
И вот к изгнанникам пришел порядок, связанный с появлением сатаны и его свиты — ангелов. Загромыхали испепеляющие молнии, заполыхали костры. И все присмирели, признали власть сатаны — Гроссмейстера.
Изгнанники начали устраиваться. Появлялись жилые дома, храмы, целые улицы с магазинами и, наконец, заводы. Драконы, вампиры, гарпии и все остальные твари стали именовать себя демонами. Слова «нечистая сила» считались нехорошими. К историческим персонажам, то есть к людям, начали относиться бережно. Они такие же изгнанники, без них не создать свою культуру, науку и технику.
Изгнанники догадывались, что живут они под «дурацким колпаком», под непонятной силовой сферой. Ожившие люди должны установить природу этой сферы, а затем с помощью созданного на заводах и в лабораториях лазерного и другого оружия разрушить ее. Изгнанники хотят вырваться на свободу. Зачем? Они ведь изгнаны, заброшены в доисторическое прошлое планеты. Может быть, они пожелали жить в мезозойских джунглях вместе с динозаврами и птеродактилями?
Я просмотрел еще немало видеозаписей и выяснил, что цель их другая и страшная: разрушить барьеры времени и вырваться на просторы тысячелетий. Изгнанники хотят вернуться в будущее — туда, откуда изгнаны, и установить там… демократию! То есть власть демонов!
— Живые люди, а не ожившие мертвецы будут служить нам… — с трудом разобрал я слова в одной из речей Гроссмейстера.
От неожиданности я выронил из рук видеоленты и долго не мог приступить к их просмотру. В воображении заметались картины одна ужаснее другой. Снегурочка, Кувшин, фея весенних лугов и другие спутники моего детства изгнаны. Леса вырублены, цветущие поля залиты асфальтом, и по пыльным дорогам с удовольствием катается в автомобилях нечистая сила. А люди, бывшие хозяева некогда зеленой планеты, — под конвоем, многие в кандалах.
Что и говорить, рисовала моя фантазия сцены, невероятные по своей нелепости. Я даже рассмеялся. Люди, конечно же, сумеют предотвратить беду. Я нахожусь здесь как раз для того, чтобы помочь им.
Помочь… Смогу ли? Холодный пот прошиб меня, когда я через минуту сделал открытие… Жизнь моя висит на волоске! Каждый день… Вернее, каждую ночь меня подстерегает смерть самая ужасная, какую только можно представить.
Но постараюсь взять себя в руки и рассказать обо всем по порядку. Может быть, еще не все потеряно? Дело в том, что в мои руки случайно попала кассета с видеозаписями совершенно секретного характера. Кассета затерялась среди других архивных документов, которые приволок старательный Крепыш. Записи смутные, хаотичные. Прыгающими от страха пальцами я перебирал ленты, с трудом восстанавливал последовательность событий и все глубже проникал в одну из самых жутких тайн здешнего мира. И вот что я узнал.
Года два назад появился пират. Не литературный, вроде Джона Сильвера, а реально живший предводитель пиратов Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода. Раньше я много читал о нем. Материализовался он в точности таким, каким запечатлен в исторических хрониках и в многотомной «Истории пиратов» Джонсона. Раньше я замер бы от восторга, увидев на экране этот живописнейший исторический образ.
Да, внешность у него картинная. Лицо, начиная от злых глаз, закрыто густыми черными волосами, покрывавшими также и грудь. Одежда вся в кровавых пятнах. И пропахла она ромом и порохом — эту адскую смесь Тич обычно пил. Под бородой — широкие ленты, унизанные пистолетами.
Кровожадной свирепостью Эдвард Тич приводил в трепет даже своих сподвижников. Но это в историческом прошлом. Здесь же — другое дело. Здесь разгульная морская братия встретила знаменитого пирата восторженным ревом:
— Черная Борода! Виват, Черная Борода!
В департаменте исторических персонажей Тич — Черная Борода сразу же был признан «ценным экземпляром». Но на свою беду он не мог избавиться от скверной привычки, приобретенной еще в прошлой жизни, — палить в темноте из пистолетов по своим собратьям. С разрешения Гроссмейстера с ним расправились сами же пираты. Они соорудили на площади бизань-мачту, повесили на рее Эдварда Тича, а труп его сожгли. С неуживчивым пиратом, казалось бы, покончили навсегда.
Однако немного спустя улицы города стали оглашаться по ночам криками ужаса:
— Черная Борода! Черная Борода!
И в самом деле: бродил по улицам некто, как две капли воды похожий на Эдварда Тича — коренастого, волосатого черного пирата. Поползли суеверные слухи, что это призрак Эдварда Тича и что он с того света приходит по ночам мстить не только пиратам, но и всем историческим персонажам. Однако он не стрелял в людей из пистолетов, а мстил куда более страшным образом — он их съедал.
Ночной людоед пришелся по душе Гроссмейстеру и его приближенным. Призрак-людоед сгущал атмосферу ужаса и укреплял тем самым диктатуру страха. Видеть его Гроссмейстер не мог, да и, по правде сказать, опасался. Но он заочно объявил людоеда ангелом и назначил директором особого Охранного департамента. Это был своего рода ангел-хранитель…
Однако руководящая элита скрыла один важный факт: ночной людоед, кроме внешности, не имел ничего общего с пиратом Эдвардом Тичем. Это был мой Черный паук! Признаюсь, не ожидал я от своего выкормыша такой изворотливости. Еще на опушке леса паук принимал облик Эдварда Тича (это было нетрудно: они походили друг на друга), проникал в ночной город, хватал человека, скакал с ним в чащобы и там с урчанием пожирал. Иногда свежеобглоданные кости находили даже на улицах.
Тайной для других осталось еще более важное обстоятельство: Черный паук выхватывал в первую очередь самых «вкусных» людей, то есть самых умных и одаренных. Он мгновенно распознавал не только «разумную протоплазму», но и степень ее интеллектуальности. С его помощью общество избавлялось от опасных «умников».
Вот и попробуй угодить: нечистая сила крайне нуждалась в умных и одаренных людях, и в то же время ее роднила с Черным пауком лютая ненависть к разуму.
Но мне-то что делать? Придумал я паука на свою же беду, выпустил чудовище на свободу из погребов воображения, из тайников своей души. А сейчас куда деваться?
Сейчас только всесильный дядя Абу мог обезопасить меня. Но кто он здесь, в образе какого демона возник? Как ни рылся в архивах, личность Непобедимого установить не удавалось.
Наконец повезло. Крепыш притащил целый ворох видеои кинолент. На одной из них запечатлено шумное и эффектное вторжение дяди Абу. Сатана обрушил на пришельца каскады мощных шаровых и линейных молний. В ответ какие-то грозовые вихри и смерчи огня, хохочущие громы и взрывы — это по-мальчишески резвился могущественный дядя Абу. Как ни в чем не бывало он выскакивал из дыма и пламени, становился гигантом, вырастая до облачных высей, гулко и весело, как грохот майского грома, кричал:
— Я непобедим! Джинна может победить только джинн!
Так вот кем пожелал назваться здесь дядя Абу, любимый спутник моего детства, этот несколько хвастливый потомок «самого Гаруна аль-Рашида». Конечно же, джинном — персонажем Корана и арабских сказок.
Сатана утих, когда понял, что могущественный изгнанник не рвется к власти. Непобедимый поселился в загородной вилле и вел тихую уединенную жизнь. Изредка появлялся в городе, чтобы повеселиться, привести в смятение нечистую силу, как он это проделал недавно в соборе Святого Павла. И уж совсем редко выпадали случаи, когда ему удавалось развернуться вовсю, размяться и прихвастнуть своей сказочной силой.
Однажды в горах, не так далеко от города, материализовалось чудовище — огромное, высотою с пятиэтажное здание и косматое. Какое именно, по стершимся видеозаписям разобрать не удалось. Но то был изгнанник нежелательный — наглый, не признававший никакой власти.
Пытались его усмирить. Однако пришелец обладал немалой силой: фалангу ощетинившихся вилами чертей разогнал пинками, тучу летающих драконов разметал, как стаю ворон.
И тогда на сцену картинно выступил дядя Абу. Предстал сначала обыкновенным человеком, потом притопнул ногой — и все пошло, как в сказке «Волшебная лампа Аладдина». Земля задрожала, дядя Абу вырос в исполинского джинна. Голова его, похожая на купол, терялась в облаках. Оттуда падал голос — гулкий, как завывание ветра в пещере:
— Я — Дахнаш, сын Кашкаша… Я великий джинн!
Лента на этом обрывалась. С трудом отыскал продолжение видеозаписи и понял, что дядя Абу — не ветхозаветный джинн времен Гаруна аль-Рашида. Ему просто полюбился этот образ. Его, конечно, можно считать и джинном. Но джинном новым, владевшим всеми научно-техническими достижениями человечества, всеми природными силами. В частности, гравитацией. Просматривая видеозапись, я видел на экране, как дядя Абу-джинн миллиарднотонным гравитационным сапогом раздавил косматое чудовище, как насекомое.
«Вот и попробуй подружиться с таким дядей», — зябко поежился я. Но сойтись с ним надо. Только где его найти? По слухам и язвительным намекам средств массовой информации, у Непобедимого после нехорошей выходки в соборе Святого Павла наступил очередной приступ «черной меланхолии». Сообщалось, в частности, что великий изгнанник частенько сидит в «Кафе де Пари» — единственном питейном заведении города, и предается там «гнусной человеческой слабости».
Какой именно, я узнал однажды вечером, когда в обществе конвоиров проходил мимо «Кафе де Пари». За уютно освещенным столиком в одиночестве сидел дядя Абу и пил вино. Но вид у него был такой подавленный, что сердце у меня сжалось от боли и участия. Бедный дядя Абу! Не по своей воле очутился он в дурацком положении джинна. Непонятная мне всемогущая Сфера Разума смяла, скомкала его и забросила сюда.
Я шагнул к двери кафе и, похолодев, замер. Поколебавшись, еще раз шагнул.
— Ты что, с ума спятил? — испуганно зашептал Крепыш. — Там Непобедимый.
Знакомство я решил отложить. Может быть, завтра окажусь храбрее?
Но и на следующий день знакомство не состоялось. С утра нечистая сила отмечала один из своих праздников — «День очищения». В разных концах города запылали костры — сжигались выловленные за неделю мелкие бесы. Общество «очищалось» от позорящих тварей.
Как по заказу, утро выдалось праздничное — тихое и солнечное. Вдруг подул сильный ветер, по улицам закружились пыльные вихри, заколебалась земля. Так обычно нарождалась неукротимая сила, выступал из Памяти какой-то своевольный и злобный дух.
По городу оповестили, что на этот раз с нежелательным гостем расправится сам сатана. Улицы опустели; изгнанники приникли к телевизорам, чтобы насладиться феерической картиной сражения.
Километрах в тридцати от города над лесистыми горами сновали тысячи крохотных и невидимых телепередатчиков. Именно здесь ожидался выход неведомой силы.
В узких межгорных долинах колыхнулась земля, затрещали деревья и разнесся громкий свист. Он-то и ввел в заблуждение изгнанников: кто-то пустил слух, что свистит в лесу Соловей-разбойник.
— Жаль, — сказал Усач. — С ним легко расправится любой дракон.
На боковом экране я видел вместительный зал, битком набитый изгнанниками. Все они тоже раздосадованы тем, что страшной битвы не будет.
В горах снова прокатился гул. Свистел ветер и гнулись деревья. Однако по тревожному крику птиц и другим признакам я начал догадываться, что Память готовится исторгнуть из своих недр не Соловья-разбойника, а изгнанника куда более сильного, яростного и злобного. Все указывало на древнеиндийскую мифологию, о которой здесь никто, кроме меня, понятия не имел. Может быть, Равана?
Да, это он. Над лесом заструился дым, и на опушку, с треском валя деревья, выступил Равана — десятиголовый и двадцатирукий великан. Какой-то смельчак дракон вылетел из-за горы и откусил одну из голов. Равана, не ожидавший такой дерзости, взревел от боли. У него мгновенно выросла новая голова, а в двадцати руках появились золотые мечи — все происходило, как в индийском эпосе «Рамаяна».
Из засады вылетел полк драконов. Зрелище устрашающее: сверкали на солнце чешуйчатые панцири, из пастей вырывалось пламя. Равана, завращав мечами, окутался сияющим золотым ореолом. Драконов он изрубил на куски.
Ангелы бросили в бой невзрачного седовласого старца с посохом в руке. Редко кто мог устоять против его злых чар. Однако заклинания и чары не действовали на представителя чуждой мифологии. Равана даже не заметил грозного старца. Он случайно наступил на него и раздавил, как червяка.
И только тут, когда обычные средства были испробованы, выступил сатана. Громадное облако с дворцами на ослепительно снежных вершинах на сей раз не выплыло из-за горизонта. Оно возникло в небе, словно из небытия, — внезапно и впечатляюще.
— Здорово! — восхитился мой Усач.
Нечистая сила, приникшая к экранам, была заворожена феерически красивым зрелищем. Сатана не торопясь вышел из дворца, на краю облака взмахнул скипетром и окутался радугой, похожей на северное сияние. Затем обрушил на пришельца исполинские ветвистые молнии. Грянул гром, всколыхнувший землю.
Равана, сверкая мечами, рубил молнии, и те со стеклянным звоном крошились, рассыпались в стороны, обессиленно шипели искрами и гасли, не долетев до земли.
Гроссмейстер на миг смешался, потом гневно топнул ногой, и облако пролилось ливнем. Не дождевые струи, а силовые поля обрушились вниз. Извивающиеся и гибкие, как щупальцы спрута, они, казалось, вот-вот пленят наглеца. Но тот рубил их, как паутину. Сатана начал швыряться своими самыми разрушительными молниями — шаровыми. Но и те легко рассекались золотыми мечами и лопались, как мыльные пузыри.
Гроссмейстер как-то съежился, суетливо запрыгал по ватным холмам облака и юркнул во дворец. Облако поплыло назад и скрылось за горизонтом. Опустевшее небо стало понемногу заволакиваться обычными обла-ками.
Я посмотрел на боковой экран. Изгнанники, теснившиеся в соборе, замерли: Гроссмейстер струсил и бросил их, оставил город беззащитным. И вдруг с экрана послышался взволнованный голос:
— Непобедимый!
Сначала ничего не было видно. Многочисленные и крохотные, как москиты, телепередатчики кружили в поисках выгодных ракурсов. Но ничего эффектного так и не нашли, ибо дядя Абу пожелал предстать в очень скромном виде — в виде обыкновенного человека в сером костюме, с изящными, но изрядно запыленными сапогами на ногах.
Дядя Абу улыбался: подвернулась возможность развлечься, показать свою силу. Он топнул ногой и развернулся в исполинского джинна. Тучи и облака были ему по колено, а великан Равана выглядел по сравнению с ним карликом.
Из-за облачных высей горным обвалом падал громоподобный голос:
— Я Дахнаш, сын Кашкаша, глава всех джиннов. Я велик и непобедим.
Джинн наклонился, руками раздвинул облака, чтобы лучше разглядеть Равану, и сказал:
— Эй ты, сморчок! Смотри, что я с тобой сделаю.
Он выпрямился, накрыл своим чудовищным сапогом большую скалистую гору и повертел ногой. Леса и межгорные долины наполнились пылью, гулом и скрежетом. Гору джинн уничтожил, превратил ее в площадку из щебня и песка.
«Дядя Абу повторяется, — с сожалением подумал я. — А как изобретателен он был во время наших детских забав».
Великий джинн уже занес ногу над съежившимся Раваной и вдруг замер. Вспомнил, видимо, что до этого подобным же манером он растоптал косматое чудовище. Его гигантская фигура, занимавшая полнеба, внезапно исчезла.
— И этот сбежал, — ахнули горожане.
Нет, дядя Абу не сбежал. Порхающие телепередатчики отыскали его километрах
в семи от Раваны. Отыскали с трудом, ибо он опять был в человеческом виде. Дядя Абу стоял на скалистом выступе и что-то обдумывал. Потом потер руки и рассмеялся: в голову ему пришла какая-то озорная мысль.
Равана тем временем пришел в себя и, взмахнув мечами, шагнул к своему противнику, ставшему вдруг таким крохотным. На миг приостановился, подумал и снова шагнул. Дядя Абу повернулся в его сторону и плюнул. И плюнул-то как артистично: небрежно, с этаким ленивым высокомерием.
Сначала это был обыкновенный плевок. На лету он, однако, разбухал, приобретая форму торпеды и отливая металлическим блеском. Плевок шлепнулся у ног Раваны и… взорвался водородной бомбой!
Экраны во всем городе вспыхнули и погасли: мошкара телепередатчиков сгорела в адском пламени. Тотчас включились дальние передатчики. На вновь засветившихся экранах колыхалось черное грибовидное облако, взметнувшееся к небесам наподобие самого джинна. Неугомонный гость исчез, превратившись в световое излучение, в атомную пыль, в ничто.
По городу прокатывались крики «Ура!», «Браво!». В угаре ликования лишь немногие оценили благородный поступок джинна. Желая обезопасить город от радиоактивного облака, он своим фантастическим сапогом вдавил его в землю, а место взрыва растер, как обычно растирают дымящийся окурок.
Изгнанники высыпали за город встречать спасителя. От виллы Непобедимого уже пролегла Аппиева дорога с развалинами цирка Каракаллы в стороне. Кто догадался вызвать из Памяти древнеримскую дорогу, осталось неизвестным. Но она понравилась Непобедимому.
Вдоль дороги выстроились тысячные толпы, оживившиеся, когда показалась триумфальная колесница, запряженная тройкой драконов. Сверкали золотые спицы, из пастей резво скакавших драконов вырывались клубы дыма и пламени: тщеславный джинн обожал эффектные зрелища.
Драконы приближались, стуча когтистыми лапами по каменным плитам дороги. Держась левой рукой за поручни (колесницу изрядно встряхивало на выбоинах), стоял дядя Абу в тех же запылившихся сапогах. Он улыбался, махал правой рукой и упоенно восклицал:
— Каково! Одним плевком!
Но подданные сатаны, привыкшие к дьяволослужениям, испортили торжественную встречу. Они рухнули на колени и захлопали в ладоши.
— Перестаньте! — рассердился дядя Абу. — Я не балаганный шут, не ваш придурок!
Лавину аплодисментов остановить уже было невозможно. Кое-кто начал взвизгивать и подвывать. Еще немного, и все изгнанники, сбросив человеческий образ, взовьются вверх, закружатся в сатанинской вакханалии.
Дядя Абу с досады плюнул. Изгнанники в ужасе съежились, и на миг наступила тишина. Увидев, что ничего страшного не случилось, они загремели и завыли с удвоенным рвением.
Непобедимый нахмурился, развернул колесницу и умчался обратно на виллу.
Ночью я терзался сомнениями, вспоминал каждый шаг, каждую улыбку Непобедимого. Несмотря на чудовищную перестройку организма, он остался таким же, каким я его знал в своем новом детстве, — шаловливым, изрядно хвастливым, но бесконечно добрым дядей Абу. Может быть, сразу открыться ему, что я такой-сякой и совсем непонятный? То ли Пьер Гранье, то ли?.. Нет, это глупо и опасно. Он поймет, что я разведчик, и неизвестно, чем это кончится. Да и права я не имею называться Василием Синцовым.
К утру решил: будь что будет. Предстану таким, каким и являюсь на самом деле, — выходцем из двадцатого века. Непобедимый, надеюсь, отнесется с вниманием и участием к бедному изгнаннику Пьеру Гранье.
День с утра был темный, пасмурный. В просторном зале «Кафе де Пари» горели светильники на столах, сияли люстры, сверкали листья пальм, посаженных в кадках. Откуда-то появлялись официантки, с робкой угодливостью ставили на стол бутылки с вином и столь же угодливо, бесшумно исчезали.
Непобедимый пил вино, но сидел сгорбившись, был задумчив и невесел. И что-то дрогнуло у меня в груди: бедный дядя Абу! Несчастная жертва прогресса! Надо ободрить, утешить его. Я взялся за ручку двери, в тот же миг отшатнулся и хотел трусливо удалиться. Но дядя Абу заметил меня и сделал жест рукой: заходи. Отступать уже поздно, и я зашел.
— О, шейх ифритов! — поклонившись, сказал я. — Как бы мне хотелось владеть волшебной лампой Аладдина.
— Шейх? Лампа Аладдина? — улыбнулся дядя Абу. — Приятно встретить в стране дураков хоть одного образованного и начитанного человека. Пьер Гранье, кажется?
Заметив топтавшихся на улице конвоиров, усмехнулся:
— Твои гусары? Пусть войдут.
Усач и Крепыш, уняв дрожь, сели в углу и с благоговейным удивлением глядели на меня, свободно беседующего с самим Непобедимым. А к дяде Абу возвращалось знакомое мне по детству Василя веселое, игривое настроение и вместе с ним, увы, хвастовство.
— Да, я шейх ифритов, глава всех джиннов. Но волшебной лампой Аладдина уже никто не будет владеть. Я здесь свободен и подчиняюсь только своим собственным капризам. Выпьем за свободного джинна.
Отказаться я не посмел, но лишь чуть-чуть пригубил вино. Мой же собеседник, к сожалению, меры не знал. «Узнал он во мне Василия Синцова или нет? — гадал я. — Внешне мы так похожи…»
— Но вы, о шейх джиннов, не такой уж древний, как в сказках. Гравитация, термоядерная энергия… Все это мне знакомо.
— Верно! Ты выходец из тех веков, когда ученые уже вызвали к жизни эти дьявольские силы. Но я владею и достижениями человечества более поздних веков, о которых ты понятия не имеешь.
«Для него я Пьер Гранье», — с облегчением подумал я.
Хмель, между тем, окончательно вскружил голову великому джинну. Он все больше распалялся, бахвальство его росло, как снежная лавина. Подняв вверх указательный палец, Непобедимый обращался не только ко мне, но и к почтительно внимавшим конвоирам и официанткам-ведьмам.
— Да, я не тот архаичный простачок, запечатленный на пыльных страницах Корана и арабских сказок. Я олицетворяю техническое всемогущество человечества. Ученые уже в твое время, Пьер Гранье, заметили, что научно-технический прогресс становится самовластной силой, ускользает из их рук. Они сравнивали его с джинном, вырвавшимся из бутылки. И джинн этот я. Смотрите, как это случилось.
Роскошная серая шевелюра дяди Абу задымилась, черты лица заструились, тело заколыхалось, как кисейная занавеска под легким ветром. И Непобедимый дымным смерчем со свистом влетел в пустую бутылку. Валявшаяся на столе пробка подскочила и воткнулась в горлышко. Запечатанный в бутылке джинн плясал крохотным светящимся мотыльком.
Пробка оглушительно выстрелила, из горлышка с победным шумом взметнулся дым и большим облаком колыхался под потолком. Уменьшаясь в размерах, облако закружилось, завертелось и свернулось в человека.
— И джинн на свободе! — воскликнул дядя Абу. — Это я!
Мои конвоиры и официантки брякнулись на колени в полной готовности завыть и захлопать в ладоши. Непобедимый гневным жестом остановил их, нахмурился, выпил стакан вина и на минуту задумался. Потом приблизился ко мне и, подмигнув, с усмешкой прошептал:
— Значит, Пьер Гранье? Ловко.
По моей спине прошелестел холодок страха: узнал!
— Джинн, как тебе известно, мой мальчик, существо нейтральное, — продолжал дядя Абу. — С человеком, не владеющим волшебной лампой Аладдина, он волен поступать, как ему заблагорассудится. Могу помиловать, могу рассказать всем, кто ты такой на самом деле. Рассказать?
— Поступай, как знаешь, — упавшим голосом ответил я. — Я в твоей власти, дядя Абу.
С великим джинном вдруг что-то стряслось. Он покраснел, вскочил на ноги и заметался, готовый от стыда провалиться сквозь землю. Но не провалился, а рассеялся дымом, волокнистой поземкой заструился по полу и в темном углу исчез.
Победа! Гнусный Пьер Гранье торжествовал победу: слова «дядя Абу» оказались волшебнее лампы Аладдина, и теперь джинн в моих руках. Вскоре, однако, кто-то другой вновь зашевелился во мне, и я стал противен самому себе. Спал плохо. Встал утром с прежними чувствами неуверенности и страха: еще неизвестно, как поведет себя Непобедимый. Суеверно загадал: если дядя Абу в том же месте и в том же часу будет ждать меня, то все уладится.
Дядя Абу ждал. Но глядеть на него было нестерпимо жалко. Он краснел и суетился. Угощая меня лакомствами, сам бегал с подносом и был при этом слащаво вежлив и постыдно угодлив. В конце концов сел на стул и, не поднимая пристыженных глаз, сказал:
— Вчера я свински напился и сморозил глупость. Простишь ли меня, Василек? А? Дорогой мой мальчик, простишь ли когда-нибудь?
— Забудем об этом, дядя Абу. Лучше подумаем, как тебе самому выпутаться из беды.
— Да, да! — подхватил дядя Абу, желавший поскорее сменить тему разговора. — Ты, конечно, догадываешься, что со мной случилось. Все произошло так, как предсказывал биофизик Лоран.
Кто такой Лоран, я не знал, но не подавал вида. Пусть дядя Абу считает, что перед ним не подставное лицо или непонятный гибрид, а подлинный, стопроцентный Василий Синцов, которого он все еще считает малышом.
— Прогрессу надо было на ком-то отыграться, — горько усмехнулся дядя Абу. — И тут подвернулся я со своей дурацкой внешностью. Прямо-таки визирь из сказок Шехерезады. Шевелюра, как чалма, борода… Кстати, о Черной Бороде! Этого пирата-людоеда не бойся. Я нашел средство защитить тебя. А кто такой людоед на самом деле, ведать тебе необязательно. Слишком страшно.
Знал бы дядя Абу, что перед ним тот самый, кто сотворил паука-людоеда. Но «ведать» ему об этом тоже пока необязательно. И, желая снова вернуться к разговору о прогрессе, я сказал:
— Чего этот прогресс только не вытворяет с человеком!
— Не надо все валить на прогресс, — мой собеседник сегодня был настроен весьма самокритично и себя не щадил. — Во всем виноват я. Помнишь, каким я был хвастунишкой? Ну точь-в-точь, как научно-технический прогресс, который постоянно бахвалится своими победами. Он бахвал, и я бахвал. Два сапога — пара. Бахвальство — дырка в моей душе. Через нее-то и пробрался кичливый научно-технический джинн, а потом исподволь перестроил мой организм.
Случилось это, как предполагает дядя Абу, во сне. Однажды он проснулся с чувством громадного, чуть ли не вселенского воскресения и обновления. Каждая клетка организма вибрировала, трепетала космическим трепетом от ощущения пробуждающейся силы. И вдруг ему нестерпимо захотелось развернуться вовсю — крушить горы, выпивать моря, перестраивать орбиты планет. Но Сфера Разума не позволяла, держала джинна в узде. Раскрепоститься он мог в другом, безопасном для нее месте. Вскоре в его родные края перекинулась блуждающая зона с ее возмущениями биополя. Джин развеялся и вместе с излучениями, с волновыми всплесками перенесся в доисторическое прошлое.
— И вот я здесь, — опустив голову, закончил свое печальное повествование дядя Абу. — Среди таких же изгнанников, среди отбросов цивилизации.
— Но ты станешь человеком, — воскликнул я. — Со временем энергия иссякнет, организм вновь станет биологическим.
— Слышал и я такую гипотезу, но не верю в нее.
Глаза дяди Абу затуманились такой тоской, что я не стал удерживать его, когда он потянулся к стакану с вином. Пусть. Сейчас это его единственное утешение.
Но оставлять дядю Абу один на один с бутылкой нельзя. Тяжко ему в одиночестве. На другой день я снова пришел в «Кафе де Пари». Из его окон открывался вид на широкую улицу. А дядя Абу любил смотреть в окно, наблюдать за снующими толпами. Все-таки развлечение.
В этот день нечистая сила отмечала один из своих чудовищных праздников — «День отлова антиведьм». С утра с пением, с веселым гамом и свистом возили по улицам клетки. В них — ведьмы, уличенные в «человечности». Вечером их сжигали. К моему ужасу, в одной из клеток с царапинами на красивом лице и опутанная проволокой сидела Элизабет — моя добрая покровительница. По моей просьбе дядя Абу спас ее. Вызвав немалое замешательство в рядах охранников, он вывел Элизабет из клетки и отправил ее на свою виллу ухаживать за цветами.
— Никто не смеет перечить мне, — кривя губы и стыдясь своей власти, сказал дядя Абу, когда вернулся в кафе.
Однако после третьего стакана вина он повеселел и, к моему огорчению, вновь начал бахвалиться.
— А ведь здорово я расправился с Раваной! — смеясь, восклицал дядя Абу. — Одним плевком!
Что же с Гроссмейстером? Эффектный плевок Непобедимого раздавил его? Авторитет его рухнул и развеялся в прах? Ничуть не бывало! После небольшой заминки газеты и другие средства массовой информации представили бегство с поля боя как благороднейший поступок. Сатана, дескать, сам легко уничтожил бы злого великана, но уступил и дал возможность отличиться «своему другу».
Вскоре Гроссмейстеру удалось затмить славу Непобедимого. Случилось это на одном из дьяволослужений. Вечер начался как обычно: в синем небе вспухло облако с дворцами на снежных вершинах, перед зрителями раскрылся светлый зал с троном сатаны. Справа от него, как всегда, выстроились ангелы, слева — знатные администраторы. Среди них и доставленный мной штандартенфюрер СС, ставший важным чиновником — директором ЦДП.
Вот уже сатана со скипетром в руках приблизился к микрофонам, зашелестели крыльями ангелы и захлопали в ладоши администраторы. Вдруг из строя вышел директор ЦДП и встал рядом с сатаной. Гроссмейстер нахмурился, и в чертогах сатаны, во всем городе воцарилась напряженная тишина.
Ганс Ойстерман вскинул руку и сказал, что от имени исторических персонажей награждает вождя изгнанников железным крестом. Жирные губы Гроссмейстера расплылись в довольной ухмылке, просияли и его приближенные. Под вновь загремевшие аплодисменты и звуки фанфар штандартенфюрер СС снял с себя железный крест и прикрепил к мундиру диктатора.
Шум нарастал. Но сатана поднял руку и в почтительно наступившем безмолвии объявил, что решил отблагодарить представителя третьего рейха.
— По своей редкой бесчеловечности он достоин занять место среди демонов, — сказал Гроссмейстер. — Но его физическая природа, к сожалению, затвердела в несвойственном ему человеческом виде. Я исправлю это упущение.
Я пожал плечами: пустое бахвальство или Гроссмейстер в самом деле настолько всемогущ? Я посмотрел на боковой экран — на изгнанников, толпившихся в каком-то храме. Подобно мне, многие из них сомневались. Но многие верили своему владыке и спорили лишь о том, в кого превратится директор ЦДП — в Кощея Бессмертного или в вампира?
— В дракона, — уверенно заявил мой Крепыш.
Я с ним почти согласился, взглянув на Ганса Ойстермана — грузного, с массивной крепкой челюстью и мутными глазами. Чем не дракон?
Сатана поднял скипетр над головой Ганса, и тот съежился. Однако не молнии обрушились на гестаповца, его окутало тихое и ласковое сияние. Грубое лицо Ганса заколыхалось, словно отраженное в воде. Оно становилось одухотворенным, яснели свинцовые глаза; осанка приобретала неуловимую легкость и воздушность. Секунду спустя к величайшему изумлению изгнанников, в том числе и моему, штандартенфюрер СС стал… ангелом! Нежноликим, сверкающим непорочной белизной ангелом!
Приближенные сатаны вскрикнули от восторга и захлопали в ладоши, зашелестели крыльями ангелы, а гулкие своды храма (на боковом экране) огласились ревом, воплями «Ура!». Вместе со всеми я аплодировал, хохотал (на меня напал вдруг неудержимый хохот) и кричал:
— Браво! Остроумно!
При этом изо всех сил, сцепив зубы, старался сохранить свое «я» и смотреть на все со стороны. «Черта с два, сегодня не поддамся», — твердо решил я. Но вот под купол храма на метле взлетела ведьма, потом другая. К ним присоединились черти, вонючие гарпии. И свистящей вьюгой закружилась, завертелась нечистая сила. Гам, вой, удесятеренный эхом, нарастал, набухал до необоримого безумия… Не заметил, как сатанинский хоровод вихрем подхватил меня, и мое «я» рассеялось в нем без остатка. Я аплодировал с упоением, хлопал в ладоши до сладкого умопомрачения, до потери сознания. Неужто я опять выл и визжал? Не помню.
Ночью я уснул не скоро. Ворочаясь с боку на бок, пытался понять: ну хорошо, шабаши привычны для нечистой силы, уж так она запрограммирована литературной и фольклорной традицией. Но причем тут люди? Неужели никто из исторических персонажей не может устоять?
— Никто, — заверил меня утром Алкаш. — Был когда-то давно один исторический тип. Вот он мог устоять. Его признали психически ненормальным и сожгли.
Кстати, в тот же день Алкаш получил медаль и тем самым подтвердил свое право на жизнь. Он наконец-то преодолел свой страх перед лесной «нечистой силой», перед безобидными, в сущности, русалками и водяными. Алкаш проник в лес и, проявив незаурядную храбрость, притащил, буквально приволок оглушенного штурмбанфюрера — оказался тот слишком буйным и драчливым. Потому-то, как видно, он был сразу с двумя железными крестами.
С Памятью что-то случилось. Все зло, переполнявшее ее исторические недра, она несколько дней подряд выплескивала не в виде драконов или ведьм, а в образах реально живших людей. И почему-то это были непременно штурмбанфюреры. Клапан какой-то для них приоткрылся, что ли?
У многих штурмбанфюреров были железные кресты. Теперь почти каждый вечер сатанинские вакханалии проходили торжественно и шумно — Гроссмейстер получал награды.
Для всех гестаповцев находилось привычное для них дело. За городом строился концлагерь, многие церкви, храмы, синагоги переоборудовались под филиалы ЦДП. Какой-то штурмбанфюрер предложил: когда в соборе Парижской богоматери и в других храмах-филиалах начинались пытки (а начинались они с утра), на их башнях должны звонить колокола.
— Остроумно! — одобрил Мурлыкин, довольно жмурясь и потирая руки.
Жуткий, цепенящий душу колокольный звон и впрямь приводил изгнанников в трепетное послушание. Меня же он по утрам будто ледяной водой окатывал. Почаще старался быть рядом с дядей Абу — вестником мира, где меня будили птицы и пастушья свирель, а не страшное буханье колоколов.
К сожалению, друга моего детства начали томить недобрые предчувствия.
— Со мной что-то происходит, — грустно усмехаясь, сказал дядя Абу. — Джинн заболел. Вчера обнаружил, что энергетические вихри иногда переходят в упорядоченные биологические структуры.
— Но это же хорошо! — обрадовался я. — Ты очеловечиваешься!
— А с тобой что будет, малыш? Ничем не смогу помочь, когда стану обыкновенным и немощным человеком. Любой замухрышка дракон прихлопнет меня, как муху.
— Мы вернемся домой, в человеческий мир.
— Обратной дороги мне нет, — безнадежно махнул рукой дядя Абу.
Он выпил стакан вина, потом еще. Щеки дяди Абу порозовели, взгляд повеселел. И заговорила в нем, закипела неуемная вселенская сила; она распирала его, клокотала и рвалась наружу.
— Но джинна еще рано хоронить! — вскочив на ноги, воскликнул дядя Абу. — Я еще покажу себя, тряхну богатырской силушкой.
И джинн показал себя: топнул ногой, и каменные стены кафе вместе с лепным потолком, крошась щебнем, рухнули в гулкую бездну. Я с перепуганными конвоирами и официантками очутился на обломке скалы — небольшом астероиде. Вокруг — ледяная тьма бесконечности. Дядя Абу прыгнул в нее и расплескался… вселенной. Огненными колесницами вращались спиральные галактики, искрились звезды, медленно проплывали кометы.
Одно из шаровых звездных скоплений перестроилось в люстру, из мглы неясными контурами выступали стены и красиво расписанный потолок кафе. Уменьшаясь, вселенная затуманилась, закружилась сияющим дымом и свернулась в не менее сияющего дядю Абу.
— Ну и как? — посмеиваясь, спросил он.
— Бутафория, дешевый спектакль, — сказал я, желая несколько охладить пыл дяди Абу.
И тотчас пожалел о сказанном. Сгорбившись, дядя Абу сел за стол с таким понурым видом, что я и не знал, как его утешить.
— Кстати, не только с джинном, но и с другими отбросами цивилизации что-то творится, — дядя Абу слегка оживился. На себя он, чувствовалось, махнул рукой и сейчас заботился только обо мне. — Ты, мой мальчик, присматривайся. Потом вернешься и обо всем расскажешь.
И в самом деле, временами в городе ощущался подземный гул — гул иной и далекой реальности, подкрадывающейся к реальности, которая окружала меня сейчас и которая так походила на дурной сон. Ученые из далекого будущего, как я догадывался, «нащупывали» ее. Отдельные здания в городе колыхнулись и дали трещину. Решетчатые контуры Эйфелевой башни извивались, клонились, как водоросли в текущей воде или как струи дыма. Казалось, они вот-вот растают. Но башня устояла и вернулась в прежний вид. Устоял и город, не получив почти никаких повреждений. Подземный гул стал затихать.
Но зато с самими изгнанниками начало происходить непонятное. Однажды вечером по городу распространились слухи о страшной и заразной болезни — проказе.
Утром я, как только вышел из дома, на паперти чистенькой и нарядной церкви увидел худого и длинного, как жердь, старика. Одет он был в лохмотья, но в руке держал новую шляпу. Прохожие с улыбкой кидали в нее монеты. «Может быть, это Кощей Бессмертный, решивший нищенством приумножить свои несметные богатства», — с усмешкой подумал я.
Одна женщина прошла мимо, забыв бросить монету. Рука со шляпой неожиданно отделилась от плеча старика и, покачиваясь в воздухе, как в невесомости, стала догонять женщину. Сам же нищий сидел на прежнем месте и бормотал:
— Дай пятачок! Дай пятачок!
Прохожие с визгом кинулись кто куда. Рука, не догнав стремительно улетевшую ведьму, вернулась и приклеилась к плечу.
— Прокаженный! — завопил Усач и дернул меня за рукав. — Бежим!
Но я стоял, с любопытством ожидая, что же будет дальше. Нищий с криком вскочил и завертелся, потом рассыпался по-прежнему вертящимся, как смерч, прахом и пропал, не оставив ни пылинки.
В тот же самый день, а это был «день доносов», по поручению Мурлыкина я зашел в департамент литературных персонажей. Возглавлял департамент дракон по имени Весельчак. Звали его так потому, что своих подопечных он отправлял на костер с хохотом и остроумными, как ему казалось, шуточками.
Пробиться к Весельчаку было не так-то просто. В обширной приемной свыше полусотни литературных негодяев, размахивая листками-доносами, с гамом вертелись перед столом секретарши.
— Господа! — нервно взывала секретарша, ярко накрашенная рыжая ведьма. — Соблюдайте очередь. Садитесь, господа.
Но гвалт усиливался. Каждый стремился поскорее донести на своего собрата. Особенно старался юркий и скользкий тип — не то Гобсек, не то Иудушка Головлев.
Секретарше так и не удалось бы установить порядок, но тут подоспел еще один посетитель: в дверях картинно возник унтер Пришибеев с целой охапкой доносов. Увидев шумное сборище, он сначала опешил.
— Это что? Еще один митинг? — Потом побагровел и, размахивая дубинкой, заорал: — Нар-род, не толпись! Р-разойдись.
— Опять этот болван, — проворчал Иудушка Головлев, но уселся, предусмотрительно заняв место поближе к кабинету Весельчака.
Не унимался лишь один очень уж настырный малый — розовощекий, с густыми и черными, как смоль, бакенбардами. Неужто Ноздрев?
— У меня важный донос! — кричал малый. — На Павла Ивановича Чичикова!
— Но такого нет, — заглядывая в список, с раздражением отвечала секретарша. — Он не материализовался.
— Появится! — захохотал Ноздрев. — Это пройдоха и мошенник. Он придет мертвые души покупать. Я его люблю, как родного брата. Его сжечь надо!
Я положил руку на плечо малого и попросил соблюдать порядок. Ноздрев вспыхнул и грозно сжал кулаки. Увидев, однако, на моей груди орден «Рог дьявола», он побледнел и сел на стул. Ужас перед ЦДП и костром усмирял даже такого буяна, как Ноздрев.
Наступила тишина. За дверью, где проходило совещание, слышались глухие голоса и вдруг раздался хохот — такой громкий и веселый, что, казалось бы, у всякого должен вызвать ответную улыбку. Однако лица литературных изгнанников покрылись смертельной бледностью: участь кого-то из них была решена и подписана.
Я окинул взглядом приемную и с удовольствием отметил, что д’Артаньян, один из моих любимых литературных героев, отсутствовал. «Молодец», — мысленно похвалил я его. Но зато другой мой любимец крайне огорчил. Да он ли это? Я присел рядом с высоким одноногим человеком с попугаем на плече и, все еще не веря глазам своим, спросил:
— Джон Сильвер? Ты ли это? Неужели дошел до такой низости, как доносы?
Пират сжимал и разжимал кулаки, мял шляпу и раскрывал рот, но от душившей его ярости не мог вымолвить ни слова. Наконец разразился:
— Клянусь громом! Это капитан Флинт донес на меня. Я узнал почерк этого дьявола.
— Вон оно что! Ты сам стал жертвой доноса. Но я замолвлю за тебя словечко. Выручу.
Я подошел к столу секретарши. Рыжая девица, сосредоточенно занятая вязанием, подняла голову и воскликнула:
— Друг Непобедимого! Извините, не заметила. Сейчас узнаю, когда Весельчак освободится.
Девица все так же сидела и вязала шарфик, спицы так и мелькали в ее ловких руках. Но голова!.. От неожиданности я отшатнулся: голова, повинуясь желанию свой хозяйки, отделилась от туловища, подплыла к двери кабинета и приникла ухом к замочной скважине.
— Ругаются, — хихикнула голова.
— Прокаженная! — раздался чей-то вопль.
Обезумев от ужаса и роняя доносы, посетители кинулись к выходу. Образовалась пробка, и какое-то время никто не мог выскочить наружу. Но какой молодец Джон Сильвер!
— Спасайтесь, дурачье! — хохотал он и с удовольствием лупил костылем по спинам своих литературных собратьев.
Паника в дверях поднялась невообразимая, когда попугай, дремавший на плече пирата, очнулся и суматошно закричал:
— Пиастры! Пиастры! Пиастры!
Я ушел последним, когда секретарша, покружившись облачком пыли, рассеялась и бесследно исчезла.
Вскоре подземный гул затих совсем, и случаев «проказы» больше не наблюдалось. Изгнанники успокоились, жизнь города вошла в обычную колею.
Лишь с Гроссмейстером творилось что-то неладное. Обычно перед началом дьяволослужений он подходил к зеркалу, прихорашивался и с улыбкой разглядывал сияющие на груди ордена (появились у него и ордена) и многочисленные железные кресты. Но в последние дни физиономия Гроссмейстера приобрела скучающее и даже капризное выражение.
— Мания величия ненасытна, — смеясь, говорил дядя Абу. — Железных крестов уже мало. Надо что-то новое. Может быть, он объявит себя Наполеоном или Александром Македонским?
Однако сатана хотел совсем иного. Об этом я узнал на предвыборном собрании исторических персонажей, состоявшемся в нашем департаменте.
В большом зале собралось около пятисот реально живших людей. И какую только нечисть не выплеснула сюда потревоженная история, спавшая до этого сном вечности. Слева от меня нервно ерзал на стуле наркоман, считавшийся здесь специалистом в области ядерной физики. Справа сидел монах и сверлил всех горящим взглядом фанатика. Впереди высились два плечистых гангстера. «Прелестная компания», — поежился я.
Страна изгнанников готовилась к выборам. Наибольшее количество мест в парламенте отводилось, конечно, представителям христианской мифологии — так называемой христианской партии. Немало мест занимали сказочная и литературная партии. От нашей малочисленной исторической партии нужно было дополнительно выдвинуть еще одного депутата.
Меня, одного из самых уважаемых изгнанников, могли избрать в парламент. Но такая перспектива меня страшила. И вот почему. В тот раз Алкаш не все рассказал мне о живых депутатах, об этих «смекалистых мужиках». Вели они себя образцово лишь до поры до времени. Незаметно, исподволь в их среде завелась, по выражению одной из газет, «гниль свободомыслия». В кулуарах часто возникали разговоры, в которых то и дело слышались недозволенные слова: закон, право, конституция. Однако на заседаниях живые депутаты поступали точь-в-точь, как их предшественники роботы. Но однажды во время речи Гроссмейстера какой-то задремавший депутат (предполагают, что это был дракон) вскочил и вместо положенного «браво!» спросонья рявкнул: «Конституция!»
Гроссмейстер и ангелы не стали искать зачинщиков «конституционной смуты». Всех депутатов они бросили в большую яму с напалмом и сожгли. С тех пор новые депутаты вели себя, конечно, осмотрительно и разумно. Но мало ли что могло случиться? Тогда и дядя Абу не вызволит меня из ямы: его очеловечение могло наступить в любой день. К счастью, в парламент выбрали не меня, а какого-то уголовника.
Затем мистер Ванвейден, ведший собрание, пустил по рядам медаль для осмотра.
— Подобных медалей мы можем изготовить сколько угодно, — сказал он. — Но важно, чтобы Гроссмейстер получил ее из рук человека, награжденного такой медалью в историческом прошлом.
Я взял медаль и чуть не рассмеялся: сатана пожелал стать лауреатом Нобелевской премии. Кто надоумил его? Ангелы? Или ему самому вступила в голову такая блажь?
Но это же нелепость! Даже туповатый мистер Ванвейден должен понимать, что здесь, в мусорной яме человечества, не может появиться уважаемый в прошлом ученый или писатель. Но уж очень хотелось вампиру отличиться и занять место Аристарха Фалелеича. Никого не спросясь, втайне даже от Мурлыкина, он отважился на нелепую авантюру.
На другой же день мистер Ванвейден с утра вывел исторических персонажей на опушку леса. Прочесывание решили вести небольшими группами и, конечно же, без конвоиров-чертей, не без основания опасавшихся лесной «нечистой силы».
Штурмбанфюреры с автоматами в руках тремя отрядами ушли в разные стороны. Выходцев из восемнадцатого века, вооружившихся старинными пистолетами, мушкетами и саблями, возглавил гроза морей капитан Флинт. Я шел рядом с представителями моего куда более «просвещенного» века — гангстерами, наркоманами и тремя какими-то неприятными типами, считавшимися здесь технической интеллигенцией.
— Нам не по пути с вами, — с вызовом заявил капитан Флинт. — Мы благородные пираты и разбойники.
— Дикари, недоумки, — смеялись над ними мои «цивилизованные» спутники.
Я поспешил уйти в сторону, понимая, что добром это не кончится. Минут через двадцать, когда я уже находился в густом сыром ельнике, услышал приглушенный расстоянием выстрел, потом другой. Раздался треск автоматных очередей, ухнули взрывы гранат.
А я уходил все дальше. Когда гул сражения перестал слышать совсем, оглянулся и с облегчением перевел дыхание: я один и я дома! С каждым кустом и каждой травинкой я встречался, словно после долгой разлуки. Грудь теснили воспоминания детства и радостные, немножко тревожные ожидания: сейчас должно что-то случиться.
И вот оно, случилось… Лес кончился, открылись залитые солнцем луга, рощи, перелески… Все это затуманилось, качнулось и поплыло перед глазами завитками дыма — так ошеломила, оглушила меня догадка. Я все понял! Словно пелена спала с моих глаз: я Василь Синцов, частица вот этих родных и разумных рощ и полей. А Пьер Гранье — выдумка ученых, их ловкая подделка, просто мираж, нужный для того, чтобы ввести в заблуждение нечистую силу и внедриться в их общество.
Понятными стали и хитроумные сеансы, или рокировки — переходы в другой мир. «Мы дарим тебе новую жизнь», — сказал мой таинственный и лукавый собеседник. Как же! Переживая детство Василя, я просто-напросто вспоминал самого себя, понемногу избавлялся от миража и возвращался в свою подлинную личность. Иначе хитренький мираж, созданный учеными, этот ловко смоделированный Пьер Гранье вцепится в меня и обретет реальность.
Когда солнце достигло зенита и стало душно, я вошел в прохладную рощу. Улыбнулся: Тинка-Льдинка! Это же Снегурочка, звеневшая листвой и птичьими голосами. Так и чудилось: сейчас выйду в цветущие поля и увижу фею весенних лугов.
Но увидел другое, отчего счастливо забилось сердце. В высоких, качающихся под ветром травах паслись кони. Словно два облака плавали в зеленых волнах: дымчатый, в яблоках, Метеор и мой белоснежный Орленок.
Метеор поднял голову и радостно всхрапнул. Но что творилось с Орленком! Он заржал, подлетел и вился вокруг своего хозяина, как расшалившийся ребенок. И грива его металась, словно белое пламя. Истосковался!
— Орленок, дружище! Иди же ко мне.
Конь подскочил ко мне и в полутора шагах замер. В глазах его чисто человеческие чувства настороженности и недоумения.
— Что с тобой, дурашка? — ласково спросил я и протянул руку, чтобы погладить его шелковистую шею.
Коснулся шеи, и конь вздрогнул, попятился с омерзением и страхом. Мое прикосновение, мои «нравственные» биотоки подействовали на него, как удар хлыста. Орленок повернулся и бросился от меня, как от страшилища.
В отчаянии я опустился на траву и обхватил голову руками. Страшная истина открылась во всей своей наготе. Никакой я не Василий Синцов, и благородный конь почувствовал это: внешний портрет не совпадал с внутренним. Нравственно я все тот же мерзкий Пьер Гранье, и даже хитроумные рокировки не «подправили» его, не возвысили. Ни в малейшей степени.
С гнетущими чувствами и невеселыми мыслями я просидел несколько часов. Незаметно подкрадывались длинные вечерние тени. Я встал и стал выискивать какое-нибудь убежище. Из леса в город решил не возвращаться. Все равно моя миссия кончилась провалом, из мира изгнанников уже не вернуться. Конь не примет меня.
Час спустя в низинках и густом подлеске скопилась ночная мгла. Она вилась, клубилась рыхлыми комками и с шипением рассеивалась. И снова сгущалась, твердела, силясь выбраться в вещественный мир. Холод ужаса охватил меня: Черный паук! Двойник моей черной души! А власть дяди Абу над пауком, вспомнил, в лесу кончалась. Я заметался, убегая от крадущейся тьмы, выскакивал на полянки и наконец вырвался на опушку.
Я вернулся в город, и, не в пример привередливому коню, нечистая сила приняла меня как своего, встретила как родного.
— Слава дьяволу, живой! — воскликнул Усач.
На засветившемся экране видеофона возникла озабоченная физиономия главы департамента.
— Уцелел? — хмурый лик Аристарха Фалелеича прояснился. — И даже не ранен?
Мурлыкин снова насупился и с презрением заговорил о склочниках людях, которых ни минуты нельзя оставлять без конвоиров. Историческая партия, как я узнал от него, потеряла в этот день почти половину своего состава. С еще большим гневом директор департамента обрушился на своего заместителя. За самоуправство и глупость мистер Ванвейден снят с должности и брошен на грязную и унизительную работу по вылавливанию и сжиганию мелких бесов.
Новость для меня приятная, но и она не радовала. Лег в постель в таком подавленном состоянии, что никак не мог уснуть. В расстроенном воображении прыгали какие-то лохматые тени, неясные образы: ведьмы и гарпии, кружащиеся под куполом храма, искаженные физиономии «прокаженных». А когда за окном услышал хохот Весельчака, понял, что начинаются галлюцинации.
Еще этого не хватало! Я встал и подошел к окну. Никого и ни малейшего звука. Не шевельнется ни один листик, не дрогнет ни одна тень. На кусты сирени и траву мирно струился свет луны. Совладав со своими нервами, я лег и начал засыпать. Но тут, в полудреме, что-то коснулось моего сознания, а из неведомой дали донесся еле различимый шепот.
— Тебя сегодня что-то расстроило… Что случилось?
— Все пропало! Мне не вырваться отсюда. Да и ты погибнешь. Мы оба… Из-за моей паучьей души.
— Догадываюсь… — Голос становился все более отчетливым. — Побывал в лесу и снова встретился со своим милым созданием? И бегал от него? Ну нет, от самого себя не убежишь.
— Никак не можешь без ехидства. А дело серьезное. Задание сорвется. Орленок шарахается от меня — вот что страшно.
— А не слишком ли торопишься?
— Опасаетесь, что вернусь, не выполнив задания? Потому и конь так чуток?
— Отчасти потому… Но расскажи, что видел и что делал.
Мой рассказ, к счастью, не прерывался на сей раз ироническими репликами. Напротив, собеседник одобрил многие мои поступки. А мое поведение с дядей Абу привело его в восторг.
— Молодец! Да понимаешь ли, балда, что произошло? Ты стал лучше. Иначе бы не сблизился с дядей Абу.
— Он почувствовал бы что-то неладное? Как конь?
— Почти что так. Сейчас узнаешь, что такое Сфера Разума. Еще один сеанс, и ты сделаешь еще один шаг к нашему миру.
— То есть я стану еще ближе к самому себе? Я постепенно возвращаюсь в свою подлинную личность? А Пьер Гранье — псевдоличность?
— Не знаю…
— Что такое? Что ты сказал? Повтори.
В ответ — ни звука. Что все это значит? Его последние слова, сказанные исчезающим, как эхо, шепотом, мне просто почудились? Или он сам толком ничего не знает? Кто же я?
Я решил не терзать себя подобными вопросами. Я подошел к окну и еще раз удостоверился, что в садике перед коттеджем никого нет. Похоже, что сегодня меня не собираются пугать.
Я лег и закрыл глаза. Сейчас засну, и маленький Василь (то есть я?) проснется в иной реальности, в стране Сферы Разума.
Сфера Разума
Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества…
Ф. И. Тютчев
Еще во сне его слуха коснулись грустные и куда-то зовущие звуки свирели… Сознание просыпалось, и Василя вновь стали томить все те же непонятные чувства и мысли. Откуда приходит загадочный и неуловимый, как туман, пастух? Может быть, не из древних земных полей, а с далеких космических пастбищ?
Мысль до того странная, что Василь окончательно проснулся и рассмеялся. Космические пастбища! Надо же придумать такое. Тут же вспомнил, что через час, когда в полях рассеется туман и вместе с ним уйдет таинственный гость, с внеземной станции спустится другой пастух — дядя Антон. Вот этот никуда не уйдет, с ним можно поговорить, узнать много нового.
За окном уже вовсю трещали воробьи, утренние лучи медленно ползли по стене комнаты и коснулись косяка дверей. Василь вскочил, принял волновой душ, позавтракал и босиком помчался за околицу села.
Поля дымились, искрились травы, и от обжигающе холодной росы захватило дух. Вот и роща Тинка-Льдинка, похожая по утрам на струнный оркестр — так много здесь было птиц. За рощей степь. В ее просыхающих травах уже путались пчелы, а на пологом холме паслись лошади. Это как раз тот самый небольшой опытный табун, который изучает ученый-пастух дядя Антон.
Василь подскочил к своему знакомцу — недавно родившемуся жеребенку, обнял его за шею, гладил гриву и приговаривал:
— Хороший ты мой. Хочешь, мы будем с тобой дружить?
— Он хочет к своей маме, — услышал мальчик голос дяди Антона. — Отпусти его. Это еще совсем малютка, сосунок.
Жеребенок смешными шагами подошел к своей маме — светло-серой кобылице Стрелке, встал под ней, как под крышей, и начал сосать молоко.
— А имя ему еще не придумали? — спросил Василь.
— Пока нет. Хочешь предложить?
— Вчера вы говорили, что он из старинной породы орловских рысаков. А что, если назовем его Орленком?
— Хорошее имя, — одобрил дядя Антон.
Мальчик сел рядом с высоким светловолосым пастухом и задал все тот же вопрос о другом, постоянно тревожившем его воображение пастухе: кто он? Дядя Антон, к сожалению, лишь пожал плечами и ответил почти теми же словами, что и фея весенних лугов.
— Кто его знает. Он пасет лошадей только ночью. Но как пасет! Лошади так и льнут к нему. И чем он их приворожил?
— А вы хоть раз видели его?
— Нет. И пытаться не следует. Он этого не любит.
— А что, если он не земной пастух? А что, если он приходит с древних космических пастбищ?
— Космических? Ну это вряд ли, — рассмеялся дядя Антон. Он встал, подошел к Стрелке и посмотрел ей в глаза, потом сел на бугорок и задумался. Василь понял, что сейчас лучше не мешать ученому-пастуху.
Мальчик ушел в сторону и устроился под могучим и давно полюбившимся ему тополем. Его крона так разрослась, что казалась густым зеленым облаком. «Тополь-бормотун», — так назвал его про себя Василь. И в самом деле: более болтливого дерева не было в окрестных лесах и рощах. Стоило пронестись ветерку, как его ветви начинали переговариваться, листья шуметь, и долго потом стоял несмолкаемый гул. И даже когда ветер стихал, тополь не унимался и продолжал бормотать. Может быть, там шепчутся дриады? Василь поднял голову, но в зеленой полумгле увидел лишь пляску острых, как иголочки, солнечных лучей и птичьи гнезда.
Василь взял из Памяти книгу. Но не читалось. Его внимание привлек небольшой табунок лошадей, проскакавших вдали. Но это обычные лошади. Совсем иное дело табун, где родился Орленок. Такого табуна в мире больше нет. Над ним работают ученые, в том числе и дядя Антон.
Ученый-пастух все так же сидел на бугорке, глубоко задумавшись. Сейчас он, наверное, советуется со Сферой Разума. Василь уже знал, что Сфера общается и с ним, и с другими детьми. Но пока лишь внешне — с помощью фей, русалок, дриад и других природных существ. Нет, у взрослых общение более глубокое, телепатическое. Перед ними — вся историческая память и все знания человечества. Сейчас дядя Антон, может быть, даже видит своих коллег — ученых-«лошадников», живущих в разных странах. Он разговаривает с ними, спорит. Уже не один год они работают с опытным табуном. С помощью Сферы они меняют наследственность лошадей и динамику биотоков. Все это Василь слышал от дяди Антона. Ученые хотят, чтобы обыкновенные лошади стали чуть ли не сказочными. Кое-какие успехи уже есть. Многие их подопытные бегают со скоростью триста километров в час. Но зачем? Об этом Василь спросил у пастуха, когда тот освободился.
В ответ услышал удивительные вещи. Оказывается, некоторые его питомцы могли бы покрыть в час чуть ли не тысячу километров, если бы не сопротивление воздуха. Но скорость не главное. Ученые добиваются, чтобы их кони свой немыслимый бег в пространстве превращали в бег во времени. Василь знал, что где-то в космосе время и пространство могут взаимно переходить друг в друга. Но чтобы такое на земле? Да еще с лошадьми?
— Именно с лошадьми, — убеждал ученый-пастух. — Миллионы лет естественная эволюция словно растила их для этого. Смотри, какое благородство, какая целеустремленность линий и форм! Так и кажется, что кони вот-вот сорвутся с места и, мелькнув в пространстве, умчатся в тысячелетия. Но природа не создала их такими. Не смогла одна. Вот мы и хотим помочь ей.
— А не уйдет ли случайно Стрелка в прошлое от своего жеребенка?
— Нет, Стрелка
и другие взрослые лошади лишь переходные экземпляры. Но их потомство… Твой Орленок, Витязь, Метеор нас обнадеживают. Может быть, они вырастут настоящими хронорысаками.
— Хроноптицы! — вспомнил Василь. — Я читал фантастический рассказ о хроноптицах.
— Это что. Недавно вышла интересная книга. Там уже не хроноптицы улетают, а люди уходят в прошлое. Уходят просто пешком и шагают по пыльным дорогам столетий. Да вот она, держи.
Василь взял из рук пастуха фантастический роман, который так и назывался «Пыль столетий». И написал его…
— Дядя Абу! — воскликнул пораженный Василь и вскочил на ноги.
— Почему дядя? — улыбнулся пастух. — Абу Мухамед живет далеко, и ты не знаешь его.
Но Василь уже не слышал, о чем говорил пастух. В его ушах свистел ветер — он мчался в село, чтобы поделиться новостью с ребятами.
У крайних хат на вершине вербы вертелся ворон Гришка и с любопытством посматривал вниз. Василь смекнул: это неспроста. И верно: под вербой сидел сам автор и беседовал с сельской ребятней.
— Вот! — Запыхавшийся Василь поднял над головой книгу. — Смотрите!
Ребята передавали друг другу роман и с уважительным удивлением поглядывали на дядю Абу. А тот с равнодушным видом повертел книгу в руках, потом отбросил ее в сторону и с подчеркнутой скромностью сказал:
— Ерунда.
— Ер-рунда, — четко подтвердил Гришка.
Дядя Абу рассмеялся и погрозил ворону пальцем. Чувствовалось, однако, что Гришка крепко уязвил его авторское самолюбие.
— Я еще не такие книги напишу! Вот увидите! — с мальчишеской запальчивостью воскликнул дядя Абу.
После полудня Василь, желая познакомить дядю Абу и ребят с ученым-пастухом, повел их в поле. Становилось душно. В травах почему-то притихли кузнечики, и даже в роще Тинка-Льдинка перестали петь синицы.
— Верный признак, — сказал дядя Абу. — Скоро будет гроза.
Ребята не поверили — уж очень чистым и по-июньски синим было небо. Но минут десять спустя, когда показался табун с ученым-пастухом, неведомо откуда прилетела туча, черные крылья которой вскипали по краям белой пеной. С шипением и свистом, с какой-то театральной яростью на ребят накинулась гроза. Те криками приветствовали ее, потом вприпляску и с хохотом бросились под зеленую крышу того самого тополя. Там было сухо, и лишь меж корней тоненькими ручейками потекла откуда-то вода.
Под сабельными взмахами молний белым пламенем озарялись луга, гасли и снова вспыхивали. За дождевыми струями сизыми призраками бродили лошади, кусты и деревья колыхались и дрожали, становились смутными и расплывчатыми.
Но самое удивительное творилось с пастухом. Солидный ученый бегал, как мальчишка. Возбужденно приплясывая, он вглядывался в ветвящееся огненными змеями небо, спешил от одной лошади к другой, всматривался в них и к чему-то будто прислушивался. Видимо, под влиянием ливней и грозовых разрядов с его питомцами что-то происходило, что-то скрытое и непонятное для непосвященных. Природа, догадывался Василь, творила хронорысаков.
Туча улетела на восток. Поля задымились и засверкали под солнцем. Ребята вышли из-под тополя, но пастух даже не заметил их. Он ползал по луговине и внимательно вглядывался в травы, которыми питались лошади. Электрические разряды и озон наверняка и в травах что-то изменили. Пастух сорвал для анализа несколько пучков клевера и улетел на внеземную станцию. Знакомство с ним пришлось отложить.
Каждое утро Василь и Андрей уходили в поля, где просыпались пчелы и цветы раскрывались навстречу солнечным лучам. За холмами иногда слышался голос певуньи-феи, а на озере друзей неизменно ждал насмешливый, ершистый и все же бесконечно милый Кувшин. Частенько во время купания сердце у Василя вдруг замирало: как он там, белоснежный четвероногий друг? И, невзирая на иронические реплики Кувшина, мальчик убегал в поле, где его радостным ржаньем встречал подрастающий Орленок.
Незаметно из дальних стран золотой птицей прилетела осень и тихо села на поля и рощи, раскинув свои многоцветные крылья. И Василю пришлось надолго распроститься с лошадьми и вольной жизнью — наступил его первый учебный год. Вместе с тремя десятками мальчиков и девочек он иногда целыми днями жил в школьном классе — многоликом и почти живом творении. Большая светлая комната с партами по желанию превращалась в любую лабораторию. Меняя форму, она погружалась в воду и даже в недра земли. Но чаще всего парила в облаках. Поэтому ребята и называли свой класс воздушной лодкой.
Лодка летела над материками и океанами, незримая для живущих внизу. Но сами школьники видели нежную зелень альпийских лугов и блеск южных морей, слышали шелест американских прерий и океанский гул сибирской тайги. Под ними проплывала вся биосфера — основа их жизни, хранительница материальной и духовной культуры человечества.
Многое, очень многое ребята узнали о мире еще в раннем детстве, когда дружили с феями, дриадами и другими природными существами. Будто сама природа делилась своими знаниями, будто ребята впитывали их вместе с ароматами лугов и пением птиц. Поэтому первоклассники сразу же приступили к таким наукам, какие их одногодкам прошлых времен и не снились.
А как интересно проходили часы после занятий! Однажды в ноябре, когда их родные луга и рощи припорошились снегом, летающая лодка вплыла в сумерки жарких джунглей и раскинулась туристским лагерем. Все здесь необычно: лианы, спускающиеся сверху толстыми канатами, мохнатые стволы, оплетенные вьющимися растениями с большими и яркими цветами. В полумраке древовидных папоротников ребята впервые увидели фавна — недоверчивого и пугливого лесного обитателя.
Когда воздушная лодка приземлилась на новозеландском берегу Тихого океана, вмиг все преобразилось. Вместо душных джунглей открылись бескрайние синие дали, откуда дули свежие ветры. Набегающие волны с шуршанием гладили песок и оставляли у самых ног шипящие ожерелья пены. Ребята шумно переговаривались, но Василь молчал, с опаской поглядывая на стоящую рядом Вику. Однако девочка была так непривычно серьезна и задумчива, что Василь успокоился: язвительный язычок у Вики сегодня отдыхал.
— Тише, ребята, — сказала она. — Не видите разве?
В отдалении на прибрежной скале сидела девушка и тихо напевала. Потом подняла руки, шевельнула пальцами и словно коснулась ими невидимых струн: океан зазвучал.
— Морской композитор, — восторженно прошептала Вика.
Все знали, что Вика мечтала о славе степного композитора, хотела преображать шелест трав, пение птиц, свист ливней и грохот грозы в гармонию, в никем не слыханные созвучия и мелодии.
Василю, однако, морская музыкантша и певунья казалась подозрительной. Ее пышная прическа, похожая на пену прибоя, и платье цвета розового коралла наводили на мысль: уж не вышла ли она из океана? Вспомнился почему-то один древний философ (после встречи с Шопенгауэром Василь увлекся философией). Древние греки не случайно называли своего философа Темным: в его книгах Василь пока мало что понял.
— Может, это морская нимфа? — неуверенно возразил Василь. — В нимф верил даже Гераклит Темный.
— Сам ты темный.
Вика с жалостью посмотрела на Василя, но придумать что-нибудь более обидное и язвительное не успела.
Девушка с ловкостью горной козы спустилась со скалы и подбежала к ребятам.
— Северяне! — рассмеялась она. — Догадываюсь, что вы школьники из краев, где поют сейчас вьюги. Здравствуйте, северяне! Давайте знакомиться. Меня зовут Аолла.
Девушка-южанка была общительной, веселой и уж до того земной, что Василь приуныл. Вика торжествовала.
— Сколько у вас осталось до занятий? Еще целый час? Подождите, я вернусь со своими подругами, и мы устроим праздник.
Аолла вошла в воду, нырнула и стремительно уплыла в зеленую глубину.
— Океанида! — в изумлении воскликнула Вика.
Валы набегали и с плеском ложились у ног. Из самой высокой и шумной волны, из ее пены выступили Аолла и десятка два ее подруг. И всеми красками запестрел желто-лимонный пляж. Каких только платьев тут не было: красных и розовых, как кораллы, зеленых, как водоросли, кружевных и белых, как облака. И сами океаниды тоже разные. В большинстве своем шумные и веселые, как Аолла. Но встречались и тихие, с задумчивой грустинкой на красивых лицах. Одинаковыми были только глаза — синие, как океанские дали.
В груди у ребят что-то дрогнуло: перед ними в живом виде предстал сам красавец океан. Приветствуя Аоллу и ее подруг, они восклицали:
— Океан! Океан! Здравствуй, океан!
И праздник получился океанский — широкий и певучий, с хороводами на пляже и с играми на воркующих волнах. А когда одна из задумчивых океанид, свидетельница многих событий прошлого, садилась на берегу, ребята, затаив дыхание, слушали ее страшные рассказы о кораблекрушениях и бурях, о морских битвах и сражениях с пиратами. Потом снова песни, музыка и танцы.
О празднике мальчики и девочки хотели рассказать своим учителям, но те уже все знали и строили занятия так, что они казались продолжением морского карнавала. Как, например, не вспомнить певучих и грациозных океанид на уроках музыки и хореографии. Об океанологии и говорить нечего. Первое знакомство с этой наукой состоялось именно здесь, когда воздушная лодка превратилась в подводную, вплыла в глубины океана и легла на дно.
Летающая лодка побывала затем в эвкалиптовых лесах Австралии, на вершине Эвереста и во многих других местах. В конце учебного года, в мае, она растворилась в родной среднерусской лесостепи. Незримая и неощутимая, она готова в любой момент прийти на помощь и развернуться во что угодно.
Но ребята не нуждались в ней. Они сидели на сухой, прогретой солнцем траве, а кругом в низинах пылали цветы. Апрель и май — пора купавок. Куда ни кинь взгляд, плескалось золотое море купавок с зелеными островами холмов.
Перед ребятами, щурясь на солнце, прохаживался высокий пожилой учитель истории и классный наставник. Имя и отчество у него самые привычные для этих мест — Иван Васильевич. Но фамилия необычная и вполне «историческая» — Плутарх.
— Вот мы, ребята, и дома, — счастливо улыбаясь, сказал историк Плутарх. — Во многих странах вы побывали и многое узнали. Но знания не главное. Многознание уму не научает — так сказал один древнегреческий философ. Может быть, кто-нибудь назовет его?
— Я знаю! — вскочил Василь. — Это сказал Гераклит Темный.
— Правильно. А теперь попрошу Вику объяснить, почему его называли Темным.
Вика, сидевшая рядом с Василем, медленно поднялась и растерянно оглянулась. О знаменитом греке она ничего не знала. Василь хотел выручить ее, подсказать, хотя и сам толком не знал, что именно подсказать. Но тут Вика решилась:
— Потому… Потому, что он был негром.
— Негром?! — ошеломленно вскинув брови, переспросил учитель.
Ребята расхохотались так громко, что сидевшие на соседнем кусте синицы испуганно вспорхнули и улетели. Василь всячески утешал пристыженную Вику, говоря, что на такой вопрос сможет ответить разве лишь Розочка.
Встал Сережа Розов, сказал два слова и зарделся. За скромность и способность краснеть он и получил свое прозвище. Справившись со смущением, Сережа начал говорить, заставив утихнуть самых шумных ребят — Розочка уже не раз удивлял их. Глубина мысли Гераклита была не всегда ясна современникам, сказал Сережа, поэтому его и называли Темным. Гераклит обладал одновременно конкретно-образным и абстрактным мышлением, способным, как уверен был сам философ, охватить мировой логос, вселенскую мудрость и гармонию.
— Гармоническая личность начинается с гармоничного восприятия мира, — добавил учитель. — Такой космический взгляд на мир вы усваивали с первых шагов своей жизни, встречаясь с травами и росами, с феями и дриадами, впитывали незаметно вместе с шумом древесной листвы и голосами птиц. Людям прошлых веков странной показалась бы такая природа, такая экологическая среда. А как она возникла, вы увидите завтра на итоговом уроке.
Ребята уже не раз слышали о волшебном итоговом уроке. Интриговал он их до чрезвычайности. Поэтому следующим утром они пришли на то же место, но раньше условленного времени. Первые лучи ощупывали холмы, врывались в темные низинки, и там золотыми огоньками вспыхивали купавки. И такая тишина, что, казалось, слышно было, как в травах движутся весенние соки.
Через несколько минут появился историк.
— Уже собрались? — усмехнулся он, понимая нетерпение ребят. — Ну что ж, начнем пораньше. Сейчас мы в фокусе особо запрограммированных биополей. Вы проживете всю историю человечества. Не спрашивайте, что это — сон или явь? На это вам ответит потом специальная наука фантоматика.
Но что это? В ушах затихающим, уходящим эхом еще слышалось слово «фантоматика», Василь все так же сидел на траве, но уже в далеком прошлом, в глухих чащобах древнего леса. Но самое удивительное произошло с ним самим. Его тело сплошь покрыто густой бурой шерстью, и это Василя почему-то не испугало, показалось даже забавным и смешным. И ходил он смешно — полусогнувшись, на задних лапах и передними касаясь земли. И вдруг Василь замер, словно скованный необъяснимым страхом, осторожно взглянул вверх — в зеленую мглу листвы. Оттуда послышался предостерегающий крик сородича. Василь легко, словно подхваченный ветром, взлетел, уцепился за сук и взглянул вниз. Под деревом рычал и вертелся опоздавший с прыжком густогривый зверь — гроза древнего леса. В редких солнечных лучах, скользящих сквозь густую листву, его рыжая спина искрилась и вспыхивала, как пламя.
Василь завизжал от гнева, вместе со своими сородичами швырял в хищника кору и ветки. Потом, перелетая с дерева на дерево, очутился в безопасном месте; сопя носом и чмокая от удовольствия, ел вкусные и сочные плоды. И в это время, словно из лесной глуши, послышался усмешливый голос учителя:
— Вы уже не животные, но еще не люди. Вы живете жизнью природы и пользуетесь ее дарами, не причиняя ей вреда.
Голос утонул в гуле и клекоте внезапно налетевшего ливня. Потом пришла жара, леса и поляны курились душными испарениями. И странно: в этом влажном тумане проплывали годы, столетия; и Василь обнаружил, что его беззаботная жизнь в лесу как-то незаметно кончилась. Он уже почти безволосый и ходит на ногах, а в руках цепко держит грубо обтесанные камни. Ими он вместе с соплеменниками отбивается от хищников, выкапывает из земли съедобные корни, сочные клубни. Но не голод больше помнится, а холод. От него не было спасения ни в шалашах из сухих веток, ни в расщелинах скал. Он дрожал от холода, кажется, тысячи лет. Смутно помнятся длительные переходы по заснеженным равнинам, пугающие ночи, морозные мглистые рассветы… То была суровая одиссея первобытного люда, прошедшая то ли в полуяви, то ли в полусне.
Внезапно Василь вынырнул из вязкого полубытия и зажмурил глаза: в глубокой ночи ярко горел огонь, выбрасывая косматые языки пламени. Огонь, полученный руками человека! Повизгивая от наслаждения, Василь грелся у костра, потом вместе с соплеменниками пустился в пляс. И в это время сквозь взвизгивания и хохот в уши Василя тихо, словно из далекого будущего, вкрадывался дружелюбно-насмешливый голос:
— Ликуете? И правильно делаете. Вы положили начало великой технологической эволюции. Природа еще не слишком страдала. Но что дальше?..
Голос рассеялся в тишине проплывающих веков. Каких — не разгадать… Вдруг Василь увидел высокое звездное небо, рядом пофыркивали лошади и скрипели повозки. Женщины приглушенными голосами успокаивают плачущих детей. В руках у Василя лук, за спиной колчан со стрелами, а в груди тревога: вместе с племенем он спасается от воинственных соседей-степняков… Звезды и лоснящиеся под ними ковыли потускнели, занавесились мглой. И снова уходящие назад века, снова десятки иных неясных существований. И во всех былых жизнях почему-то сопровождал еле слышный скрип повозок.
Скрип становился громче, все назойливее лез в уши, и Василь пробудился из полунебытия в образе крепостного рабочего горнозаводского Урала. На визгливо скрипучей телеге он везет бурые глыбы железной руды.
«Восемнадцатый век! — мелькнуло в сознании Василя, неведомо как подселившегося к рабочему и его жизни. — Вот они, первые шаги индустрии и той самой железной технологии».
Глазами пожилого рабочего мальчик видел, как в стороне над лесом вился дым — там трудились углежоги, а впереди густо коптили небо заводские трубы. Рабочий взмахнул кнутом, и лошадь помчалась изо всех сил. Телега, окутавшись пылью, влетела в распахнутые заводские ворота и ворвалась… в двадцатое столетие!
Василь мгновенно понял это, ибо он, притаившись, жил в облике мальчика того времени. Зовут его Колей и сидит он на мягком сидении легкового автомобиля. Сквозь дымную гарь Василь видел улицы большого города. Коля ерзал и нетерпеливо спрашивал сидящего рядом отца:
— Мы едем в лес? А скоро будет лес?
При слове «лес» Василь, живший одновременно мыслями и чувствами Коли, почувствовал облегчение. Город пугал его, оглушал грохотом, давил каменными громадами. Но Коля — его двойник в двадцатом веке — ко всему привык и спокойно смотрел на проносившиеся мимо газоны с чахлой и пыльной травой, на деревья — измученные, задыхающиеся, с корнями, закованными в гранит и асфальт. «Вот она какая, железная технология, — пронеслась у Василя мысль. — Даже в небе вместо живых птиц летают металлические».
Машина выехала в пригород. Среди садов мелькнули одноэтажные домики, чем-то похожие на хаты родного села. А когда за дачным поселком зазеленел густой лес, Василь почувствовал себя почти как дома. Коля же вообще ликовал. Выскочив из машины, он собирал ягоды, беспричинно смеялся, радовался каждому цветку и восклицал:
— Лес! Настоящий лес!
Но чем дальше мальчик уходил в лес, тем больше Василь «уходил» из Коли и становился самим собой. Коля ошибается, думал он, лес не настоящий. А какой? Искусственный?
На мохнатом стволе дерева, шурша корой и выискивая насекомых, вертелся поползень и зигзагами поднимался к вершине, где стучал его собрат по очистке леса — трудяга дятел. Ничего не скажешь: птицы живые, настоящие. Василь пощупал листья молоденькой, светившейся под солнцем березки, потрогал и понюхал траву. Все здесь настоящее. Но чего-то главного не хватало. И вдруг понял, словно кто-то невидимый подсказал ему, — не хватало очеловеченности. Нет, лес этот не враг человеку, но и не друг. Он, как вся здешняя природа, просто равнодушен к человеку, безразличен к присутствию разума. Он неразумен — вот в чем все дело! Биосфера здесь еще не стала ноосферой — Сферой Разума. И приветливые природные существа — феи, русалки, дриады — здесь жить не могут.
Сиротливо, неуютно и тоскливо стало Василю. Он заметался, пытаясь поскорее выйти из угрюмого, равнодушного леса. Это ему удалось, но радости не принесло: Василь выскочил на окраину коптящего заводского поселка. Мальчик запинался о шпалы и рельсы, над ним глухо и тревожно гудели провода высоковольтной линии. И Василю стало страшно.
— Есть места и пострашнее. Смотри.
Откуда прилетел знакомый голос? Из воздуха? Из ветра, свистевшего в проводах? Василь уже летел высоко над землей, где дышалось легко, где руками можно потрогать чистые и влажные бока облаков. Он видел города, дороги, пашни, рощицы и редкие леса — заметно запыленные, угнетенные, но все же леса. Чем ближе к густо заселенной Западной Европе, тем меньше зелени, а города почти сливались в единый сверхгород, опутанный паутиной электропередач и затянутый гарью промышленных испарений.
Но вот, кажется, Рейн. В своем веке Василь не раз видел его сверху и даже купался в его голубой прохладной воде. Мальчик чуть снизился и обнаружил, что не вода течет в знакомых берегах, а, змеино извиваясь, ползет что-то пятнистое и жирное, похожее на маслянисто-черную гадюку.
— Не гадюка, — вмешался в мысли мальчика голос. — Это обычная река конца двадцатого века. Вода пропиталась отходами городов и заводов — серой и азотом, ртутью и цинком. Текла в ней почти вся таблица Менделеева. Все живое в реке погибло.
Скорей отсюда! — рвался из груди Василя немой крик. — На другой материк. Может быть, там лучше? И полетел он над волнами Атлантического океана. Вот и Североамериканский континент. Василь в испуге приостановил свой полет: на берегу колыхалось исполинское облако, похожее на медузу ядовито-желтого цвета. Что это? Атомный взрыв или гигантский вулкан?
— Не взрыв и не вулкан, — услышал он в ветре голос учителя. — Таким всегда видели американские летчики город Нью-Йорк, находясь еще в ста пятидесяти милях от берега. Облако — порождение огромного города, который ежедневно выбрасывал в воздух три тысячи тонн двуокиси серы, триста тонн пыли, четыреста тонн окиси углерода, углекислого газа и других химических выделений. Все это потом оседало и снова испарялось — между городом и облаком наладился своеобразный обмен веществ. Город окутался ядовитой сферой. Из-за отравления в нем ежегодно умирало десять тысяч человек. Таких городов-вулканов становилось все больше. Хочешь побыть маленьким жителем одного из них?
Сначала Василь хотел отказаться, но устыдился собственной трусости и решил выдержать испытание до конца. И очутился он в утробе города-вулкана Токио, поселился в душе и теле японского школьника, будто слился с ним.
Японский мальчик спешит в школу, не обращая никакого внимания на пыль, сутолоку, визг и скрежет машин. Привык мальчик, и Василя это уже мало удивляло. Удивляло другое: чем ближе к центру, тем чаще прохожие приклеивали к лицам какие-то страшные маски. Вскоре Василь вместе со своим японским двойником начал задыхаться, от угарного чада кружилась голова. Школьник вынул из ранца такую же маску и натянул ее на лицо. «Противогаз», — догадался Василь.
Сквозь запотевшие стекла маски Василь увидел на углу полицейского не только в противогазе, но и в какой-то защитной одежде. Она тускло блестела под солнцем, проглядывавшим сквозь закопченное небо, и была похожа на… скафандр.
Василь вздрогнул от страшной догадки: люди сделали среду своего обитания настолько чуждой и враждебной, что вынуждены скрываться от нее в космических скафандрах. Он знал, конечно, что людям в то время жилось трудно. Но чтобы такое?
— Это неправда! — почти вслух протестовал Василь. — Это выдумка! Этого не было!
Наверное, его одноклассники попали в похожие города, потому что голос учителя обращался ко всем:
— Увы, ребята, это было. Поднимемся и посмотрим.
Василь вырвался из тела несчастного японского мальчика и в привычной для себя одежде летел рядом с облаками. Свежий воздух холодил голые коленки, а белая рубашка, щекоча спину, вздувалась и хлопала, как парус.
Но внизу все та же жуть — планета, исхлестанная железными и шоссейными дорогами, чудовищные города, окутанные вулканическим пеплом и чадом, леса, трещавшие под натиском огромных железных жуков-бульдозеров.
«Люди того времени не только привыкли, но и уже не могли поступать иначе, — рассуждал сам с собой Василь. — Но к чему все это приведет?»
«К чему приведет? — спросил кто-то, и Василь вздрогнул: он догадался, что это голос Сферы Разума. — Изволь, могу показать, чем все это могло кончиться».
Василь увидел такое, отчего по спине побежали холодные мурашки. Города разрастались, зеленые поля и леса, вечно обновлявшие атмосферу, исчезли совсем. Кислород вырабатывали кислородные фабрики. Они же поглощали промышленные отходы и чад — воздух стал чище и прозрачнее. Люди уже не прятались в скафандры, как тот японский полицейский. Они сделали хуже: превратили всю естественную среду обитания в сплошной космический скафандр, окружив планету искусственной атмосферой, заковав ее в железо, пластик и бетон. Кругом — полчища жужжащих транспортных и обслуживающих машин, густой лес металлических конструкций. И в таком «лесу», в этих железных джунглях — ничего живого, кроме машиноподобных людей.
— Вот этого уже не было! — испуганно возразил Василь.
— Верно, не было, — согласился невидимый голос. — Но могло быть. Тот вариант развития цивилизации, который вы видели, заводил в тупик. Чем бездумнее человек «покорял» природу, тем больше она становилась для него чуждой — насилие не рождает близости, не создает родства. Вместо естественной среды обитания создавалась искусственная, синтетическая. Но и среда в свою очередь формировала человека, делала его похожим на себя. Синтетическая цивилизация создавала синтетического человека с его однобоким машинным мышлением, подрывала его духовную и нравственную сущность. Как тут быть? Ликвидировать техническую среду и уйти в леса? Помните свое полуобезьянье существование? Нет, конечно. Цивилизации пришла пора перейти на более высокую, качественно новую ступень. В конце двадцать первого века, в условиях всеобщего братства народов возникла мысль: перевести машинно-технологическую эволюцию в русло эволюции биологической. Ученые пришли к выводу, что биология — это высший тип технологии. В основу была положена идея о безграничных возможностях живого вещества. Давайте кое-что вспомним, полистаем страницы древних времен.
И очутился Василь в глубинах палеозойского океана. Был он сначала не то амебой, не то первичной клеткой, потом стал многоклеточной червеобразной протоплазмой. Он копошился в тепловатом иле, ползал — осваивал простейшее механическое движение. И все это в непроницаемой вековой тьме. Вдруг забрезжил свет — эволюция сотворила глаза, сложнейший оптический аппарат.
А на каменистой суше еще ни одного живого существа, ни одного крика. Прошли еще миллионы лет, и Василь из сумеречных вод выкарабкался на песчаную отмель, огляделся. Во влажном тумане, похожем на пар, качались гибкие травы, проросли древовидные папоротники. Василь смутно помнит, что он ползал черепахой с крепким, как броня, панцирем — еще одно изобретение природы; сотрясая землю, бегал бронтозавром и вдруг птеродактилем взлетел вверх — эволюция «придумала» перепончатые крылья. Живое вещество, догадывался Василь, осваивало воздушное пространство.
Сверху он видел, как ожившая, ощущающая, но еще не мыслящая материя, приспосабливаясь к среде, понемногу осваивала всё новые «технические идеи». Заискрились разряды у электрических скатов, летучие мыши ориентировались с помощью ультразвуковой локации, голотурии освоили реактивное движение. Наконец природа сотворила чудо, свое вершинное достижение — человеческий мозг. Материя стала думать… Василя вдруг осенило: живая природа, биосфера создала мозг не случайно и не для своего собственного истребления, а напротив…
— Верно, — подхватил учитель (или это была сама Сфера Разума?) неокрепшую мысль мальчика. — Не для истребления, а для перехода живой природы в качественно иное состояние. Биополя, ультразвуковая локация и даже чудо-мозг возникли на молекулярно-химическом, или, как мы сейчас называем, на первом биоэнергетическом уровне. Могла ли природа сама, без помощи своего мыслящего органа — человека, перейти на второй и более высокий уровень — квантовомеханический, с его неисчерпаемыми возможностями? Нет, не могла, ибо природа творит только то, что возможно и полезно в ближайшем поколении, из того материала, который находится под руками. Заглядывать в далекое будущее, «проектировать» себя ей не дано. Единственная задача живого вещества — приспособиться и выжить в медленно изменяющихся условиях геологической эпохи. И природа успешно справилась с этим. Но вот в ее лоне возник человек и почти сразу же взял в руки каменные орудия, потом металлические, потом многие другие. На смену медлительной геологической эпохе пришла стремительная эпоха технологическая. И природа была застигнута врасплох.
Голос затихал… Вернее, слова странным образом становились собственными мыслями Василя и разворачивались в картины. Мальчик видел, как миллионами лет каждая травинка и бабочка, каждое дерево «привыкали», приспосабливались к ритмично чередующимся сменам зимы и лета, ночи и дня, к вечно повторяющимся ливням и грозам. Но что могли поделать те же хрупкие бабочки и те же деревья перед внезапно возникшими топорами и бульдозерами? Живая природа словно взывала к человеку, к своему неуемному детищу. Василю казалось, что он даже слышал ее жалобный голос, теряющийся в грохоте машин, в скрежете металла. Не торопись, просила она человека, изменяй окружающую среду медленно, миллионами лет, и я приспособлюсь к твоим потребностям познавать мир и повелевать им. Я создам гибкие и послушные тебе биополя, и они заменят заводы и электростанции. В своей микропамяти я буду хранить все, что пожелаешь: одежду и пищу, все твои знания, всю материальную и духовную культуру.
Но природа была нема. Да и человек остался бы глух, если бы и слышал ее призывы. Человек не в состоянии ждать миллионы лет. Он не мог ждать и года. Все, что он придумывал, необходимо было реализовать немедленно. Иначе топтание на месте, застой. Темпы технического прогресса и синтетической цивилизации возрастали. Стонущая природа с трудом сопротивлялась, залечивала свои раны. Но в конце двадцатого века существование биосферы и ее детища — человека было поставлено под угрозу.
Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не знаменитый Азорский эксперимент, о котором Василь уже кое-что слышал. А сейчас увидел.
Под ним двадцать второй век и Азорские острова, окутанные силовыми сферами лабораторий — прозрачными, цветными, решетчатыми. В лабораториях — опытные образцы со всех континентов. Деревья и травы, связанные с ними насекомые за десять лет прошли здесь эволюцию, которая без вмешательства человека длилась бы миллионы лет, если бы вообще началась. Эволюция прокручивалась за сутки, минуты, секунды. И что особенно важно: это было естественное развитие, лишь ускоренное учеными. Сохранился даже естественный отбор: в борьбе за существование побеждал тот, кто быстрее приспособился к нуждам человечества, кто лучше впитал в себя достижения его рук и разума. В увеличенном размере Василь увидел пульсирующую живую клетку. Хрупкая и самая обыкновенная, она питалась уже не только соками земли, но и «соками» микромира, черпала из его бесконечных глубин неведомую энергию. Она, эта энергия, стала для органической ткани столь же необходимой и живительной, как солнечный свет и летние ливни. Живая клетка вмещала в себя и микромир, и мегамир.
Опытные образцы шагнули из лабораторий на материки и в борьбе за существование постепенно вытесняли своих «первобытных» предшественников. Вместо прежних трав прорастали новые; годами набирали силу деревья — вроде те же, но в своих сокровенных глубинах совсем другие. Что же делали островки новой биосферы? Сначала, как заметил Василь, исчезли ненужные линии электропередач. Биосфера, догадывался Василь, наряду с фотосинтезом и выделением кислорода выделяла и новую энергию. Леса и поля как бы дышали этой биоэнергией, способной превращаться в любой другой вид энергии и в любое вещество. Исчезли электростанции, зарастали травой угольные шахты и пашни.
Зрелище до того занимательное, что Василь поудобнее уселся на облаке (он с удивлением обнаружил, что ему дали такую возможность), вместе с ним плыл над Землей и удовлетворенно улыбался. Его радовало происходившее внизу. Если раньше кичливая техносфера с торжеством, с визгом и скрежетом наступала, раскидываясь коптящими заводами и «рощами» металлических конструкций, то сейчас она съеживалась, как проколотый воздушный шар. Шоссейные и железные дороги как-то незаметно исчезали, растворялись в пахучих травах, а заводы и электростанции — в прохладных лесах. Обратное наступление шло сравнительно медленно, около ста лет, но промелькнуло перед глазами мальчика за считанные минуты. И вот биосфера полностью… Василь захохотал: биосфера полностью проглотила техносферу!
— Проглотила? — Смех учителя, уловившего мысли мальчика, раздался где-то рядом. — Сказано слишком сильно. Живая природа не проглотила, а вобрала в себя техносферу, переложила на свои плечи ее обязанности, ни в малейшей степени не утратив своей естественности, своей изначальной красоты.
Учитель еще о чем-то рассказывал, но Василь его уже не слышал. Ему вспоминалась красота родных лугов…
— А как возникло название Сфера Разума? — спросил кто-то из учеников.
Замечтавшийся Василь вздрогнул и оглянулся. Он и не заметил, как его удивительное путешествие по странам и эпохам закончилось. Сидел он уже не на облаке, а на пригорке в окружении одноклассников.
— Об этом подробно позже, — старый учитель встал и, разминаясь, начал ходить перед ребятами. — Коротко суть такова. Еще в давние времена ученые и философы верно говорили, что человек из окружающей среды беспрерывно строит свое продолжение, свое «неорганическое тело» — тело цивилизации. Позднее русский ученый Вернадский техносферу, всю материальную оболочку Земли, созданную трудом и разумом человека, предложил называть ноосферой — сферой разума. Мы и сейчас пользуемся этим термином, вкладывая в него новый смысл. Если раньше человек естественную сферу обитания преобразовывал в искусственную, в свое «неорганическое тело», то наша цивилизация стала органической, естественной. Она стала человечной и поэтичной. Если до этого людей окружали роботы — скучноватые и туповатые железные детища техносферы, то сейчас разумная природа подарила нам…
— Аоллу! — вырвалось у Наташи Быстровой.
Ребята рассмеялись. Учитель улыбнулся и сказал:
— Не только ее, но и многих других. Уже с первых шагов жизни они приучают нас воспринимать природу по-братски. Искусства, науки, да и вся наша жизнь многим обязаны тем родственным узам, которые связывают нас с ветром и шелестом трав, с цветами и деревьями, со всеми явлениями вселенной.
На учителя посыпались вопросы, которых тот, видимо, ожидал.
— А когда стали приходить природные существа?
— Говорят, что раньше их не было. Как же люди обходились без них?
— Вот так и обходились, — историк развел руками и, вспомнив что-то, улыбнулся, отчего вокруг глаз веером побежали морщинки. — На первых порах наши волшебные леса и поля были пустынными, как в старые времена. Но вот сто двадцать лет назад, в дни детства Сферы Разума и моего собственного детства, произошел со мной один забавный случай. Желаете послушать?
— Желаем!
— Пятилетним малышом я вышел из города, — с видимым удовольствием начал учитель. — Поля и рощи манили меня. Сам не свой от радости, я мчался, оставляя позади кусты и деревья. И только солнце не отставало, оно мчалось и скакало надо мной, точно огненный конь. Но вот остановился я, огляделся и понял, что обратно дороги не найти. Конечно, Сфера Разума нашла бы способ оповестить родителей, но выручила меня на сей раз необычно. Изрядно перетрусил я тогда. Пригорюнившись, сел на бугорок. Вспомнились сказки, населенные волшебными и добрыми существами. Они, конечно, помогли бы. «Жаль, что феи и гномы живут только в сказках», — почти вслух подумал я.
— Не только в сказках, — послышался вдруг в траве обиженный голосок.
Я вгляделся. Под цветком ромашки, как под белым зонтиком, сидел малюсенький человечек в шляпе и кожаной куртке. Одна нога у него разута, рядом лежал сапожок.
— Гномик? — удивился я.
— Конечно, — человечек все еще хмурился. — Пора бы узнать.
— Но… — хотел сказать, что это неправда. И вдруг поверил, что передо мной настоящий и живой гномик. — А что ты здесь делаешь? — спросил я.
— Угадай?
— Отдыхаешь.
— Вот и промахнулся, — рассмеялся человечек. — Гномы никогда не отдыхают. Мы народ трудолюбивый. Сейчас я ремонтирую сапог.
Он постучал по каблуку крохотным молоточком, потом осмотрел сапог и остался доволен.
— Вот сейчас можно идти домой. Я живу недалеко.
— А как же я? Помоги найти дорогу.
Но гномик отказывался, ссылаясь на свою «чрезвычайную занятость». Эти слова рассмешили меня, и я весело упрашивал его. Гномик хмурился, недовольно пожимал плечами и наконец сжалился.
— Топай за мной.
Гномик забавно семенил ногами, часто останавливался у колокольчиков и постукивал молоточком по их голубым чашечкам. Цветы, к моему удивлению, звенели, как серебряные колокольчики. Он рассказывал о кузнечиках и разных жучках, с большой симпатией отозвался о муравьях — таких же трудягах, как гномы. Я не заметил, как подошли к городу. Гномик попрощался и скрылся в травах. С тех пор я часто уходил в знакомые поля. Гномика больше не встречал, но чувство, что здесь мой друг, меня не покидало. Похожие случаи с детьми вскоре были отмечены в других странах. Феи, дриады, эльфы приходили на короткое время. Сфера Разума была еще в нерешительности, словно спрашивала: понравится ли?
— Понравилось? — спросил кто-то.
— Еще как!
— А правда ли, что природные существа покинут нас, когда станем взрослыми? — Неправда, — возразил учитель. — С некоторыми пред- ставителями Биосферы вы будете встречаться всю жизнь. Они — такая же экологическая среда, как роса на цветах или свежий ветер с полей. Я, например, люблю беседовать с моим давним другом, мудрым старцем. У вас наверняка уже есть свои любимчики. Назовите их.
— Аолла, — быстро ответила Наташа.
— Вряд ли, — засомневался учитель. — С океанидами вы провели всего два часа.
— Иван Васильевич, вы не знаете ее, — вмешался сосед Наташи. — Она об Аолле стихи пишет.
Наташа покраснела и сердито дернула за рукав мальчика, выдавшего ее тайну.
— Что ж, это интересно! Но все же я имею в виду тех из стихийных и сказочных существ, с кем вы видитесь почти ежедневно, кто стал частью вашей родины, ваших лугов и лесов.
— Фея Фиалка, — несмело пискнула Таня Мышкина, жившая по соседству с Василем.
Две девочки из города в один голос воскликнули:
— Купавка! Купавка!
Каких только имен не пришлось услышать во все усиливающемся шуме и веселом гвалте. Сначала Василь помалкивал. Но когда сидевший позади мальчик начал громко расхваливать какого-то своего Попрыгунчика, не выдержал. Он вскочил и, размахивая руками, старался всех перекричать:
— Кувшин! Всех лучше Кувшин! Да здравствует Кувшин!
* * *
Смех, веселые восклицания стали гаснуть, затихать, уходить вдаль… В уши вкрадывались иные, чуждые и пугающие звуки и шорохи. Я проснулся и словно шагнул… Нет, меня словно вышвырнули из школьной жизни Василя в жуткую реальность Пьера Гранье. Я подбежал к окну. В безлунной тьме метались под ветром кусты сирени. Их шум, а также похрапывание спящих конвоиров и разбудили меня, вернули к действительности. А может, все наоборот? Сейчас мне снится кошмарный сон, а только что начавшаяся жизнь Василя и есть единственная и подлинная реальность? И кто я в конце концов? Кто скажет? Кто разрешит сомнения? Мой собеседник как будто и сам ничего не знает.
Я сел на кровать и постарался успокоиться, привести свои растрепанные мысли и чувства в порядок, чтобы услышать его голос. Но собеседник молчал. Тогда я заговорил первым, заговорил с несколько наигранным вызовом.
— Эй, ты! Слышишь? Вы меня забросили в мусорную яму, в зловонную помойку. Дескать, разведай, понюхай, а потом вернись и доложи, чем пахнет. Хорошенькое дело!
В ответ — ни слова. Но я чувствовал, что мой таинственный оппонент внимательно слушает.
— Сфера Разума, — продолжал я, стараясь не упустить все ту же догадку. — Как всякий гомеостат, она стремится к равновесию. Сфера извлекает из своих информационных недр, из Памяти и овеществляет в ваших лугах и лесах поэтичные и добрые создания. Но для равновесия ей необходимо освободиться и материализовать столько же злых духов и кошмаров. Где? Разумеется, в прошлом. Я все понял! Вампиры, ведьмы, драконы, штурмбанфюреры и прочая нечисть — это же промышленные отходы. Вон оно что! Ваша чистенькая цивилизация на деле грязнее нашей. Мы гадили у себя под ногами, засоряли среду обитания в своем веке. А вы? Засоряете и отравляете нашу и свою предысторию. Это же страшно!
— Не волнуйся, — услышал я наконец-то голос моего собеседника. — Сфера Разума не так глупа и многое предусмотрела. Вот мы и хотим разведать с твоей помощью. Выяснил, где находится страна изгнанников?
— На большом острове. Это видел джинн с высоты своего многокилометрового роста. Бедный дядя Абу! Какая несправедливая жертва вашей цивилизации. Попал в ее перемалывающие шестерни.
— Не причитай! С дядей Абу все уладится. На острове, говоришь? Это уже легче. Вероятно, острову суждено исчезнуть.
— Атлантида?
— Вздор! Легенда об Атлантиде не подтвердилась. Скорее всего, это остров в сейсмически неустойчивом Тихом океане. В результате естественного геокатаклизма он исчезнет, не оставив ни малейшего следа в истории Земли.
— Допустим. А если волшебный лес, этот передатчик грязных излучений, прорастет на континенте и устроит там свалку отбросов. Что тогда? Нечистая сила расползется по всей планете и погубит зарождающуюся историю человечества.
— Свалка! Гомеостат! Ты мыслишь категориями своего «железного» века, представляешь Сферу Разума в виде механического гомеостата, в виде сверхкибера. Если наша биосфера и гомеостат, то принципиально иной. Это живой организм, переживающий печаль и радость, это наш чуткий и мудрый друг.
— Тогда… сон?
— Наконец-то! — иронически воскликнул мой собеседник. — Соображаешь ты туго и с трудом приходишь к верным догадкам. Как и всякий живой организм, наша одухотворенная биосфера нуждается в отдыхе и сне. Не случайно в блуждающей зоне именно ночью происходят всплески, выбросы нравственно чуждой, «грязной» информации в виде образов прошлого. Организм во сне стабилизируется, происходит самоочищение…
— Самоочищение! Это же и есть сброс индустриальных отходов. Скажешь, качественно иной? Подумаешь, разница!
— Опять за свое! Ничего не могу поделать с прямолинейностью твоего мышления. Но отчасти с тобой согласен. Это действительно экологический кризис. Но для нас это не только экологическая, но и ноологическая проблема. Ноосфера, или Сфера Разума, в своих кошмарных сновидениях как бы переживает историю человечества и свою собственную, ибо она и есть живая память человечества. Вот нам и надо разобраться в сновидениях, в этих, как ты выражаешься, индустриальных стоках, а потом…
— Дематериализация?
— Верно. Стоит дематериализовать сны, и экологическая сторона проблемы будет решена. Выбросы будут без овеществления, в виде экологически чистых, так сказать, «бездымных» излучений. А сейчас хорошенько выспись. Завтра ночью проживешь мою юность…
— А может,
все-таки мою? — допытывался я. — И я окончательно вернусь в свою личность?
В ответ что-то невнятное. С трудом удалось разобрать, что наши души, наши «психические матрицы» роднит одна общая черта — легкомыслие и влюбчивость, что и скажется в пору между юностью и зрелостью.
— Чудесная пора, — я еле расслышал его мечтательный голос. — Пора смелых надежд и первой любви… Как это у Достоевского? Ночь, туман, струна звенит в тумане… Помнишь? Струна… Туман на озере… Там встретимся… Встретишься с красавицей балериной на Лебедином озере…
— Лебединое озеро! — невольно воскликнул я. — Расскажи!
Но уже не шепот в ответ, а еле различимый шелест. Кажется, он выразил пожелание, чтобы завтрашний день прошел для меня без жутких приключений, травмирующих нервную систему. Это важно для следующего сеанса. И, как я догадывался, самого главного сеанса.
Ложась спать и думая о предстоящем дне, я и сам молил бога: пронеси! И бог внял моим просьбам. День прошел без кошмаров, отчасти даже весело, чему способствовал один забавный случай.
Случай с д’Артаньяном
Утром, как только утих устрашающий грохот колоколов, я с конвоирами отправился в город. Из-за гор выплывало солнце. Его диск временами скрывался за клубами дыма, извергаемого заводскими трубами. Под ногами чувствовалась легкая вибрация: в подземных лабораториях ковалось секретное оружие.
По широким улицам катались в автомобилях свободные от занятий изгнанники. По тротуарам сновали прохожие — странные типы в роскошных, шитых золотом камзолах, в древнеримских тогах, в генеральских мундирах. Нечистая сила пыжилась, чванилась, стараясь ни в чем не уступать людям.
Рядом шли три миловидные девушки в бальных платьях и с ласкающим любопытством поглядывали на меня. По тонкому аромату французских духов я догадался, что это вонючие гарпии.
«Промышленные нечистоты», — с усмешкой подумал я и отвернулся. Мое внимание привлек стоявший в задумчивости молодой человек — долговязый и худой, как Дон Кихот. Я подошел ближе. Продолговатое смуглое лицо, крючковатый гасконский нос, выдающиеся скулы…
Это же бедняга д’Артаньян! Я много слышал о нем, но видел впервые. Как он попал в мир злых изгнанников? Я не раз размышлял над этим и пришел к выводу, что здесь он по ошибке. Бывает же так, что люди, ремонтируя и прибирая квартиру, вместе с ненужными вещами и мусором случайно выбрасывают и вещи добротные, ценные. Пожалуй, и Алкаш в мусорной яме, в этих «индустриальных отходах» Сферы Разума оказался не совсем заслуженно.
В отличие от унтера Пришибеева и других литературных персонажей, от д’Артаньяна не ожидалось абсолютно никакой пользы. И все же Весельчак не сжег его. Оставил для потехи. Весельчак не ошибся: своим поведением мушкетер развлекал изгнанников и считался безобидным городским дурачком. Не прижился д’Артаньян в этом мире, не вписался в него, а потому и впрямь выглядел слегка свихнувшимся.
Сейчас он стоял, погруженный в невеселую думу. Потом осмотрелся и, вызывая улыбку у прохожих, забормотал: «Атос, Портос, Арамис. Где вы?»
Но чаще всего, как я слышал, д’Артаньяну мерещились личные враги: граф Рошфор и миледи. Не раз случалось, что он с подозрением смотрел на какую-нибудь миловидную женщину с длинными белокурыми локонами. Потом подходил и, гневно сжимая эфес шпаги, вопрошал:
— Леди Винтер? Миледи?
Вглядевшись и поняв свою ошибку, мушкетер отступал, снимал шляпу с длинным пером, раскланивался и учтиво извинялся.
— Забавно! — смеялись прохожие.
В это утро, однако, с д’Артаньяном случилась большая неприятность. И все из-за Угрюмого — ближайшего помощника Весельчака и тоже дракона.
Надменный и неприветливый, с крупным носом и тщательно закрученными усиками, дракон этот в человеческом виде и без того смахивал на извечного врага д’Артаньяна. А сегодня Угрюмый еще и оделся так, как одевались в пору кардинала Ришелье: напялил камзол, фиолетовые штаны со шнурами и нацепил шпагу.
Д’Артаньян заметил его в толпе и вздрогнул. Какое-то время мушкетер кружил вокруг Угрюмого, как коршун над цыпленком, приглядывался и наконец решил: это он, граф Рошфор! Мушкетер встал перед Угрюмым, выхватил шпагу и крикнул:
— Защищайтесь, сударь!
Угрюмый надменно вскинул голову, побагровел и, решив проучить наглеца, обнажил шпагу. Мушкетер с привычной легкостью отбил неуклюжие выпады и вонзил шпагу в сердце противника. Не успев вернуться в свой изначальный вид, дракон тут же на месте издох.
Д’Артаньяна поволокли к Весельчаку на расправу, а я поспешил к дяде Абу. Черти-конвоиры, как на крыльях, вынесли меня за город и опустили перед воротами виллы. Потом робкими жестами показали, что предстать перед Непобедимым не решаются, и я вошел один.
Дядя Абу жил, как калиф из сказок Шехерезады. В аллеях с веерными пальмами шелестели фонтаны, на берегу пруда среди цветущих магнолий белоснежным облаком возвышался дворец с золотыми куполами. Однако восточная роскошь не спасала дядю Абу от тяжких дум. Он сидел на веранде в кресле-качалке с книгой на коленях. Но не читал, а невидяще глядел вдаль. И в глазах его была такая обреченность и тоска, что сердце мое снова стиснула боль.
— Что случилось, малыш? — Дядя Абу с тревогой посмотрел на меня.
— Д’Артаньян попался! Выручать надо! — выпалил я и коротко рассказал о дуэли.
Дядя Абу подумал немного, потом вскочил с мальчишески озорной улыбкой: он замыслил какую-то шалость.
— Идем к Весельчаку! — воскликнул дядя Абу. — Брякнемся перед ним на колени.
В департаменте литературных персонажей уже знали о неслыханном поступке д’Артаньяна, и творилось там что-то невообразимое: крики, грохот, треск ломаемой мебели. Из распахнутых дверей в панике выбегали посетители.
Мы с дядей Абу вошли с некоторой опаской. В опустевшей приемной осталась лишь секретарша. Сжавшись в кресле, она с испугом взирала на разбушевавшегося шефа. Из кабинета в приемную и обратно бегал Весельчак — коренастый мужчина в черном фраке и лакированных туфлях. На миг он остановился, задыхаясь от ярости. Сорвав теснивший галстук и отбросив его в сторону, Весельчак снова принялся швырять стулья, разнося их в щепки.
— Бездельник! Лоботряс! — все более распаляясь, кричал он. — Его сжечь мало!
Весельчак так разъярился, что не смог удержаться в человеческом виде. Он развернулся в свой изначальный гигантский рост и треснулся драконьей башкой о потолок. Взвыв от боли, снова съежился в человека. И только тут он заметил Непобедимого. Весельчак так опешил, что забыл завершить превращение: из рукавов фрака высовывались когтистые драконьи лапы.
— Прошу, — Весельчак подобострастно согнулся и жестом пригласил в кабинет.
Опустившись в кресло, он положил чешуйчатые лапы на стол и нервно забарабанил острыми кривыми когтями. Обнаружив свою оплошность, Весельчак поспешно заменил драконьи лапы на человеческие руки и жалко, заискивающе улыбнулся.
— Извините-с. Чем могу служить?
Дядя Абу с хорошо разыгранным смирением уговаривал отпустить д’Артаньяна. Весельчак разинул рот: сам Непобедимый в качестве робкого просителя! Быть этого не может! Непобедимому достаточно просто чихнуть, и от него, могучего дракона, мокрого места не останется. Первым желанием дракона было немедленно согласиться. Но уж очень хотелось ему похорохориться, показать, что и он, Весельчак, не последний винтик в общественном механизме.
— Нет, не могу отпустить. Из-за него потерял ценного работника, — все более смелея, Весельчак повышал голос: — Да его сжечь мало! Через мясорубку его! Через «цедепе»!
— Вы не совсем поняли меня, — вежливо сказал дядя Абу. — Он будет служить у меня дворником. Представляете, какой позор! Гордый дворянин и вдруг с метлой.
— Не со шпагой, а с метлой? — Весельчак слабо улыбнулся. — Тут что-то есть.
— И это не все, — продолжал дядя Абу. — Мушкетер привык орудовать шпагой, а не метлой. Он станет отлынивать и плохо работать. За спесь и нерадивость его у нас будут сечь.
— Сечь? Пороть розгами? — Весельчаку это здорово понравилось, и он с улыбкой привстал. Потом повалился в кресло и захохотал так заразительно, что и мы рассмеялись. — Пороть, как нашкодившего школьника. Ха-ха-ха! Снимать штанишки и… Ха-ха-ха! Великолепно! Остроумно! Согласен!
Так к обоюдному удовольствию уладился инцидент с мушкетером. Его отпустили. Дворником на вилле он числился лишь условно. Д’Артаньян все так же бродил по улицам и что-то бормотал. Нечистая сила его не обижала, а если и посмеивалась иногда, то с известной долей почтительности и страха. Все знали, что он под защитой самого Непобедимого.
День прошел настолько благополучно, что моя нагруженная страхами психика излишне смягчилась, даже разнежилась. Видимо, поэтому и сеанс рокировки начался не сразу, а с каких-то нежных снов. Я слышал струнные звуки арфы, видел туманы над ночным зеркалом воды и ослепительной красоты балерину… Где я? На Лебедином озере?
Клочья смутных снов дрогнули, рассеялись, и я окончательно уснул.
Лебединое озеро
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе…
Ф. И. Тютчев
И в тот же миг очнулся… Нет, не на Лебедином озере, как почему-то ожидал, а на знакомом лугу. С книгой в руках я сидел под шумным тополем-великаном… Я? Вот ведь до чего привык чужую, данную мне «напрокат» жизнь воспринимать как свою. Нет, то был, вероятно, все же другой…
Итак, любимый с детства тополь-бормотун шумел, а Василь вслушивался в несмолкаемый говор листвы с сожалением и грустью: никаких дриад и ничего таинственного он уже не ждал. Он не дошкольник и не первоклашка. Через год, закончив десятый класс, станет взрослым, и с детским ощущением мира пора расставаться. Неужели навсегда?
Налетел короткий ливень, и все вдруг предстало сияющим, живым и сказочным. «Неужели мне чудится?» — с улыбкой думал Василь.
Ливень с дробным перестуком умчался, а Василь побежал навстречу вышедшему из-за тучи солнцу. Там, за рощей и двумя холмами, паслись кони, тот самый опытный табун. К счастью, сегодня дежурил знакомый ученый-пастух.
— Дядя Антон, разреши еще раз проехаться на Орленке.
— Но Орленок и четверо его одногодков на грани чего-то нового. Хронорысаки? Вряд ли.
— Не занесет же он меня в другую эпоху.
Шагах в двадцати паслись кони. Среди них красавец редкой масти — белой с голубым отливом. Заметив Василя, он поднял голову и навострил уши.
— Орленок, ко мне, — тихо позвал юноша своего друга. Но конь услышал, подлетел снежным вихрем и положил голову на плечо Василя.
— Вижу, что вы большие друзья, — рассмеялся пастух и махнул рукой. — Ладно уж, разрешаю вам прогуляться.
Василь вскочил на Орленка, и в тот же миг ветер свистел в его ушах, чудо-грива прохладным белым пламенем плескалась, щекотала плечи и уши. Промелькнул тополь-бормотун, потом табунок обыкновенных, или, как выражается дядя Антон, «диких» лошадей.
Орленок легко взял препятствие — довольно высокий кустарник, доказав, что летать могут не только птицы. Но в лес вошел чутким, осторожным шагом. Минут через двадцать деревья расступились, и Василя ослепил блеск искрившегося озера. Сквозь камыши юноша разглядел петушиный гребень рыжих волос, и ему стало не по себе: бедный Кувшин! Как он давно не навещал его.
С чувством раскаяния Василь подъехал и соскочил на землю. Кувшин обернулся, хмурым взглядом смерил юношу и, скривив губы, процедил:
— Предатель.
— Ты неправ, Кувшин, — с обидой возразил Василь. — Сам понимаешь, что я не малыш и нам пора расставаться. Через год закончу школу, получу знак зрелости. В этом будет и твоя заслуга.
— Знак зрелости… Подумаешь! В прошлом году Андрей получил знак и забыл… Не приходит. Но ему я прощаю: он стал чемпионом мира по плаванию. Моя выучка! А ты?
— Я занимаюсь конным спортом.
— Кони, — брюзжал Кувшин. — Променять меня на каких-то четвероногих. Тьфу!
Как задобрить Кувшина? И Василь решил упомянуть о его новых воспитанниках. Но сделать это надо сначала с подковыркой.
— Ходят разговоры, что они у тебя безнадежные заморыши.
— Гнусная клевета! — вскипел Кувшин и вскочил на ноги.
— Пожалуй, слухи неверные. Я ведь почти каждый день вижу этих малышей.
— Ну и как они тебе показались? — осторожно, скосив глаза на юношу, спросил Кувшин.
— Отличные ребята! Крепкие, ловкие и отчаянной храбрости.
— Вот видишь. Моя школа! — повеселел Кувшин.
Расстались они друзьями. Покидал Василь озеро все же с невеселым настроением: ушло, уплыло детство, растаяло, как дым в небесах.
Иная дружба занимала теперь все помыслы Василя — дружба с Орленком и вообще с лошадьми, даже «дикими». Вика, как и Кувшин, относилась к этому увлечению с иронией.
— Ты сам скоро станешь копытным представителем фауны, — усмехалась она.
Съязвила она и о будто бы ежедневном рационе юноши: клевере, люцерне и овсе. Однако после одного чрезвычайного происшествия девушка смотрела на дружбу Василя с лошадьми уже по-другому.
А случилось вот что. Однажды пришел Василь на пастбище. Ученый-пастух так глубоко ушел в свои размышления, что не обратил на юношу внимания. Василь не стал беспокоить его. «Все равно разрешит», — подумал он и вскочил на Орленка. Проскакал немного и почувствовал, что впервые по-настоящему слился с этим теплым, живым, почти разумным существом. Будто стали они единым организмом.
— Лети, Орленок! Вперед! — воскликнул Василь.
Конь помчался стремительнее обычного. Едва касаясь ногами земли, Орленок стлался, как белая птица на бреющем полете. Травы гнулись под ним и вихрем проносились кусты. И вдруг начались странные вещи: дни и ночи мелькали мгновенно, а солнце летало с востока на запад подобно метеору с раскаленным хвостом. «Уж не выскочил ли Орленок на дорогу времени? — подумал Василь. — Нет, нет! Чепуха!» Но когда конь влетел в беззвучную мглу с проплывающими мимо тенями, юноша испугался.
— Остановись, Орленок! Остановись!
Тьма расступилась, засинело небо, замелькали деревья, и у Василя отлегло от сердца. А когда Орленок с рыси перешел на шаг, успокоился совсем. Он дома, в своем времени! В такой же лесостепи, где цвели травы и синели вдали рощи.
Орленок остановился и стал пощипывать траву. Но почему-то брезгливо, встряхивая головой и фыркая. Трава и впрямь какая-то чахлая и запыленная. В чем дело?
Василь коснулся шелковистой гривы и показал на холм. Понятливый конь вынес его на вершину, и юноша замер в тревожном изумлении. На затоптанной, выжженной солнцем равнине стояли бедные хаты с посеревшей от времени соломой на крышах. Чуть дальше зеленым оазисом застыл большой сад с липовыми аллеями, ажурными беседками. На берегу пруда белел двухэтажный особняк с колоннадой.
«Неужели дворянская усадьба?» — подумал Василь, и в груди его тоскливо заныло. Не паниковать! — приказал он себе и помчался прочь от села. Остановился шагах в тридцати от пыльной ухабистой дороги, по которой уныло брела, вызывая жалость у Василя, худая гнедая кобыла, запряженная в телегу. В телеге рыжебородый мужчина и двое ребятишек в латаных рубашонках и лаптях. Один из них посмотрел в сторону Василя и закричал:
— Молодой барин! Приехал молодой барин!
— Не похож, — возразил мужчина, с удивлением глядя на всадника и невиданной красоты коня. — Может, это гость барина?
Василь поскакал подальше от дороги и с бьющимся сердцем притаился в кустарнике. По южновеликорусскому говору людей (а он знал их язык), по одежде и другим признакам юноша понял, что заскочил в первую половину девятнадцатого века. Да и в пространстве конь унес не так уж далеко — в Тульскую или Орловскую губернию. Он видел эти места в хронофильмах на уроках истории и литературы. Он даже побывал в Спасском-Лутовинове — в имении знаменитого русского писателя. В Памяти Сферы Разума, конечно же, хранился этот литературный музей.
Надо немедленно возвращаться. Но опаленные солнцем поля, где звенела колосьями спелая рожь, роща и перелески — весь этот исторический ландшафт был до того знакомым, что любопытство цепко завладело юношей. Да не эти ли места описал Тургенев в «Записках охотника»?
Орленок выбрался из кустарника, вскочил на высокий холм. Василь окинул взглядом травянистую равнину, где полукругом изгибалась река, и у него перехватило дыхание: это же знаменитый Бежин луг!
С реки доносились звонкие голоса ребятишек. И снова Василь подумал: уж не с ними ли провел писатель ночь у костра, слушая их страшные рассказы о домовых, водяных и русалках? Ребята плескались в воде, окликали друг друга, и Василь узнавал — невероятно! — знакомые по книге имена: Костя, Федя, Павлуша… Они!
Но тут ребята, заметив всадника, выскочили на берег, размахивая руками и крича:
— Барчук! Молодой барин!
Василь вздрогнул и, склонившись к уху Орленка, зашептал: «Назад. Лети домой». Орленок красивой рысью (у ребят наверняка замерли сердца от восторга) поскакал туда, где синели в знойном мареве рощи, а еще дальше виднелась зубчатая стена леса. Учуял, видимо, что людей там нет.
«Умница», — с облегчением вздохнул Василь.
Скорость нарастала. Кусты, деревья, облака — все закружилось, завертелось. В посеревшем небе огненным ветром промелькнуло солнце и погасло. И снова мгла столетий с пугающими тенями.
Но вот вернулись облака, засинело небо. Уже родное — Василь сразу почувствовал это. Перескакивая через реки и кустарники, Орленок сбавлял скорость и приближался к той точке пространства и времени, откуда начал свое странствие.
Здесь их ждали. Встревоженные ученые-«лошадники» осмотрели Орленка и, найдя его в хорошем состоянии, успокоились. Василь встретил укоризненный взгляд дяди Антона и виновато опустил голову.
Крепко ему тогда досталось, особенно от отца.
Но зато сверстники с завистью слушали его рассказы о полете сквозь столетия, о том, как он был «барином» в девятнадцатом веке. Словом, стал Василь героем дня. Даже Вика смотрела теперь на его увлечение лошадьми с уважением. Правда, с несколько насмешливым, но все же уважением.
Первый и нежданный рейс в прошлое оказался удачным, и Василю многое простили. Но и наказали: «отлучили» от экспериментального табуна, запретили даже появляться вблизи. Однако некоторое время спустя дядя Антон сам пришел к юноше и смущенно сказал:
— Орленок скучает и плохо ест. Так что приходи иногда.
Орленок и в самом деле часто вскидывал голову и с тоской вглядывался в холмистые дали: не идет ли?
Приходил Василь редко, иногда по целым дням не вспоминал о своем четвероногом друге. Он сделал неожиданное открытие: Вика! Чуть сутуловатая «колючая» девочка, с такими же колючими угловатыми жестами, к семнадцати годам выросла вдруг в стройную красавицу с бесшумной и плавной походкой. Чудеса да и только! Метаморфоза произошла незаметно, не без воздействия природы и ее волшебных созданий. Может быть, здесь замешаны известные всему миру балеарские нимфы? В последние годы Вика часто бывала на Балеарских островах и расхваливала тамошних нимф за их редкостную грацию.
Осенью и Василь слетал с девушкой на Балеарские острова. Нимф он не видал, но их незримое присутствие чувствовалось в спортивном празднике, прошедшем на волнах с музыкой и очень весело.
Вернулись они, когда в родном краю догорела вечерняя заря и среди звезд голубым парусом плыла ущербная луна. Невидимое облако аэрояхты подобно ночной птице бесшумно опустилось недалеко от города и растворилось в травах. Так же бесшумно и невидимо жил в лесостепи и сам город. Молодые люди шли к его окраине и делились впечатлениями о празднике. Говорила больше Вика. Василь молчал, охваченный непонятным, сладким и тревожным волнением.
Море, океан… Почему вспоминаются эти стихии, когда рядом Вика? — гадал Василь. — Что тут общего? Прическа, похожая на пену прибоя? Нет, пожалуй, улыбка… В памяти ярко возникли смеющиеся солнечные блики, гуляющие по океанским далям. У Вики такая же странно гуляющая улыбка. Она вздрагивала на ее щеках, бродила по полноватым губам, лукаво пряталась в тени длинных ресниц. И глаза у нее глубокие и синие, как море под июньским небом.
— Что ты так странно смотришь на меня? — с усмешкой спросила девушка, вспомнив такой же испытующий взгляд Василя в далеком детстве. — Уж не беседовал ли ты опять с каким-нибудь Шопенгауэром?
— А знаешь, на кого ты похожа?
— На кого же? — Вика слегка нахмурилась: себя она не считала красавицей.
— На Аоллу, — прошептал Василь. — Помнишь Тихий океан?
Вика хотела рассмеяться, но, взглянув на восторженное лицо юноши, все поняла. Василь влюблен в нее! Влюблен первой юношеской, трепетной и застенчивой любовью. Это растрогало Вику, отозвалось в ее душе благодарной нежностью. К тому же, чего уж тут греха таить, сравнение с красивой океанидой польстило ей.
— Не говори чепухи, — улыбнулась Вика.
Молодые люди не заметили, как вошли в ранее невидимый и будто несуществующий город. Он тихо выступил из степи и засветился под теми же крупными звездами и той же луной, похожей на парус. Цвета города сезонно менялись. Зимой его здания искрились, как изморозь на деревьях. А сейчас Василь залюбовался колоннами и портиками, мостами и арками, сиявшими красками осеннего леса. Но Вика отзывалась о своем городе не очень одобрительно.
— Слишком феерично. Раньше я смеялась над вашим селом, а сейчас завидую. От ваших хат пахнет стариной и домашним уютом.
«Напрасно завидует», — подумал Василь. Вика жила в красивом двухэтажном доме, расположившемся под гигантской липой. Стены и двери его мягко освещались в ночи мерцающим крыльцом.
— Увидимся завтра, — девушка пожала Василю руку и пошла к крыльцу.
И вдруг… Василь стоял, ничего не соображая. Девушка будто бы вернулась, поцеловала его и, вскочив на крыльцо, скрылась за дверью. Все произошло в неуловимый миг. Или… Или совсем не произошло? Померещилось?
Утром на первом же уроке Василь сидел рядом с Викой и ничего не мог прочитать на ее спокойном и сосредоточенном лице. Так почудился ему поцелуй или нет? А если не почудился, то что он такое? Озорство?
Вика усмехнулась и попросила «не пожирать» ее глазами. Василь повернулся лицом к учителю, довольный тем, что все обошлось сравнительно гладко: с ее жгучего язычка могло сорваться словечко и похлеще.
В перерывах между занятиями Вика, как всегда, посмеивалась над ребятами, и колкости ее зачастую оказывались очень едкими. Однако шутки, отпускаемые по адресу Василя, были до странного мягкими и необидными. Девушка явно выделяла его среди одноклассников, чему Василь был очень рад.
Но все полетело прахом на другой же день. И все из-за дурацкого тщеславия Василя. От этого недостатка не могли избавить его в детстве ни Кувшин, ни дядя Абу, которые сами были, увы, изрядными бахвалами.
Учебная воздушная лодка парила в тот день над полями вблизи села, где жил Василь. Незримые для других, десятиклассники видели табун экспериментальных лошадей, которые и были на этот раз «наглядными пособиями». Учитель рассказывал о злых образах, выбрасываемых через блуждающие зоны в доисторическое время. Ученые нащупали место их скопления. Первые попытки внедриться в это общество кончались провалом. Обитатели того мира легко засекали металлические машины времени и вылавливали разведчиков. Незаметно проникнуть туда может лишь живая материя.
— К тому же живые существа лучше ориентируются на просторах столетий, — говорил учитель. — Видите внизу лошадей? Это они. Хронорысаки очень своенравны. Но один наш ученик отлично поладил с ними и даже совершил нечаянный, но удачный забег в прошлое.
Все повернулись лицом в сторону Василя, и тому стало приятно.
— Пузырь! — засмеялась Вика. — Раздувается, как мыльный пузырь. Сейчас лопнет.
Сравнение сияющего Василя с мыльным пузырем было до того метким, что все расхохотались. Не удержался от улыбки и учитель.
— Ну и Крапива! — в сердцах воскликнул Василь и пересел подальше от Вики.
На переменах Василь хмуро сторонился девушки. А та ходила с понурым и виноватым видом. Шаг к примирению, к ее радостному удивлению, сделал на этот раз юноша. После занятий он подошел и сказал:
— Ты хорошо отхлестала меня. Вел я себя действительно глупо. Пыжился, как петух.
— А ты не обижайся, — Просила Вика. — Такая уж я родилась и ничего с собой поделать не могу. Из крапивы не сделаешь фиалку.
— Ничего, — благодушно ответил Василь. — Говорят, крапива обладает хорошими целебными свойствами.
Сегодня их классный наставник, все тот же историк Плутарх, предложил для пробы войти в телепатический контакт со Сферой Разума.
— Получится ли? — Вика заметно волновалась. — Говорят, лучше всего начинать надо в своем любимом месте. Недалеко от нашего города растут три дуба. Давно они нравятся мне.
— Знаю. Горожане называют их Близнецами, иногда Тремя Братьями.
Василь проводил девушку до Близнецов — трех могучих дубов, росших из одного корня, а сам полетел к своему селу и приземлился в своей любимой роще.
— Тинка-Льдинка, — прошептал Василь. — Какая ты сегодня грустная и молчаливая.
В роще пахло осенней прелью, под сентябрьским солнцем блестели паутинки и чернело в оголившихся ветвях одинокое воронье гнездо. И тишина. Лишь изредка прозвенит синица да сухо прошелестит падающий лист. Василю захотелось уйти в рощу совсем, раствориться в ней, слиться со всей природой. И чудо свершилось: он «растворился». Вернее, роща исчезла, погасли ее белесо светившиеся стволы, утихли редкие лесные звуки. Юноша впервые в жизни проникал в таинственные дали Сферы Разума, в ее необъятную Память. Так в далекие времена, догадывался Василь, люди уходили в свои громоздкие примитивные хранилища знаний — библиотеки, фонотеки, музеи.
Разверзлась тьма. Но какая-то живая, чуткая и мудрая, готовая прийти на помощь. В ней угадывался бездонный океан знаний. Как прикоснуться к этому неисчерпаемому источнику? Юноша растерялся.
— Может, сначала закрепим кое-что из истории? Память на даты у тебя всегда хромала, — послышался из мглы дружелюбный голос.
— Да, да! — с готовностью откликнулся Василь кому-то невидимому, который о нем, очевидно, многое знал.
Перед юношей ожила история, зашевелились и запестрели видения из жизни Древнего Востока, вспыхивали цифры — даты событий. Они, понимал Василь, крепко впечатаются в его память. Мелькали эпохи. В уши вкрались звуки — крики, стоны, звон мечей, и перед ним развернулась под утренним солнцем картина битвы при Каннах…
Контакт со Сферой Разума налаживался. Воодушевленный успехом, Василь пожелал с ее помощью закончить большую классную работу-реферат. Все было готово, но одна задача никак не давалась. Василь мысленно представил ее, и та вспыхнула, будто овеществилась в огненных цифрах и формулах, повисших в невесомости и мгле. «Верно», — ободрился Василь и попросил Сферу Разума решить задачу. Но Сфера молчала. «Хитрая бестия, — приуныл юноша. — Знает, что перед ней учащийся, который обязан сам справиться с заданием».
И все же дружески настроенная Сфера не оставила в беде. Перед огненно светящейся задачей, как перед трибуной, строевым шагом шли под музыку колонны цифр и формул. Маршировали они четко и слаженно, как солдаты. Впереди колонн — кряжистые офицеры, вскинувшие правые руки вперед и тем самым удивительно похожие на знаки радикала. А командовал парадом тощий и долговязый генерал Интеграл.
«Забавно», — Василь чуть не рассмеялся. Вскоре понял, что это не просто шутка, что перед ним шагали сходные решения, листались страницы учебников и справочников. Он поглядывал то на «парад», то на свою задачу, и решение пришло внезапно, как озарение.
— Вот видишь, — послышался из тьмы поощрительный голос. — Все очень просто.
Удача подхлестнула юношу. Он отважился поделиться со Сферой, и тем самым со всем человечеством, своим тайным замыслом. Он знал: более или менее стоящие догадки уходят в общую копилку человечества — в Память Сферы Разума. Если автор гипотезы не справится, то другие ученые подхватят ее и доведут до хорошо обоснованной теории.
Василь давно вынашивал свою ослепительно красивую гипотезу. Связана она все с теми же лошадьми. Только это уже не скакуны в прошлое — те почти готовы. По замыслу Василя на земных лугах будут пастись и набираться сил… звездные рысаки! Они покончат с остатками «железной», небиологической технологии в космосе. Они способны будут рвать пространство и мчаться быстрее света.
Чуткая Сфера Разума уловила смутные, неокрепшие мысли юноши и создала нужный фон. Вдали звездными спиралями раскинулась родная галактика — Млечный Путь. «Верно!» — обрадовался Василь, удивляясь, как точно реализуются, обретают зримый вид его затаенные мечты. На окраине Галактики, там, где находится Солнечная система, из пахучих трав планеты Земля выскочил в открытый космос красивый конь с всадником.
Конь оглянулся и замер, прислушиваясь к голосам бесчисленных миров. Потом сорвался с места и поскакал по лугам Млечного Пути, перепрыгивая через овраги черных дыр и реки скоплений, и вырвался за пределы своей Галактики. До соседних — миллиарды световых лет. С немыслимой скоростью, рокоча копытами, мчится межгалактический рысак по вечной крыше мироздания, по необозримой космической степи.
— Любопытно, — послышался одобрительный голос. — Очень поэтично и дерзко! А математическое обоснование? Хотя бы приблизительное?
Без такого обоснования, понимал Василь, гипотеза — пустая фантазия. Но у него уже готовы свои математические выкладки. В глубине души, правда, таилось ощущение их наивности и незрелости. Ну а вдруг он не ошибся? Вдруг повезет? Торопясь и волнуясь, Василь на черном бархате космоса светящимися формулами представил свои доказательства.
Сфера долго молчала. Видимо, шевелила своими таинственными «извилинами», сравнивала, анализировала. У юноши затеплилась надежда… Но ответ пришел сокрушительный:
— Вздор! Чепуха!
Василь обиделся. Сфера могла бы выразиться и поделикатнее.
— Она еще не такое может сказать, — посмеиваясь, утешала Вика. — Многие десятиклассники так и рвутся обессмертить себя, встать рядом с Ньютоном и Пушкиным. Особенно настырны начинающие поэты. Один юный стихотворец, мой сосед, так надоел со своими незрелыми виршами, что Сфера насмешливо попросила не засорять Память человечества всяким мусором.
Похожий случай произошел с их одноклассницей. Утром на первом же уроке ребята делились впечатлениями о своем приобщении к коллективному разуму человечества. Вдруг встала Наташа Быстрова и заявила, что Сфера Разума несерьезна и несправедлива.
— Она отклонила мои стихи об Аолле и Тихом океане.
— Прочитаешь, наконец, нам свои стихи? — спросил классный наставник Плутарх.
Наташа смущенно отказывалась, потом все же прочитала стихи. Иван Васильевич и ребята внимательно выслушали, потом обсудили и пришли к единому мнению, что стихи еще слабы и что Сфера Разума поступила справедливо.
— Так что не обижайтесь на Сферу, — улыбнулся классный наставник. — Она, словно живое и мыслящее существо, своенравна и обладает чувством юмора. Да и вы не созрели для полного творческого контакта. Чтобы не утонуть в ее Памяти, в этом волнующемся океане знаний, надо научиться хорошо плавать — набраться опыта, овладеть высотами культуры. А пока довольствуйтесь ее внешней стороной. Разве этого мало?
Ребята согласились, что немало, ибо «внешняя сторона» Сферы Разума — это шумные дубравы и цветущие поля, тихие зори и гулкие, веселые громы. А незримая часть Сферы, ее «душа» то и дело напоминала о себе в виде стихийных существ.
Правда, в жизни десятиклассников они уже не занимали такого места, как в детстве. Ребята вступали в заботы и дела взрослых. Особенно это коснулось Василя. В середине учебного года его вызвали на внеземную станцию и сказали:
— Откладывать разведку уже невозможно. Конечно, ты еще молод. Но сейчас только двоим можем доверить хронорысаков. Особенно рассчитываем на тебя и Орленка. Согласен?
Василь согласился, хотя понимал, что миссия разведчика опасна. Но одновременно и заманчива.
Начались тренировочные забеги в прошлое. Почти одновременно приступили к сложному и не совсем понятному для Василя эксперименту. К Василю, к его психической личности подселили двойника — довольно нудного типа из конца двадцатого века. (То есть меня, Пьера Гранье.) Василь провел с ним несколько ночных бесед и пришел в смятение, когда проник в его душу — в этот жуткий вакуум, в нравственную невесомость, где почти «все позволено». Ему объяснили, что это далеко не худший, почти обыкновенный человек того времени. И Василь понемногу притерпелся к чужаку, отнесся к нему с пониманием и сочувствием. Только такой субъект сможет внедриться в любое дурное общество, не вызывая подозрений.
Однажды случилось непонятное: во время одной из бесед с двойником Василь буквально провалился в его эпоху и жил его жизнью. Всего несколько минут, но жизнью настолько реальной, что когда «вернулся» в себя, долго не мог опомниться и приставал к ученым:
— Кто я на самом деле? Кто?
Нельзя сказать, что Василь жил двойной жизнью. Это пришло потом, в стране изгнанников. А пока чужак, этот приспособленец и жуир, обитал в нем незаметно и никак не влиял на его учебу и повседневную жизнь. Юноша временами забывал о своей избранности, о предстоящей миссии, особенно когда находился рядом с Викой.
Однажды в начале мая, когда зацвели поля и небо наполнилось голосами птиц, Василь провожал девушку домой. Голова у него кружилась — то ли от травяной вольницы, то ли от Викиных волос, пахнущих почему-то ландышами. С новой силой мучил вопрос: что значит тот, еще прошлогодний поцелуй? Или он просто почудился? Когда подошли к границе пока еще не видимого города и остановились под кроной трех могучих дубов — тех самых Близнецов, Василь сказал:
— Когда стемнеет, приходи к Близнецам. Я поведаю о своей великой тайне.
Вика посмотрела на юношу, улыбнулась и ушла, ничего не сказав.
Еще солнце не скрылось, еще только накалялся закат, а Василь уже ходил около Близнецов и ругал себя последними словами. Болван! Хвастливое ничтожество! Разве он имеет право разглашать тайну? Об экспедиции в прошлое пока никто не должен знать.
Прошел еще час или полтора. Давно закатилось солнце, погасли облака. На западе последними угольками дотлевала заря. Выступили звезды, по степи поползли фиолетовые тени и ночные запахи. Наконец из-за холмов выкатилась луна, запылала голубым шаром и посеребрила недвижные листья Близнецов и стлавшиеся в низинах нити тумана.
А Вики все нет и нет. Василь хотел уже уходить, как вдруг из мглы и призрачных завитков тумана возникла… ночная фея! Быть этого не может! Волшебницы лунных ночей приходят, и то очень редко, только к знаменитым поэтам. А он тут при чем? Да и слухам этим Василь не очень верил. Ночные феи, считал он, существуют только в воображении поэтов, в их балладах и песнях.
И все же это она! Василь как зачарованный смотрел на приближающуюся ночную незнакомку. Шла она легко и бесшумно, словно не касаясь земли. Дымились под луной ее светлые волосы, на полноватых губах вздрогнула… знакомая улыбка. Это же Вика!
— А я тебя принял за ночную фею, — смущенно проговорил Василь.
— То Аолла, то ночная фея. Да что с тобой творится? — спросила Вика строгим голосом, но в глазах ее плясали веселые огоньки. — Я сгораю от нетерпения. Поведай о своей великой тайне. Удиви.
— А знаешь что… — с бьющимся сердцем прошептал Василь. — Я люблю тебя.
— Подумаешь, нашел чем удивить. Я это давно знаю.
Вика так искусно состроила скучающую и досадливую гримасу, что Василь сразу сник, в груди его разлился тоскливый холодок. Насладившись огорченным видом юноши, Вика рассмеялась и нежно коснулась губами его щеки.
— Вика! Великая притворщица! — счастливо воскликнул Василь и поцеловал девушку в губы — свежие и алые… У него мигом родилось сравнение.
— Губы у тебя алые, как вечерняя заря.
— Не говори красиво, — улыбнулась Вика.
Шелест, похожий на смех, заставил молодых людей взглянуть вверх — в мглистую глубину ветвей, пронизанную редкими паутинками света. Шевельнулись листья, мелькнуло девичье лицо и скрылось. И снова смех, напоминающий журчание ручейка. Незнакомка раздвинула ветки, и молодые люди увидели лесную деву — серебряный дух, сотканный из лунного сияния и колышащихся теней.
— Дриада, — восторженно прошептала Вика. — Покровительница нашей любви.
Дриада спустилась на нижнюю ветку и, подобрав дымчатое зеленое платье, села. Губы ее лукаво изогнулись, послышался хохоток и внятный голос:
— Влюбились! Надо же… Прямо под крышей моего дома. Даже завидно.
— Проказница, — Василь шутливо погрозил дриаде пальцем, встал на цыпочки и коснулся ее руки — прохладной и нежной, как лепесток цветка.
Дриада перебралась на верхние ветки. Смех ее смешался с шорохом листвы, а сама она рассеялась в лунных бликах, растаяла, как след дыхания на зеркале.
Следующим вечером, едва отпылал закат и выступили первые звезды, Василь и Вика пришли к Близнецам «на свидание с дриадой». Хмельные от счастья, шептали друг другу влюбленные слова, целовались и посматривали вверх. Дриада не приходила. Лишь в шелесте листвы временами словно слышался ее журчащий смех.
— Все равно теперь она всегда с нами. И мы с тобой будем вместе, — сказал Василь.
— Как же ты будешь меня терпеть? Я ведь Крапива.
— Ничего, привыкну, — благодушно ответил Василь. — Мне твои колкости начинают даже нравиться.
— Вижу, — рассмеялась Вика. — Ты по ним просто тоскуешь.
— Хочу, чтобы родители после окончания школы объявили о нашей помолвке. Слышишь? Хочу!
— А не рано ли говорить об этом? Я ведь знаю твое легкомыслие. — Вика с грустью посмотрела на юношу и, увидев его обиженное лицо, поспешила добавить: — Хорошо. Я согласна на помолвку. Мне нравится, что возродили этот старинный обычай.
Однако вместо помолвки дня через три их поджидала размолвка. Да еще какая серьезная. Случилась она недалеко от Близнецов, и живущая там покровительница ничем не могла помочь.
В тот день еще до начала занятий Саша Федин, их классный заводила, предложил:
— Сегодня вечером сходим на Лебединое озеро.
— А повезет ли? — засомневались ребята.
Редким счастливцам удавалось застать озеро в тот момент, когда оно раскрывало свои волшебные свойства. А ведь недавно водоем этот считался довольно заурядным и назывался просто Лесным озером. Но вот лет пять назад распространились слухи, которым сначала не очень-то верили. На озере будто бы завелись или откуда-то прилетели необыкновенные русалки — лебеди, обладающие редкой музыкальностью и пластикой. Танцуют они, якобы, чаще всего весной, когда расцветают водяные лилии. Слухи все больше подтверждались. А в прошлом году семь выпускников их школы вернулись оттуда потрясенные: они видели сцены из старинных балетов, исполненные с завораживающей грацией. Особенно полюбился русалкам балет Чайковского «Лебединое озеро». С тех пор волшебный водоем и получил новое название — Лебединое озеро.
Солнце близилось к горизонту, когда ребята вышли из города и миновали Трех Братьев. До озера неблизко, но и до темноты далеко. Поэтому решили идти пешком. Наташа Быстрова, страстная почитательница всяческих океанид и русалок, молитвенно сложила руки и шептала слова-заклинания:
— Только бы нам повезло. Только бы повезло.
Ребята рассмеялись и заговорили о древних приметах и суевериях.
Незаметно увял закат, выступили звезды. Полная луна то прятала свой лик в белесых облаках, то снова выплывала. Извилистыми тропками потекли в низинах ночные туманы. Все замолкли, прислушиваясь к степной тишине. Перепел, притаившийся недалеко от ребят, вдруг громко прокричал:
— Спать-пора! Спать-пора!
— Ты спи, а нам некогда, — возразил Саша Федин и со вздохом добавил: — Эх, братцы. Скоро, как оперившиеся птенцы, разлетимся мы кто куда. Но сможем ли забыть свое родное, такое уютное и красивое гнездышко.
— Вы можете лететь хоть на край вселенной, а я останусь на Земле. Мне и здесь дел хватит, — заявил Сережа Розов.
— Розочка домосед, — посмеивались ребята.
Вошли в лес и замолчали. Старались идти бесшумно, чтобы не вспугнуть русалок, если те сегодня вообще пожелают явиться. Скоро деревья расступились, и сквозь прибрежный ивняк блеснуло зеркало воды.
— Лебединое озеро, — прошептал кто-то.
— Тише, — Вика предостерегающе подняла палец. — Слышите? Вальс Шопена в исполнении симфонического оркестра.
«Оркестром» было само озеро: звуки, казалось, поднимались из его глубины, стекали с берегов и свивались в нежную мелодию.
Ребята раздвинули посеребренные луной ветви ивняка и ступили на широкую песчаную отмель. Метрах в двадцати от берега в белых платьях под звуки вальса кружились русалки. В тот же миг заключительные аккорды угасли, наступила тишина. Стройный ряд танцовщиц нарушился. Они сошлись и о чем-то заговорили. Одна из русалок взглянула на берег и воскликнула:
— К нам гости пришли!
Русалки, а их было десятка три, шумной толпой высыпали на берег.
— Опоздали, милые, — смеялись они. — Мы уже домой собрались.
— А что вы танцевали? — спросил Саша Федин.
— Есть старинная балетная сюита «Шопениана». Слышали о такой?
Саша сказал, что не только слышали, но и видели в исполнении земных балерин. Он попросил русалок повторить танец. Но те упрямились, говорили, что устали и что им пора домой. Саша, зная капризный нрав русалок, обратился к Наташе Быстровой.
— Попробуй уломать их. Ты их лучше знаешь.
Наташа встала перед русалками, молитвенно сложив руки. И вид у нее был таким просящим, что одна из русалок сжалилась и сказала:
— А что, девушки, пусть решит наша повелительница, наша королева.
Русалки расступились и слегка подтолкнули вперед свою слишком скромную, державшуюся позади повелительницу.
— Королева! — послышались взволнованные возгласы ребят. — Смотрите: в самом деле королева!
Василь стоял как оглушенный: красота «королевы» поразила его, как молния…
«Да что это со мной?» — на миг опомнился Василь. Он знал, что красивые феи и русалки иногда прикидываются земными девушками, чтобы вскружить головы слишком легкомысленным и влюбчивым юношам, подшутить над ними. А потом эти юноши становятся посмешищем… Но влюбиться, заведомо зная, что перед тобой русалка, это уж совсем
позор.
«Надо взять себя в руки, — твердил себе Василь. — Только бы Вика ни о чем не догадалась».
— Смотри, не влюбись в русалку, — послышался за спиной ее насмешливый голос.
«Догадалась», — вздрогнул Василь и, обернувшись назад, сердито бросил:
— Уж как-нибудь постараюсь.
Королева русалок улыбнулась, поняв, что стала причиной легкой ссоры молодых людей, по-видимому, влюбленных друг в друга, и сказала:
— Пусть будет так, как пожелает этот юноша.
— Ты что молчишь? — возмущались ребята. — Проси. Становись на колени.
Василь справился с волнением и сказал:
— Просим повторить «Шопениану».
Русалки во главе со своей повелительницей направились к озеру, оставляя на песке заметные следы. Но на воду волшебницы ступили с легкостью пушинок. Под их туфельками озерная гладь лишь чуть-чуть вздрагивала, расходясь еле приметными кругами. Словно воды касались лапки водомерок или падали сверху крохотные капельки дождя.
Из неведомой дали, из какого-то невыразимо прекрасного мира просочились нежные звуки. Они полились в чаше озера, плескались. Рассыпчатое эхо, отражавшееся от холмистых берегов, придавало музыке объемность и глубину. А сами русалки казались духом музыки или ее зримым выражением — настолько чутко каждый их шаг, каждый пируэт отзывался на мелодию и ритм вальса. Но чаще чудилось обратное: сами звуки соскальзывали с их пальцев, возникали из плавных движений чудо-балерин. Это было идеальное слияние музыки и пластики.
«Шопениана» длилась минут двадцать, но пролетела для юношей и девушек, как один миг. Польщенные аплодисментами, русалки раскланялись, причем подолы их кисейных платьев таяли в нитях тумана, ползущего над водой. Вот-вот и сами русалки растают в зеркальной глади озера, исчезнут, «уйдут домой».
Но нет, они и сегодня не могли обойтись без своего любимого балета — зазвучал вальс из «Лебединого озера» Чайковского. Снова русалки закружились, упиваясь своей легкостью и грацией. И вдруг… Юноши и девушки не верили глазам своим: русалки вдруг взмахнули полами своих белых платьев, как крыльями, и взлетели!
В небе уже не русалки, а лебеди. Махая крыльями в ритм вальса, белые птицы-балерины летели в ночную высь, туда, где серебрилась вечно струящаяся река Млечного Пути. Все выше и все меньше становились птицы… Еще миг, и угасла музыка, а сами лебеди-русалки затерялись среди звезд, рассеялись в тиши мироздания.
— Это неправда! — воскликнула Наташа Быстрова. — Это сон. Нам снится сказка!
— А это тоже снится? — возразил Саша Федин, показывая на русалку, одиноко стоявшую на воде.
К изумлению ребят, королева русалок не улетела вместе со своими подругами. Она вышла на берег, чуть прихрамывая и морщась: балетные башмачки, видимо, были ей тесны. Она наклонилась, сняла их и отбросила в сторону. Не долетев до травы, башмачки исчезли — ушли в Память. На смену им выступили мягкие и удобные туфли.
— Вот это да! — удивилась Вика. — У нее были антибашмаки. Поэтому и ходила по воде вместе с русалками. И никакая это не русалка, а такая же, как мы. Она разыграла нас!
«Я это знал! Я это предчувствовал!» — мысленно воскликнул Василь, хотя в глубине души признался, что ничего не знал.
Юноши и девушки окружили «королеву». Смеясь, называли ее обманщицей, спрашивали, кто она и откуда. А та молча и стеснительно улыбалась. Лишь по пути, когда вышли из леса в лунные степные просторы, разговорились. Живет она и заканчивает десятый класс на одном из массивных спутников Сатурна — Титане.
— У нас такие же леса, луга и реки. Но нашей природе, к сожалению, далеко до Сферы Разума. И нет у нас ни эльфов, ни фей, ни русалок. А я так хочу стать балериной.
— Балетному искусству можно учиться и в студии, — возразил кто-то.
— Можно. Но многие ваши русалки и феи — это сама стихия танца. Недавно я открыла Лебединое озеро с его изумительной акустикой. Музыкальное озеро! А его русалки — просто волшебницы. Я подружилась с ними и сегодня старалась ни в чем не уступать им. Удалось мне это?
«Еще как!» — хотел сказать Василь, но от волнения не мог вымолвить ни слова.
«Да что такое со мной, уж не влюбился ли всерьез?» — на секунду очнулся Василь. Но лишь на секунду. Он плелся позади всех. Шел словно отуманенный и не мог толком вникнуть, о чем говорили ребята со своей новой знакомой. Кажется, даже о нем с Викой, о их предстоящей помолвке. Балерина обернулась и с любопытством взглянула на юношу. И словно обожгла своими большими, поразившими Василя глазами. Какими? Не разглядел…
Когда подошли к границе города и остановились около спящих Близнецов, кто-то вздохнул:
— Пора по домам.
— Я еще не освоилась с вашей местностью, — оглянувшись по сторонам, сказала балерина. — Где-то здесь станция миг-перехода, этакая симпатичная часовенка. Но где она? Кто покажет?
— Я! — отозвался Василь. — Я провожу!
Наступила неловкая тишина. Лишь одна из одноклассниц Василя, коротко рассмеявшись, прошептала:
— Вот вам и помолвка.
Сережа Розов с обидной усмешкой окинул взглядом Василя и что-то пробормотал. Кажется, слово «свистун». Потом подошел к Вике, потерянно стоявшей поодаль.
— Идем, Вика. Нам по пути.
Стараясь не глядеть на Василя, юноши и девушки заспешили к рябине, где начиналось раздвоение пространства, и ушли, став невидимыми в невидимом городе.
«Ну и пусть», — подумал Василь, оставшись наедине с девушкой с планеты Титан. Опустив голову, она носком туфельки шевелила траву. Длинное кисейное платье ее при этом колыхалось. На нем вспыхивали голубые лунные искры, подсвечивали снизу лицо и гасли в густых ресницах.
— Как нехорошо получилось, — прошептала девушка и подняла голову.
Глаза ее распахнулись, и Василь смешался: не глаза, а бездонные синие озера, окруженные черными камышами ресниц.
— Ну и пусть! — опомнившись, довольно бодро заявил Василь. — Идем.
Под обширной листвой Близнецов он остановился. Недоумевая, девушка вместе со своим спутником вглядывалась вверх, где, рассекая мглу, дымились лучи и светились редкие пятна.
— Здесь живет дриада, — пояснил Василь.
Он надеялся увидеть девичье лицо, услышать шелест листвы и ласковый смех, одобряющий его дружбу с красавицей балериной. Но не колыхнулся ни один лунный блик, не шелохнулся ни один листик. Неподвижное, отчужденное молчание. «Подумаешь, — обиделся Василь. — Обойдемся».
Юноша и девушка вышли из тени, густо черневшей под кроной Близнецов, и словно окунулись в живой, волнующийся океан: в степи стлались, клубились светлые туманы. Платье балерины сливалось с этим мерцающим дымом. Она будто не шла, а плыла и казалась Василю девушкой, живущей в нашем мире лишь наполовину.
— Такое впечатление, что ты совсем из другого мира, — сказал он.
— Ничего удивительного, — улыбнулась девушка. — Я ведь инопланетянка. У нас на Титане многое для вас, землян, необычно. Даже имена.
— А как тебя зовут?
— Аннабель Ли.
— Что-то от поэтической старины. Эдгар По?
— Да, у поэта-романтика встречается это имя. Но разве я похожа на его Аннабель Ли?
— Нет. И в то же время есть что-то от другого мира…
— Хватит об этом, — с лукавой улыбкой прервала его девушка. — Лучше расскажи о своих волшебных друзьях. Вам, землянам, можно позавидовать. У нас природа такая же, как у вас. Но, к сожалению, еще первобытная, не одухотворенная.
Василь посочувствовал ей и стал рассказывать о спутниках своего детства — фее весенних лугов, Кувшине, снегурочке.
Остановились они на высоком холме перед кустами сирени. В их ветвях искрами мелькали светлячки и струился тихий свет. Часовенка-станция, расположенная в низине под холмом, утопала в густом тумане, и лишь купол ее сверкал под луной.
— Дальше провожать не надо, — пожав руку юноше, сказала Аннабель Ли.
— Но мы увидимся завтра? Там, на Лебедином озере?
— А это уж как Вика разрешит, — на красиво очерченных губах девушки мелькнула странная улыбка, от которой сердце у Василя счастливо дрогнуло: она не против! Но тут же тень пробежала по ее лицу. — Ни к чему бы такие свидания.
Девушка пошла к станции и, спускаясь с холма, растаяла в тумане. «Словно таинственный Пастух», — подумал почему-то Василь.
— Ну и загулял, — недовольно проговорила мама, когда Василь вернулся домой. — И как только Вика допускает такое? Такая благоразумная девушка.
— Не ворчи, — заступился отец. — В его годы мы с тобой бродили и до рассвета.
Проснулся Василь, как всегда, в семь утра. До начала занятий прошелся по берегам Лебединого озера. На знакомой отмели буднично звенели детские голоса, вдали на волнах какой-то яхтсмен отчаянно пытался сладить с хлопающим парусом. Василь ушел разочарованный: самое заурядное озеро. Уж не мираж ли вчерашний вечер? Может быть, никакой размолвки с Викой и не было? А сказочные лебеди-русалки и их «королева» — всего лишь красивый сон?
Но нет, вчерашнее не было сном. Василь убедился в этом, как только вошел в класс. На его приветствие девушки молча отворачивались. Ребята, правда, здоровались и даже пожимали руку, но при этом как-то загадочно и обидно подмигивали. Вика казалась еще более оживленной и смешливой, чем всегда. За ее беззаботным смехом Василь угадывал, однако, что-то другое, глубоко запрятанное. Ревность? Обида? Все спуталось в груди юноши: и раскаяние, и стыд, и пронзительная нежность к Вике, и нестерпимое желание повиниться. Может быть, все обойдется? Все обратится в шутку?
Но девушка будто и не видела Василя. Лишь после занятий сделала вид, что случайно заметила его, подошла и, насмешливо сощурив глаза, спросила:
— Поскачешь на свидание? К своей длинноногой балерине?
— Никакая она не длинноногая, обыкновенная, — с внезапно вспыхнувшей обидой проворчал Василь. — И никуда я не пойду.
Но он пошел. Сначала, правда, крепился, даже забывал обо всем, с головой уйдя в домашнее задание. Но с наступлением сумерек неодолимая сила влекла его к чародейским берегам. Когда совсем стемнело, он оделся в куртку с антипоясом, взмыл в небо и полетел в лунно-звездной мгле. «Словно ведьма на помеле», — усмехнулся Василь, пытаясь сладить с волнением.
Опустился он на той же песчаной отмели. Тихо. Смутно шевелятся нити тумана. Они вдруг дрогнули, откликаясь на упавшую сверху музыку. Оттуда, из мглистого неба, махая крыльями, спускаются яркобелые лебеди-русалки. Еще крохотные в далекой выси, еле заметные…
Василь встряхнул головой, избавляясь от наваждения. То не лебеди, а трепещущие звезды. Кругом ни души. И такая тишина, что слышно, как вздыхают вдали камыши. Но лунное волшебство озера вновь захватило юношу, ожидание чуда не покидало. Так и казалось, что лесистые берега, камышовые заливы и зеркальная водная гладь полны музыкой, как грузные тучи непролившимся дождем. Не было лишь русалок, способных вызвать к жизни накопившийся ливень звуков.
Побывал Василь и на другом берегу. Русалки так и не пришли. Вместо них возник некто такой, кто изрядно испортил Василю романтическое настроение. В одном глубоком заливчике вода забурлила, и на берег, позевывая, выбрался водяной. С длинной бородой и сутулый, он нисколько не походил на стройного Кувшина, но в язвительности тому не уступал.
— Приглянулись наши красавицы русалки? — с усмешкой спросил он. Нахмурившись, проворчал: — Шел бы ты, парень, спать.
— Не твое дело, — оборвал его Василь. — Знай свое место, грубиян.
С озера ушел раздосадованный, а потом весь день терзался сознанием своей вины. Он впервые в жизни указал природному существу на его подчиненное положение; точно на слугу прикрикнул. И с наступлением вечера Василь пошел к озеру: надо извиниться перед водяным. Однако в глубине души чувствовал, что лукавит: не водяной ему нужен. Да и ноги сами собой вынесли его не к берегу, где жил водяной, а на заветную песчаную отмель.
Сквозь ветки ивняка блеснула лунная дорожка. Из глубины озера выплывали голоса арфы, флейты, скрипок, рояля. Звуки волнами накатывались на берега, отражались и снова наплывали. Василь узнал «Вальс цветов» из балета Чайковского «Щелкунчик». Он осторожно раздвинул ветки и ступил на берег.
Вдали, почти на середине озера, кружились в вальсе посеребренные луной спирали тумана — так удивительно выглядели русалки в своих белых платьях. Музыка внезапно затихла, и русалки стали озираться. Почувствовали, видимо, чье-то присутствие. Решив узнать, кто любуется ими, они направились к берегу. А шли-то как! Не беспорядочной толпой, а стройной шеренгой, изображая пенистую волну родного озера. «Хвастуньи», — улыбнулся Василь. Когда волна танцовщиц подкатилась к берегу, одна из русалок узнала Василя и рассмеялась:
— Глядите! Влюбленный приплелся!
«Нахалка», — мысленно ругнул ее Василь. Русалки поклонились Василю с подчеркнутой учтивостью. Их платья расстелились и смешались с вьющимся понизу туманом, вслед за ними рассеялись в дымке и сами русалки. Василь нахмурился: в театрально красивом уходе он уловил насмешку.
На водной глади осталась «королева», и сердце Василя дрогнуло: она явно обрадовалась! Аннабель Ли улыбнулась и пошла к берегу. Но гасла улыбка, шаг замедлялся, хмурился красивый лоб. А когда она, ступив на песок, приблизилась к юноше, недовольным голосом сказала:
— Пришел все-таки. И вчера приходил?
— Приходил, — признался Василь.
— А Вика? Она ведь страдает, да и ты любишь ее. Нет, не возражай! Ты не разобрался в своих чувствах.
— Неправда, разобрался! — возразил Василь. — Да и ты рада видеть меня. Ведь рада?
— Не знаю, — опустив голову, прошептала Аннабель Ли. Немного помолчав, взглянула на Василя, и выразительные губы ее шевельнулись в лукавой улыбке. — Хочешь, исполню что-нибудь для тебя? По моему выбору?
— Хочу.
Шагах в десяти от берега Аннабель Ли вскинула руки и словно взмахом дирижерской палочки вызвала таившиеся в озере звуки. Они росли и таяли, возникали в небесах и в воде. Грудь Василя стиснула невыразимая грусть. Он узнал печальную «Песню Сольвейг» из сюиты Грига «Пер Гюнт». Но вскоре он забыл о старинном композиторе: творила песню сама балерина! Легкая, как птица, она плавно скользила, кружилась, печально стелилась на лунно-зеркальной воде. Она вся звучала, светилась музыкой, уже не одну сотню лет тревожащей души людей.
Скованный волнением, Василь не заметил, как в наступившей тишине девушка подошла к нему.
— Ты превзошла своих наставниц! — воскликнул он.
— Да, эта сюита мне удалась.
— Предложи ее Сфере Разума. Она примет!
— Рано об этом говорить.
Провожая девушку к той же станции-часовенке, Василь рассказал, как он сунулся в Сферу Разума со своей гипотезой «Звездные рысаки» и какой уничтожающий ответ получил. Аннабель Ли рассмеялась.
— Вот видишь!
— С тобой этого не случится, — уверял Василь. — Твоя «Песня Сольвейг» будет вечно храниться в Памяти и вечно волновать людей. В твоей песне есть таинственное, как вот в этом звездном небе. Ты оттуда, и есть в тебе самой что-то загадочное.
— Ну, разошелся, — недовольным голосом прервала его Аннабель Ли. — Поговорим о другом. Ты хочешь стать космопроходцем. Вот и расскажи.
На пологом холме они остановились перед теми же кустами сирени. В них струился лунный свет, мелькали светлячки — все, как в прошлый раз.
— Я не случайно исполнила для тебя фрагмент из «Пер Гюнта», — прощаясь, сказала Аннабель Ли. — Есть над чем поразмыслить будущему великому космопроходцу, исследователю дальних миров.
— Не понимаю…
— А ты догадайся!
Девушка повернулась и, спускаясь вниз, сливалась с белесым, пронизанным лунными лучами туманом. Василь пошел было за ней, но Аннабель Ли остановилась перед цветущей яблоней и как-то странно («Словно ведьма», — подумал Василь) погрозила пальцем: не провожай! При этом задела ветки, и яблоня осыпала ее белыми лепестками. Так и скрылась она в этом густом весеннем снегопаде, незаметно вошла в темный зев станции миг-перехода. Василь бросился вслед за ней, но в часовне уже пусто: улетела!
В глубокой задумчивости Василь отправился домой. У околицы села остановился. Окна многих хат почему-то светились, а на улице слышались голоса, смех, звон гитары. Это парни и девушки, его одногодки и односельчане: весна тревожила, пьянила юные сердца. «Ночь, туман, струна звенит в тумане», — вспомнил Василь слова русского писателя далекого девятнадцатого века. Бродившие по улице молодые люди будто сами пришли из того же века. В руках у кого-то оказался баян, и под его протяжные переливы парни и девушки запели старинную русскую песню.
«Дети ностальгистов и сами ностальгисты», — усмехнулся Василь и, поднявшись на антипоясе, улетел подальше от села. Сегодня он не в настроении участвовать в ностальгическом шествии. Из его головы не выходило слово «догадайся», сказанное Аннабель Ли с лукавой усмешкой.
Василь опустился на пригорок. Посидел немного, припоминая содержание драмы Ибсена «Пер Гюнт», и наконец сообразил. Исполнив «Песню Сольвейг», Аннабель Ли дала понять, что Василь, мечтающий о славе волевого космопроходца, похож на героя ибсеновской драмы — безвольного слабодушного Пер Гюнта.
«Она права! — мысленно воскликнул Василь. — Хорош космопроходец! Не я владею чувствами, а они мной. Они носят меня, как ветер сухие листья. Если я Пер Гюнт, кто же тогда Сольвейг, полюбившая этого слабовольного фантазера и затейника? Вика?»
Но хватит думать об этом. Василь твердо решил: пора взяться за ум и в первую очередь надо избавиться от безвольного хаоса настроений, стряхнуть чары колдовского озера…
За серебрившимися холмами и темной рекой послышались отдаленные звуки свирели. Пастух! Давно его не было — пас лошадей в другом месте. Но сегодня перед рассветом он наверняка подойдет к околице села.
Не желая вспугнуть его, Василь поднялся на антипоясе и вернулся домой. Парни и девушки уже разошлись. Тишина. Где-то уютно звенел сверчок. Огни везде погасли и лишь окно его хаты светилось…
Ночные гости
Почувствовав неладное, я очнулся, сел на кровати и огляделся, ничего не соображая. Где я? Понемногу начал осваиваться. Сквозь окно коттеджа падал лунный свет и разливался на полу голубой лужицей, а храп конвоиров в соседней комнате окончательно вернул меня к действительности.
Что испугало меня? Встревожило так остро, что прервало глубокий сеанс и мгновенно перебросило из одной реальности в другую? Я встал и осторожно подошел к окну. Кусты сирени и траву в палисаднике, словно тонким слоем инея, покрывал лунный свет. Не тот мягкий, окутанный романтической дымкой свет Лебединого озера, а свет мертвенно-холодный и пронзительный. Он четко вырисовывал каждый листик сирени, каждую травинку. В палисаднике никого, и все же угроза — я чувствовал это! — таится здесь.
Глубоко во мне зашевелился он (или это я сам? Моя лучшая ипостась?) и настойчиво просился на связь. Я сел на кровати и прислушался.
— Что стряслось? — Из неведомых глубин моих поднимался тихий, но взволнованный голос. — Ты прервал сеанс…
— Что-то нехорошее. Словно тревожный сигнал разбудил меня. Похоже на приближение нечистой силы.
— Вампир? Мистер Ванвейден?
— Нет, только не он… Вспомнил! Это сигнал дяди Абу. Он знает многие здешние тайны. Он и днем предупреждал, но я не придал этому особого значения.
— Твое легкомыслие не кончится добром, — проворчал он. — В чем опасность?
— По улицам бродит ночной шпион и соглядатай. И знаешь, кто? Гоголевский Вий. Он стал так усердно служить сатане, что у него пробудились новые способности. Когда ему поднимают веки, он может не просто видеть, но и видеть ночные сны. О подозрительных снах он доносит. Мистер Ванвейден как раз на этом попался. Ему снилось, что он возглавил заговор против сатаны, захватил золотой трон и стал Гроссмейстером. Сейчас его пытают в цедепе. Я доволен.
— Не злорадствуй. Ближе к делу. Как думаешь поступить?
— Сяду за стол и буду писать роман или вносить поправки в «Сатанинскую симфонию». Это не должно вызвать подозрения. Нечистой силе известна моя привычка работать по ночам.
— Похвальное усердие! — иронически воскликнул он. — Певец нечистой силы! Расхвастался! Садись скорее за стол.
Я сел к окну, включил настольную лампу и развернул нотную запись. В слуховой памяти возникли музыкальные образы. Звучные почти до галлюцинаций, они так увлекли меня, что Вий ничего другого не вычитает, если бы он даже мог видеть не только сны, но и мысли.
За окном зашелестели крадущиеся шаги. Я не шелохнулся. И все же вздрогнул, услышав неприятный, требовательно-визгливый голос:
— Не вижу! Подымите мне веки!
Я невольно посмотрел в окно и напоролся на острые и красные, как раскаленные гвозди, глаза. Собравшись с духом, погрозил кулаком коренастому чудищу и крикнул:
— Эй ты, шпион! Не мешай работать верным слугам сатаны. Убирайся!
Ничто не дрогнуло на железной физиономии Вия. Это был добросовестный, исполнительный служака. Он спокойно перевел взгляд на соседнюю комнату, прощупал сны моих конвоиров и, не найдя в них ничего крамольного, зашагал к другому кварталу. Посидев за столом еще минуты две, я погасил лампу и сел на кровать.
— Ушел Вий? — услышал я голос.
— И надолго. Ему потребуется много ночей для обследования остальных кварталов. Мне жутко здесь, душно. Пожил я немного на берегах чистенького Лебединого озера, и меня снова сунули сюда — в помойную яму цивилизации, в отходы… А если помойка прорвет плотину и хлынет на цветущие поля?
— Ты прямо-таки помешан на экологической опасности. Согласен: Вий, драконы, штурмбанфюреры — нечто вроде индустриальных отходов. Уверен, что Сфера Разума справится с нечистью. Чувствую, тебя беспокоит что-то еще, что-то глубоко личное.
— Уж не замешана ли моя гадкая, вертлявая душонка…
— Поздравляю! — послышался во мне насмешливый голос. — Ты стал самокритичен.
— Уж не замешан ли я в не очень красивой истории с Викой и Аннабель Ли? Конечно, в то время я пребывал в тебе в почти несуществующем, свернутом состоянии. Но все же какие-то психические вибрации…
— Преувеличиваешь. Во всем виноват я. Но согласись — Аннабель Ли красавица хоть куда. Загадка!
— Однако твое… наше увлечение красивой загадкой мудрая Биосфера не одобрила, встретила весьма иронически. Вспомни язвительного водяного на Лебедином озере или русалок, поклонившихся с откровенной насмешкой. Но вот дриада! Покровительница твоих встреч с Викой под листвой Близнецов! Ласковая дриада поощрила твой выбор. Да это же сама природа столь своеобразно одобрила твою любовь к Вике. Я так понимаю.
— Правильно понимаешь. Сфера Разума почти не ошибается. Однако человек волен поступать по-своему. Выбор подруги жизни, как и выбор профессии, в конечном счете зависит от него. Сфера лишь советует. Сейчас последний сеанс, ты станешь участником выпускного бала-экзамена. Он и определит твою профессию и жизненный путь. На нем ты получишь знак зрелости и станешь викингом.
— Викингом! Древнескандинавским воином и мореходом?
Мой изумленный возглас остался без ответа. Собеседник ушел. Он прав: час ночи, и пора спать.
Не успел, однако, натянуть на себя одеяло, как кусты сирени в палисаднике зашумели, громко треснула ветка. Я притаился и прислушался. Тихо. Осторожно приподнявшись, я сел на кровати, взглянул на окно и похолодел. Кто-то темный и волосатый приник к стеклу и пристально вглядывался в меня… Пират Эдвард Тич! Черный паук!
В ужасе я вскочил и забегал по комнате. Кинулся было в угол, потом зачем-то метнулся к окну… И тут произошло неожиданное: Эдвард Тич отпрянул, с отвращением замахал руками и поспешно удалился. Я с облегчением перевел дыхание и мысленно поблагодарил дядю Абу. Это он на сегодняшнюю ночь так искусно перестроил мои биотоки, что я казался Черному пауку не только «невкусным», но даже противным.
Я присел к окну и начал со страхом наблюдать, как «работает» мой паук. Ярко светила луна. Эдвард Тич с беспокойством оглядывался и принюхивался. Кругом, однако, никого. И вдруг Черный паук целеустремленно направился к другому коттеджу, расположенному через два дома от моего жилища. В нем поселился недавно материализовавшийся исторический персонаж, какой-то тип из двадцатого века. Мужик он, как я слышал, неглупый и, подобно мне, согласился (ничего другого не оставалось) служить сатане. О ночном людоеде он ничего не знал и вел себя довольно беззаботно. Я присмотрелся… Так и есть! Он даже спал с раскрытыми окнами. Рука моя потянулась к видеофону: надо разбудить его, предупредить.
Но было уже поздно. Эдвард Тич-паук перегнулся через подоконник, волосатыми ручищами сграбастал спящего и поскакал в лес. Человек проснулся и заверещал. Я выскочил на крыльцо и видел, как паук-пират мчался через пустырь к опушке леса. Еще один сдавленный, приглушенный крик, потом хруст костей — и все было кончено…
Все это произвело на меня такое гнетущее впечатление, что ни о каком сеансе, ни о каком сладостном погружении в мир Лебединого озера и душистых полей не могло быть и речи. Ночью спал плохо. Снились какие-то мохнатые чудовища. Я вскрикивал, просыпался и, в страхе поглядев в окно, снова засыпал тревожным сном.
Весь день почти не выходил из дома и трудился над романом и симфонией. Привычная работа принесла успокоение, и к вечеру ночные визитеры забылись. Я лег спать и входил в очередной сон-сеанс на удивление легко и так тихо, как никогда. Я просто вплывал в него, как в уютную голубую лагуну. Где я очнусь? И кого увижу? Засыпая, вспомнил, что собеседник говорил что-то о викингах. Странно: причем тут викинги?
Валькирии и викинги
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Ф. И. Тютчев
Шмель уселся на цветок ветреницы дубровной и попытался достать пыльцу. Неудача! Цветок качнулся, и грузный представитель семейства пчел сорвался. Он поднялся ввысь и, словно жалуясь, прогудел у самого уха. «Слишком ты тяжел, — улыбнулся Василь. — Попробуй еще раз».
Шмель не мешал Василю. К тому же классный наставник Иван Васильевич, сидевший на пригорке в окружении своих подопечных, говорил о вещах отчасти уже знакомых.
— В старину выпускники сдавали экзамены на аттестат зрелости. Уровень знаний определяли учителя, и с развитием электронной техники — компьютер. Потом выпускной бал… Сейчас то и другое сливается в один праздник, в такой выпускной бал — экзамен, какой вашим далеким предшественникам не мог и присниться. Сфера Разума уже знает особенности вашего мышления и характеры, ваши мечты и склонности. Она и скажет свое слово, скажет образно и поэтично.
Шмель снизился, покружился над венчиком цветка. Но сесть не решился, а вновь поднялся и гудел, будто спрашивал: что делать? «Не знаю, дружище, — Василь с сочувствием пожал плечами, — выпутывайся сам».
И вдруг старый учитель начал рассказывать такое, что Василь нетерпеливо отмахнулся от шмеля: уйди! Оказывается, в свои далекие молодые годы учитель был штурманом легендарного «Витязя», и только последствия какой-то космической болезни заставили его вернуться на Землю.
— В свое время и у меня был выпускной бал, — улыбаясь и щурясь на солнце, говорил учитель. — Вот как выглядел знак зрелости, подтвердивший мою пригодность к профессии астронавта.
На куртке учителя появилось штормовое море, из бурных пенистых волн которого вышел седобородый старец с трезубцем. Кто это? Нептун? Разглядеть мешал все тот же шмель, круживший на сей раз перед самым носом. «Вот наглец», — сердито отмахнулся Василь. Шмель отлетел в сторону, но знак на груди учителя уже погас.
— А сам выпускной бал вы помните? — спросил кто-то.
— Отдельные эпизоды помню хорошо.
— Покажите их! Покажите! — зашумели ребята. Они знали, что Иван Васильевич умеет, не без помощи, конечно, Сферы Разума, «вкладывать» в сознание других людей отдельные картины своей прошлой жизни.
Холмистая лесостепь вдруг задернулась дымкой и превратилась в синее утреннее море с пологими волнами. Из розоватого тумана красиво и тихо выплывал старинный трехмачтовый парусник. На палубе матросы, один из них с характерным прищуром глаз. «Неужели это Иван Васильевич в школьные годы?» — подумал Василь.
Белые, как снег, паруса корабля задрожали, заструились и пропали. Наступила тьма: Иван Васильевич, видимо, плохо помнил, что было дальше. И вдруг на Василя обрушился грохот, ослепительные молнии выхватывали из тьмы исполинские, с белыми гребнями, волны. Шторм швырял корабль, как щепку. «Убрать паруса!» — послышалась команда капитана, и юные матросы с невероятной ловкостью и отвагой сновали на мачтах. Василь понимал: кто-то, быть может, сам бог моря, проверял стойкость ребят, их умение не теряться в самых трудных и неожиданных условиях.
Все затуманилось перед глазами, потемнело. Из мглы выступила другая картина, и Василь сквозь брызги и пену увидел палубу корабля. По ней с шипением прокатывались волны, грозившие смыть людей. «Рубить мачты!» — крикнул капитан. В тот же миг послышался тревожный голос: «В трюмах вода. Все к помпам!»
И снова в памяти учителя досадный провал… Через минуту Василь увидел невысокие волны, позолоченные мирным заходящим солнцем. Шторм улегся. Тихо покачивался израненный корабль. У многих членов экипажа красовались синяки и ссадины, но лица у всех ликующие: экзамен выдержали! Как бы в подтверждение из подкатившей волны выпрыгнул на палубу седобородый морской бог, взмахнул блеснувшим на солнце трезубцем и крикнул: «Молодцы, ребята!»
Приветственные возгласы ребят, плеск волн и скрип снастей стали затихать, изображение гаснуть. Снова тишина и тьма. Но вот засинело утреннее небо, где плыли облака и где невидимый жаворонок сплетал звонкие серебристые узоры. Кругом знакомые луга, а рядом путался в цветах все тот же неугомонный ворчливый шмель.
— Какой замечательный, какой суровый морской праздник! — восторгалась Наташа Быстрова. — Нам бы такой!
— Что же, начнем свои поиски на море, — согласился учитель.
На другой день с утра учебная лодка приземлилась и растворилась на новозеландском берегу — том самом, где начинали ребята свои школьные годы. Здесь, оказывается, уже толпились юноши и девушки — выпускники школ Австралии, Бразилии и Скандинавии. Они тоже жаждали морских приключений на старинном паруснике. Василь пытался охладить их пыл:
— Природа не любит повторяться. Не придет морской бог, и шторма не будет.
Молодые люди, однако, с надеждой вглядывались в синие дали: вдруг засверкает парусами бригантина? Но океан был разочаровывающе пустынным и тихим, лишь у самых ног мелкие волны с легким шорохом лизали песок. Кто-то из бронзово-загорелых бразильцев предложил покинуть скучный новозеландский берег. Но в это время одна из пологих волн вздыбилась и белесо вскипела своей вершиной. Огромным валом налетела она на берег и осыпала выпускников брызгами, пахнущими морскими глубинами. Из облаков пены вышли океаниды — все, как одна, в пенисто-кружевных платьях и с коралловыми гребнями в светлых волосах.
— Аолла! — закричала Наташа Быстрова и заметалась среди океанид. — Где Аолла?
— Я здесь, подружка! — откликнулась Аолла.
Последовала сцена, которая многим показалась сентиментальной. Наташа и океанская красавица обнялись и поцеловались. Аолла, любовно глядя на свою земную подругу, растроганно шептала:
— Милая. И ты все десять лет не забывала меня? Ты не ошиблась. Сегодня ты останешься у нас.
Аолла выбрала из нетерпеливой толпы еще десятка два юношей и девушек. Избранники улыбались: выпускники со знаками «Океаниды» становились обычно океанологами и биологами широкого профиля, художниками-маринистами, композиторами.
— Я хочу стать композитором! — не удержалась Вика и хотела присоединиться к счастливцам.
— Да, у тебя есть способности к музыке. — Аолла внимательно посмотрела на Вику. — Но к музыке другого профиля, и потому ждет тебя кто-то в твоих родных лесах и полях.
Раздосадованная Вика улетела домой. Аолла сочувствующим взглядом окинула других выпускников и сказала:
— Остальных тоже прошу покинуть Тихий океан. Сейчас у нас начнется морской бал, и вам станет завидно.
— Не будем завидовать, — смеялись ребята. — Найдем кое-что и получше.
И пошли они скитаться по морям и океанам, по островам и материкам в поисках своего счастья, своей доли. Интригующими были эти странствия. На острове Цейлон и у берегов Африки нескольких выпускников «похитили» такие природные существа, о которых ребята только слышали.
К полудню в воздушной лодке осталось около тридцати выпускников разных школ. Лодка миновала Гибралтарский пролив, снизилась и, превратившись в древнегреческую триеру, поплыла под синим небом олимпийской мифологии. Средиземное море — Мекка выпускников!
И сразу же начались чудеса. К новоявленным Одиссеям прилетели сирены — полуптицы-полуженщины с чарующими голосами. У Гомера они своим голосом околдовывали мореходов, завлекали на свой остров и там убивали. Но эти сирены были, конечно, добрыми и на своем острове собирали выпускников, одаренных исключительными способностями к вокальному искусству. На триере они безошибочно выбрали свои «жертв» — двух девушек с голосами, не уступающими по своему чародейству голосам самих сирен.
Потом были нереиды и сам бог ветров Эол со своей удивительной сладкозвучной арфой. Умели древние греки населять свой мир поэзией и красотой! Но то, что увидели ребята утром следующего дня, превзошло все ожидания.
Проснулись они еще до восхода солнца. В сереющем небе таяли звезды, из-за горизонта бледно-розовыми перьями выступали первые лучи. В этом еще робко светившемся веере лучей возникла темная точка и быстро катилась к триере. Ребята пригляделись: по шелковистой водной глади, по ее золотистой дорожке мчалась колесница, запряженная четверкой белых крылатых коней.
— Эос! — зашептались ребята. — Неужели Эос?
Да, в колеснице была Эос — богиня утренней зари, с венцом лучей вокруг головы и с крыльями за плечами. Полнейшая тишина. Лишь в правой руке богини чуть слышно потрескивал пылающий факел.
Колесница остановилась около триеры, и Эос с утренне-ясной улыбкой жестом подозвала к себе двух девушек и одного юношу. Те со счастливыми лицами сели рядом с богиней. Колесница развернулась и беззвучно умчалась в разгорающийся полукруг зари, как в триумфальную арку.
— Вот уж кому повезло, — со вздохом сказал швед Нильс Ларсен, светлые волосы которого уже розовели в лучах восходящего солнца.
Все молча согласились с ним. Выпускники с сияющими знаками «Эос» становились выдающимися исследователями планет, солнца и всего звездного неба. Ведь Эос — мать всех звезд.
— А как же мы? — забеспокоились ребята. — Что будет с нами?
Забеспокоились уже около полудня. А до этого к каким только уловкам не прибегали ребята. По их желанию триера стала подводной лодкой и спустилась в глубины. Но там только рыбы и морские ежи. Лодка всплыла и развернулась в многопарусную бригантину. И опять никого! Наконец, юноши и девушки взмыли вверх и приземлились у подножия горы Олимп. Оттуда почти каждую весну в громах и молниях спускался к выпускникам Зевс. Но даже этот шумный и хвастливый бог не снизошел, не проявил участия.
— Неужели мы — те самые? Середнячки? — с горечью спросила Юнона. Не богиня Юнона, а земная девушка, член их теперь уже совсем небольшого коллектива.
Каждый год какая-то часть закончивших школу ребят оставалась без желанных знаков. Сфера Разума не решалась сказать что-то определенное об этих юношах и девушках. Их способности раскрывались позже, и все они находили свой жизненный путь. Но не получить после окончания школы знаков зрелости и считаться «середнячками» все же обидно. Очень обидно.
А тут еще, растравляя рану, с Тихого океана прилетела Наташа Быстрова с новеньким, только что полученным знаком «Океаниды».
— У нас был грандиозный морской бал, — начала она и замолкла.
По унылым лицам Василя и его спутников Наташа смекнула, в чем дело, посочувствовала и покинула подножие Олимпа. Прилетевшая вскоре Вика оказалась, увы, не столь деликатной.
— У меня знак феи, — улыбаясь, сказала она Василю. — И знаешь, где получила его? Недалеко от твоего прославленного села.
На белой блузке девушки — овал. В нем открывались и уходили вглубь такие родные весенние дали, что у Василя закружилась голова, остро защемило в груди. В знакомой степи тихо шелестели юные травы, цвели и пахли фиалки…
— Так это же тетя Зина! — догадался Василь.
— Какая еще тетя, — губы у Вики обиженно дрогнули. — Прошу не оскорблять. Это очень поэтичная фея весенних лугов, покровительница многих искусств.
Василь, посмеиваясь, поведал, что знал в детстве эту фею под именем тети Зины и что Кувшин считал ее особой никчемной, вздорной и весьма легкомысленной.
— У тебя, как вижу, и такой не будет, — отпарировала Вика. — Мне жаль тебя, посредственность.
Василь вспыхнул и отвернулся. Подобными ссорами почти всегда заканчивались их короткие встречи.
Как ни странно, кандидаты в «середнячки», испытывая взаимную симпатию, крепко сдружились и понимали друг друга с полуслова.
— Психологическая совместимость бездарей, — с горькой усмешкой сострил Нильс Ларсен.
Пообедав под не слишком веселые шутки, ребята решили попытать счастья в другом месте и приземлились в центре Европы, где сходились пути многих древних поверий и сказаний. Из рощ и дубрав здесь могли прийти волхвы и кудесники славян, эльфы германцев, герои скандинавских саг.
Но кругом никого. Даже пчелы и кузнечики попрятались от зноя в сонных травах и притихли. В пустынном небе огненный глаз солнца, словно живой, насмешливо взирал с высоты на неудачников.
«Теперь все», — окончательно пав духом, подумал Василь, но вслух сказал:
— Искупаться бы. Жарко.
— За рощей есть какое-то озеро, — отозвался кто-то.
Ребята нехотя, с вялым настроением вышли из рощи. Открылся просторный луг, вдали дремало небольшое озеро с плакучими ивами на берегах. Тишина. Под жгучими лучами степь зыбилась, струилась влажными испарениями. Но вот, обещая прохладу, из-за горизонта выглянула синяя туча. Тени побежали по зеленым холмам, встрепенулся ветер и вздохнули, зазвенели травы.
— Гроза. Сейчас она искупает нас, — мечтательно проговорила Таня Мышкина, одноклассница и односельчанка Василя.
Темная громада с закипающими по краям белыми хлопьями неспеша приближалась. Почти у самого горизонта, за седыми бородами дождей сверкнула молния и ворчливо пророкотал далекий гром.
Юноши и девушки переглянулись: там кто-то есть! Может быть, Перун? Животворящий весенний бог древних славян?
— Это он! — уверенно заявила Юнона. — Смотрите, как красиво он шествует. Солнце, выглядывающее из-за облаков, это, по поверьям славян, его сверкающий щит, а молния — пламенное копье.
— Хорошо бы, — сказал Василь.
— Лучше, чем кичливый, изрядно надоевший Зевс, — поддержал его швед Ларсен.
Густая, иссиня-черная туча распласталась над лугами и рощами. Ветер усиливался и гнул травы, трепал верхушки деревьев. Туча шевелилась, металась, и в ее разрывах солнечные лучи будто вибрировали и пели, как скрипичные струны. Вдали фанфарными трубами громыхнул гром.
— Вагнер! Музыка Вагнера! — закричал Василь.
— Почудилось! Очнись! — замахали на него руками ребята. — Перун и Вагнер? Чепуха!
«Ошибся я», — подумал Василь, когда ветер улегся и наступила тишина. Темные тучи еще больше разошлись и над ними, совсем высоко, тянулись облака, верхушки которых шевелились, как рыжие гривы. Красивые облака, величавые и гордые, как львы. И ребята окончательно поверили, что они не покинуты, не забыты Сферой Разума. Из бурной весенней тучи сейчас сойдет их покровитель — древний славянский бог. Юнона даже встала на колени и, протягивая вверх руки, умоляюще взывала:
— Перун! Приди же наконец. Не томи.
Туча сгустилась. Ее мглистую волнующую ткань с треском рвали хлесткие молнии. Одна из них — упругая и кривая, как ятаган, — сверкнула перед глазами Василя и вонзилась в землю. Хлынул синий ливень. В его косых струях, похожих на струны арфы, в трубном грохоте грома Василь вновь услышал не хаос, а знакомую гармонию звуков…
— Василь прав! — воскликнула вскочившая на ноги Юнона. — Узнаю. Это музыка из оперы Вагнера.
Еще яростнее засвистел ливень. Туча клубилась, рвалась с грохотом и звоном. В ее разломах и промоинах сияли столбы солнечного света. А там мчались… Облака? У Василя пресеклось дыхание: там, поверх тучи, по ее холмам мчались кони с развевающимися золотыми гривами. А на конях небесные всадницы, махавшие молниями-мечами.
Юноши и девушки замерли, еще не веря своему великому счастью. Из оцепенения вывел чей-то ликующий крик:
— Братцы! Это валькирии!
И тут началось нечто невообразимое. Парни и девушки хохотали, вопили «Ура!», кувыркались. Потом плясали, как малые дети, тянулись руками навстречу сизым струям ливня, глядели в мглистую тучу, в ее сияющие разрывы и кричали:
— Валькирии! Валькирии! Возьмите нас!
И облачные девы-воительницы откликнулись. Ураганный ветер с шипением прокатился по степи. Взметнувшиеся в нем упругие вихри подхватили ребят и унесли в небесную высь. Не успел Василь опомниться, как уже сидел на облаке. Влажноватое и мягкое, оно клубилось, меняло форму и… Не облако это! Волшебный конь!
Конь мчался по туче и с треском высекал копытами гигантские искры-молнии. Впереди и по сторонам сквозь рвущиеся тучи и клочья тумана Василь видел своих товарищей на таких же чудо-рысаках. Подобно ему, они лавировали в огненной паутине молний и тоже, наверное, слышали в грозе «Полет валькирий» Вагнера.
И вот одна из небесных всадниц уже рядом. Сняв шлем, она обнажила красивое лицо со смелым разлетом бровей. Ее темные волосы вились на ветру и вплетались в черную тучу.
— Я знаю тебя. Ты Василь, — услышал юноша ее голос, слившийся с голосом бури.
— Верно! Но откуда ты знаешь?
— Я самая вещая из валькирий.
— Брунгильда! — воскликнул Василь. — Постой! Куда же ты?
Но валькирия, коснувшись рукой его куртки, умчалась в крутящуюся мглу. Василь взглянул на куртку и увидел огненный знак «Валькирии».
— Ура-а! — возликовал он.
Юноша понимал, что знак этот уже связал его с космосом. Он — разведчик дальних миров!.. Василь скакал по туче, как по крыше мироздания, и в кричащей буре, в раскатах грома слышал
грохот миров и звездных потоков, зовущий гул планет и пугающий рев черных дыр.
Это было братание с грозными стихиями вселенной. И был опаляющий восторг, была захватывающая душу удаль, блаженство избранных.
А волшебный конь парил в небесах, временами спускался ниже туч, вновь взмывал ввысь и снова снижался. Вдруг он коснулся копытами трав, вихрем пролетел по степи и растаял.
Василь обнаружил, что стоит он уже на холме рядом со своими товарищами. Вместе с ними вглядывается в клокочущую черную мглу, освещенную взмахами молний, зовет небесных спутниц:
— Валькирии! Валькирии!
Но все было напрасно. Уже очистилось полнеба, и дождевые ручьи, засверкав на солнце, с шумом сбегали с холма. А туча, погромыхивая и вздрагивая огненными всполохами, уходила все дальше и дальше.
Неужели вместе с нею уходит самая сказочная пора жизни и останется всего лишь вот этот знак зрелости на груди? Но знак удивительный: в овале — живое небо и упругая молния, извивы и изломы которой складывались в слово «Валькирии».
Чувствуя себя покинутыми, юноши и девушки с затуманенными грустью глазами провожали тучу и махали руками:
— Прощайте, валькирии! Прощайте!
— Ребята! — воскликнул вдруг Нильс Ларсен и показал на девушек. — Нам нечего грустить. Валькирии не ушли и всегда будут с нами. Вот же они!
«Причем тут они?» — Василь пожал плечами, взглянув на своих спутниц. Разные здесь были девушки: рослая гречанка Юнона и невысокая хрупкая кубинка Тереза, смуглая итальянка Сильвия и белокурая, никогда не загорающая Таня Мышкина. Ее присутствие здесь привело Василя в изумление: Сфера Разума явно допустила грубый промах! Застенчивая и нешумная в играх Таня Мышкина, которую он с детства привык называть Тихой Мышкой, и вдруг — в славной дружине покорителей космоса? Нелепость!
Василь вгляделся в девушек более внимательно и неожиданно у всех, в том числе и у Тани Мышкиной, обнаружил нечто общее, что роднило их с промелькнувшими в грозном небе девами-воительницами. Все они отличались какой-то особой статью, в глазах их светились смелый ум и отвага…
— А ведь верно! — воскликнул Василь. — Это наши амазонки! Валькирии космоса!
Девушки смеялись и, желая в свою очередь польстить юношам, называли их викингами звездных морей.
Тем временем туча уползла за горизонт. За ней вдогонку неслись разрозненные хлопья облаков, похожих на стаю розовых птиц.
Юноши и девушки собирались разлетаться по домам, когда в небе проплыла еще одна небольшая, но грузная, перенасыщенная влагой тучка и обрушила шумные каскады воды. В лучах закатного солнца дождевые струи, толстые, как веревки, выглядели золотыми. Девушки запели и закружились в танце. Парни хохотали и прыгали по лужам, взметывая облака искрящихся брызг. За сияющей сеткой дождя девушки казались призрачными, сказочно нереальными. И ребята, глядя в их сторону, кричали:
— Валькирии! Валькирии!
А в ответ сквозь клекот воды слышали звонкие девичьи голоса:
— Викинги! Викинги!
Утром следующего дня валькирии и викинги — все семнадцать юношей и девушек — предстали перед приемной комиссией Академии Дальнего Космоса в своем ослепительном мифопоэтическом ореоле, с грозовыми знаками «Валькирий».
— Слышал уже о вас, слышал! — с улыбкой сказал председатель комиссии. — И даже немножко видел в небе! Ну что ж, братья и сестры грозы, у нас нет оснований не верить Сфере Разума, а потому будете учиться у нас… В нашу группу включим еще четырех вполне достойных вас девушек с Марса и вот этих трех русских богатырей.
И председатель с добродушной улыбкой показал на трех статных парней. Василь чуточку позавидовал: на их куртках красовались совсем уж уникальные, никогда и никем не виданные отметины Сферы Разума — пахнущие степной вольницей знаки былинного богатыря Ильи Муромца…
* * *
Очнувшись, я вскочил с кровати. В ушах еще звенел зовущий грохот грома, голову кружил аромат ливня и грозы. Но, подбежав к окну, я увидел страшный палисадник в лунном свете, все понял и закричал:
— Зачем разбудили меня! Зачем!
В груди зашевелился, застучался мой ночной собеседник, я услышал в себе встревоженный голос:
— Тише! Конвоиры проснутся…
— Извини, — успокоившись, сказал я. — Но меня вырвали из грозовых облаков… Вырвали из жизни на самом удивительном месте!
— Оглянись вокруг и вспомни. Увы, ведь это тоже твоя жизнь. И ты должен…
— Все знаю и помню. И я готов…
— К чему готов? Уж не задумал ли ты какую-нибудь нелепость? Признайся.
— Недалеко от моего коттеджа сооружена секретная лаборатория для взлома барьера времени. Постараюсь проникнуть и заложить бомбу.
— Не смей этого делать! Выдашь себя и сорвешь задание. Ты должен вернуться живым и запомнить, как отзовутся на мире изгнанников новые эксперименты ученых. Скоро начнется заключительная серия. Сейчас тебе надо хорошо выспаться. Неплохо, если бы тебе приснилось что-нибудь успокоительное и приятное. Например, музыкально красивая Аннабель Ли.
— Не ехидничай. На меня куда большее впечатление произвели валькирии.
— А не лукавишь? Ну-ну, не обижайся. Пусть будут валькирии.
Однако снились мне не валькирии, а Лебединое озеро, легкие туманы над ночным зеркалом воды и, конечно же, красавица балерина. И всю ночь слышалась тихая музыка, где серебряным колокольчиком звенело имя: Аннабель Ли… Аннабель Ли…
Но что это? Нежный перезвон колокольчиков сменился оглушительным гулом колоколов, и я бежал уже по какой-то пустыне. Падал, потом вскакивал и снова мчался изо всех сил, спасаясь от грохота. Грозные звуки накатывались волнами, настигали, затопляя душу ужасом. Я медленно пробуждался от нарастающего, как катастрофа, вопля колоколов…
Великий Гроссмейстер
Проснулся я от грохота городских колоколов. Он возвещал о том, что новый день начался пытками. Он вселял в души горожан страх и послушание.
На столе уже дымился обильный завтрак. Мои конвоиры сидели сжавшись, с заметно побледневшими лицами. А когда с башен собора Парижской богоматери докатывались громкие и чуть дребезжащие удары, Усач вздрагивал и… крестился.
— Не вешать носы, братцы! — ободрял я. — Нас еще не скоро сожгут. У нас есть чем оправдать свое существование: вчера я закончил симфонию.
Позавтракав, мы отправились в департамент исторических персонажей. После ухода умной и доброй Элизабет за столом секретаря-машинистки сидела хмурая пожилая особа с большим и кривым носом. Вероятно, злая колдунья. А вместо скончавшегося под пытками мистера Ванвейдена работал долговязый тощий субъект с прыщеватой физиономией — Змей Горыныч в своем изначальном виде. Он так гордился своим происхождением, что низшие чины из почтения так и звали его — Змей Горыныч. Он не имел оснований ненавидеть меня, как его предшественник вампир. Однако это был нервный, желчный субъект, очень недовольный историческими персонажами. «Опасные типы, — часто говорил он. — Я бы их всех сжигал». Но Аристарх Фалелеич по-прежнему благоволил ко мне.
— Змей Горыныч ждет вас, — сухо ответила на мое приветствие секретарша.
Я вошел в кабинет и молча положил на стол папку.
— Симфония? — с недоверчивым удивлением хмыкнул Змей Горыныч. — Послушаем. Наверняка барахло.
На прослушивании присутствовали Аристарх Фалелеич и секретарь-машинистка. Змей Горыныч, к моему немалому удивлению, обладал музыкальными знаниями и хорошим слухом.
— Не уловил главного, — на худой физиономии Змея Горыныча кривилась недобрая усмешка. — Композиция разваливается, нет основного мотива, который передавал бы дух нашего общества.
— Согласен! — воскликнул я, мигом вспомнив жуткий колокольный гул. — Вот послушайте, как будет звучать пронизывающий всю симфонию и цементирующий композицию лейтмотив.
Я внес в первую часть кое-какие изменения и вложил партитуру в специальный аппарат, воспроизводящий в звуках нотную запись. Послышалось вступление, в которое вплетался то затихающий, то грозно наплывающий гул колоколов ЦДП и его филиалов. Змей Горыныч вынужден был признать, что лейтмотив найден удачно. Об Аристархе Фалелеиче и говорить нечего: колокола всегда были его слабостью.
— Дельно, — сладко промурлыкал он. — Даем на доработку две недели.
Две недели — более чем царский подарок. За это время ученые успеют провести две заключительные серии экспериментов. Их результаты отпечатаются в моей памяти, и я сумею вовремя отсюда удрать.
Первая серия началась на другой же день. С утра из подвалов зданий, как тараканы из щелей, стали выползать шипящие, полупрозрачные и быстро исчезающие шары, которые я назвал информационными клубками. Прохожие с воплями разбегались и прятались по домам. Около полудня из леса прискакал конь с головой дракона. На площади он завертелся и превратился в дымный вихрь, в котором угадывались зыбкие очертания ведьмы. Скоро ведьма материализовалась и стабилизировалась. Но тут же взлетела вверх и лопнула, как мыльный пузырь, не оставив ни малейшего следа.
Я понимал: в далеком будущем на какой-нибудь внеземной станции ученые нащупывают способы управлять выбросами информационных полей. Здесь же их потоки и нити беспорядочно переплетаются и овеществляются в виде клубков или физически неустойчивых составных, гибридных образований — чудовищ, какие не могли присниться и в страшном сне.
Догадка эта подтвердилась, когда меня вызвали в департамент для опознания исторического персонажа. Аристарх Фалелеич, выглядевший смущенным и чуть испуганным, сказал:
— Ничего не можем понять. Попробуй поговорить с ним. Может быть, узнаешь, кто он?
В комнату ввели диковинное создание — мужчину с меняющейся, какой-то текучей внешностью. Сначала это был худощавый лысоватый человек, как вдруг тело его заколебалось, лицо стало разбухать, полнеть, а на голове возник пышный парик. И я как будто узнал его, видел не раз его портреты. Но вновь все заструилось, заколебалось и стало неузнаваемым.
Незнакомец уверял, что он великий писатель и философ. Даже имя присвоил себе исторически знаменитое, но такое же гибридно-составное и неуловимое, как он сам: Жан-Жак Диоген-Писемский. Подобно Жан-Жаку Руссо, он призывал вернуться к естественному состоянию и жить… в бочках. Потом, меняя внешность, забормотал до того уж несообразное, что Аристарх Фалелеич поморщился и махнул рукой: на костер! Однако сжечь Жан-Жака не успели, ибо он тут же закружился дымным шаром, завихрился и лопнул с пугающим пронзительным свистом.
— Я тоже становлюсь дурацким гибридом, — невесело усмехаясь, сказал мне вечером в кафе дядя Абу. — В моих жилах иногда вместо энергетической плазмы течет обыкновенная кровь.
— Ты очеловечиваешься! — убеждал я его. — Твоя физическая природа, лишаясь дьявольской силы, приходит в соответствие с изначальной человеческой сущностью. В лесу два коня, и мы вернемся на них домой.
Дядя Абу слушал меня с недоверчивым и унылым видом. Но вот он выпил рюмку коньяка, и щеки его порозовели, глаза повеселели и заблистали, увы, демонической отвагой.
— Я еще покажу себя! Тряхну богатырской силушкой!
На улицах и площадях, словно дождевые пузыри, продолжали вспухать и лопаться непонятные, наводящие суеверный ужас чудовища. Изгнанники чувствовали, что кто-то таинственный и могущественный подкрадывается к их миру и толкает его в пропасть. У драконов, чертей, вампиров, штурмбанфюреров — у всей этой человекоподобной нечисти опустились руки. К чему стараться, если близок конец света? Опустели цеха заводов, не слышно гула подземной лаборатории и даже звона колоколов.
Через день гибридные чудища перестали приходить. И мусорная яма Сферы Разума ожила, зашевелилась. Изгнанники лихорадочно спешили. Под землей они с дьявольской скоростью построили новую лабораторию, где загудели взятые из Памяти синхрофазотроны. Ходили слухи, что изобретается пушка, способная будто бы пробить дыру в барьере времени. А что, если скопившаяся здесь нечисть, все эти «промышленные отходы» сумеют вырваться на свободу и просочиться на цветущие поля будущего?
Опасность мне казалась реальной. Я решил незаметно проникнуть в лабораторию и оставить бомбу с часовым механизмом. Шаг отчаянный, и все закончилось бы скорее всего моим провалом.
Нежданно-негаданно выручил Алкаш. Не такой он простачок, каким казался. Хитрый Алкаш, видимо, давно что-то вынашивал и наконец осуществил свой дьявольский замысел: подкинул такую «бомбу», от взрыва которой мир изгнанников не смог оправиться уже никогда.
А началось все вроде бы с пустяка, которому на первых порах я не придал особого значения. Однажды я зашел к Алкашу поиграть в шахматы. В первой комнате за столом сидел Мефодий и с картами в руках с нетерпением поджидал моих конвоиров.
— А где Носач? — спросил его Крепыш.
— Там, с хозяином, — ухмыльнулся Мефодий и кивнул на дверь в соседнюю комнату.
Дверь распахнулась, и появился Носач. Но в каком виде! Мушкетерская форма обвисла, шпага волочилась по полу. Глаза Носача, прежде всегда унылые, светились весельем и задором. Нетвердым шагом Носач подошел ко мне и, протянув стакан с водкой, подмигнул:
— Выпьем, дружище!
— Не пью, — сухо ответил я, задетый запанибратским обращением черта.
Икнув, Носач поставил стакан перед Мефодием и предложил:
— Отведай еще раз.
Мефодий понюхал, поморщился, но, к моему величайшему изумлению, отпил полстакана.
— Видел? — смеялся Алкаш, когда мы остались с ним вдвоем. — Лед тронулся! Совратил я их! Великие трезвенники поддались искушению.
Сам Алкаш был уже навеселе, что не помешало ему довольно быстро поставить мне мат. Проиграл я и вторую партию. Свою неудачу я оправдывал тем, что беспокоил шум в соседней комнате. Я опасался, как бы чересчур оживленная игра в карты не закончилась потасовкой.
Когда возвращались домой, гусары мои что-то уж слишком возбужденно, размахивая руками и крича, обсуждали перипетии карточных сражений. От них слегка попахивало водкой.
На другой день вечером, после дьяволослужения, они отпросились к своим друзьям поиграть в карты. Я отпустил их, довольный тем, что весь вечер останусь один. Однако после полуночи я стал с беспокойством выглядывать в окно. В такой поздний час моих конвоиров могли задержать патрули и избить палками за то, что оставили своего хозяина без надзора.
За окном метались мокрые ветви сирени, порывами налетал ливень. Сквозь свист ветра, дополняя картину ненастья, слышалась далекая песня про камыш, который шумел, и деревья, которые гнулись, — любимая песня Алкаша. Но пел явно не он.
Песня стихла. Немного погодя из-за кустов выползли рогатые черти и направились к крыльцу. «Лазутчики», — мелькнула мысль, изрядно меня встревожившая. Я успокоился, когда в пластунах узнал своих конвоиров.
Усач и Крепыш, оба с грязной и мокрой шерстью, с трудом поднялись из лужи. Поддерживая друг друга, зашагали, пытаясь затянуть:
— Шу… шумел камыш. Дер… дер… вья гну-у-у…
Распахнулась дверь, и черти с грохотом ввалились в комнату. Усач по-гусарски вытянулся, приложил правое копыто к виску и с гордостью доложил:
— Я пьян, как свинья!
— Вижу, — усмехнулся я. — Вы хотя бы приняли человеческий вид.
— Не… Не могем, — жалобно, с трудом ворочая языком, ответил Крепыш.
Все же он попытался это сделать, и несколько секунд передо мной, пошатываясь, топтался гусар. Но с каким трудом давался ему человеческий образ! Даже блестящая форма, а ею Крепыш всегда гордился, была непосильной ношей. Эполеты то исчезали, то вновь появлялись; сабля задымилась, заболталась, как веревка, и пропала. Крепыш кряхтел, морщился. Наконец махнул лапой и с облегчением рухнул в свой истинный вид. Так в своем первородном образе черти и завалились спать.
«Наверное, сильно опьяневшая нечистая сила не в состоянии держаться в человеческом виде», — подумал я. Окончательно убедился в этом через несколько дней, когда на улице увидел странно одетого субъекта. Он накинул на себя генеральский мундир, напялил на голову сверкающий цилиндр и обулся почему-то в лапти. Бормоча комплименты, он то и дело приставал к хорошеньким девушкам. Те взвизгивали и отшатывались. Субъект, приподняв цилиндр, учтиво извинялся:
— Пардон, м… мадам.
Кончилось тем, что он упал и, перегородив дорогу, растянулся десятиметровым драконом. Из его зубастой пасти вылетели клубы дыма и все те же комплименты вперемежку с ругательствами. Подскочили двое полицейских и хотели ударами дубинок вернуть дракона в человеческий вид.
— Бесполезно, — сказал один из них, опустив дубинку. — Не видишь разве? Напился, как свинья.
Последние слова полицейский произнес не с осуждением и презрением, а с откровенной завистью. Кстати, вечером те же полицейские были уже навеселе. Но лишь слегка, что позволяло им кое-как держаться в надлежащем виде и выполнять свои обязанности. Однако остальные изгнанники пили вовсю. Драконы, черти, вампиры с песнями бродили по улицам, вверху с визгом летали ведьмы и гарпии.
Сатана и ангелы на первых порах не выказывали особого беспокойства: пусть веселятся. Сатана и его приближенные по-настоящему встревожились, когда поняли: надвигается большая беда. И дело не в участившихся драках, а в падении интереса к работе. Задолго до конца смены изгнанники, побросав свои места, усаживались вокруг исторических персонажей (чаще всего это были пираты) и завороженно слушали рассказы о невиданных кутежах. Появлялась бочка с ромом. Черти по очереди пили и находили, что водка все-таки вкуснее.
Вечером после дьяволослужения у кабаков и ресторанов, выраставших, как грибы после дождя, гремели толпы, пелись песни. И уже не «шумел камыш», а другая песня стала самой модной и любимой: кто-то из исторических персонажей (уж не Алкаш ли?) пустил в обиход песню, лихо распевавшуюся в свое время матросами-анархистами:
СТИХ
Была бы водка,
А к водке глотка.
Все остальное трын-трава.
Словечко «трын-трава», пожалуй, неплохо выражало охватившее всех настроение. Равнодушие, безразличие, неверие в возможность вырваться из «дурацкого колпака» — вот та плодоносная почва, на которую упало брошенное Алкашом ячменное зерно.
Утром по телевидению выступил Гроссмейстер. Он хмурился и, потрясая своим скипетром, разразился угрозами. Но гнев сатаны уже не мог остановить его подданных, вкусивших сладость зеленого змия. Работа на заводах шла кое-как, а гул подземных лабораторий иногда утихал совсем. Внезапно из-за горизонта вылетало роскошное облако с дворцами сатаны, и Гроссмейстер со своей поднебесной высоты метко поражал пьяниц линейными молниями. Изгнанники разбегались по подъездам, прятались в подвалах. А вечером, стараясь вымолить прощение, встречали сатану шумной вакханалией: хлопали в ладоши, трещали копытами, с воем и свистом носились под куполами храмов. Но Гроссмейстер сидел в кресле молча, свирепо сдвинув брови.
На следующий день изгнанники играли в карты и горланили песни уже с утра, пили водку в открытую — на заводских дворах, на улицах и даже на крышах. На миг протрезвев, с испугом вглядывались в небо: вот-вот налетит облако, и сатана обрушит свое самое страшное оружие — шаровые молнии и напалмовые дожди. Однако небо оставалось на удивление мирным и безоблачным. Даже после того, как в подземной лаборатории взорвался брошенный без присмотра атомный реактор.
Молчание сатаны страшило больше всего. Что он задумал? Решили, что расправа состоится вечером. Сатана разразится невиданным огненным гневом и всех испепелит.
Наступил вечерний торжественный час, которого изгнанники ожидали с замиранием и трепетом. Мне с конвоирами пришлось встретить его в соборе Святого Павла. В центре, как и в прошлый раз, расположился уже знакомый дракон. Был он пьян, но не буянил и не размахивал своими многопудовыми лапами, чего я опасался. Как и вся нечистая сила, сгрудившаяся в соборе, дракон вел себя тихо, со страхом поглядывая на экран. Даже Вий попросил поднять веки — шепотом. Лишь захмелевшие гарпии с визгом носились под куполом и дрались за каждый выступ и карниз. Наконец они расселись и присмирели.
Засветились экраны, появилось облако с хрустальными дворцами, потом золотой трон с Гроссмейстером — все, как обычно. Нечистая сила заискивающе и робко захлопала в ладоши, затрещала копытами. Шум нарастал. И вдруг наступила тишина: происходило что-то непонятное. Сатана не хмурился, как ожидалось, и не гремел угрозами. Напротив, его рыхлые губы расплылись в добродушной ухмылке. Он потирал руки и весело подмигивал своим подданным. Потом встал. Нетвердыми шагами, выделывая смешные вензеля, Гроссмейстер приблизился к микрофонам и заплетающимся языком забормотал что-то невразумительное.
И тут всех озарило: Гроссмейстер был пьян!
— Ур-ра! — ликовала нечистая сила. — Наш Гроссмейстер! Наш сатана!
— Тише! — крикнул кто-то. — Сейчас увидим! Впервые увидим!
Все уставились на экран в нетерпеливом и радостном ожидании: наконец-то! Наконец-то Гроссмейстер предстанет в своем истинном сатанинском виде — величественном и грозном. На драконьей морде, на рожах вампиров, чертей и ведьм — обожание, страх, любопытство.
— Люцифер! — шептались вокруг. — Сейчас увидим Люцифера.
Гроссмейстер изо всех сил пытался устоять в человеческом виде. Но его лицо дрожало и неудержимо кривилось, гасли кресты на обширной груди, мундир, покрываясь дымком, исчезал. Дракон уже раззявил свою емкую, как пещера, пасть, чтобы вовремя рявкнуть «Браво!». Да так и застыл, обалдело вылупив глазища: Гроссмейстер превратился не в грозного Люцифера! Он съежился в какое-то жалкое, ничтожное существо с кривыми рожками и длинным хвостом. Озираясь и повизгивая, это плюгавое создание запрыгало, заметалось; потом остановилось, начало глупо хихикать и чесаться.
Из распахнутой пасти дракона вырвался отчаянный вопль:
— Мелкий бес!
Оцепеневшие ангелы не сообразили прервать передачу и погасить гадкое зрелище. В соборе поднялась паника. Все с отвращением отвернулись от экрана, на котором вертелся мелкий бес, и с криками: «Какая мерзость!» — кинулись к выходу. В сутолоке и давке раздался вопль какого-то исторического персонажа, невзначай раздавленного драконом. Мои конвоиры и на этот раз подхватили меня под мышки. Они взлетели под купол, рогами разогнали метавшихся гарпий, копытами разбили витражи и вылетели наружу.
Под нами кипел объятый ужасом город. Изгнанники выбегали из подъездов, выскакивали из окон и кричали:
— Мелкий бес! Мелкий бес!
На окраине города, недалеко от нашего коттеджа, было тихо и безлюдно. Мои конвоиры приземлились и зашагали в гусарском виде. Усач так и не понял до конца, что произошло. Пугливо озираясь, он приставал к Крепышу:
— Кому мы поклонялись? А? Мелкому бесу?
Крепыш хмурился и ничего не отвечал. Усач повернулся ко мне:
— Что теперь будет? А?
— Не унывайте. Придет новый Гроссмейстер и установит невиданный порядок.
Ответил я просто так, не подозревая, что слова мои окажутся пророческими.
Наступил новый день — смутный и непонятный: царило непривычное безначалие. Ангелы опасались беспорядков. Однако изгнанники вели себя смирно, выглядели какими-то жалкими, пришибленными. Они бесцельно бродили по городу, смущенно поглядывали друг на друга. И в глазах многих читался все тот же вопрос: кому поклонялись?
Город полнился слухами, верить которым было трудно. Говорили, например, что еще при выходе из леса мелкий бес свои устрашающие свойства получил вместе со скипетром от злого чародея. Другие уверяли, что громоразрядники бес украл у зазевавшегося Зевса, что совсем уж невероятно.
Мелкого беса еще ночью увели в ЦДП. И пытал его не какой-нибудь заурядный «исторический» палач, а новоиспеченный ангел — бывший штандартенфюрер СС. Уж он-то знал свое дело, многое выведал у мелкого беса, прежде чем тот скончался. Труп бывшего Гроссмейстера выкинули на улицу, облили бензином и сожгли.
В полдень солнце неожиданно погасло, и на несколько минут легла холодная мгла, как при затемнении. Вероятно, это и было солнечное затмение. Но изгнанники истолковали природное явление иначе: на город упала тень Великого Инквизитора.
— Знамение! — говорили они. — Это знамение! Завтра придет Великий Инквизитор.
Позже я узнал, что слух пустил агент царской охранки. В одном из русских кабаков он будто бы видел, как на короткое время материализовались братья Карамазовы. И среди них — Иван Карамазов, успевший еще раз рассказать свою знаменитую легенду о Великом Инквизиторе.
Ночь прошла в тревожном ожидании. Утром изгнанники приникли к экранам. Невидимые и крохотные, как москиты, телепередатчики кружились над древнеримской Аппиевой дорогой, по которой в свое время прокатился дядя Абу. Торжественное появление нового Гроссмейстера ожидалось именно здесь.
Но дорога пустовала. Гость вышел в другом конце города, прямо против нашего коттеджа. Даже телевизора не нужно было: мы прекрасно все видели из окна.
Началось необычно. Заводские цеха, сверкавшие под косыми лучами восходящего солнца, дрогнули и окутались туманом, выползшим из леса. Туман клубился, вился волокнами, все ниже приникая к земле, и вдруг с шипением исчез. Конвоиры мои вскрикнули от изумления: вместо заводских корпусов простирался строевой плац — ровный, как стол. На нем золотистыми росинками искрился песок.
Телепередатчики переметнулись сюда. Я смотрел то на плац, то на экраны и видел на площадях и в соборах толпы изгнанников, с вожделением, с любопытством и страхом поджидавших выхода Великого Инквизитора.
Из леса на плац вышел, однако, не грозный Великий Инквизитор, а совершенно невзрачный человек — сухощавый, среднего роста, с узкими плечами. Одет он был в скромный сюртук военного покроя. В левой руке незнакомец держал книгу.
— Книгочей, — хихикнул Усач.
Рядом с тщедушным гостем под барабанную дробь и взвизгивания флейты шагали крохотные оловянные солдатики.
— Это же ярмарочный клоун! Балаганный шут! — ошеломленно восклицали изгнанники. Потом послышался смех и негодующие выкрики: — Хватит! У нас уже был такой! Сжечь его!
Голос, вещавший от имени ангелов, заверил, что с наглым претендентом на трон Гроссмейстера так и поступят.
Если бы изгнанники и ангелы знали, с кем имеют дело! Это был фантастический градоначальник Салтыкова-Щедрина, промаршировавший сюда со страниц «Истории одного города» со своим неизменным «Уставом о неуклонном сечении». Это был Угрюм-Бурчеев!
Обыватели города Глупова, как мне помнится, дрожа от страха, называли его сатаной. Но в чем его усмиряющая сила? Не в банальных же громоразрядниках? Наконец я вспомнил: взор! «Он был ужасен», — писал Салтыков-Щедрин. Никто не мог выдержать светлого, как сталь, взора, выражавшего тупую непреклонность.
К плацу подъехал грузовик. Из него выпрыгнули полицейские и, размахивая дубинками, кинулись с гиканьем и свистом к незнакомцу. Угрюм-Бурчеев посмотрел на них, и полицейские, уронив дубинки, застыли, не в силах оторваться от ужасающих, сковывающих волю глаз.
Угрюм-Бурчеев шевельнул губами. Отдал, видимо, какое-то приказание. Оловянные солдатики, дрогнув, вытягивались вверх, увеличивались и стали рослыми солдатами в серых шинелях и с самыми обыкновенными человеческими лицами. Оловянными остались лишь глаза. Несколько солдат вышли из строя, уложили на песок усмиренных полицейских и начали стегать их шомполами.
Ангелов это несколько смутило, но не образумило. Против непонятного пришельца они выслали полк летающих драконов. Это было грозное зрелище. Небо потемнело, наполнилось свистом крыльев и гулом, с каким из зубастых пастей вылетали облака пламени и дыма.
Пришелец не обратился в бегство, как ожидалось. На его лице — ни удивления, ни страха. Никаких человеческих чувств. Подлетев к плацу, драконы наткнулись на взор его, как на неодолимую стену. Они сморщивались, съеживались в человеческий вид и кружились, как высохшие осенние листья. Потом тихо опустились на землю и сами послушно улеглись под солдатские шомпола.
— Признать! — закричали изгнанники. — Это Гроссмейстер! Признать его Гроссмейстером!
— Еще рано, — возразили ангелы. — Испытаем на нем ужас номер один.
— А не слишком ли? — послышались робкие голоса.
Я тоже считал, что ангелы хватили через край: никто не мог устоять перед ужасом номер один. Даже подлинный сатана, если бы он вдруг объявился здесь, ибо ужас номер один — сама Медуза Горгона.
Материализовалась она давно, еще до прибытия дяди Абу. Выйдя из леса, Медуза Горгона направилась к городу и взглядом своим все живое обращала в камень. Птицы падали замертво, даже мошкара сыпалась песчаной пылью. Высланные для ее усмирения могучие драконы и по сей день высятся за городом в виде исполинских гранитных памятников.
Неизвестно, какое опустошение произвела бы эта особа, если бы кто-то не догадался обуздать ее с помощью керамических роботов. Уж им-то окаменение не грозило. Медуза Горгона злобно вращала глазами, волосы-змеи на ее голове шевелились и шипели. Но роботы спокойно и деловито заковали ее в цепи и увели в бетонный бункер.
Гарпии, современницы Медузы Горгоны, подсказали Гроссмейстеру, что греческий герой Персей победил ее, пользуясь зеркалом. В бункере оборудовали телеаппаратуру, и та не хуже зеркала нейтрализовала взгляд гостьи. С тех пор изгнанники, особенно из руководящей элиты, частенько любовались телеизображением Медузы Горгоны. И вид пленницы был так ужасен, окаменевающая сила так непонятна и страшна, что ее нарекли уважительным именем — Миледи.
К несчастью, д’Артаньян не знал этого. В то утро он сидел в харчевне «Красная голубятня» и чувствовал себя почти как дома: харчевня овеществилась в точности такой, какой описана в романе «Три мушкетера». Д’Артаньян пил анжуйское вино и с грустью вспоминал Атоса, Портоса и Арамиса.
— Где вы, мои дорогие друзья? — шептал он. — Как мне вас недостает!
В харчевню влетел субъект с вытаращенными глазами и с порога закричал:
— Закрывайте окна! Сюда ведут Миледи!
Д’Артаньян вскинул голову и огляделся: уж не ослышался ли? В харчевне поднялась суматоха. Хозяин поспешно закрывал окна ставнями, многие посетители полезли под стол. Снаружи послышался топот и вопли:
— Спасайтесь! Идет Миледи!
Д’Артаньян выхватил шпагу и с криком: «Тысяча чертей!» — выскочил на улицу… Так и застыл он с обнаженной шпагой, замер навеки у входа в харчевню «Красная голубятня».
В центре города какой-то пьяный дракон вылетел из-за купола собора и с высоты пытался атаковать Миледи, но сразу же рухнул на мостовую и с грохотом рассыпался каменными обломками.
Худенькому гостю пришел конец — в этом уже никто не сомневался, в том числе и я. Вот Миледи ступила на плац. Угрюм-Бурчеев повернулся в ее сторону, взгляды их встретились, и… Медуза Горгона окаменела!
Это было так неожиданно и невероятно, что изгнанники, раскрыв рты в беззвучном крике, словно тоже окаменели.
Угрюм-Бурчеев так и не понял, что одержал великую победу. Тихим голосом он что-то сказал солдатам, и те начали хлестать шомполами неподвижную и безгласную Миледи, высекая искры из ее гранитной спины. Зрители тем временем пришли в себя и закричали:
— Гроссмейстер! Великий Гроссмейстер!
Заплескались аплодисменты, поднялся вой, визг. Набиравшую силу вакханалию прервал голос с экрана:
— Непобедимый!
Сердце у меня сжалось от предчувствия беды: дядя Абу решил померяться силами! Но по моим расчетам дьявольское всемогущество истекло из него, выкапало до капельки, испарилось. Сейчас он так же слаб и физически не защищен, как и я.
Часть передатчиков перелетела на другую окраину города, мы увидели сверху историческую Аппиеву дорогу, на которой лежала пыль веков. Подпрыгивая на выбоинах и оставляя за собой пыльный шлейф, мчалась колесница, запряженная тройкой драконов. Телепередатчики снизились и крупным планом показали дядю Абу. Был он, к моему огорчению, изрядно выпивши. Его глаза светились демонической удалью и мальчишеским желанием порезвиться, тряхнуть «богатырской силушкой».
— Братцы! Друзья мои! — взволнованно обратился я к конвоирам. — Его выручать надо. Пойдете со мной?
— Хоть куда, — заверили гусары, тронутые обращением «друзья мои».
За дни совместной жизни черти привязались ко мне, да и я испытывал к ним симпатию. Они пошли за мной в ту сторону, где виднелась фигура нового Гроссмейстера. Шли, замирая от страха. Признаться, и я приближался к Угрюм-Бурчееву с возрастающей тревогой и робостью, еще толком не зная, каким образом смогу помочь дяде Абу.
Рядом с Угрюм-Бурчеевым, угодливо улыбаясь, стоял агент царской охранки. Он, видимо, сразу почувствовал в пришельце что-то родное, привычное и сейчас, нашептывая, вводил нового Гроссмейстера в курс дел.
К плацу подлетела колесница. Из нее выскочил дядя Абу и воскликнул:
— Я Дахнаш, сын Кашкаша! Я великий и непобедимый джинн!
При этом он картинно вскинул руки. Однако превратиться в великана с громовым голосом не смог. Дядя Абу сделал еще попытку и вдруг, опустив руки, побледнел. Он все понял. Растерянно оглядевшись, дядя Абу топнул ногой, желая провалиться сквозь землю и тем самым избежать позора. Но даже такой простой трюк у него не получился.
— Кто это? — бесцветным голосом спросил Угрюм-Бурчеев.
— Сам Непобедимый, — шепнул агент царской охранки.
— Выпороть его! Розгами!
Двое солдат с розгами подошли к дяде Абу. Еще трое солдат связали ему руки и начали расстегивать брюки. Дядя Абу побагровел и предпринял отчаянную попытку вырваться из цепких солдатских рук. Потом поник и, озираясь, шептал:
— Как? Это меня-то? Розгами? Как мальчишку?
— Не смейте его трогать! Не смейте! — Сам не свой, я кинулся к солдатам и встал, придавленный ледяным взглядом стальных глаз.
— А это кто? — спросил Угрюм-Бурчеев.
— Друг Непобедимого, — ответил агент царской охранки и посмотрел на меня с мстительной ухмылкой. Он был уверен, что теперь-то я попался.
— Сквозь строй его!
Солдаты, а их было около сотни, выстроились в две шеренги лицом друг к другу. В руках у них появились палки. Я даже не пытался сопротивляться, когда мне за спиной связывали руки. Только сказал верным конвоирам:
— Сейчас мне и моему другу будет худо. Очень худо. Постарайтесь сделать то, что сейчас скажу.
Мои гусары стояли смирно, вытянув руки по швам. Поэтому Угрюм-Бурчеев и не трогал их. Они выслушали меня и кивнули в знак того, что все поняли и все сделают.
На мою обнаженную спину с двух сторон посыпались удары. Я вскрикнул от боли, потом сцепил зубы и глухо мычал. Краем глаза увидел солдат, с равнодушием и методичностью роботов поровших розгами дядю Абу. И я захохотал. Это был неудержимый полуистерический хохот. Мне представился гротескный комизм ситуации: ведь нас, представителей человечества, лупит сейчас нами же созданная цивилизация, нами же разгоняемый индустриальный прогресс… В глазах закружился темный искрящийся туман, и сознание покинуло меня.
Очнулся я на опушке леса. Гусары постарались на славу: засунули нас не в любую высокую траву, как я просил, а в крапиву. Словно знали, что она обладает хорошими лечебными свойствами. В спине я почувствовал зуд и покалывание. Это дядя Абу осторожно прикладывал к моим ранам листья крапивы. Потом он помог мне перебраться под тень густой сосны.
— Бедный малыш, — жалостливо шептал он. — Как они тебя разделали.
— А с тобой-то что?
— Со мной ничего. Только вот сидеть не могу, — сконфуженно ответил дядя Абу. И вдруг голос его задрожал от ярости. — Негодяй! Высек меня, как мальчишку. Это меня-то! Да я ему!..
— Успокойся, дядя Абу. Ты стал обыкновенным человеком, и пора привыкать к этому.
Шагах в пятнадцати от опушки сидели на пригорке мои конвоиры и скулили от одиночества, страха и тоски. К горлу подкатила такая теплая волна благодарности, что я, преодолев слабость, встал и подошел к ним.
— Спасибо, друзья. Идите в город без меня. Не бойтесь. Сейчас все будет не так, как раньше.
Черти и сами с ужасом догадывались, что при новом Гроссмейстере все будет по-другому. Город пугал их теперь не меньше леса. Они нерешительно побрели к его окраине, то и дело приостанавливаясь и оглядываясь. Я, как мог, подбодрял их.
Дядя Абу увел меня в лес. На сухой полянке мы посидели часа полтора, отдохнули. Солнце клонилось к закату и золотило верхушки деревьев. Еще через полчаса под ногами расстелились длинные тени, и я стал с беспокойством оглядываться.
— Скоро появится…
Чуть было не сказал: «мой Черный паук», — но спохватился. Дядя Абу пока не должен знать, что перед ним выходец из прошлых веков и к тому же создатель черного людоеда. Да и кто я на самом деле? Я давно перестал быть Пьером Гранье. Он испарился, ушел из меня, как джинн из дяди Абу.
— Да, сейчас мы с тобой беззащитны перед пауком, — угадал мои опасения дядя Абу. — Поживем пока у бабы Яги. Паук боится ее, как огня. Добрая старушка живет где-то здесь.
Но где именно, дядя Абу не знал. Мы проплутали до позднего вечера. Под густо сросшимися ветвями и в кустарниковых низинках скапливалась и клубилась тьма. Мы ускорили шаг, но за нами неотступно тянулись волокна мрака. Они извивались, сплетались в змеиные клубки на светлых прогалинах с шипением таяли. Опустилась ночь, и позади нас послышались звуки, от которых становилось не по себе: какие-то шорохи, сопение, уханье. Обернулись и в страхе попятились: мохнатый Черный паук глядел на нас зеленовато светящимися глазами.
Из последних сил мы поспешили на светлевшую впереди поляну и там увидели наконец забор, похожий скорее на частокол. На его кольях висели человеческие черепа, пустые глазницы которых замигали вдруг багровыми углями. Преследовавший нас паук остановился, в неописуемом ужасе зашипел и замахал передними лапами. Повернувшись, он побежал в чащобу и рассеялся в непроницаемой тьме, слился со своей стихией.
Мы открыли скрипучую калитку, и перед нами предстала избушка на курьих ножках. Окна хилой, но довольно вместительной хибары светились, ее мшистую крышу серебрила луна.
Вверху, над черными макушками деревьев, закрывая временами лунный серп, летал какой-то горшок. Описав круг, горшок снизился и опустился у порога. Это была медная ступа. Из нее проворно выскочила сгорбленная старушка с клетчатым платком на голове. Лицо у нее морщинистое, с некрасивым скрюченным носом, но доброе и чуть хитроватое.
— А, ясные соколы, — насмешливо приветствовала она. — Прискакали лечиться? Видела, как лупили вас. Все видела. Заходите.
Старушка была в курсе всех событий, хотя телевизора в ее горенке мы не обнаружили. Горенка освещалась горящими лучинками. В дрожащем, прыгающем свете мы увидели пучки сухих трав, подвешенные на бечевках. В затянутых паутиной углах метались тени, похожие на летучих мышей. На печке в горшке что-то кипело, булькало, пузырилось. Старушка подсыпала в целебное варево зерен и, делая костлявыми руками кругообразные движения, забормотала заклинания.
Дядя Абу стоял тихо, не желая нарушать ее творческий экстаз. Наконец не выдержал, с трудом вытянул из Памяти телевизор и поставил его на дощатый стол. Он хотел узнать, что делается в городе. Но старушка притронулась к антенне, и экран погас.
— Не травмируйте психику, — решительно заявила она. — Рано вам смотреть такое.
— Но мы здоровы, — робко возразил дядя Абу.
— Много вы знаете, — фыркнула бабуся. — Покажите лучше свои раны.
Увидев багровые полосы на моей спине, она всплеснула руками и запричитала:
— Бедные мои! Как исхлестал он вас. Как исхлестал!
Добрая баба Яга окунула в бурлящее варево широкие листья клена и покрыла ими мою истерзанную, ноющую спину. Я зажмурился от приятной теплоты и целительной щекотки. Минут через пять боль как рукой сняло, а дядя Абу даже сидеть мог.
— Ловко, — восхитился он.
— То-то! — подняв палец, поучительно сказала старушка. — Сейчас приготовлю вам чай, а сама отправлюсь по делам.
Вскоре душистый напиток был готов, а бабуся уселась в свой летательный аппарат — медную ступу, выпорхнула в распахнувшуюся дверь и растаяла в лунном сиянии. Трудолюбивая, как пчела, она и ночью выискивала лекарственные травы, коренья, семена.
Мы присели к телевизору. Но как ни бился дядя Абу, экран не загорался.
— Ну и бабуся, — сердился этот знаток электроники. — Ловко заблокировала. Заколдовала.
Наконец экран замигал и высветил гряду волокнистых, пронизанных лунными лучами облаков. Летающие микропередатчики повернулись объективами вниз и с большой высоты показали город.
С ним творилось что-то неладное. Уличные фонари и рекламные щиты гасли, целые кварталы исчезали, будто проваливались под землю. Во мгле слышались вопли изгнанников и грохот рушащихся зданий. Угрюм-Бурчеев, как мы догадывались, маршировал и на пути своем сметал все лишнее. Может быть, он задумал на месте старого города воздвигнуть новый?
Решили подождать до утра. Выпив пахучее бабушкино зелье, мы улеглись на охапки сухого сена и провалились в глубокий исцеляющий сон.
Проснулись около полудня. На столе кучки только что собранных трав, но сама бабуся отсутствовала.
— Что же с городом? — спросил дядя Абу.
Мы включили экран и ахнули: города не было! Солнце не играло на куполах, не искрилось на шпилях: ни церквей, ни храмов, ни величественных дворцов. Кругом, насколько хватал глаз, необозримая равнина — унылая и плоская, как тундра. Лишь на бывшей центральной площади сиротливо торчала громада собора Парижской богоматери, увенчанная багровыми буквами — ЦДП. От собора во все стороны тянулись посыпанные песком улицы и геометрически правильные ряды приземистых казарм.
Из многих тысяч телепередатчиков уцелел лишь один. Но это был удивительный передатчик — озорной и резвый, как расшалившийся ребенок. Он игриво порхал, взлетал и снижался, выхватывая эффектные ракурсы. Застыв на месте, он долго показывал окруженный казармами строевой плац. На нем сновали изгнанники, одетые, как в былые времена, кто во что горазд: в черные фраки, в голубые мундиры, в украшенные позументами камзолы. Среди них и мои конвоиры. Узнал я их с большим трудом, так как нарядную гусарскую форму они сменили на серые солдатские шинели. «Молодцы, — мысленно похвалил я их. — Догадались!»
Изгнанники суетились, сбивались в кучки и, размахивая руками, громко спорили. С испуганными лицами они выкрикивали новые
для себя слова: шомпола, розги. Горожане не могли взять в толк, как угодить неумолимому Гроссмейстеру. Как ни старались, их все равно ждала порка.
По улице к плацу бежал субъект с развевающимся на ветру пестрым галстуком. Лицо его искажено таким ужасом, словно за ним гналась Медуза Горгона.
— Идет! — вопил он. — Идет Гроссмейстер!
По улице, четко печатая шаг, шел Угрюм-Бурчеев. Рядом вертелся агент царской охранки, а чуть позади правильным строем шагали оловянные солдатики. Ино-гда они вытягивались в рослых солдат и снова сворачивались в оловянных пигмеев.
В левой руке новый Гроссмейстер держал все ту же книгу. Если раньше она вызывала у изгнанников смех, то сейчас они смотрели на нее с каким-то суеверным ужасом. Они уже прочитали название — «Устав о не-уклонном сечении» — и вполне уяснили его страшный смысл.
Изгнанники опустились перед Гроссмейстером на колени и, стараясь снискать расположение, захлопали в ладоши — ничего нового они придумать не могли. Угрюм-Бурчеев глядел на горожан ничего не выражающим взглядом. Чувствовалось, однако, что нестройные всплески аплодисментов и пестрота одеяний его раздражают. Он чуть шевельнул губами. Солдаты стали хватать самых нарядных и пороть их шомполами. Субъекту с пестрым галстуком удалось вырваться из солдатских рук.
— Не смеете! — кричал он. — Я депутат парламента! Конституция! Нам нужна конституция!
Глаза Угрюм-Бурчеева изменились… Нет, об этом истукане нельзя сказать, что слово «конституция» его словно громом поразило. Просто в стальном взгляде на миг промелькнуло что-то похожее на недоумение.
Солдаты тем временем оттащили депутата парламента в сторону, привязали к столбу и сложили у его ног дрова и хворост. Они уже усвоили этот вид казни. Телепередатчик продолжал нас удивлять. Уж не живой ли он? Не желая взирать на жестокую сцену, передатчик отвернулся. В его объективе — безмятежная голубизна с редкими облаками. Однако и здесь он не нашел мира и тишины: вместе с клубами дыма неслись к небу вопли сжигаемого депутата.
— Любуетесь? — услышали мы насмешливый голос вернувшейся бабуси. Погасив телевизор, она ворчливо добавила: — Шли бы лучше в лес погулять.
Вылазка в лес была просто необходима. Кони… Втайне мы постоянно думали о них, но вслух не заговаривали из какого-то суеверного чувства. Слишком многое зависело от того, как они примут нас.
В лесу стояла тишина, прерываемая гулкой дробью дятлов. В безлесных низинах попадались небольшие озера. Они сверкали под солнцем, искрились, словно смеялись живым русалочьим смехом. Но сами озорные существа не возникали и не беспокоили нас, не пытались искупать, хотя становилось жарко. Будто понимали, что нам не до этого, что мы чего-то боимся.
Да, я изрядно трусил. Я страшился самого себя, даже показалось на миг, что в каком-то подполье моем, в сыром, заплесневевшем углу еще таится скользкий, увертливый и душевно неароматный Пьер Гранье. А что, если Орленок учует его?
Еще больше меня тревожил дядя Абу. Рядом со мной, опустив голову, шел не самоуверенный джинн, а заметно приунывший, не веривший в свою удачу человек.
Час спустя показалась широкая луговина с редко расставленными ветвистыми деревьями. В их тени паслись красавцы: серый в яблоках Метеор и мой Орленок. Кони вскинули головы, увидели нас и радостно заржали. Истосковались они по людям.
Все страхи мои оказались напрасными. Орленок налетел на меня, как снежный вихрь. Я окунулся в развевающуюся серебряную гриву, как в пенистую волну, посмотрел в его глаза… И мы узнали друг друга! С огромным облегчением я обхватил теплую шелковистую шею.
Говорят, что человек — царь природы. Какой там царь! Жалкий и беспомощный, брошенный в страшный мир на произвол судьбы, я с благодарной нежностью обнимал не лошадь, а равное себе существо и надежного товарища.
А как же дядя Абу? Я вздрогнул и посмотрел поверх гривы Орленка. Его собрат Метеор доверчиво положил голову на плечо дяди Абу, и тот гладил шею коня с такой широкой и блаженной улыбкой, что я расхохотался.
— Дядя Абу! Да понимаешь ли ты, что произошло? Кони приняли нас. Ур-ра!
Вскочив на коней, мы носились по лесной поляне и веселились, как дети. Но приближалась ночь с ее страхами и паучьей тьмой, и мы присмирели.
— Коней мы здесь не оставим. Уведем к бабушкиной избушке, — предложил я.
Дядя Абу согласился со мной и со вздохом добавил:
— Запаздываем. Ну и попадет же нам.
Я рассмеялся: грозный джинн страшился гнева доброй старушки. Но та не сердилась. Взглянув на нас, она что-то проворчала и повернулась к очагу. Сгорбленная спина ее, весь ее поникший вид выражали такую обреченность, что мы пожалели бабу Ягу. Она понимала, что скоро мы покинем ее.
Дядя Абу включил телевизор, но старушка с решительным видом погасила экран.
— Завтра полюбуетесь. Сейчас выпьете чаю — и спать!
Мы покорились. Мы понимали, что в такой своеобразной форме заботится о нас темневший за окном волшебный лес — осколок далекой Сферы Разума.
Проснулись, когда первые утренние лучи засияли в паутине, заткавшей угол избушки. Хозяйка уже улетела по своим делам. Мы подсели к телевизору, включили. Появился звук, и первое, что мы услышали, — панические крики:
— Черные дыры! Черные дыры!
Засветился экран, и открывшаяся картина испугала нас. В трех местах обширного казарменного поселения кружились черные вихри и заглатывали все, что попадало в сферу их притяжения. Они и впрямь напоминали космические черные дыры. Пробегавшие мимо горожане мгновенно всасывались и пропадали, стоявшие поблизости казармы трещали, крыши с них срывались и с шумом влетали в крутящиеся темные пасти.
Вихри улеглись, и на их месте обнажился каменистый грунт — тот первозданный грунт, какой был до прихода изгнанников и возникновения силового колпака. Это были поистине заколдованные места: стоило кому-нибудь по неосторожности ступить туда, и он бесследно исчезал.
— Зоны дематериализации, — догадался дядя Абу. — В волновых флуктуациях ученые нащупали нужные частоты, но не знают об этом.
— Мы должны вернуться, чтобы узнали.
— А этот прохвост? — возразил дядя Абу, имея в виду Угрюм-Бурчеева. — Нет, хочу полюбоваться, как его засосет дыра.
Черные вихри не возникали, что, однако, не принесло горожанам особого облегчения. Страх постоянный, ужас перед Гроссмейстером леденил души больше, чем кратковременный испуг перед черными дырами. Правда, простачков, пытавшихся одними лишь аплодисментами задобрить Гроссмейстера, становилось все меньше. В большинстве своем горожане последовали примеру моих конвоиров. Они переоделись в шинели и маршировали. Самых неумелых отводили в сторону, пороли и возвращали в строй.
Мне стало жаль изгнанников, своих бывших сограждан. Так и хотелось прочитать им одно место из «Истории одного города». Я взял из Памяти книгу и нашел эти строки: «Вовремя построиться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать».
Однако и без моей подсказки нашлись сообразительные горожане. Порхающий телепередатчик метнулся в сторону и показал пустырь за городом. Вот здесь-то и раскинулась хмельная вольница. Сбежавшиеся сюда изгнанники пили, пели песни и, сбросив человеческий образ и одежду, плясали в своем истинном, натуральном виде. О том, что происходило в городе, мы догадывались по звукам. Там как будто все шло своим чередом: свист шомполов и топот марширующих масс. И вдруг вновь послышались крамольные выкрики:
— Конституцию! Требуем конституцию!
Передатчик повернулся в ту сторону и высветил Гроссмейстера, тупо уставившегося на толпу. Видно было, что в его мозгу шла какая-то непривычная и трудная работа. В сумеречном сознании Угрюм-Бурчеева забрезжило нечто похожее на мысль, и на его тонких губах медленно выступила бледная улыбка, от которой изгнанников почему-то бросило в дрожь.
Гроссмейстер промаршировал мимо собора Парижской богоматери, подошел к камню, который торчал на площади наподобие постамента, взобрался на него и подождал, когда соберется побольше народу. Потом вскинул вверх правую руку, показывая всем «Устав о неуклонном сечении», и ясным голосом провозгласил:
— Конституция!
В толпе ахнули… Что же дальше? Дядя Абу нажимал кнопки, передвигал антенну, но с телевизором происходило непонятное. Изображение скакало, на доли секунды показывая то площадь, то кромку леса, то облака. Объектив странного, чуть ли не разумного передатчика прыгал и не мог ни на чем остановиться. Мы с дядей Абу переглянулись. В голову нам пришла одна и та же невероятная мысль: телепередатчик хохотал! Он плясал и кувыркался, закатываясь в безудержном смехе!
Что его рассмешило? Сцена на площади? Из картин, беспорядочно мелькавших на экране, с трудом удалось установить, что горожане, кажется, уже стояли на коленях и хлопали в ладоши. Они довели себя до привычного экстатического одурения и с восторгом кричали:
— Конституция! Ура! Гроссмейстер даровал конституцию!
Неожиданно передатчик замер, потом осторожно приблизился к Гроссмейстеру, вгляделся в его непо-движное лицо, снова отлетел и застыл в недоумении. Мы с дядей Абу тоже ничего не понимали. Угрюм-Бурчеев уже довольно долго стоял на постаменте все в той же позе, вглядываясь вдаль и держа над головой «Устав о неуклонном сечении». Стоял, не шелохнувшись. Пролетавший мимо воробей сел на его голову и сотворил неприличие. Гроссмейстер никак не реагировал. И только тут мы сообразили: Угрюм-Бурчеев окаменел! Яд Медузы Горгоны с опозданием, но все же подействовал!
Превращение Гроссмейстера в монумент обывателей города не удивило. Они приняли это как должное. Они все так же хлопали в ладоши, потом маршировали и снова аплодировали. А Гроссмейстер все стоял, олицетворяя незыблемость установленного им порядка.
Телепередатчику стало скучно. Он отвернулся и показывал только зоны, где царило веселье и куда не проникал окаменевший и потому еще более страшный взор Угрюм-Бурчеева. У самой опушки леса, но все ближе и ближе к городу, возникали кабаки, пивные бары, рестораны. Там слышались хмельные крики, звон разбитой посуды, визг транзисторов. Сюда сбегалась и слеталась нечистая сила, сумевшая вырваться из марширующих колонн. Перед ресторанами пьяные черти в обнимку с историческими персонажами пели и плясали, в небе летали ведьмы и гарпии. Кругом вопли, рев, свист.
Чуть в стороне стоял одноногий Джон Сильвер и, задрав голову, с удивлением взирал на трех гигантских драконов. Картина, и впрямь достойная Гомера или Рабле. Драконы, похожие издали на портальные краны, держали в лапах карты размерами с крышу дома. Они были очень веселы и пьяны в дым в буквальном смысле этого слова. Из их пастей вместе с хриплыми восклицаниями вылетали тучи дыма и языки пламени. Драконы гулко хохотали, резались в карты, а ром пили из больших бочек, как из стаканов.
На нашем экране побежали искры, поползли змеино извивающиеся черные полосы. Дядя Абу долго возился у телевизора, но добиться сносного изображения не смог.
— Непонятные помехи, — сказал он.
За окном послышался тревожный и похожий на стон шум леса. Мы выглянули. Под ледяным, волнами наплывающим ртутно-тяжелым ветром клонились верхушки деревьев и таяли. Почерневшие и помертвевшие листья падали и, не достигая земли, исчезали. — Сюда приближается черный вихрь! — крикнул я. — Пора бежать!
Дядя Абу вскочил и бросил старинный конноармейский клич:
— По коням!
Рысаки нервно топтались перед избушкой и, чуя недоброе, всхрапывали. Мы вскочили на коней, и они понесли нас через рощи и поляны, через речки и овраги. Они знали свое дело. Миновав поляну, на которой паслись еще вчера, влетели в прямую, как стрела, просеку. По-темнело: макушки деревьев сомкнулись и скрыли небо. Мглистая, похожая на тоннель просека поглотила нас, как трясина, всосала, как аэродинамическая труба. В этом было что-то жуткое, но одновременно интригующее и захватывающее. Набирая немыслимую скорость, рысаки переходили из обычного бега в таинственный бег во времени. И вот лесной тоннель исчез, швырнув нас, как из катапульты, во мглу тысячелетий.
Венок Аннабель Ли
Тьма, густая и вязкая, как нефть, струилась и текла назад волнами пройденных веков. Но каких? По каким столетиям и континентам беззвучно стучат копыта рысаков?
Временами чуть светлело, и поредевшая мгла угадывалась нами, как предрассветные сумерки человечества: проплывали тени, похожие на стада мамонтов, мерцали огоньки — костры первобытного люда. И вновь в сгустившемся мраке стремительно уносились назад неразгаданные века. На миг полыхнули и тут же погасли багровые зарева войн двадцатого столетия. И опять струистая неразличимая мгла. Она редела, сквозь ее рваную лохматую ткань сверкнули солнечные поля, скрылись и снова появились. Копыта коснулись чего-то осязаемого и твердого. Они коснулись пространства!
В ушах зашумел мускулисто-упругий ветер, в ноздри ударил аромат полей, замелькали зеленые рощи с белыми мазками берез. Бег замедлялся. Наконец кони остановились, оглянулись и почувствовали: они дома! Они заржали, начали прыгать и резвиться, как жеребята. Мы кое-как уняли их и соскочили на землю.
Тут и со мной случилось почти то же, что и с конями. Я захохотал и помчался по поляне, до головокружения напомнившей мой родной луг и мое детство. Со всеми кустами и травами я встречался словно после долгой разлуки. Я все узнавал!
— Как дитя, — смеялся надо мной дядя Абу.
Вдруг он вздрогнул и трусливо спрятался за кустом. В чем дело? Из густых трав, с той стороны, где виднелось село, вышли трое малышей и зашагали вдоль ручья.
— К озеру спешите? — спросил я их. — Смотрите, не опоздайте. А то Кувшин задаст вам. Он строгий.
— Ничего не задаст! — восклицали они. — Мы сего-дня не к нему. Нас дедушка Савелий ждет.
«Счастливцы», — подумал я с остро кольнувшей грустью по ушедшему детству. Дядя Абу вышел из-за куста и с невыразимой тоской провожал взглядом ребятишек. Я хотел спросить, почему он их испугался, но в это время сверху в невидимых капсулах посыпались люди. Среди них… мой отец! Я смутился. Кто я для него — Василий Синцов, его сын, или все еще тот увертливый выходец из прошлого? Как поступить? Выручил отец. Без лишних нежностей и сантиментов он, пожав руки, поздоровался с нами и поздравил с успехом.
В таких же капсулах (или это были невидимые и неощутимые лифты?) мы взлетели в тысячекилометровую высь и очутились в вечно цветущих садах внеземной станции. Здесь люди стыдливо прятали остатки «железной технологии», без которой, к сожалению, еще не могли обойтись. Здесь я видел симбиоз живого и неживого: в травах и на ветвях кустарника вместе с цветами «росли» светящиеся приборы с цифрами и стрелками. С их помощью ученые будут «вычитывать» нашу память в течение нескольких дней. На все эти дни мы с дядей Абу поселились на станции.
После полудня, спустившись на Землю, мы отдыхали, бродили в лесах и полях. При встречах с детьми дядя Абу вздрагивал, краснел и воровато оглядывался в поисках, куда бы спрятаться. И смешно, и грустно. Я уже догадывался, в чем дело, и сочувствовал дяде Абу. Его неудержимо тянуло к ребятне, но он до ужаса стыдился своего недавнего «демонического» прошлого.
Однажды мы остановились перед рощей, которую я привык называть Тинкой-Льдинкой. И что-то острое до боли стиснуло мне грудь, в памяти всколыхнулся, закружился рой далеких видений: Кувшин, фея с лицом ясным, как утренняя заря. Это была тоска по ушедшему детству — чувство, схожее с ностальгией звездоплавателей.
А что это так, я вскоре убедился. Тут же у рощи мы встретились с астронавтами, только что вернувшимися из дальнего рейса. Они пригласили нас на Дон — многие из них родились в тех краях. Мы согласились и через несколько минут перелета стояли на холме. Его склоны пенились седыми метелками вейника, лоснились ковылем, а внизу беззвучно катил свои воды Дон. На берегах зеленым дымом клубились кустарники, чуть дальше стояли белоствольные березовые рощи. А за ними до самого горизонта простиралась степь. Многое повидала она на своем веку. Когда-то здесь грохотали и горели танки с черной паучьей свастикой; еще раньше проскакала на «тихий» Дон конница Буденного; и уж совсем в седой старине остановились Игоревы полки «испить шеломом» из великой реки. Отшумели и ушли в небытие столетия, но память о них хранит в своей зеленой груди вот эта степь — древняя и вечно юная степь. Как и тысячи лет назад, звенят над нею жаворонки и все теми же караванными путями улетают на юг журавли.
Но во многом степь изменилась. На некогда пахотных землях появились светлые перелески и глухие мшистые дубравы. В одну из них мы вошли как под крышу из густо сросшихся ветвей. Рядом со мной шел капитан звездоплавателей. В его серых глазах, еще хранивших блеск неведомых солнц, я видел и радость свидания с родной природой, и тоску, накопившуюся за многие годы странствий вдали от Земли.
На одной из полян мы остановились под огромным дубом. Среди ветвей скакали розовые лучи заходящего солнца: океан листвы то плескался под легким ветром, то умолкал.
— Дриада, — мечтательно прошептал кто-то из астронавтов.
— Не обольщайтесь, — усмехнулся капитан. — Мы уже не дети.
Но вожак астронавтов ошибся. И в жизни взрослых бывают минуты, когда природа откликается на их самые затаенные и глубокие переживания. От дальней излучины Дона, блеснувшей сквозь ветки кустарника, донесся еле уловимый голос. Казалось, пела сама река, грустя о чем-то дорогом и навеки утерянном, ушедшем в невозвратимую даль.
— Тише, — сказал тот самый астронавт, которому почудилась дриада. — Узнаю голос. Это изгнанница с Рейна.
Неужели та самая, сказки о которой я читал, еще будучи маленьким Василем? Сочиняли их в основном вернувшиеся домой астронавты. Они видели в ее судьбе много схожего со своей судьбой. Особенно запомнилась сказка «Скиталица», созданная ныне живущим автором.
В очень давние времена, говорилось в этой сказке, на берегах Рейна жила русалка Лорелея. Своим голосом она завораживала рыбаков и путников, поэты слагали о ней баллады и песни. Но годы шли, и русалке приходилось все трудней. В нее переставали верить, считали ее никчемной и пустой выдумкой. Люди вырубали леса, строили пыльные города, отравляли воду. В реке перестала водиться рыба, и даже в самых укромных заливчиках увяли кувшинки. Испуганная Лорелея спряталась в илистой заводи, куда не могли заплывать трескучие моторные лодки. Прошли десятилетия, и однажды вечером (это случилось во второй половине двадцатого века) она вышла из убежища и решила пробудить души людей своим дивным голосом. Русалка села на обрывистый берег и вдруг, похолодев, обнаружила, что не может петь — в горле у нее першило от копоти и сажи. Она панически огляделась: кругом дымились заводы и фабрики. Посмотрела вниз: вместо голубых струй Рейна — маслянистый ядовитый поток. В ужасе заметалась Лорелея, потом села на обрыв и долго рыдала над погибшей рекой. И наконец решила бежать. Куда? Она и сама не знала. Влажными испарениями она поднялась ввысь, слилась с седыми тучами и долго носилась с ними над планетой. Внизу прошумела неведомая ей людская жизнь, и века промелькнули, как миг. И вот недавно, уже во времена разумной и одушевленной природы, Лорелея тихим дождем пролилась над берегами и водами Амазонки. Снова ожила, полной грудью вдохнула свежий воздух, искупалась в удивительно чистой реке. Потом огляделась. Берега с яркой зеленью ей понравились, но все же это не родные леса. Может быть, вернуться на милый Рейн? Но вдруг вспомнила, каким страшным она его оставила. Отчаяние охватило ее, и на глаза навернулись слезы. Напрасно убеждали Лорелею ее новые подруги — русалки, что Рейн сейчас еще чище, чем в самые ранние века. Не верила она им. С тех пор, опасаясь и близко подойти к Рейну, Лорелея скитается по материкам, находя временное пристанище в водах Ганга и Миссисипи, Енисея и Волги. Но покоя нигде не находила. Изредка выплывала, садилась на берег и тревожила людей печальными песнями.
Вот как сейчас… Затаив дыхание, скитальцы звездных морей осторожно приблизились к прибрежному кустарнику и раздвинули ветки. На противоположном берегу сидела скиталица — их родная сестра. Освещенная вечерними лучами, она походила сейчас на ту Лорелею, какой увидел ее в своем воображении старинный поэт Генрих Гейне:
Там девушка, песнь распевая,
Сидит на вершине крутой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руках — золотой.
Да, под закатным солнцем она пламенела, расплавленным золотом струились ее волнистые волосы, а гребень в руках сверкал, как раскаленный. Расчесывая волосы, Лорелея на минуту умолкла. Потом снова запела, и река наполнилась голосом, в задумчивых и протяжных переливах которого звучала грусть об утерянной родине.
Заметив нас, русалка вздрогнула и уронила гребень. Вслед за ним с тихим плеском скрылась в реке и сама Лорелея.
Она очистила наши души от всего тягостного, что накопилось за годы скитаний; она принесла такое же облегчение и радость, как произведение искусства, как античный катарсис.
С тех пор я часто уединялся, заходил в знакомые с ранних лет рощи, бродил по берегам реки и все надеялся увидеть хоть кого-нибудь из своих прежних спутников. Но все напрасно.
И все же встреча, изрядно смутившая меня, произошла. Как-то после захода солнца я вышел из леса и на лужайке увидел девушку. Она подняла руки и, чудо! — к ее пальцам стекались звуки с опушки леса, из кус-тарника, из травянистых холмов: здесь и журчание ручья, и пение малиновки, и говор листвы. Фея Мелодия? Слышал я о такой редкой гостье. Только она могла из нестройного шума природы воссоздать гармонию. Незнакомка вскинула руки в вечернее небо, где зажглись первые звезды; и оттуда, из далеких космических сфер, упали совсем иные звуки, не подвластные фее. Может быть, это земная девушка, которая учится на композитора? И многое ей, на мой взгляд, удавалось просто здорово. Казалось, в ее пальцах — все голоса, мира, вся музыка Вселенной, начиная с песни маленького жаворонка и кончая голосами больших планет.
Девушка повернулась ко мне лицом, и я, попятившись, спрятался за сосной. Это же Вика! У нее оказались незаурядные способности. Фея весенних лугов, эта легкомысленная тетя Зина, не ошиблась, одарив ее своим знаком…
Я поспешил покинуть место, облюбованное Викой для творческого уединения. Что я ей скажу? Да и кто я такой сейчас?
От вновь возникших жестоких сомнений, от душевных бурь и треволнений спасало общение с дядей Абу. Пока лишь с ним я чувствовал себя свободно и раскованно. Мы уходили куда-нибудь подальше, садились на пригорке или берегу ручья и вспоминали свои приключения, спорили. Но вскоре случилась беда: шумные ватаги ребятишек похитили у меня дядю Абу.
Однажды, закончив дела на внеземной станции, я опустился недалеко от села, где на одной из полянок договорился встретиться с дядей Абу. Он уже был на условленном месте, но на меня не обратил ни малейшего внимания. Для него вообще весь мир перестал существовать: дядя Абу сидел в кругу мальчишек.
— А еще кого там встретил? — спрашивали ребята с округлившимися от жадного внимания глазами.
— Пирата, — ответил дядя Абу. — Самого настоящего живого пирата. Не верите? Сейчас покажу. Интересно, узнаете вы его?
Дядя Абу встал, согнул в колене ногу и так ловко подтянул ее, что ноги будто и не было. Под мышкой у него появился костыль, а на голове широкополая шляпа. Очень картинно выглядели пистолеты, воинственно торчавшие за поясом, и синий камзол с медными пуговицами. Ребята сразу узнали своего любимца. Они плясали вокруг одноногого пирата и кричали:
— Джон Сильвер! Здравствуй, Джон Сильвер!
Попугаи в окрестных лесах, к сожалению, не водились. Выручил ворон Гришка. Он хозяйски уселся на плечо пирата и хрипловато, но вполне сносно восклицал:
— Пиастр-ры! Пиастр-ры! Пиастр-ры!
Слегка раздосадованный, я ушел в березовую рощу, побродил с полчаса и вернулся на поляну в надежде, что дядя Абу освободился. Не тут-то было! Ребятишки вцепились в его штанины, в полы суконного камзола и умоляюще просили:
— Джон Сильвер, покажи, как ты был великим джинном! Покажи!
Одноногий пират преобразился в араба из сказок «Тысяча и одна ночь». Вскинув руки, дядя Абу с забавными ужимками и гримасами потешался над своим недавним прошлым.
— Я Дахнаш, сын Кашкаша, — гулко, словно из заоблачных высей, кричал он. — Я великий и непобедимый джинн!
Восторгу ребятни не было предела.
«Все. Дядя Абу для меня пропал», — подумал я. Однако поздним вечером я застал его в кустарнике на берегу реки. Дядя Абу сидел за старинным столом с витыми изогнутыми ножками и пил вино — от этой дурной привычки, приобретенной в изгнании, он еще не избавился. Лицо его порозовело, но выглядело унылым и скорбным.
— Алкаш, — с укоризненной усмешкой сказал я.
Дядя Абу грустно улыбнулся и жестом пригласил сесть.
— Тебе-то хорошо, скоро улетишь туда, — дядя Абу ткнул пальцем в небо, где засветились первые звезды. — А я останусь. Что буду делать? Чем заниматься?
— А наша работа на внеземной станции?
— Подходит к концу. Уже дематериализовали казарменный город и волшебный лес. Остров оголился и стал таким, каким и должен быть. А здесь погасла блуждающая зона: работа Памяти пришла в норму. Теперь наших ребятишек не будут пугать тени прошлого.
— Но ты еще не стар, дядя Абу. В космосе нужны историки.
— А ребятишки! — Дядя Абу испуганно взглянул на меня и в ужасе замахал руками. — Нет, нет! Не покину я их. Не могу.
Что верно, то верно. Без преданной звонкоголосой братии дядя Абу зачахнет.
— А фантастические романы! — вспомнил я. — В сюжетах недостатка испытывать не будешь. Мы с тобой многое повидали.
— Да, впечатления наши обогатились, — усмехнулся дядя Абу.
Выпив еще стакан вина, он совсем захмелел и начал, к моему огорчению, бахвалиться, как некогда в «Кафе де Пари».
— Все передо мной трепетали. Я был велик и могуч, как Вселенная. А как я тогда разделался с Раваной! Помнишь? Одним плевком!
Дядя Абу светился от упоения. И вдруг нахмурился: в памяти его возник невзрачный Угрюм-Бурчеев.
— Прохвост! — Голос моего собеседника кипел от гнева. — Выпорол розгами. Это меня-то! Непобедимого джинна!
— Как не стыдно, дядя Абу, — я покачал головой. — Напился, как мелкий бес. Что скажут ребята, если узнают?
Упоминание о ребятишках подействовало отрезвляюще. Дядя Абу побледнел, панически огляделся по сторонам и смахнул со стола бутылки. Не долетев до земли, они исчезли, растворились в Памяти.
— Все. Больше не буду, — твердо заявил он и с умоляющими глазами просил: — Только никому не говори, что застал меня в таком виде. Не выдашь меня?
— Что ты, дядя Абу! Как мог такое подумать. Поделись лучше новостями.
— Да, многое ты не знаешь. Стал каким-то странным.
— Чем же странным? — пожал я плечами.
— Каким-то меланхоликом. Бродишь один по лесам и полям. Все привыкаешь. А твои товарищи со знаками «Валькирии» спрашивают о тебе, ждут. Их экипаж готовится к полетам. Дружный экипаж. И назвали его…
— «Валькирии и викинги»! — догадался я.
— Верно. Полетят «Валькирии и викинги» в межгалактические дали, возможно, уже на новом и очень необычном корабле. При его создании пригодилась отчасти и твоя гипотеза.
— Моя гипотеза? — удивился я. — Ах, да! Еще в школе я поделился со Сферой Разума своими фантазиями о звездных рысаках. Но это же вздор, дядя Абу. Да и Сфера назвала мои мечтания чепухой.
— Чепухой? — улыбнулся мой собеседник. — Ты, я вижу, совсем одичал. И не знаешь, что произошло. Тогда слушай.
А произошло, оказывается, вот что. Сфера Разума в тот раз не отбросила мою гипотезу. Она записала ее в своей бездонной Памяти на всякий случай. И случай этот подвернулся.
Однажды один из конструкторов космических кораблей находился в творческом общении со Сферой Разума и уже в который раз мучительно искал что-то свое, качественно новое. Кажется, вот оно, то самое заветное новое решение, дразнящим облачком мелькает перед глазами… Но догадка каждый раз ускользала. Расслабившись, конструктор слушал музыку — иногда она помогала; смотрел ожившие образы древних легенд, связанных с полетами. Потом он возвращался к догадкам и гипотезам своих нынешних коллег. И тут Сфера Разума словно невзначай подсунула мою выдумку. Конструктор увидел звездного коня, скачущего по цветущим космическим лугам. «Вот это да!» — улыбнулся он. Но шальная выдумка все больше привлекала его, волновала своей поэтичностью. И вдруг словно молния вспыхнула… Ответ найден! Образ звездного рысака послужил искрой, воспламенившей воображение конструктора. Вскоре он вместе со своими коллегами проектировал невиданного доселе межзвездного летуна — живой организм.
— Корабль, конечно, не похож на твою лошадку, — улыбнувшись, продолжал дядя Абу. — Пробная модель уже вылетела в испытательный рейс, поднялась из эвкалиптовых лесов Австралии.
Из лесов!.. Я уже почти не слышал дядю Абу: фантазия моя поскакала галопом. Конечно же, из зеленошумных творящих лесов или даже из трав, подобно журавлям, будут взлетать живые корабли. В своем воображении я увидел космос — пылевые облака, озаряемые, как молниями, вспышками взрывающихся звезд; мглистые туманности, похожие на тучи. Меж ними, как над штормовым морем, реют межзвездные альбатросы. Оперение у них, как и положено птицам, — мягковолновое, но защищающее людей надежнее металлических обшивок прежних кораблей. Своими острыми клювами космические альбатросы рассекают, взламывают пространство и летят…
— Быстрее света! — словно уловив мои мысли, вос-клицал дядя Абу. — Но будущая экспедиция займет много лет, ибо отправится на самую окраину Метагалактики.
— Неужели туда? К самой отдаленной, похожей на кольцо Галактике? Ее нашли в созвездии Волосы Вероники, когда я еще учился в школе.
— Верно. В созвездии Волосы Вероники засияла, обнаружила себя новая галактика. Свет от нее пришел к нам через миллиарды лет, так что сейчас на ее планетах возможна жизнь.
— Кольцевую галактику ученые записали в каталоги под каким-то индексом, но образного названия еще не придумали.
— Ну и отстал же ты, Василь. Уже придумали. И не менее красивое, чем Волосы Вероники.
— Какое?
— Венок Аннабель Ли.
— Аннабель Ли! — Я вскочил так стремительно, что стул отлетел в сторону и провалился в Память. — Не может быть! Эта балерина еще не так знаменита, чтобы в ее честь…
— При чем тут балерина? — удивился дядя Абу. — Назвали просто так.
Но так ли уж просто? Спросить других людей я стеснялся. Сфера Разума? Она, конечно, выдала бы справку. Но вступить в телепатический контакт с нею не решился. Сумею ли?
Прошел еще день, а тайна названия не давала покоя, она так и жгла меня. Когда совсем стемнело, я сел на берегу реки и поднял голову, будто надеялся в глубоком ночном небе получить ответ. На первых порах не обнаружил созвездия Волосы Вероники. Очень уж оно слабое для невооруженного глаза. Но вот рядом с царственно сияющим Арктуром отыскал наконец еле светящиеся пряди звездной пыли. Вспомнилась легенда, давшая название этому созвездию. Египетская царица Вероника отрезала свои прекрасные волосы в знак благодарности Венере — та помогла ее мужу победить в войне. Волосы исчезли из храма, но жрецы утешали Веронику, уверив, что сам Зевс взял их и поместил на небо в виде созвездия. Да, умели древние греки делать свое небо живым и поэтичным. Впрочем, и сейчас люди не уступали им: Венок Аннабель Ли!..
Но где этот Венок? Увидеть его просто так невозможно — он далеко на краю Вселенной. И вдруг мои глаза приобрели невероятную зоркость: Волосы Вероники, ее еле различимые звезды стали разгораться, как ветром раздуваемые угли. Они наплывали на меня, увеличивались… Я начал понимать: Сфера Разума уловила мое желание проникнуть взглядом за «околицу» мироздания и перестраивала в поле моего зрения структуру пространства, придавая ему телескопические свойства. Я будто летел среди планет и светил. Вот уже большие, полыхающие протуберанцами солнца Волос Вероники остались позади, и я вырвался за пределы родной Галактики — Млечного Пути. Распахнулась бесконечность с миллиардами иных галактик — плоских, как тарелки, круглых, как облака, закрученных, как огненные спирали. И на самой окраине Вселенной еле заметно мерцало кольцо: тот самый загадочный Венок Аннабель Ли. «Ближе, еще ближе», — просил я Сферу Разума. Венок дрогнул, чуть увеличился — и все. Биосфера не бог, и всемогуществу ее есть предел.
Я опустил голову и задумался. Внизу, у самых ног с тихим плеском катила свои воды река. В ней плясали звезды, мелкими осколками дробилась луна, а на противоположном берегу реки в кустах реяли светлячки. Точно такие же ночные огоньки сновали в кустах сирени на том холме, где я останавливался с балериной, провожая ее до станции миг-перехода.
А что, если?.. Сердце мое учащенно забилось. А что, если тайну названия узнать у самой Аннабель Ли? Вот оно, самое затаенное, самое глубоко запрятанное желание мое прорвалось наружу. Знал же я, чувствовал, что ослепительный образ «королевы» не оставит меня в покое. Но я робел. Аннабель Ли и манила к себе, и пугала, как молния.
На Лебединое озеро я отправился поэтому не ночью, когда мог нечаянно встретиться с балериной и ее подругами, а днем. Озеро как озеро. Ни малейшего намека на чародейство и таинственность. На знакомой отмели возились ребятишки и что-то лепили из сырого песка. Метрах в десяти от берега величаво застыли лебеди — не заколдованные волшебные девы, а самые обыкновенные лебеди. К ним подплывали ребята, гладили их, и белые красавцы снисходительно принимали ласки. Не желая мешать малышам, я покинул озеро.
Однако с наступлением сумерек снова очутился на том же берегу. И снова как будто ничего особенного. Только людей не было да в зеркальной глади не облака плыли, а тихо дремали звезды. И как я мог подумать, что озеро специально для меня развернет свою феерию?
Хотел уже уйти, как вдруг в неведомой дали, где-то на грани миража и реальности, возник еле уловимый мерцающий звук, потом еще один… И мягкими волнами поплыла над водой музыка из балета «Лебединое озеро» — удивительно нежная вальсирующая мелодия из вступительной части. А высоко в небе, опять же на грани сна и яви, что-то дрогнуло: то ли нити тумана шевельнулись, то ли звезды сильней замерцали. Будто белые бабочки крыльями взмахнули… Это же лебеди! Они все ниже и ниже. Сказочные птицы наконец коснулись воды и стали русалками. Ночные гостьи расправляли белоснежные платья, только что бывшие перьями, охорашивались. Потом, оживленно переговариваясь, зашагали к берегу и вскоре узнали меня.
— Наш красавчик! — засмеялись они. — Прискакал на свидание!
— Насмешницы, — погрозил я им пальцем. — Я и не скрываю, что хотел бы видеть вашу королеву.
— Она сейчас редко приходит.
— Ну а все же, когда можно ее увидеть?
Русалки по своему обыкновению упрямились, капризничали и отпускали по моему адресу довольно ехидные замечания. Но я стерпел насмешки и добился ответа:
— Завтра в это же время.
Идти или нет? Этот вопрос не давал мне покоя весь следующий день. Но вот опустилась ночь, загорелись звезды, и уж сам не помню, как очутился на том же берегу.
Совсем близко, шагах в десяти, под задумчивые, волнующие грустные звуки танцевали русалки, изображая то ли снежную метель приближающейся зимы, то ли кружение падающих листьев. Это был их прощальный осенний вальс. Увидев меня, они приподняли полы платьев, поклонились и рассеялись в ночи. Ушли… Ни одной насмешки при этом, ни одной колкости. И на том спасибо.
На водной глади, рядом с отраженным и чуть вздрагивающим диском луны, стояла Аннабель Ли. И такая тишина вокруг, что слышен был шорох ее платья, когда она приближалась ко мне. Ступив на берег и не поднимая ресниц, с укором сказала:
— Снова здесь.
— Снова, — ответил я, страшась встретить взгляд ее фиолетовых глаз.
— Извини меня, Василь. Во всем виновата я. Шутка зашла слишком далеко.
— Шутка? Неправда! Разве это шутка?
— Проводи меня до той самой станции. Попробую все объяснить.
Шли сначала молча. Миновали приозерную рощу, потом дымно светившийся луг, где в низинках уже скапливался ночной туман, и остановились на холме. Внизу белел под луной купол станции, а прямо перед нами — темные и чуть шелестящие листвой кусты сирени. В их ветвях крохотными и беззвучными молниями мелькали светлячки.
— Да, сначала пошутила, — заговорила Аннабель Ли. — А потом не пойму, что случилось. То ли забылась, то ли всерьез увлеклась. Есть в тебе что-то необычное.
— Это ты необычная, — возразил я. — Вот ты сейчас рядом и в то же время неведомо где. Какая-то далекая тайна.
— Я и есть тайна.
На ее губах дрогнула странная усмешка — лукавая и печальная одновременно. Взметнулись камыши-ресницы, и я не мог оторвать взгляда от ее удивительных глаз. Не глаза, а две звездные бездны.
— Кто же ты? — робея, почти с испугом прошептал я.
— Я никто, — в голосе ее слышалась та же печаль… Или нет! Скорее жалоба, какая-то за душу хватающая бессильная жалоба. Но в тот же миг ее лицо осветилось улыбкой, и она весело, чуть ли не с вызовом сказала: — И в то же время я всё.
— Не говори загадками. У меня кругом идет голова от этих загадок. А тут еще галактика с названием Венок Аннабель Ли. И какое отношение имеешь ты к этой галактике?
— Самое прямое. А ты не знал? Да, это я собрала на лугу цветы, сплела венок и уронила его на краю Вселенной.
— Не понимаю…
— Сейчас поймешь. — Плавным жестом руки она обвела сумеречные поля, потом показала на небо и сказала: — Видишь свет далекой звезды? Это я. А смотри, как луна сияет в траве и как вьются нити тумана. Это тоже я. Слышишь лепет ночной листвы? Это все я. Я везде и нигде.
Аннабель Ли шагнула к кустарнику, и… Все так же дымились в ветвях паутинки лунных лучей, все так же реяли светлячки. А ее не было! Она рассеялась в свете далеких звезд, в мгле серебрившихся полей. И лишь в шелесте листвы еще будто слышался шорох ее платья.
Аннабель Ли — вымысел! Мираж! Это открытие поразило меня, как удар грома. В отчаянии и смятении я кинулся прочь. Бежал долго, не разбирая дороги. Запыхавшись, остановился перед тремя огромными дубами — теми самыми «Тремя Братьями». Я сел на бугрившийся корень, унял дыхание и услышал в глубине своей встревоженный голос:
— Что случилось? Ты мешаешь нашим психическим матрицам разойтись. Что тебя так потрясло?
— Аннабель Ли… Она… Она…
— Все-таки поскакал на свидание? Ай да молодец!
— Не издевайся. И без того тошно.
— Успокойся и расскажи по порядку.
— Она оказалась неземной девушкой. Вымыслом. Мечтой.
— Вон оно что. Тогда все понятно. И не переживай. Это я виноват, впутал тебя в странную авантюру.
— Не прикидывайся циником. Это не авантюра, не пошленькое увлечение. Нас пленила тайна и красота мира.
— Ай-ай-ай! Как разошелся! Как выгораживает себя и меня заодно.
— Перестань. Это самое поэтичное создание людей и Сферы Разума. Но кто она? Откуда?
— Не будем гадать, кто она. Чувствую, что тебя гложет еще что-то.
— Жгучий стыд. Это надо же — влюбиться в мираж. Узнают люди, засмеют. Особенно Вика. Это же Крапива!
— Ничего. Все уладится. Такие истории случаются со слишком влюбчивыми и легкомысленными. Для их же пользы. Земную любовь, если она крепка, не нарушат никакие шутки и проделки неземных красавиц. Все забудется. Забудь и ты свои тревоги и волнения. Поделись-ка лучше новостями. Что ожидает меня?
— Экипаж «Валькирии и викинги» и удивительный корабль. Но о нем умолчу — это сюрприз. Он доберется до самых окраин, до кольцевой галактики.
— Неужели? Помнится, новой галактике не поды-скали хорошего названия.
— Уже подыскали. И знаешь, какое? Венок Аннабель Ли.
— Венок Аннабель Ли! Кажется, догадываюсь, откуда пришла наша красавица. Она оттуда… Из звездных далей… Не читал, пренебрегал коллективным творчеством астронавтов… Дескать, непрофессионалы… А мог бы знать.
— Дружище, что с тобой? Слышу тебя все хуже и хуже.
— Мы отдаляемся… Наша последняя беседа… Хочешь знать, кто она? Поройся в книгах… Особенно — «Звездный фольклор».
Все. Как ни вслушивался, из глубин моих не поступило больше ни звука. Вскоре и внешний мир напомнил о себе: над сонной листвой Трех Братьев прошелестела крыльями какая-то ночная птица, вдали ухнула сова. И снова тишина. Лишь в ушах затихающим эхом звучали его последние слова: «Звездный фольклор». Но что это за книга? Где ее взять?
Вдруг кто-то невидимый, услужливый и понятливый пришел на помощь… Сфера Разума! В руках я ощутил прохладный переплет книги с искрившимся названием: «Фольклор астронавтов». Раскрыл ее, и передо мной распахнулась Вселенная — так странно выглядели черные бездонные страницы, где буквы светились, как звезды. Я с любопытством перелистывал космические страницы, потом понемногу стал вникать в содержание.
На первых порах попались легенды о богатыре… Стартовав с Земли, астронавты летят к созвездию Геркулеса, похожему своими очертаниями на гиганта с палицей. И вот светящиеся контуры созвездия шевельнулись и стали оживать, обрастать человеческими чертами. Гигант угрожающе взмахнул палицей… Я невольно начал улыбаться: приключения хвастливого космического Геркулеса, временами больше похожего на барона Мюнхгаузена, были очень комичны.
Я представил себе астронавтов, свободных от дежурства. Жестикулируя и перебивая друг друга, они с хохотом предлагают в свое коллективное творение поправки, неожиданные сюжетные повороты и смешные детали. Проходят годы. Новые поколения астронавтов подхватывают легенду, вносят что-то свое. Так скитальцы не только отдыхали, но и освобождались от ностальгических переживаний. Так создавался их фольклор.
Если легенды о заносчивом богатыре искрятся юмором и задором, то дальше шли сказки и баллады, полные щемящей грусти и лиризма. В них говорилось о русалках звездных морей. Но ни одна из них не походила на Аннабель Ли.
Я перелистал несколько страниц и наткнулся на раздел, где помещались наиболее совершенные коллективные творения астронавтов, ставшие потом в один ряд с шедеврами мировой
литературы. И один из этих шедевров — легенда о сотворении мира — открывался эпиграфом, строками старинного поэта-романтика:
И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель Ли;
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель Ли.
С первых же страниц я был захвачен, заворожен музыкой, ритмом, поэтичностью строк и той образностью, что лежит на грани волшебства. Черные страницы с буквами-звездами в моем воображении будто провалились в бездонную пучину с буйством первозданных сил, образовавшихся после первичного взрыва атома праматерии. Из хаоса рушащихся миров и вспышек огневых облаков, словно из пены морской, выступила стройная дева с фиолетовыми глазами. Белое платье ее соткано из мерцающей космической пыли, а черные волосы — пряди вселенской тьмы.
Сердце у меня учащенно забилось. Это она!.. Королева Лебединого озера! Немного успокоившись, стал читать дальше и обнаружил, что герои легенды, астронавты, которым повезло присутствовать при рождении мира, потрясены не меньше меня. В скафандрах они вышли из корабля в открытое пространство, где еще не было привычного мироздания, где сверкали исполинские молнии и гремели вулканы огня. Незнакомка подняла руки и повелительным жестом усмирила стихию. Бесформенный, грозно грохочущий океан огня подчинился красоте — преобразился в упорядоченные галактики, в звезды и планетные системы. На смену хаосу пришла гармония. И даже музыка почудилась в наступившей тишине — скрипичными струнами пели лучи солнц и волокна туманностей, серебряными колокольчиками звенели звезды. Они будто силились что-то сказать, нежным перезвоном пытались произнести имя своей повелительницы. Какое?
— Аннабель Ли! — воскликнул вдруг один из астронавтов.
Незнакомка повернулась и удивленно вскинула брови.
— Это вы меня так назвали? — улыбнулась она. — Мне нравится.
— Откуда ты? — спрашивали астронавты. — Кто ты?
— Не знаю, — с задумчивой грустью ответила она, потом с лукавой улыбкой добавила: — Я тайна.
Она повернулась и ушла в звездные скопления, затерялась в глуби своих владений.
Я читал с возрастающим волнением — так увлекателен и поэтичен был сюжет легенды, полный неожиданных встреч и превращений. Образ Аннабель Ли был многозначен и многолик. В одной из глав она становится неуловимой «скользящей по звездам», отдаленно напоминающей «бегущую по волнам» Александра Грина.
В последней главе Аннабель Ли — фея космических лугов. Упоенная красотой своих владений, она идет по бархатно-черным полям и не может оторвать взгляда от полыхающих вокруг цветов — оранжевых, синих, изумрудных звезд. Аннабель Ли наклонялась, гладила их, затем начала срывать и сплетать сияющий венок. Незаметно подошла к границе своего царства, к тому краю, где кончается все — вещество и свет, время и пространство. Она села на обрыв и, отложив в сторону венок, заглянула в пропасть. Изумленная, отшатнулась и огляделась. Снова наклонилась и долго не могла оторвать завороженного взгляда от разверзшейся бездны. Потом встала и, забыв венок, в глубокой задумчивости ушла. Что она видела — остается тайной…
Я отложил книгу. Образ Аннабель Ли, родившийся в звездных далях, спустился потом с космических высот и стал достоянием земных лугов и лесов, достоянием мудрой биосферы, ее живой Памяти. А затем на одном из красивых и звучных озер он материализовался… Нет, не поворачивается язык назвать этим неуклюжим, грубым, шершавым словом удивительный выход из мира волшебной выдумки в мир звезд и земных туманов, в мир звуков и форм, запахов и красок…
Но что со мной? Я сидел под кроной Трех Братьев, а туман, стлавшийся в степи, будто вползал в меня, сознание заволакивалось и гасло… На минуту оно прояснилось, и я, как утопающий за соломинку, судорожно цеплялся за корни дуба… Цеплялся за этот мир, стараясь удержаться в нем. Но я тонул! Я неудержимо падал в прошлые века! Сфера Разума нащупывала мое столетие и мой исходный образ. Мысли рвались, туманились и наконец погасли совсем.
Кто я?
Вместо эпилога
О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Ф. И. Тютчев
Пробуждение было столь внезапным, что я вскочил с кровати и ошарашенно огляделся. Где я? Опять в стране изгнанников? Заглянул в соседнюю комнату, но вместо дивана и спящих конвоиров обнаружил письменный стол и полку с книгами. Неужели это мой рабочий кабинет? Еще не веря себе, осторожно приблизился к окну. Подошел к нему с замиранием и страхом: именно за окном, в кустах на лужайке, часто поджидали меня кошмары — вампиры, пауки… Однако с высоты пятого этажа увидел светившуюся рекламными огнями знакомую ночную улицу.
Итак, я дома — в городе на Рейне и в своем столетии. Моя душа, моя «психическая матрица» тоже «дома» — в своем теле, в этом от рождения предназначенном мне «биологическом скафандре». Прошелся по комнате и сначала ощутил тяжесть «скафандра», вялость движений. Освоившись со своим телом, сел за стол и обхватил голову руками. Неужели все? Неужели Сфера Разума оставит меня здесь навсегда? Или город, который только что видел из окна, — мираж?
Но нет… Мне даже не пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться в обратном. Наступило утро, и город заявил о себе «весомо, грубо, зримо». Я вышел на балкон, и улицы оглушили грохотом, шипением, а в ноздри ударил ядовитый воздух. На востоке какое-то тускло светящееся пятно плавало в жутком, апокалипсическом мареве промышленных испарений. Неужто солнце?
В страхе закрыл глаза, постоял немного и снова открыл. Да, это обычное солнце моего времени. Просто я по-настоящему еще не вернулся из страны, где занимались ясные зори, просыпались росистые луга с журавлиными криками вдали.
Я вошел в комнату, и моя реальность еще раз напомнила о себе: щелкнул замок входной двери. Это жена открыла ее своим ключом.
— Доброе утро, Пьер, — кивнула она. — Я ночевала у тетки.
Она лгала и прекрасно понимала, что я знаю об этом. Но ведь и я частенько лгал… Тьфу, как неприятно вспоминать! Давно бы нам пора разойтись. Но все как-то откладывалось: не мешали друг другу «со вкусом ловить каждое пробегающее мгновение» — и ладно…
Обычно я встречал ее шутками и помогал снять плащ. Но в этот раз я нелепо засуетился и даже покраснел. Завтракали молча. Жена с недоумением посматривала на меня и, удивленно хмыкнув, заторопилась на службу. Что-то ее во мне смутило.
Я сел за стол и задумался. Понятно, что ее насторожило: я стал другим! Жизнь в дивной стране и мои скитания все во мне перевернули. И сейчас я здесь в нравственном смысле чужак, своего рода изгнанник.
А что, если?.. В голову мне пришла неожиданная мысль. А что, если все это мне приснилось? Во сне я как бы раскололся на две личности, раздвоился. Ведь никто не знает погребов и подвалов своего духа, в каждом живет что-то скрытое, задавленное средой и воспитанием. Когда приспособленец и жуир Пьер Гранье спал, в нем проснулось что-то нравственно ценное, что-то доброе глянуло из запыленных и пожелтевших страниц моей прежней жизни, зазвучала мелодия из полузабытого чистого детства — своего рода пастушья свирель… Тогда понятны ночные диалоги: Пьер Гранье беседовал и спорил не с вымышленным Василем Синцовым, а с самим собой, со своим лучшим «я». А мои удивительные переходы из страны изгнанников в мир волшебного детства и не менее сказочной юности — это борьба двух полярных начал в моей душе. В этой борьбе попеременно побеждали то Черный паук (и он чуть было не съел меня), то таинственный и неведомо куда зовущий Пастух.
Я встал и в волнении начал ходить из угла в угол. Получается какая-то чепуха. Выходит, что во сне я видел поток образов и по профессиональной привычке как бы лепил из них фантастический роман. Он-то и переделал мой внутренний мир: своим творчеством писатель не только «проявляет себя», как верно заметила умная Элизабет, но и формирует свою личность… Нет, вероятнее всего другое. Сфера Разума — а в ее реальности я не сомневаюсь — при перебросе в мое столетие разворошила во мне муравейник самых противоречивых мыслей и желаний, ассоциаций и видений. И муравейник до сих пор не улегся.
Желая обрести душевное равновесие и поскорее включиться в свою и, к сожалению, окончательную действительность, я сел за стол и принялся за привычное дело. Тем более, что меня ждала неоконченная фантастическая повесть «Диктатор Галактики». За время долгих странствий (вместившихся, однако, в одну секунду) я кое-что подзабыл и решил просмотреть ранее написанные страницы.
…Перечитал первые главы «Диктатора» и стал противен самому себе. Какая пошлость! Какой-то космический секс-балаган с убийствами, шпионами и звездными сражениями. Как и «Черный паук», такая повесть вполне могла бы сойти в мире изгнанников. Впрочем, в мире, в котором сейчас нахожусь, тоже… Но писать такое сейчас уже не могу. Произведения, приносившие ранее хороший доход, вызывают у меня отвращение. А ничего другого я делать не умею. Что меня ожидает? Голод?
Вспомнил, что в издательстве лежит рукопись другой повести. Если ее примут, то получу большую сумму денег. Года на два хватит, а там соображу, что к чему, найду выход.
А повесть та для меня необычная — волшебная сказка для детей, полная смешных и чудесных приключений. Удивляюсь, как мне, автору «Черного паука», удалось написать такую милую и добрую вещь. Видимо, именно тогда впервые послышались во мне далекие, как эхо, звуки пастушьей свирели…
Сегодня, кстати, я могу узнать о судьбе рукописи. Чтобы поскорее привыкнуть к своему миру, в издательство решил идти пешком. Перед дверью на минуту задумался. Вспомнилось, что Гулливер, вернувшийся домой из страны благородных лошадей-гуигнгнмов, на первых порах шарахался от людей: они ему казались отвратительными йеху. Не случится ли нечто подобное со мной?
Так и есть! В подъезде я столкнулся с грузным мордастым субъектом и отпрянул в сторону. Вампир! Мистер Ванвейден! Субъект удивленно взглянул на меня, потом приподнял шляпу и поздоровался. Я ответил кивком головы. Это же хозяин дома, в котором я живу. «Вампир и есть», — подумал я.
На улице я уже неплохо освоился. Мимо прошла молодая девушка с добрым улыбчивым лицом. А что, если она в истинном виде своем ведьма? Впереди шагал высокий сутуловатый мужчина, а я с усмешкой гадал: кто он? Дракон? Так и шел я, превращая процесс адаптации, привыкания к своему веку в своего рода шутку и забаву.
В кабинет редактора я вошел, однако, с некоторой тревогой. Но все обошлось. Повесть моя понравилась и скоро будет издана большим тиражом.
Возвращался я повеселевшим и уже не обращал на прохожих особого внимания. Привык. Дома сел за стол с твердым намерением: хватит «Пауков» и «Диктаторов». Буду писать о Сфере Разума.
Работал, почти не выходя из дома. Писал с увлечением по четырнадцать часов в сутки. Жена — все более редкая гостья в моей квартире — поглядывала на меня с возрастающим удивлением и каким-то опасливым любопытством. Насмешливо сощурив глаза, однажды спросила:
— Ты что, в отшельники записался? В схимники?
— Записался, — смущенно ответил я.
Она как-то засуетилась и, пожав плечами, ушла. И больше не возвращалась. Я чуть ли не пугал ее, показавшись существом непонятным. В лучшем случае — не от мира сего, как оно, пожалуй, и было на самом деле.
С тех пор в моей квартире поселился большой дымчато-серый кот. С утра он усаживался на письменный стол и посматривал на мои творческие потуги, как мне казалось, с плохо скрытой иронией.
И он прав. Что-то не клеилось у меня, не вытанцовывалось. После двух-трех ярких и хорошо выписанных эпизодов потянулись серые, маловыразительные страницы. Я догадывался, в чем дело: город! Раньше я не ощущал его бремени, а его шипение и лязг воспринимал чуть ли не как музыку. Но сейчас он давил меня. Моя душа, избалованная видениями весенних лугов, рвалась на волю.
Решил отдохнуть день или два. Ведь не все сгинуло, где-то еще сохранились поля и рощи. Утром я сел в свою машину и через час выскочил из грохота и чада на относительно тихое шоссе. Через несколько километров свернул на еле приметную дорогу, миновал пыльный кустарник, жиденькую рощу и оказался на крутом берегу Рейна.
Взглянул с обрыва вниз и отшатнулся, увидев мутный поток. Жилище для сладкоголосой Лорелеи самое неподходящее. «Ей-то хорошо, — подумал я, вспомнив Скиталицу. — Пометалась она по берегам, порыдала над погибшей рекой и, слившись с тучами, бежала в будущее. А мне туда дороги уже нет».
Собравшись с духом, я еще раз склонился над рекой. В чернильных разводах, в плавающих и меняющих форму маслянистых пятнах, во всем этом омуте чудились вампиры, пауки и еще какая-то чертовщина. Весь промышленный и научно-технический феномен моего века предстал вдруг в виде джинна, вырвавшегося из под власти человека.
Километрах в трех отсюда разместился химический комбинат. Из его огромной трубы, как злой дух из бутылки, вылетал дым. В его вьющихся клубах, в пепельно-серых и белесых извивах стал различать чалму, седую бороду в виде ятагана и узнал… дядю Абу! Только не любимца детворы и не того милого и веселого бахвала, каким он был даже в мире изгнанников. Нет, это был нынешний и весьма недобрый «дядя Абу». На его дымно хмурых губах кривилась злая усмешка.
Я закрыл глаза и в разгулявшемся, чуть запаниковавшем воображении увидел, как на других континентах из глубоких шахт высовываются серые тупые ракеты с ядерными боеголовками. Это ведь тоже нынешний «дядя Абу», способный «одним плевком» уничтожить все живое на Земле.
Неуютно, жутко стало мне на берегу Рейна, и я поспешил вернуться домой. Утром снова отправился за город и на одном из притоков Рейна нашел чудом сохранившийся уголок. На миг даже забылся: в тишине тенистой рощи шелестела листва, слышался чей-то живой говор. Уж не дриада ли? Усмехнувшись, постарался отогнать эту блажь. Травы и цветы, сосны и березы, которые я вижу сейчас, оживут по-настоящему в будущем, когда напитаются мудростью веков. До Сферы Разума им далеко. Сначала наша планета должна стать сферой разума в ином смысле — сферой разумных отношений между людьми и народами. А уж потом…
Не успел додумать эту мысль, как впереди послышались звонкие голоса, смех. Я вышел на опушку и на берегу небольшого пруда обнаружил ребятишек с удочками в руках. Я сел рядом с ними, познакомился. До дяди Абу мне, конечно, далеко, но подружиться с ребятами я сумел. Разговорились, и я исподволь, незаметно приучал своих собеседников видеть в природе что-то живое, приветливое и доброе: в цветах — танцующих эльфов, в солнечных бликах на водной глади — беззвучный русалочий смех.
После обеда, когда мы опустошили багажник со съестными припасами, с запада тихо подкралась темная туча, несшая на своей крыше пену облаков, окрашенных в самые неожиданные цвета и оттенки.
— А что, если облака тоже живые? — спрашивали ребята.
— Конечно, — убеждал я. — Это волшебные кони. Видите того гнедого, с вьющейся рыжей гривой? А рядом серый в яблоках. А вон еще один. И на конях скачут небесные всадницы. Скоро они выхватят мечи, и те засверкают, как молнии.
Пока туча бесшумно обкладывала небосвод, я рассказал о своем весеннем празднике грозы. Ребята, конечно, восприняли рассказ как только что придуманную сказку. Но я здорово увлек их своими видениями. И когда обрушился шипящий ливень и загрохотал гром, ребята не стали прятаться. Они глядели в клубящуюся мглу, вздрагивавшую от огненных вспышек, потом вместе со мной плясали, тянулись руками вверх и кричали:
— Валькирии! Валькирии! Возьмите нас!
… Дома я быстро, на одном дыхании, написал главу «Валькирии и викинги», забежав тем самым несколько вперед. Потом вернулся к первым главам.
И дело пошло… Как-то странно пошло. Я начал двоиться! И не во сне или в воображении, а наяву. Словно дверь распахнулась от порыва свежего ветра, и я вошел… Не знаю, как и выразиться. Я вошел не в приснившийся мир, а в самый что ни на есть реальный. В мир, в котором я доподлинно родился и доподлинно живу… Я стою на берегу ночного, отдыхающего Лебединого озера, вдыхаю родной воздух и с жадностью вглядываюсь в небо, где мириадами звезд раскинулась красавица Вселенная — таинственная Аннабель Ли…
Так кто же я на самом деле? Едва мелькнула эта мысль, как маятник качнулся в обратную сторону — и я снова Пьер Гранье. Я снова за столом и с волнением и страхом пишу о том непонятном, что творится со мной.
Внезапно жизнь Пьера Гранье оборвалась совсем. Уж не вымысел ли он?.. Нет, вернее другое — он где-то далеко в прошлом и сам по себе, а я — Василий Синцов. Тоже сам по себе… Я один в тихо шевелящейся ночи. Я иду от Лебединого озера домой, возвращаюсь в село, как из дальних странствий. Или как человек, долго пропадавший без вести… Я иду в свой мир, вливаюсь в его бесконечность…
Шелестят метелки трав, в роще глухо ухнула знакомая с детства сова, а вдали, басовито гудя, пролетели ночные жуки. Над лесостепью плывет луна, путаясь в сизых и вытянутых, как вербный лист, облаках. И вдруг в стороне, еще далеко за селом, послышалось всхрапывание лошадей и тихо запела свирель… Кто я?

Семен Слепынин
МАЛЬЧИК ИЗ САВАННЫ
Ленивый Фао
Колдун Фао шел медленно и осторожно, приостанавливаясь перед каждой крутизной.
Вчера он оступился на камне, упал и сильно ушибся. Поэтому сейчас Фао недоверчиво трогал камни пальцами посиневших ног и ощупывал их подошвами — шершавыми, как дубовая кора.
Колдун зябко кутался в засаленные шкуры и поеживался, чувствуя за спиной взгляды людей своего племени. Они звали его не иначе, как Ленивый Фао. Но если бы люди вдруг узнали, кто такой Ленивый Фао на самом деле? Что случилось бы тогда в стойбище?
Эта внезапно мелькнувшая мысль так испугала колдуна, что он замер и воровато оглянулся. Нет, как будто все в порядке. Фао повернулся к вершине горы спиной и посмотрел вниз более внимательно. Тревожиться вроде нечего. Около своей землянки стояла Хана с ребенком на руках и провожала взглядом колдуна. Но так она глядела каждый раз, Фао привык к этому. На берегу реки возились ребятишки и не обращали на колдуна никакого внимания. Лишь Гзум, сын Лисьей Лапы, приплясывая и скаля зубы, кричал:
— Ленивый Фао! Глупый Фао!
Но и этого следовало ожидать. От шального и драчливого мальчишки колдун уже натерпелся немало обид. Привык. И сейчас он смотрел на Гзума с хмурым спокойствием. А когда тот начал швырять камни, колдун даже почувствовал мстительное удовлетворение — камни не пролетали и десятой части расстояния.
Приблизиться же Гзум не мог — ближе трех полетов копья никто не смел подходить к Горе Духов.
Долго стоял Фао на каменистом выступе. Но это не должно вызывать у людей удивления. Здесь, на полпути к вершине, он отдыхал часто, глядя на стойбище и степь из-под густых седых бровей, похожих на тронутый инеем мох.
В степи, из-за дальних холмов, выкатилось солнце. Мальчишки, выбежав на вытоптанную площадку в середине стойбища, протягивали руки навстречу встающему светилу, плясали, высоко вскидывая худые ноги, и кричали:
— Огненный Еж! Огненный Еж!
Луна, солнце, звезды, дожди — все стихии были для людей племени живыми существами, злыми или добрыми…
Огненный Еж, ощетинившись горячими иглами-лучами, взбирался все выше.
Заискрилась река, громче запели в кустах птицы, в сырых травах вспыхнули и загорелись желтые кружочки мать-и-мачехи, лиловые бутоны медуницы, белые созвездия ветреницы дубровной. Природа радовалась солнцу, его весенним теплым лучам.
Но не было радости у людей племени лагуров. Из их землянок, тянувшихся цепочкой бурых холмиков вдоль берега Большой реки, слышались сердитые голоса женщин, плач детей. У входа в одну из землянок, согнувшись, сидела молодая женщина и выла: ночью умер ее младенец.
Племя голодало. Зимние запасы съедены, ямы с мясом давно опустели. Степь, обильная летом и осенью, сейчас звенела лишь птичьими голосами. Оленьи стада поредели, а табуны лошадей, пугливые серны и сайгаки еще не вернулись с юга.
Задолго до восхода солнца, еще затемно, ушли в саванну охотники. Но колдун Фао хорошо знал, с какой жалкой добычей они придут в стойбище. Многое, очень многое знал колдун…
Ленивый Фао высморкался, вытер пальцы о сивую бороду, свисавшую до пояса, и медленно зашагал вверх. Вскоре спина его скрылась в густых зарослях кустарника, охватившего склоны горы.
Ребятишки разбрелись по берегам реки в поисках съедобных корней и стеблей. Они рылись в кустах, кочках. Рылись даже в прошлогодних отбросах.
Около полудня, когда Огненный Еж забрался совсем высоко в небо, пришли из саванны охотники. Пришли и в самом деле почти с пустыми руками. Три дрофы, пронзенные дротиками, да пара гусей — разве это добыча?
Кормильцами племени в такие дни становились женщины и подростки. Они вскоре после охотников вернулись с болот.
Около трех больших мешков, сшитых из оленьих шкур, повизгивая от нетерпения, вертелись малые ребятишки. Подростки, отталкивая малышей, с радостными воплями вынимали из мешков и складывали кучками съедобные корни, клубни, сочные сладкие стебли. Четвертый мешок, поменьше, женщины бережно поставили на траву. Здесь были птичьи яйца.
Добычу делила Большая мать. Но верховодила, как всегда, крикливая и вечно недовольная Гура. Высокая, жилистая, с крепкими мужскими кулаками, она спорила иногда и с охотниками. С ней все считались, а иногда и побаивались.
Сейчас она шумно вмешивалась в дележ, и Большая мать часто соглашалась с ней.
Гура делила всегда справедливо.
Кучки клубней и яиц оказались невелики, и женщины все чаще посматривали на Гору Духов.
— Фао! Ленивый Фао! — запричитали они. — Наши дети голодают. Где твои духи?
Почему они не помогают?
На горе, над макушками сосен и берез, вился густой столб дыма. Это означало, что священный огонь горит и колдун Фао беседует с духами.
Женщины и охотники с надеждой смотрели на дым. Но не мог он обмануть сварливую Гуру.
— Не верьте ему! — кричала она. — Он там спит. Ленивый Фао спит!
Женщина почти угадала: колдун дремал. Лишь поначалу, с утра, он был подвижен и деятелен. Его подгоняли промозглый холод и желание поскорее понежиться у огня…
Ленивый Фао собрал сухой валежник и свалил его в большую кучу. Теперь священный огонь можно подкармливать весь день, не вставая.
Покряхтывая, колдун сел на широкий камень и прислонился к раздвоенному стволу большой березы.
Уютное местечко облюбовал себе Фао. Сверху густая крона укрывала от мелкого дождя, сзади раздвоенный ствол и разросшийся боярышник защищали от ветра, а спереди всегда дымился костер. Даже сейчас, утром, от вчерашнего огня остался в пепельном кострище жар.
Колдун разворошил угли и навалил сверху сухих веток. Заметались космы пламени, обливая грудь и плечи приятным теплом. Сверху колдун положил еще сырую ветку, чтобы дым был еще гуще. Это он делал всегда. Пусть люди племени видят, что Фао не спит и беседует с духами.
Колдун протянул закоченевшие ноги ближе к огню, прислонился к березе, почесался и закрыл глаза. В полудреме проплывали туманные и сладкие видения далекой, отшумевшей юности. То были не цельные картины, а какие-то смутные обрывки, дымные клочки. Фао в засаде среди густой листвы, а потом вдруг в степи или на берегу Большой реки… Он был тогда хорошим охотником. Но однажды случилась беда: в схватке с медведем Фао повредил левую руку, и та плохо сгибалась. А правую руку когти зверя распороли от плеча до локтя. Глубокий багровый шрам остался до сих пор, и колдун любил выставлять его напоказ.
Как он стал колдуном, Фао не помнит. Знает только, что сначала он был удачливым колдуном. Из своей охотничьей жизни тот давний Фао знал о повадках зверей и помнил места их обитания. Поэтому духи в те далекие времена редко ошибались. Но годы шли, память слабела, и духи стали подводить, что вызывало нарекания охотников и вождя.
Фао приоткрыл веки и в пяти шагах справа увидел духов — высокие каменные изваяния, выточенные ветрами, отшлифованные свистящими ливнями… Колдун встал и обратился к Хоро — великому охотнику, покровителю племени. Гранитный столб и в самом деле напоминал гигантского охотника, навечно застывшего в выжидательной позе.
— Великий Хоро! — воскликнул колдун.
И сразу же замолк — до того неприятен был ему собственный голос. Какой-то тонкий, писклявый, похожий на визг шакала. Ленивый Фао прокашлялся, воздел обе руки вверх и еще раз обратился к гранитному исполину:
— Великий Хоро! Пошли нам Большого оленя! Пошли нам Большого оленя! Где они? Где стадо лосей?
Великий Хоро безмолвствовал. Раньше, много лет назад, тот давний Фао бегал вокруг костра и плясал до тех пор, пока голова не начинала кружиться, пока глаза не заволакивал темный, искрящийся туман. И тогда, казалось, духи что-то шептали, подсказывали, где пасутся лошади, где пробегают стада бизонов и оленей.
Но сейчас Фао как-то сразу обмяк и устало опустился на прежнее место. Почесав спину о ствол березы, он откинул голову назад и закрыл глаза. Так он продремал до полудня, изредка подсовывая ветки в костер.
Когда Огненный Еж поднялся на середину неба, Фао очнулся, навалил в костер побольше веток и поспешил к стойбищу. Не желание возвестить волю духов, а голод гнал его.
Спускался с горы тропкой, протоптанной колдуном за многие годы. Выбравшись из зарослей кустарника и молодого березняка, Фао увидел дымы стойбища и замедлил шаги, тоскливо предчувствуя, что встреча с людьми будет не из приятных. Доверие соплеменников колдун давно потерял.
У берега реки Ленивый Фао в задумчивости остановился, а потом медленно побрел к стойбищу. Навстречу кто-то шел. Колдун горделиво выставил вперед плечо: в племени уважали раны, полученные на охоте или в борьбе с хищниками. Но тут же поспешно прикрыл шрам шкурой — в проходившем он узнал Хромого Гуна, своего извечного врага.
Как и Фао, в юности Гун был ранен. Его сломанная нога плохо срослась, и с тех пор Гун сильно хромал. Ранами своими он не очень гордился, колдуна же ни во что не ставил. И Фао отвечал взаимностью. Уже давно никто из них не уступает друг другу дорогу.
Колдун и Хромой Гун медленно сближались. Наконец сошлись и встали, как два медведя на одной тропинке. Они топтались на месте и кидали друг на друга взгляды, полные глухих угроз. И вдруг Гун, заворчав, отошел в сторону. Впервые уступил дорогу.
Ленивый Фао входил в стойбище, слегка приободрившись, с чувством одержанной победы. Вот и его землянка. Только бы успеть нырнуть в нее, закрыться пологом из оленьей шкуры. Там он в безопасности — никто не посмеет войти в жилище колдуна.
Но толпа уже окружила Фао. Люди кричали, размахивали руками. Колдун выставил свое обнаженное плечо с глубоким шрамом, и толпа притихла. Но скоро град упреков, гневных восклицаний и ругательств обрушился на него с новой силой.
Особенно неистовствовали женщины.
— Наши дети голодают! — крикнула молодая Хана, протягивая на руках своего младенца.
— Наши охотники приходят с пустыми руками!
— Твои духи не помогают! Где твои духи?!
Пытаясь оправдаться, колдун поднял вверх правую руку и сиплым голосом, но с достоинством произнес:
— Мои духи молчат.
— Они у тебя всегда молчат! — яростно крикнула Гура.
Колдун съежился. Он опасался этой горластой женщины с крепкими, как ветви дуба, кулаками. Гура подступила, готовая вцепиться в бороду колдуна.
— Мои духи сердятся! — взвизгнул Фао.
Толпа стихла и отступила. Гнева духов все люди племени боялись.
«Кажется, теперь можно отдохнуть», — обрадовался Фао и сел на камень, который врос в землю рядом с его жилищем. Сзади, как и на Горе Духов, росла береза. Фао прислонился к стволу и почесал спину. На его крупном морщинистом лице изобразилось блаженство. И никто не мог догадаться, что колдун взволнован.
Да, он волновался, побаиваясь предстоящего небольшого события. Никто, никакие духи не могут предотвратить его. Кто это сказал? Колдуну хотелось вспомнить давно забытые слова. Или вообще думать о чем-нибудь постороннем, чтобы взять себя в руки, успокоить нервы.
Странный, очень странный колдун у племени лагуров… А может быть, уже что-то знают, догадываются? Фао осторожно взглянул на толпу и успокоился. Тревожиться нет оснований: люди видят его таким, каким он был и год, и два, и много лет назад.
Женщины и дети смотрели на колдуна молча, лишь изредка тихо переговаривались. Но тут снова (колдун знал об этом заранее) вперед выступила сварливая и злая на язык Гура.
— Твои духи не сердятся! Они спят! Ты спишь, и твои духи спят!
«Ну и зануда», — поморщился Фао и с внутренней усмешкой подумал, до чего непривычно здесь само слово «зануда». Оно появится потом, много веков спустя…
И снова взгляд колдуна погрузился в сумеречные дали грядущих столетий, снова пытался вспомнить он давно угасшие в памяти слова. Грустные, обреченные слова…
Они искорками вспыхивали в тумане, гасли, снова загорались и наконец встали в стройный ряд: «Что бы ни случилось с тобой, оно предопределено тебе от века. И сплетение причин с самого начала связало твое существование с данным событием».
Но кто это сказал? Вернее, скажет? И колдун вдруг вспомнил: Марк Аврелий!
Он вздрогнул: нельзя думать о грядущем. Ни в коем случае нельзя отвлекаться от настоящего момента, чтобы случайно не нарушить, не всколыхнуть исторически устоявшуюся гармонию причин и следствий. Но мысли, непрошеные и назойливые, как комары, лезли в голову.
Да, все предопределено от века. И ничего изменить нельзя. Фао даже не мог подсказать Хане, чтобы она крепче держала ребенка. Хотел, но не мог. Он знал, что через две-три секунды младенец вывалится из рук молодой женщины и брякнется на землю. К счастью, ребенок ушибется не очень сильно, но заверещит так, что хоть уши затыкай…
Все так и случилось. Испуганная Хана подняла младенца, прижала к груди и бросилась к своей землянке. Но Фао знал, что на полдороге она обернется и нелепо погрозит кулаком. Все было известно колдуну на много дней вперед. Сегодня вечером Гура вблизи стойбища убьет старого оленя, да и охотники вернутся не с пустыми руками. И начнется в племени хмельной от сытости праздник весенней добычи…
А незадачливый колдун? Какое он будет иметь к этому отношение?
Да, лагурам не повезло — колдун у них ленив, глуп и заносчив, хотя выглядит весьма внушительно. Крупное, в глубоких морщинах лицо, почтенная белая борода, мохнатые своды бровей делали его похожим на какого-то первобытного патриарха.
Форма, не соответствующая содержанию… Но скоро он освободит племя от своего присутствия. Часы и минуты колдуна сочтены. Завтра он исчезнет из мира, утонет… «Скорей бы уж», — вздохнул Фао.
Занятый невеселыми мыслями, колдун встретил «предопределение от века» и неприятное микрособытие так, как и положено. Получив неожиданный удар в скулу, он взвизгнул, вскочил на ноги и погрозил кулаком мальчишке, запустившему в него камень. Это был, конечно, все тот же Гзум.
Толпа зашумела. Гнев ее, к счастью для колдуна, обрушился на сей раз на Гзума.
Женщины загалдели, некоторые бросились за пустившимся наутек мальчишкой.
Воспользовавшись суматохой, Ленивый Фао проворно скользнул в свою землянку.
Здесь он вытер пот со лба и облегченно перевел дыхание: больше контактов с людьми не будет до завтрашнего утра — последнего и решающего утра в жизни колдуна.
Фао притронулся к левой щеке и почувствовал теплую струйку крови. «Вот сорванец», — с добродушной усмешкой подумал он о мальчишке. И надо же так сплестись событиям, что завтра утром он спасет Гзума от верной гибели, вытащит из воды. Сам утонет, но спасет. Во всяком случае, обязан это сделать, ибо мальчик очень важен для племени и, быть может, для всей последующей истории человечества.
Фао мысленно увидел, каким будет Гзум лет через десять, — молодым, но уже опытным охотником. Он хорошо сработается с новым колдуном, который наконец-то снимет запрет с Горы Духов. Новый колдун на гранитных изваяниях красной охрой будет рисовать оленей, лосей, лошадей.
Состязаясь в меткости, охотники станут бросать в изображения копья.
«Отличный психологический тренаж, — подумал Ленивый Фао. — Метая копья, они будут настраиваться на предстоящую охоту».
Размышления колдуна были прерваны голосами женщин, приблизившихся к землянке.
— Фао! Нам помог дух Маленькой Сю.
— Мы принесли дары Маленькой Сю.
Когда-то давно маленькая девочка Сю утонула в болоте, примыкающем к Большой реке. С тех пор считалось, что дух ее покровительствовал собирателям орехов, клубней и птичьих яиц на берегах болота.
Колдун должен сейчас выйти и взять дары Маленькой Сю. Но не сразу. Все поступки его рассчитаны по минутам.
Фао нащупал на груди амулет — костяную пластинку, напоминающую бизонью голову, и поднес ее к слабо тлеющим углям очага. На обратной стороне пластинки колдун расширил ногтем еле приметную трещинку и увидел крохотный циферблат электронных часов. Выждав четыре минуты, Ленивый Фао приподнял шкуру у входа и боязливо (так положено) высунул голову. Поблизости никого не было. На траве лежали корни, сочные стебли и два крупных гусиных яйца.
Корни и стебли брезгливый лже-Фао закопал в углу землянки. Гусиные яйца обмазал глиной, испек на углях по способу, принятому в племени, и с аппетитом съел.
Еще через час Ленивый Фао неторопливо шагал в сторону Горы Духов. Там он подкинул в догорающий костер сухих веток. На камень не сел, позволил себе немного расслабиться, отойти от жестко предписанных поступков. История от этого не пострадает. Все равно никто его здесь не видит.
Роль Ленивого Фао далась ему сегодня особенно тяжело. Чаще, чем когда-либо, тревожила мысль: а если узнают? Мысль вздорная, понимал сейчас Фао.
Но отдохнуть надо. Фао вышел на склон горы, обращенный в противоположную от стойбища сторону. Перед ним раскинулась саванна — кормилица племени.
Саванна… Ему нравилось это слово, хотя, наверное, правильней было бы сказать — лесостепь. Обильная, удобная для расселения человека лесостепь. Сюда летом заходят животные даже из тропического пояса. А может, правильней назвать прерией? Но пусть об этом думают биологи. У него своих забот хватает. Он привык говорить «саванна» и отвыкать не собирается.
Сейчас равнина выглядела пустынной. Лишь птицы оглашали зеленое безмолвие весенними песнями. Но вот вдали мелькнула горбатая спина бизона. Совсем близко на голый холм вскочили три лани, пугливо повертели головами и снова скрылись.
Скоро потянутся с юга другие животные. И заколышутся высокие травы, поплывут в них ветвистые рога оленей, черные гривы лошадей.
Колдун сел на траву и обвел взглядом горизонт. Где-то там, за утопающими в синей дымке рощами, проходит граница ареала. За ней — неконтролируемый океан пространства и времени. Да и сам ареал, в центре которого он сейчас находится, оказался не столь подвластным, как хотелось. Много лет назад один из наиболее осторожных сотрудников лаборатории «Хронос» сказал: «Ареал — зияющая рана на теле истории. Малейшая неосторожность — и в рану можно занести инфекцию вмешательства». Слова оказались пророческими. Сейчас лже-колдун призван залечить рану, сделать так, чтобы грядущая человеческая история развивалась естественно и нормально.
«Завтра. Все решится завтра», — подумал Фао, уверенный в успехе своей странной миссии. А потом он отправится к озеру искать брата. Поиски, правда, никто не планировал. Все видели, что Александр погиб… А если не погиб? Если он прячется сейчас в дубовой роще? Эта мысль согревала лже-Фао в его нелепой жизни колдуна.
Дубовая роща отсюда хорошо видна, она в пяти-шести километрах от горы, рядом с озером Круглым. Пойти туда и проверить свою догадку Фао пока не мог. Ход истории приковал его к стойбищу и священной Горе Духов. Но надежда, что он здесь не один, что где-то рядом находится брат, согревала Фао.
Он встал и пошел к костру. Тяжкое бремя колдуна надо нести до конца. Фао подкинул в огонь веток, сел на камень и с закрытыми глазами привалился к березе.
Взгляд его снова погружался в ушедшие дали охотничьей молодости. Вспоминались и первые удачливые годы колдуна. Это он делал для того, чтобы лучше вжиться в роль. Наконец окончательно почувствовал себя Ленивым Фао.
Стало заметно темнее. Грузные влажные тучи клубились над горой, застучали первые капли. Ленивый Фао тяжело поднялся и медленно зашагал по тропинке вниз.
В стойбище никого не было видно. Все попрятались в землянках. Но ребятишки все еще вертелись на берегу, а их колдун побаивался пуще взрослых. Особенно этого несносного Гзума.
Фао заковылял к своей землянке. Мальчишки уже кружились вокруг него, держась, правда, на почтительном расстоянии. Они приплясывали, корчили гримасы и вовсю горланили:
— Ленивый Фао! Глупый Фао!
«Сорванцы, — мысленно ругнул их колдун. — Но что с них возьмешь? Неузнаваемо изменится психика и поведение людей в будущем. Но мальчишки вечны. И много столетий спустя они будут такими же, как сейчас…» Ленивый Фао скрылся в землянке. И в это время зашумел короткий, но сильный ливень.
Колдун раздул угли очага, подсунул в заплясавший огонек сухих веток. Дым, заклубившись у потолка, потянулся к дыре в правом верхнем углу.
До утра, до решающих и последних в жизни колдуна мгновений, оставалось почти двенадцать часов. Как скоротать время? Спать Фао не мог. Чтобы успокоиться, заглушить тревогу, надо о чем-нибудь думать. Лучше всего об ареале. С открытием его странно, причудливо переплелись судьбы людей далекого прошлого и далекого будущего. Его брат затерялся в древней саванне («может, погиб», — мысленно поправил себя Фао), а сам он оказался в дурацком положении колдуна…
Как все это случилось? И Фао стал вспоминать. Вспоминать не отшумевшие дни колдуна, а свою собственную жизнь, годы странствий космопроходца и времяпроходца Ивана Яснова, волею судеб брошенного сейчас в эту землянку. Себя он пытался увидеть со стороны, думать как о другом человеке, чтобы нагляднее представить всю цепь событий. Начало этой извилистой цепи положил много лет назад он сам же, Иван Яснов, в свой первый выход в ареал.
Выход в ареал
Плотная, кромешная тьма обступала Яснова со всех сторон. Будто шагает он по дну черного нефтяного моря, с трудом вытягивая ноги из вязкого грунта и раздвигая упругие водоросли. Вскоре понял, что не водоросли это, а густо разросшийся кустарник. Острые сучки и колючки царапали плотную ткань комбинезона, а раздвигающиеся ветви звонко стегали по колпаку гермошлема.
Беспорядочные, бессвязные мысли теснились в голове. Какая это планета? Где «Призрак» — его корабль, его космический дом? И что с памятью? Ее он, кажется, утратил при внедрении… Внедрение? Странное слово…
Кустарник поредел, и Яснов откинул гермошлем. Вскоре выбрался из болотистых зарослей и вошел в лес. Сразу стало светлее. Сквозь густые кроны деревьев пробивались дымные паутинки лунных лучей.
«Нет, это не чужая планета», — удивлялся Иван, ощупывая стволы елей и вдыхая знакомый с детства смолистый аромат сосен. Какой воздух! От винных и грибных запахов ранней осени слегка кружилась голова. Но почему он разгуливает по собственной планете в таком оглушенном состоянии? Быть может, даже по родной сибирской тайге?
Яснов вышел из густого сосняка на поляну с редко расставленными высокими дубами.
И уже не паутинки, а широкие ленты призрачного света тянулись меж раскидистых ветвей.
Луна! Иван с изумлением взирал на знакомое и в то же время незнакомое ночное светило. В его время Луна, окруженная сияющим ободком искусственной атмосферы, выглядела синеватой благодаря разросшимся на ней лесам. Но сейчас он видел первозданную серебристую планету.
Итак, он заброшен, видимо, в прошлое. И судя по воздуху высшей биологической очистки, не в ближайшие, дымно чадящие столетия, а в далекое прошлое. А чем глубже века, тем глубже… хроношок! Его оглушенное состояние — это шок, возникающий при первом внедрении человека в чужую эпоху.
И тут Иван вспомнил о какой-то искорке в небе, которая должна служить путеводной звездой. Но видел он лишь отдельные участки неба. Мешали деревья.
Иван направился в ту сторону, откуда пришел. Миновал густой ельник, с трудом прорвался сквозь болотистый кустарник и ступил на сухую опушку. Искорку еле отыскал почти на самом горизонте. Человек, не знающий о ее существовании, ничего бы и не заметил. От слабых звезд третьей величины она отличалась лишь чуть зеленоватым цветом. Что-то родное чудилось в искорке, она будто звала к себе. Но зачем? И для чего он вообще здесь?
Иван осмотрелся, и красота древнего ландшафта захватила его. Кругом расстилалась холмистая лесостепь, залитая голубым лунным сиянием. Вдали в ночной тьме трепыхался на слабом ветру костер.
Для безопасности Иван накинул на голову прозрачный гермошлем. В нем он хорошо видел и слышал, исчезли только запахи. Неодолимое любопытство влекло его к степному огню. Кто там? Скифы? Древние германцы с бронзовыми мечами?
Пригнувшись и осторожно раздвигая высокие травы, Иван медленно приближался и вскоре увидел двух мужчин, облитых медным светом костра. Оба в звериных шкурах, под ногами их валялись каменные топоры и дротики. «Каменный век! — поразился Иван. — Вот куда занесло меня». Эти двое, видимо, охраняли сон своих товарищей: около десятка людей спали вокруг костра. Один из сторожевых держал в руке копье, а второй — широкоплечий гигант почти двухметрового роста — опирался на внушительную палицу и задумчиво смотрел на космы пламени.
«Вот они, мои далекие и давно истлевшие предки, — с каким-то холодящим странным чувством подумал Яснов. — Подойду ближе… Ветер-то в мою сторону».
Но Иван недооценил звериного чутья своих пращуров. Оба сторожевых, принюхиваясь, повернулись в его сторону. Гигант, видимо, заметил притаившегося в траве человека, и по степи разнесся его гортанный крик:
— Гохо! Гохо!
«Гохо» — сигнал опасности, почему-то вспомнилось Ивану. Но откуда он это знает?
Спавшие у костра люди повскакали на ноги и схватились за топоры и копья. Яснов бросился туда, где под луной зеленовато светилось небольшое озеро, окаймленное кустарником. Он решил спрятаться в зарослях, а еще лучше — скрыться под
водой, чтобы избежать непредвиденного и небезопасного контакта.
Иван считался хорошим спринтером, но местность была неудобной — в кочках и ямах, наполненных водой. К тому же предки бегали довольно резво. Оглянувшись, Иван увидел, что они настигают. Впереди мчался первобытный Геркулес со своей страшной палицей.
Запнувшись о кочку, Иван упал и покатился по траве. Когда вскочил, перед ним уже приплясывал гигант, легко, будто тросточкой, размахивая увесистой дубиной. В следующее мгновение он обрушил ее на Ивана… и испуганно отскочил в сторону.
Такого гигант не ожидал. Палицей он сокрушал своих противников, раскалывая черепа, как орехи. Но этот стоял как ни в чем не бывало.
Удар пришелся по не видимому для предков гермошлему. Однако был такой силы, что Иван слегка покачнулся, не в силах сдвинуться с места. Второй удар уложил его.
Сколько времени он был без сознания? Вероятно, лишь несколько секунд. Очнувшись, услышал тихий говор и с удивлением обнаружил, что понимает слова древнего языка.
— Кто это?.. Из племени дагоров?
Кто-то склонился и пощупал гладкую ткань комбинезона.
— Не дагор. Шкуры другие… Непонятные.
— Медвежьи?
— Не медвежьи. — Иван совсем близко слышал изумленный голос. — Это… шкуры змеи!
Иван открыл глаза и пошевелился.
— Он живой! — вскрикнул склонившийся над ним человек и отскочил в сторону.
— Подожди… Я его проткну!
Иван увидел над собой гиганта с поднятым копьем.
«Этот проткнет», — похолодел Яснов и вдруг вспомнил, как звали древнекаменного Геркулеса.
— Джок! — воскликнул он. — Постой, Джок! Убери копье… Это я. Не узнаешь?
Услышав свое имя и речь родного племени, Джок выронил копье и пробормотал:
— Лагур?
Иван воспользовался растерянностью предков. Он вскочил на ноги и помчался к озеру. Сзади послышался топот преследователей, а у самого берега он услышал крики:
— Стой!
— Там топь…
— Утонешь!
Берег и в самом деле оказался коварным. Ровный и казавшийся коварным грунт внезапно раздался, и Яснов почти по плечи провалился в засасывающую трясину.
«Зыбун», — мелькнула страшная мысль. С трудом удалось лечь плашмя на колышущуюся сеть из корней болотных растений и, осторожно работая руками и ногами, добраться до воды. Немного отплыв, Иван обернулся. Люди стояли, скованные изумлением и страхом.
Яснов нырнул и у самого дна ухватился за корягу, чтобы не всплыть. Ощупал глубокую вмятину на гермошлеме, но убедился, что воды он не пропускает. Выждав минут пять, Иван поднялся на поверхность, надеясь, что преследователи убрались.
Но те топтались на прежнем месте и тихо переговаривались.
Увидев, что утонувший человек всплыл живым и невредимым, пращуры потрясенно замерли.
— Это Урх! — завопил один из охотников. — Урх!
Люди кинулись прочь от берега, размахивая руками и в ужасе крича:
— Урх! Урх!
«Кто такой Урх? — гадал Иван. — Наверное, дьявол каменного века».
Он переплыл крохотное озеро. На другой стороне берег оказался сухим. На земле отпечатались следы многочисленных животных, приходивших на водопой.
Иван кое-как снял смятый гермошлем, пощупал голову и с хмурой усмешкой отметил, что шишку все-таки заработал.
Отыскал на груди небольшой бинокуляр. Поднес его к глазам и посмотрел в степь, туда, где догорал костер. Он был виден так хорошо, будто находился в двадцати шагах. Вокруг костра суетились люди, только что преследовавшие Ивана. Они подбрасывали в огонь ветви, охапки сухих трав и пугливо озирались. Потом встали лицом к озеру, подняли вверх руки и зашевелили губами, произнося, очевидно, заклинания и отгоняя ими страшного Урха.
Минут через десять Иван с облегчением заметил, что паника улеглась. Пращуры, видимо, успокоились, некоторые укладывались спать.
Отыскав в звездном высеве свою путеводную искру, Яснов зашагал в ее сторону, туда, где расплывчатым силуэтом темнела двугорбая гора. Он часто оглядывался назад. Костер пращуров уменьшался, через полчаса ходьбы был еле заметен даже в бинокуляр, а когда Яснов перевалил через широкий холм, исчез из виду совсем.
Иван остановился и прислушался. Тишина. Лишь в травах и приземистых, редко разбросанных кустах угадывались какие-то шорохи. Тонкую ткань ночной тишины вспорол вдруг крик раненого животного, потом послышалось довольное урчание крупного хищника. И снова тишина с еле различимыми шорохами.
Иван поежился. Плотоядная эпоха! Как бы самому не стать добычей. Комбинезон устоит перед зубами мелких хищников. А что делать с крупными?
Рука привычно нащупала рукоятку пульсатора. «Моя палица, — усмехнулся Иван. — Гравитационная дубинка». Взглянул на переключатель и удивился: шкалы «разрушение» не было совсем. Видимо, здесь ему нельзя убивать и разрушать.
Гравитационными ударами он мог лишь обезопасить себя, оглушить кого угодно — от комара до мамонта. Но убить — никого.
Пульсатор служил одновременно зажигалкой и фонарем. Но бросать в степь яркий прожекторный луч Иван не решался. Да и надобности не было. Иван неплохо видел и в бледном свете луны.
Стало еще светлее, когда Яснов, устало передвигая ноги, выбрался из густой осоки на сухую, почти каменистую поляну с редкой низкорослой травой. Около десятка раскидистых сосен бросали на поляну круглые черные тени. Между ними белели исполинские лбы гранитных валунов. Под одним из них пристроился Иван. Решил развести костер и выспаться. Так будет полезнее для дела — последствия хроношока хорошо снимают сон.
Не успел он примоститься под гранитной стенкой валуна, как почувствовал неладное. В черном разливе осоки что-то изменилось. Высокие травы колыхались чуть сильнее, чем полагалось при слабом ночном ветре. Кто там? Люди?..
Яснов немного успокоился, когда во тьме засверкали зеленые угольки — глаза хищников. На поляну выскочили волки. Ослепительно яркий свет пульсатора тут же разбросал их в стороны. Иван полосовал лучом, загоняя хищников все дальше во мглу трав.
Путеводная искра над горой замигала: световые оргии в ночной степи, видимо, не очень желательны. Иван погасил пульсатор и стал собирать сухие сосновые ветки, посматривая на небесную искорку, — уж костер-то развести ему, надеюсь, позволят.
Ветки он полукругом навалил перед валуном, поджег и взглянул в сторону горы.
Искра молчала. Можно!
На поляне снова появились волки. Они с воем носились вокруг Ивана, не смея, однако, приблизиться. Укусы огня им были знакомы. Минуту спустя, привлеченная какой-то более доступной добычей, стая метнулась в сторону и утонула в черном травянистом море.
Теперь можно отдохнуть. Убежище надежное. Сзади — отвесная стена валуна, спереди защищали красные клыки огня. Иван подбросил в костер еще веток, прислонился к камню и не заметил, как заснул.
Проснулся, когда закрытых век коснулись первые солнечные лучи. Черный комбинезон был усеян серым пеплом угасающего костра. Иван стряхнул пепел, встал и с наслаждением потянулся. Сон был коротким, но на редкость освежающим. Вязкая одурь в голове исчезла. Хроношок кончился, адаптация к чужой эпохе, видимо, завершилась.
Спешить было некуда. Иван присел на камень около валуна и взглянул вверх. По синему небу ветер гнал белую пену облаков. Ниже их, километрах в трех от земли, тихо и неприметно для непосвященных тлела искорка. Теперь Иван знал о ней все.
Миллиарды киловатт энергии потребовалось, чтобы крохотный, величиной с орех, фотонно-позитронный сгусток втиснуть в эту эпоху. В институте времени назвали его хроноглазом.
Иван вспомнил, с каким волнением сотрудники «Хроноса», столпившись у экрана, ждали, что откроется в ареале. На первых порах многое делалось почти наугад.
Знали только, что хроноглаз «втиснули» в каменный век. Но куда? На какой материк? А вдруг хроноглаз повиснет над океаном? Тогда все пропало: много ли сведений выудишь из воды? А если джунгли или тайга? Тоже радости мало.
— Хотя бы полупустыня, — напряженно шептал глава «Хроноса» Октавиан. — Хотя бы она…
Но вот экран засветился, и все увидели холмистую равнину с редкими рощами. В густых травах качнулись рога, а на сухой пригорок неожиданно выскочила антилопа.
И тут же раздался чей-то ликующий возглас:
— Саванна!
Сотрудники «Хроноса» ликовали, хлопали в ладоши.
И все в один голос кричали:
— Саванна! Саванна!
А может, точнее — лесостепь? Многое еще было неясным. Однако за распахнувшейся на экране зеленой равниной так и утвердилось не совсем точное, но поэтичное название — саванна. Ученые, правда, пока пользовались более скромным и скучным словом — ареал.
Яснов улыбнулся и помахал хроноглазу рукой. «Все в порядке», — так должны понять его жест друзья, оставшиеся в будущем. Еще вчера он сидел вместе с ними перед экраном и, глядя вниз с трехкилометровой высоты хроноглаза, видел круг первобытной саванны диаметром сорок километров. Это пространственные размеры ареала — области, доступной изучению и контролю.
Щелчок переключателя — и цветное изображение текущего — так называемого натурального — времени гасло. Вместо него на экране возникало плоское черно-белое изображение времени визуального или наблюдаемого. Оно давало возможность наблюдать, что было до времени натурального и как будут развертываться события после него. Десять лет назад от текущего (натурального) момента и столько же вперед — таковы размеры ареала во времени. Никто не в силах вмешаться в визуальное время, его можно только наблюдать. Высадка же в ареал возможна лишь в натуральный момент.
Иван глядел в небо, на зеленоватую искорку хроноглаза, и словно видел свой покинутый вчера мир. В институте времени сейчас такая же осень и такое же утро, как и здесь, в древней степи. Там протекает секунда — и здесь тоже.
Но расстояние между этими двумя натуральными моментами — тридцать восемь тысяч лет.
Сейчас там, перед экраном, наверняка сидит глава института «Хронос» Октавиан — друг и сосед Яснова. Октавиана в шутку так и называли Хроносом — богом времени, хотя ничего божественного не было в этом добродушном, располневшем человеке. Но зато он лучше других разбирался в капризном характере его величества Времени.
Вчера Хронос, нервничая и суетясь перед экраном, давал Яснову последние наставления:
— Смотри, как завтра («То есть уже сегодня», — мысленно поправил Иван) будут происходить самые важные, узловые события. Вот с Горы Духов около полудня уходит колдун Фао. Вон, видишь, его седая голова мелькает среди кустов. Жаль, что все в серых тонах, изображение мы видим завтрашнее, визуальное. Колдуна на горе не будет до следующего утра, что весьма кстати. Гора в твоем распоряжении. А вот, — Октавиан повернул тумблер на несколько часов вперед, — уже под вечер мальчишка Сан вслед за охотниками идет в саванну. Под лучами вечернего солнца хорошо видны в высоких травах его плечи и голова. Запомни речь мальчишки, его манеру поведения…
Иван кивнул. Он уже и без того в мельчайших подробностях мог восстановить в памяти облик этого десятилетнего заморыша с острым носиком, худыми щеками и густыми растрепанными волосами. Готовясь к рейду в прошлое, Иван особенно хорошо изучил, как будет протекать жизнь Сана сегодня, от начала до конца.
Конца… Иван болезненно поморщился, вспомнив, какой ужасный конец уготовила мальчику неумолимая история. Вчера на экране он не раз видел в инфракрасных лучах то, что непременно разыграется сегодня поздним вечером — уже во времени натуральном. До сих пор в ушах рев хищника и страшный, оборвавшийся крик Сана. А когда уйдет сытый тигр, налетят гиены…
Иван вскочил на ноги. Сидеть просто так, ничего не делая, он не мог. Двинулся в сторону горы, но, взглянув на замигавшую искорку, мысленно обозвал себя болваном. Туда нельзя — гора занята. На ней копошится колдун Фао, собираясь развести костер. Во всяком случае он должен быть там… Иван взглянул на часы, выждал три минуты и, когда стрелки показывали без десяти восемь, снова посмотрел на гору. В точно отмеренное время, секунда в секунду, над ней заколыхался столб дыма.
«История работает, как хронометр», — усмехнулся Иван и сел на прежнее место. Надо ждать. Ничего непредвиденного не случится, он успеет вовремя вырвать мальчика из пасти хищника. Но не для того, чтобы оставить здесь. В племени Сану места уже нет, иначе нарушится равновесие человеческой истории. Иван унесет мальчика к себе, в будущее.
Яснов вспомнил, как до хрипоты спорил, доказывая, что вряд ли это гуманно, что мальчик, не найдя своего места в гравитонном веке, будет испытывать нравственные муки. Ему возражали: мальчик отлично приживется. Хотя некоторый риск есть. Но он так незначителен, что совет «Хроноса» с уверенностью берет судьбу мальчика в свои руки.
Особенно оптимистично настроен был психолог «Хроноса» Жан Виардо. Он уже заранее назвал мальчика «наш приемыш».
— Сан мне и сейчас нравится, — потирая руки, восклицал Виардо. — Я докажу, что мальчик духовно ни в чем не уступит нам. Вот увидите!
За воспоминаниями и размышлениями незаметно прошло два часа. Иван встал, прошелся по поляне. Почувствовав голод, взглянул на свой не совсем погасший костер. В голове возникла шальная мысль: а не попробовать ли жареного мяса? Не выращенного из белков, а естественного мяса.
Низко над саванной пролетала стая гусей. Иван поднял ствол пульсатора. Негромкие хлопки выстрелов — и три птицы беззвучно упали в траву. Однако разрешат ли ему пиршество? Искра в небе тлела тихо и спокойно: такая возможность для путешественника во времени, вероятно, допускалась. Иван пошел за гусями, но на краю поляны остановился, устыдившись собственной кровожадности. Стоял, вглядываясь в низину, куда свалились птицы. Минут через десять трава там заколыхалась и очнувшиеся гуси поднялись в воздух.
«Перекусить можно и на горе», — решил Иван, вспомнив о галетах в кабине. Но вместе с мыслями о кабине начало закрадываться неясное, глухое беспокойство. Он мог допустить какой-то промах, не сделать что-то очень важное… Но что — никак не вспоминалось. Видимо, сказывались последствия хроношока.
Иван нетерпеливо посматривал на гору, проклиная колдуна за медлительность. Но лишь около полудня дым над горой начал таять. Судя по времени, Ленивый Фао спускается сейчас в стойбище.
Яснов быстрым шагом направился к горе. Столкнуться с каким-нибудь крупным животным он не боялся. В жаркий полдень все зверье пряталось в холодке — в рощицах, в камышах. Иван и сам на минуту остановился в тени одинокой сосны, чтобы перевести дух и вытереть взмокший лоб. И тут вспомнил о кабине все. Она была искусно вмонтирована в небольшой пещере в скале. Эта хитроумно замаскированная машина времени так и называлась — «Скала». В состоянии хроношока вход в нее он, вероятно, не закрыл…
У подножия горы Иван с трудом пробрался сквозь высокий густой кустарник и стал подниматься на седловину. Здесь росли редко расставленные сосны и березы, под ногами шуршали опадающие листья. Белели под солнцем гранитные останцы — островерхие скалы, похожие на зубы гигантского дракона. Они стояли в ряд, как солдаты в строю. На правом фланге самый главный солдат — машина времени «Скала».
Так и есть! Вход в кабину не закрыт — скала чернела зевом пещеры. К счастью, туда никто не заходил. Стоило какому-нибудь крупному животному, хотя бы рыси, забрести в пещеру, как «Скала» моментально среагировала бы на биополе, закрылась и унесла в будущее…
Иван заглянул в пещеру, где в полутьме тускло поблескивали приборы пульта.
Смятый и непригодный гермошлем он швырнул в угол, взял с полки пару галет. С правой стороны «Скалы» отыскал небольшой красноватый выступ-кнопку. Нажал ее — и неровные края пещеры бесшумно сомкнулись. Шва не видно. Цветом, шероховатой поверхностью «Скала» идеально копировала гранит. Теперь она ничем не отличалась от рядом стоявших скал.
Времени до заката еще много. Из любопытства Иван поднялся на вершину — в святилище колдуна. Отбрасывая тени, высились затейливо выточенные стихиями гранитные громады — «духи Фао». Под большой березой еще дымился костер. Рядом камень, до блеска отполированный задом Ленивого Фао. Если бы сейчас Яснову сказали, что восемь лет спустя сам он станет Ленивым Фао, Иван, махнув рукой, рассмеялся бы над этой неудачной шуткой.
На краю вершины, на скате, обращенном в сторону саванны, Яснов нашел уютную полянку, не затененную деревьями. В чистом небе тихо светилась искорка, говорившая о том, что опасности здесь нет. Иван и сам знал это. Он догадывался, зачем послали его сюда почти за сутки до встречи с мальчиком, — для адаптации.
«Прошла не совсем гладко», — подумал Иван, ощупывая шишку на голове. Но все же он вписался в эпоху, даже аборигены причислили его к своему миру, назвав его Урхом.
Яснов теперь знал, кто такой Урх, — дух болот и топей. Люди племени часто топли в болотах, поэтому дух считался духом сильным и коварным.
Солнце уже перешагнуло через зенит, и жара ослабила свои душные объятия. Саванна оживала. В бархатисто-зеленых волнах трав проплывали стада антилоп, в воздухе мелькали птицы, а совсем недалеко от горы пасся табунок лошадей. Иван слышал их всхрапывание, одна из лошадей тревожно заржала, подзывая к себе расшалившегося жеребенка. На шее этих мирных животных не хватало лишь позвякивающих колокольчиков, чтобы получилась совсем уж идиллическая картина.
«Рай», — усмехнулся Иван, погружаясь в благодушное состояние, сходное с приятным полусном. И вдруг насторожился. Сзади послышался тихий шелест травы, словно слабый ветерок коснулся сухих былинок. Но интуиция никогда не подводила Ивана.
Темное, сосущее чувство угрозы вкрадывалось в душу. Он взглянул на небо и вздрогнул: искорка полыхала багрово-тревожным огнем, предупреждая об опасности.
Иван стремительно вскочил на ноги, но обернуться не успел. Тугая толстая петля обвилась вокруг шеи с такой силой, что дыхание пресеклось, а в глазах поплыли радужные круги. Иван пошатнулся, с холодным ужасом понимая, что теряет сознание…
Сан
Сан не знал и не мог знать, что наступил последний день в его жизни. Не подозревал он и того, что уже давно за ним пристально наблюдают сыны Будущего.
Спозаранку, когда мать и маленькая сестренка Лала еще спали, Сан выскочил из теплой, душной землянки и окунулся в густой туман, стлавшийся над берегами Большой реки. Сквозь белесую пелену размытым, тусклым пятном светился костер, зажженный еще вчера в честь праздника осенней добычи. Сан побежал туда, тихонько повизгивая, когда босые ноги касались обжигающе холодной росистой травы. Он сел у огня и, снова повизгивая, теперь уже от удовольствия, совал потрескавшиеся от цыпок ступни почти в самое пламя.
Согрелся Сан и только тогда услышал по другую сторону костра тихий говор, потом громкие восклицания и хохот. Мальчик обогнул огромное праздничное кострище и пристроился к кругу взрослых. В середине сидел Джок, и Сан догадался, почему мужчины поспешили собраться у костра. Джок с группой молодых охотников только что вернулся из похода. Далеко в саванне они углубляли и маскировали прошлогодние ямы-ловушки. Зимой туда часто попадали лоси и олени. Ямы маскировались каждую осень и обязательно ночью, чтобы звери и птицы ничего не видели и не разнесли весть о ловушках по всей саванне.
Люди племени любили слушать Джока. Рассказывал он о разных случаях на охоте интересно, живо, подмечал смешные подробности, иногда, правда, и присочинял.
Сейчас Джок повел рассказ о таинственном и страшном случае прошедшей ночи. На полпути к стойбищу они решили передохнуть у костра. И тут к ним тихо подкрался дух болот и топей.
— Урх? — спросил Рун и уставился на Джока острыми, недоверчивыми глазками. — Урх на сухом месте? Шел к костру?
Молодые охотники, участвовавшие в ночном походе, закивали головами, подтверждая, что Джок говорит правду.
— Урх стал человеком неизвестного племени, — сказал один из них.
— Потом заговорил, как наш охотник! — воскликнул другой. — Он хотел заманить нас в трясину, но мы…
Джок прервал своего товарища и начал рассказывать, как он сражался с Урхом.
Когда не хватало слов, он вращал глазами, жестикулировал, потом вскочил на ноги и стал размахивать своей страшной палицей. Джок показывал, как его палица, способная переломить лошадиный хребет, отскакивала от головы Урха, словно от скалы. И все же ему удалось оглушить и свалить духа в болото.
— Урха! Самого Урха! — восхищенно зашептали охотники.
Сан слушал Джока, затаив дыхание. По его спине, облитой жаром костра, пробегали холодные мурашки. Джок заговорил о том, как его спутники, узнав Урха, кинулись врассыпную. Сан хихикнул. Смешно было слушать, как перетрусили охотники.
Из-за горизонта выкатился Огненный Еж и своими горячими иглами рвал в клочья туман. Джок замолчал, костяным ножом отрезал от лосиной туши кусок мяса и стал поджаривать его на костре. Возбужденные рассказами Джока, мужчины еще долго похохатывали, прищелкивали языками, а потом с веселым гомоном приступили к трапезе.
Есть Сану не очень хотелось, и он помчался вдоль берега. Росистое утро дымилось, искрились травы, а в груди мальчика ширилось что-то веселое и беззаботное. Он спешил на луг, полюбившийся ему еще с весны. Зеленые берега Большой реки усеяны были тогда ярко-желтыми брызгами купавок и мать-и-мачехи, на зацветающих ивах свисали мохнатые и пахучие сережки, низко над водой носились ласточки, а справа, над подсыхающим лугом, висел жаворонок.
Скрылись из вида дымы стойбища, а Сан все бежал. Перевалил через один холм, выскочил на гребень второго, и перед ним открылся простор. Посерел, осиротел и притих любимый луг. Отгорели одуванчики и лютики, отзвенел жаворонок, ласточки улетели на юг. Лишь отдельными островками белели ромашки, на пожухлой траве сверкали капельки росы.
Но и сейчас луг нравился мальчику. Сан носился по сухой, но еще зеленой траве, перескакивая через кочки, подражая прыжкам оленя. Потом, вспомнив о главной цели, пошел туда, где в окружении десятка низкорослых кривых березок шумел опадающими листьями высокий и толстый, в три обхвата, тополь. За ним луг переходил в болото, которому, казалось, не было края.
Весной вместе с подростками Сан ходил сюда собирать яйца. Обманчивы здесь камышовые заросли и покрытые коричневым мхом низины. Дух болот Урх в любую минуту мог схватить за ногу и утянуть к себе.
Но сейчас Урха здесь нет, решил Сан, вспомнив рассказ Джока. Дух болот переселился на Круглое озеро. К тому же Сан надеялся на помощь Маленькой Сю и других добрых духов.
Мальчик погрузился по колено в тинистую воду, нащупал пальцами ног каменистое дно и двинулся в глубь болота. Дорогу он знал. Камни кончились, и Сан осторожно зашагал по хлюпающим, уходящим из-под ног кочкам. Дальше простирались бурые мхи, потом снова скользкие кочки. Наконец Сан добрался до сухого острова.
Весной болотные острова звенели птичьими голосами. В дуплах деревьев, в кустарниках, а то и просто в траве ребятишки и женщины находили множество гнезд с яйцами и неоперившимися птенцами. Но сейчас остров встретил Сана тишиной. Лишь по-осеннему коротко тенькали синицы да сухо шелестели падающие листья.
Мальчик забрался в густой, желтеющий орешник. Его острый носик морщился: пахло мухомором, гнилью и мокрой паутиной. Сверху падали пауки. Но Сан перетерпел все и был вознагражден — набрал вкусных орехов.
Медленно и осторожно выбирался он из болота. Левой рукой прижимал полу шкуры с орехами, а в правой держал палку и нащупывал ей дорогу.
В стойбище мальчик входил, когда проснулись даже маленькие дети. Полог у их землянки был приподнят. Оттуда валил дым.
Мальчик нырнул в землянку и увидел ярко пылавший очаг.
— Вот! — воскликнул он и высыпал на оленью шкуру орехи.
Маленькая Лала вытерла кулаком слезы — неизвестно, отчего она плакала: от дыма или уже досталось от матери — и набросилась на орехи.
— Откуда? — улыбнулась мать и вдруг с испугом посмотрела на Сана: — Болото Урха?
Сан честно признался.
Сухой палкой, которую собиралась сунуть в огонь, мать начала бить Сана по голым рукам, плечам и спине.
— Вот тебе! Хочешь утонуть? Не будешь один ходить на болото. Не будешь! Вот тебе!
От боли Сан заскулил, но потом притих, зная, чем все это кончится. Гнев матери быстро сменился милостью. Она потерлась своим носом о нос сына — так в племени выражали любовь и ласку. Заплакала, начала жадно обнимать Сана, гладить по плечам и голове.
Сан зажмурил глаза. Он утопал в волнах материнской ласки, и в груди его что-то сладко таяло.
— Это тебе, Сан.
Мать бросила на раскаленный камень очага тонко нарезанные куски мяса. Они зашипели. Землянка наполнилась вкусными запахами. Но Сана тянуло в веселую толпу у костра. Оттуда доносился приглушенный шум праздника — смех, песни, гулкие звуки барабана — дуплистого бревна. Торопливо проглотив мясо, Сан выбежал из землянки.
У костра ребятишки встретили его визгом и криками. Они наперебой угощали Сана жареным мясом, испеченными сладкими клубнями. Сан наелся досыта, а потом вместе со всеми скакал вокруг костра. Из груди при этом так приятно выдыхались веселые клики:
— У-о-ха! У-о-ха!
Во время пляски Сан приглядел жирную ляжку молодого лося и решил отнести ее Хромому Гуну. Но сын Заячьей Губы Крок, коренастый одногодок Сана, уже вцепился в ляжку и хотел взвалить ее на плечо.
— Куда? — остановил его Сан.
— Ленивому Фао.
— Это Хромому Гуну!
— Ленивому Фао! — вызывающе крикнул Крок.
Он бросил на землю ляжку и, вытянув вперед короткие мускулистые руки, стал приближаться к Сану.
Взрослые и дети окружили мальчиков в ожидании потехи. Драки ребятишек поощрялись в племени: в них закаляли волю и плоть будущие охотники.
Дрались Крок и Сан часто. Сейчас Кроку удалось свалить Сана, прижать его к земле. Из разбитой мочки потекла кровь. Сан кусался, царапался, безуспешно пытаясь выскользнуть из сильных рук Крока.
— Крок побьет Сана! — приплясывая, кричали мальчишки. — Крок побьет Сана!
В груди Сана поднялась ярость, удесятерившая его силы. Гибкий и ловкий, он вырвался из тисков Крока. На ноги мальчишки вскочили одновременно. Оскалив зубы в вызывающей ухмылке, Крок двинулся к Сану. Свои крепкие кулаки он держал наготове. И тут Сан сделал вид, что левой рукой хочет стукнуть Крока по животу.
Тот втянул живот, прикрыл его руками, и в тот же миг правый кулак Сана с силой врезался в подбородок Крока. Мальчишка отлетел в сторону и упал, завизжав от боли. Из его рассеченных губ брызнула кровь.
— Рваная Губа! — хохотали ребятишки, довольные тем, что сыну Заячьей Губы нашли новую кличку. — Рваная Губа! Рваная Губа!
Сан не терял времени даром, взвалил на плечо ногу лосенка и зашагал к переправе через Большую реку.
На другом берегу почти к самой воде подступала большая скала с неглубокой сухой пещерой. Оттуда, цепляясь за выступы камней, поднимались вверх серые ленты дыма.
Хромой Гун работал. Не в пример Ленивому Фао он не переносил безделья, трудился и в холод, и в зной, в веселые праздники и в дни, когда в племени царили голод и горе. Лишь ночами отсыпался он в своей землянке.
Сан заглянул в пещеру. У костра, отставив в сторону скрюченную левую ногу, сидел Хромой Гун. Он держал в руках грубо оббитый камень и задумчиво рассматривал его грани. Сан догадывался: мастер, наверное, уже видит, какие формы примет этот обломок кремня.
Если бы Гун не повредил ногу и остался охотником, племя, наверное, не имело бы такого мастера — самого искусного за всю свою историю. Даже Нюк Голая Голова — лысый старик, проживший зим в три раза больше, чем пальцев на обеих руках и ногах, не помнит, чтобы кто-нибудь раньше вытачивал из кости такие украшения и острые иглы.
Хромой Гун заулыбался, увидев своего маленького помощника и ученика.
— Принес? Сейчас вместе будем есть.
Мальчик помогал резать на куски мясо, а намолчавшийся в одиночестве Гун все говорил и говорил. И так приятно, уютно стало Сану у костра старого мастера, словно у родного очага. Когда куски, проткнутые длинными иглами, хорошо прожарились, Гун замолк и сосредоточенно пережевывал мясо своими редкими зубами.
Сан со вкусом обсасывал кость и любовался новыми изделиями хромого умельца: ножами, иглами, женскими украшениями. Потом начал рассматривать стены. Пещера стала не только кузницей каменных орудий, но и мастерской первобытного художника. Здесь можно увидеть охотника с копьем, лошадь в прыжке, оленя.
В пещере стояла тишина. Но Сан обладал удивительным свойством слышать немые рисунки. Он смотрел на изображения животных так долго, что те стали оживать, а пещера наполняться гулом саванны: топотом бизоньего стада, ржанием лошадей, свистом вольного ветра.
— Сан, принеси воды, — послышался голос Гуна.
Мальчик оторвал взгляд от стен, схватил мешок из оленьего желудка и наполнил его речной водой. Он знал, для чего мастеру нужна вода. Гун первым в племени начал шлифовать камни сырым песком.
— Смотри, Сан.
Мальчик присел у ног мастера, внимательно следя за его умелыми руками. Потом начал помогать Гуну. Он видел, как топоры и наконечники для копий после шлифовки становились острей и удобней. Вскоре Хромой Гун так увлекся работой, что перестал обращать внимание на своего помощника.
Сан вышел из пещеры. Ему не терпелось еще раз испробовать свои силы. Но не в шлифовке камней. Никто в племени не знал, что Сан уже второй год пытается рисовать.
Прошлым летом он сидел как-то на берегу реки и на сыром песке чертил круг с расходящимися во все стороны черточками. В восхищении замер: получился Огненный Еж! Долго следил, как искрящиеся речные волны смывали лучистый круг. На чистом песке Сан попробовал нарисовать голову оленя. Мысленным взором мальчик отчетливо видел мощную голову с ветвистыми рогами. Но на песке вместо рогов получились какие-то перепутанные корни дуба. Много дней провел Сан на песчаных отмелях и наконец добился своего. Олени и лошади выходили у него иногда лучше, чем у Хромого Гуна. А нынешним летом у Сана появился заветный камень.
К нему и спешил он сейчас. Нырнул в густой ивняк, знакомой тропинкой проскользнул через колючие заросли шиповника и очутился на полянке с высоким камнем посередине. На нем Сан красной охрой уже нарисовал лошадь в момент стремительного прыжка-полета.
Он вытащил из-под камня заранее приготовленную охру и палочку с размочаленным наподобие кисточки концом, полюбовался своим рисунком, но заканчивать его пока не стал. Надо сначала попробовать на песке.
На берегу Сан острым концом той же палочки быстро и уверенно набросал мчавшуюся лошадь. Взглянул на свой рисунок и остался доволен. Теперь осталось самое трудное: изобразить верхом на лошади… человека.
В те времена люди, конечно, даже не помышляли о приручении лошадей. Но Сану врезался в память один удивительный случай. Ранним летом он с мальчишками отважился уйти из стойбища далеко в саванну. С холма они заметили около небольшой рощи табунок мирно пасшихся лошадей. Вдруг послышалось встревоженное ржание — и табун шарахнулся в сторону от рощи. Одна лошадь отделилась от табуна и стремительно, не разбирая дороги, неслась в их сторону. На ее спине острые глаза Сана увидели пестрый комок. То был ягуар. Хищник вцепился в круп и все ближе подбирался к горлу.
У холма, где стояли оцепеневшие ребята, смертельно испуганная лошадь ускорила и без того немыслимый бег. Потом споткнулась и, перевернувшись через голову, упала на спину. Ягуар был раздавлен, а окровавленная лошадь вскочила и кинулась догонять табун.
У Сана даже сейчас при этом воспоминании перехватило дух от восторга. Вот это бег! Хорошо бы самому сидеть на спине лошади и, крепко держась за гриву, скакать. Ночами ему не раз снился этот удивительный полет над травами родной степи.
Однако на песке человек выходил уродливым. То и дело Сан стирал рисунок, разравнивал песок и начинал снова. Оленья шкура на спине накалялась под знойным солнцем, пот заливал глаза, а мальчик все трудился. Только под вечер дело как будто пошло на лад, но голод и усталость заставили прекратить работу.
Сан поспешил в стойбище. У праздничного костра уже не было такого веселого и шумного гвалта, как днем. Кругом валялись обглоданные кости. Однако на горячем камне мальчик нашел хорошо прожаренный и кем-то забытый кусок мяса.
Из своей землянки выглянул Крок. Его нос и разбитые губы были присыпаны пеплом и заклеены листьями подорожника. Увидев Сана, сын Заячьей Губы заворчал и снова закрылся пологом из оленьей шкуры.
К костру подсели шесть молодых охотников во главе с Джоком. Они готовились к новому ночному походу: проверяли оружие и подвязывали к ступням ног шкурки шакалов. Это делалось для того, чтобы не оставлять за собой следы с человеческим запахом. Ни один зверь не должен догадываться, где маскируются ямы-ловушки.
Сан присел рядом с Джоком и засмотрелся на его могучие плечи, на которых свободно растянулся бы ягуар. Потом с уважением потрогал палицу. С ней Джок никогда не расставался, хотя люди племени давно пользовались более совершенным оружием. Но в руках Джока увесистая дубина с отполированными сучками становилась страшной силой.
Джок пытался стянуть на ногах лосиные ремешки. Сан не удержался от смеха: в пальцах охотника-великана прочные ремни лопались и рвались, как стебли травы.
Мальчик помог подвязать Джоку шакальи шкурки, потом сделал то же самое со своими ногами.
Огненный Еж заметно приблизился к краю земли. И только тогда отряд углубился в степь. Сзади с легким дротиком в руке пристроился Сан. Он шагал бесшумно, осторожно раздвигая траву. Мальчика никто не мог заметить: охотникам на первых порах нельзя оборачиваться назад, это считалось дурным знаком.
Гора Духов скрылась за холмами, потом и Круглое озеро осталось далеко за спинами охотников. Распухшее солнце клонилось все ниже, золотя верхушки трав и кустов.
Теперь можно оборачиваться. Недавно посвященный в охотники Мук, увидев Сана, воскликнул:
— Откуда?! Почему здесь?
— Назад! — приказал Джок.
Нижняя губа Сана обиженно дрогнула. Джок нахмурил брови, но, вспомнив, что на ногах мальчика шкурки с отвлекающим шакальим запахом, смягчился.
— Иди, Сан, — сказал он, подтолкнув мальчика в спину. — Тебе еще рано с нами.
Сан послушно побрел назад. На одном из холмов он постоял, тоскливо провожая взглядом лиловые под заходящим солнцем спины охотников. Потом побежал на запад.
Дорогу он знал хорошо и в стойбище мог вернуться до темноты.
Огненный диск солнца коснулся темнеющей на горизонте реденькой рощи, и та вспыхнула, как куча хвороста. Мальчик остановился, завороженный зрелищем закатного пожара. Он различал множество знакомых красок. Огненный Еж, уходя на покой, брызнул на низко висящие тучки красной и желтой охрой, в прорывах между облаками Сану почудилась синева речной глади с зелеными кувшинками. А когда солнце упало за горизонт, все краски смешались, накалились до малинового цвета, словно камни очага, и вдруг заколыхались языками пламени.
Восторг охватил мальчика: костер! И развели его, конечно, сильные и добрые духи огня. У них тоже, наверное, праздник по случаю удачной охоты. Сан даже видел огненных духов в неясных тенях, в колышущихся космах. Они извивались, пританцовывали, куда-то исчезали и снова появлялись.
Долго любовался Сан пляской духов огня. Их костер медленно угасал, уменьшался, от него осталась, наконец, кучка светящихся головешек. Духи где-то притаились, ушли совсем. И так сиротливо стало, что грудь мальчика наполнилась тоской, непонятным томлением. От бессилия выразить свои чувства Сан тихо заскулил, завыл, как волчонок, глядящий на луну.
Внезапно он затих, бросив взгляд на потемневший небосвод. Там раскаленными камешками выступили первые звезды. Но Сан догадался — это искры! Невидимые духи огня, гася свой костер, сейчас, наверное, били сырыми палками по головешкам. И оттуда огненными мотыльками взметнулись в небо искры. Их становилось все больше и больше. Вскоре самые крупные из них стали казаться мальчику глазами добрых духов неба.
А тьма все сгущалась, луна выкатилась из-за холмов, в низинах извилистыми тропками поползли ночные запахи. Сан вдыхал их, отзываясь на таинственные биения стихий. Он и сам становился этими стихиями, сливаясь с многоглазым живым небом, с лунным сиянием, с дыханием трав на сумеречной равнине…
От пронзительного хохота гиен Сан вздрогнул, вскочил на ноги и огляделся. Кругом таилась опасность. Слева, шурша сухими былинками, черной тенью катился на него какой-то комок. Не разобравшись, кто это, мальчик метнул туда дротик — и тень исчезла в кустах.
Сан помчался в сторону стойбища. Шакальи шкурки на ногах развязались, остались где-то в траве, и, когда Сан перебегал голый каменистый холм, его твердые пятки стучали, как копыта молодой сайги. Потом снова начались густые травы.
На горизонте показались неясные очертания двугорбой Горы Духов. За ней — родное стойбище.
Сан замедлил бег и оглянулся. Далеко позади скользнула длинная тень, исчезнув на миг в низине. Мальчик замер, еще не веря страшной догадке. Тень выкатилась из низины, и по светлым поперечным полосам Сан узнал повелителя ночной саванны — тигра. Хищник приближался бесшумными и ленивыми прыжками, уверенный, что такая слабая жертва от него не уйдет.
Сан вскрикнул и помчался. Он бежал так быстро, что метелки злаковых трав больно хлестали по голым коленкам. Справа залоснилось под луной Круглое озеро. Сан кинулся туда, надеясь скрыться в прибрежном кустарнике. Внезапно, словно вынырнув из воды, на берегу выросла неясная в сумерках коряга, похожая на человеческую фигуру. Из горла Сана вырвался хриплый крик:
— Урх!
Мальчик окаменел. И в это время в упругом прыжке, красиво изогнув камышово-полосатую спину, над ним взметнулся тигр. Вопль смертельного ужаса пронесся по саванне.
Другое племя
Сознание Иван не потерял: петля, стянувшая горло, ослабла, и воздух освежающей струей ворвался в легкие. Но зато другие петли одна за другой обвивались вокруг груди, медленно и неотвратимо сжимаясь. И он не мог воспользоваться пульсатором — руки были скованы.
Иван видел, что петли живые и, следовательно, способны чувствовать боль. Этим он и воспользовался, с размаху упав на камень. Ударившись об острые грани, живые кольца чуть разжались. Яснов мигом высвободил правую руку с пульсатором и вскочил на ноги. Но петли, будто пружины спирального капкана, снова сжимались.
Иван увидел перед собой покачивающуюся пятнистую голову удава. Глухо фукнул гравитационный выстрел пульсатора. Голова удава дернулась и стала медленно клониться вниз. Вслед за нею рухнули на землю обмякшие кольца.
«Вот тебе и рай», — усмехнулся Яснов, брезгливо перешагивая через уснувшие, чуть подрагивающие петли.
Час спустя, когда солнце перевалило через зенит, вспотевший от быстрой ходьбы Яснов подошел к берегу Круглого озера и скрылся в прохладных зарослях ивняка.
Шагах в десяти отсюда и должна состояться его встреча с мальчиком.
Иван углубился в заросли и присел на полусгнившую корягу. В чащобе стояла тишина, прерываемая писком каких-то птах, пахло осенней прелью. Когда начало темнеть, Иван осторожно приблизился к краю зарослей, осторожно раздвинул ветви и увидел розовые, в предзакатных лучах плечи охотников. Люди молча шли на восток.
Как Иван ни вглядывался, мальчика среди них обнаружить не удалось. Но вот охотники поднялись на голый каменистый холм, и вслед за ними из густых, позолоченных солнцем трав выскочил Сан.
Теперь оставалось только ждать. Мальчик появится на берегу озера не раньше, чем через полтора часа. Яснов хорошо представлял его обратный путь. Еще вчера в инфракрасных лучах хроноэкрана он видел, как малыш шел, а потом бежал, охваченный страхом.
Иван выбрал место посуше и присел, а когда сгустилась тьма, залюбовался пышным закатом. Он знал, что далеко позади, на одном из холмов, сидит мальчик и завороженно глядит на это великолепное вечернее пожарище. Какие мысли и чувства копошатся в его первобытной душе? Каким он видит мир? Живым, шевелящимся, одушевленным, как и он сам? Ведь человек еще не выделил себя из природы, не осознал свое «я», свою личность. Природа не была для него «внешней».
Яснов попытался «влезть» в шкуру человека каменного века с его мифологическим сознанием. Как хотелось бы ему сейчас, хоть на миг подобно Сану слиться с миром, представить его живым. Но ничего не получалось… В закате он видел всего лишь редкий по красоте поток излучений, а в загоревшихся на черном небе угольках — не глаза каких-нибудь духов, а знакомые фигуры созвездий.
В притихшей ночной саванне послышался топот. «Мальчишка совсем близко», — сообразил Яснов. Он встал и притаился за кустом, одиноко росшим на берегу.
Да, это мальчик. Нагоняемый хищником, он мчался к озеру. Иван выступил из-за куста и услышал хриплый возглас:
— Урх!
На окаменевшего от ужаса мальчика в высоком дугообразном прыжке бросился тигр.
Его камышовая спина хищно и грациозно изогнулась, а шкура засверкала под луной голубыми искрами. «Красив», — подумал Иван. В тот же миг последовал гравитационный удар. Хищник плюхнулся, распластав в стороны лапы. Иван шагнул к Сану. Тот дрожал всем телом, не имея сил сдвинуться с места.
— Урх!
— Я не Урх. Я человек, — ласково проговорил Иван и протянул руку, чтобы погладить мальчика по плечу.
Сан отшатнулся.
— Я человек, — повторил Иван.
— Дагор?
Глядя на худенькое лицо мальчика, источенное сомнением и страхом, Иван вспомнил разговор охотников, когда после удара палицей лежал на траве.
— Да, я из племени дагоров, — пустился он на маленький обман. — Не бойся меня. Ты же знаешь: наши племена дружат.
Сан приблизился, осторожно коснулся шелковистой ткани комбинезона и одернул руку. Такой шкуры он не знал.
— Шкура змеи, — пояснил Иван, снова вспомнив слова охотников. — Тебя зовут Сан?
— Сан, — подтвердил мальчик, с удивлением глядя на незнакомого человека. В его широко открытых глазах все еще проглядывал страх.
— Не бойся меня. Я многое знаю, потому что я… Я колдун.
«Что я плету?» — удивился себе Иван, но для пользы дела решил продолжать в том же духе. Это успокоит мальчика.
— Зовут меня… — хотел сказать «Ваня» или «Иван», но решил сократить свое имя.
Для мальчика так будет привычнее. — Зовут меня Ван. Колдун Ван.
— Колдун Ван, — повторил Сан, кажется, начиная
верить.
— Я не такой, как Ленивый Фао, — продолжал Иван, чувствуя, что контакт налаживается. — Я многое знаю и умею. Вот этой колдовской палочкой, — Иван показал на пульсатор, — я убил тигра.
— Но он живой! — воскликнул Сан, заметив, что когтистые лапы хищника дернулись и начали скрести землю.
— Не бойся. Я не совсем убил его. Я только… — Иван никак не мог найти в языке лагуров слова «оглушил». — Он только уснул. Нам лучше уйти подальше.
Иван взял мальчика за руку и повел за собой. Сан подчинился. Как ни странен был незнакомый колдун, но тигра и ночной саванны мальчик боялся еще больше.
Они остановились на соседнем холме. Его вершина поросла высокой травой. Сквозь крепкие и дурманяще пахнущие стебли Сан опасливо поглядел в сторону тигра.
— Он не увидит нас и не учует, — сказал Иван. — Запах трав перебивает наш запах. И ветер в нашу сторону. Так?
Мальчик кивнул и уже доверчиво посмотрел на своего спасителя.
Тигр тем временем очнулся, встал на ноги и, потягиваясь, выгнул спину. «Сейчас появится олень», — вспомнил Иван, не раз видевший на хроноэкране ночную саванну.
И действительно послышался глухой шум рассекаемой травы — и на поляну перед озером выскочил олень. За ним гнались волки. Быстрые тени бесшумно скользили в зарослях, окружая добычу. Тигр в три прыжка догнал стаю и опустил на ближайшего волка могучую лапу. Волк взвыл и покатился с перебитым хребтом. Стая кинулась в сторону, уступая добычу царю саванны.
Тигр помчался за оленем. Тот гигантскими скачками уходил в глубь степи, и скоро оба скрылись во тьме. Все произошло так, как и рассчитывал Иван.
— Дорога свободна, — сказал он Сану. — Идем.
— Куда?
— На Гору Духов.
— Туда нельзя!
— Со мной можно, — Иван с улыбкой потрепал мальчика по плечу. — Я же колдун.
Сан колебался, но уж очень хотелось посмотреть на духов Фао. К тому же добрый колдун вызывал все большее доверие.
Они пошли в сторону горы. В саванне царила тишина, лишь под слабым ветром еле слышно вздыхали травы. Однако ночная тьма пугала мальчика, и он прижимался к «змеиной шкуре» своего попутчика.
— Не бойся, — Иван показал на пульсатор. — Со мной колдовская палочка.
Вскоре пришлось пустить ее в ход. Волки, уступившие свою добычу тигру, следовали за ними. Они редко нападали на людей, опасаясь их огня и летающих каменных клыков. Но голод подстегивал хищников. Стремительные тени замелькали перед Иваном и мальчиком, яростные зеленые глаза засверкали вокруг. Сан снова задрожал всем телом.
— Смотри, Сан, и не пугайся.
Мальчик от неожиданности присел: ослепительная молния рассекла мглу. Волки с визгом бросились прочь. Иван еще раз полоснул лучом по убегающей стае и выключил пульсатор.
— Ну чего дрожишь, дурачок? — Иван наклонился над мальчиком. — Вставай и подержи мою палочку. Бери, не бойся!
Сан встал, потрогал пульсатор, но в руки не взял. На Ивана он смотрел с уважением. В присутствии такого могущественного и веселого колдуна мальчик окончательно успокоился.
Саванна казалась теперь совсем не страшной. Никогда до этого ему не приходилось быть в родной степи ночью, и он не мог оторвать сейчас от нее взгляда.
«Красивая ночь, — мысленно согласился с ним Иван. — Дикарь, а чувствует природу, пожалуй, глубже, чем я. Впрочем, что тут удивительного? Он по-особому ощущает мир, осязает его всем существом».
Время не торопило, и Яснов решил не мешать мальчику. Пусть полюбуется своей саванной в последний раз.
А Сан смотрел в ночное небо. Высокие перистые облака слабо подсвечивались снизу упавшим глубоко за горизонт солнцем и роняли на степные холмы розовый пепел. Но вскоре облака погасли совсем, потемнели и стали сизыми, как речная вода в грозу.
Сан перевел взгляд в темные дали, где лоснились под луной степные волны. Иван немало подивился бы, если бы узнал, что мальчик различает множество звуков там, где для него, Яснова, царила полная тишина. Шелестели метелки трав, слабо пискнула мышь, а вдали, басовито гудя, пролетели ночные жуки. Но все это было внятно лишь Сану.
И вдруг… От неожиданности Иван даже присел. Какой-то взбалмошный одинокий перепел, затерявшийся в низине под холмом, запоздало и громко отстучал: «Спать — пора! Спать — пора!» Сан хихикнул, заметив, как вздрогнул могущественный колдун. Иван улыбнулся и притянул мальчика к себе.
— А теперь на Гору Духов. Со мной бояться нечего.
Сан уверенно зашагал рядом. Шли около часа. Временами тонули в черных оврагах и травах. Потом снова поднимались на холмы. И тогда спины их серебрились под ливнем лунных лучей.
Однако на Горе Духов Сан оробел. А когда увидел каменные изваяния, похожие на черные человеческие фигуры, во рту у него пересохло от волнения.
— Духи Фао, — прошептал мальчик.
— Не духи, — попытался просветить его Иван. — Это просто камни. Никаких духов нет.
Мальчик непонимающе смотрел на попутчика. Как нет духов? И это говорит колдун!
«Нелегко будет отучить его от суеверий, если это вообще возможно, — подумал Иван. — А впрочем, не моя это забота. Мое дело доставить мальчика».
Но как доставить? Не хотелось оглушать малыша из пульсатора, а потом обмякшего втискивать в кабину. А может, он сам согласится?
— Сан, хочешь в другое племя?
— В другое? К дагорам?
— Нет, совсем в другое. Там живут добрые и сильные люди.
Мальчик отшатнулся.
— Нет, нет! — воскликнул он, — Хочу в свое племя!
Попытка не удалась. Иван особенно и не рассчитывал на успех. Глядя, как озябший Сан кутается в шкуры, предложил:
— Погреемся у костра. Ночи сейчас холодные.
Сан натаскал сухих веток и сложил их там, где Ленивый Фао разводил свой священный костер. Потом завертел головой в поисках камней, чтобы высечь огонь.
Иван нацелил на кучу хвороста пульсатор. Мальчик, присев, внимательно следил за каждым его движением.
— Хочешь сам зажечь костер?
Сан протянул руку к колдовской палочке и тут же отдернул ее.
— Держи, не бойся. Держи вот так. А теперь нажми вот этот сучок, — Иван указал на красную кнопку.
Мальчик так и сделал. Из палочки скользнул язычок пламени. Сан выронил пульсатор и отскочил в сторону. Но когда костер загорелся, подсел к нему, улыбаясь: палочка колдуна подчинилась ему.
«Какой дикарь», — думал между тем Иван, глядя на мальчика, на его желтые острые зубы и потрескавшиеся губы, растянутые в довольной ухмылке. Засаленные волосы неопределенного цвета спутанными космами прикрывали худые, поцарапанные щеки.
Вот нос был симпатичный — острый, забавно вытянутый вперед и словно выражающий неуемное любопытство. Носом своим Сан напоминал героя какой-то детской сказки.
Но какой — Иван так и не вспомнил.
Глаза Сана весело щурились. Он вскочил и начал плясать вокруг огня, высоко вскидывая худые, крепкие ноги. Шкуры болтались, а из широко разинутого рта мальчика неслись гортанные, с хриплым выдыханием возгласы:
— У-о-ха! У-о-ха!
«Что будет делать у нас этот дикарь? — хмурился Иван. — Служить живым ископаемым?» Утомившись, Сан снова присел к огню. Притихший и задумчивый, он пристально смотрел на затухающий костер. Забавно вздернутый нос выражал теперь не веселое любопытство, а какую-то странную меланхолию. «Что он видит в тлеющих углях? — гадал Иван. — Какие-то древние образы и смутные, тревожащие душу тени?» Однако пребывание Сана в его родной эпохе недозволенно затягивалось. Когда костер совсем погас, Иван сказал:
— Нам пора, Сан. Идем.
— Куда? — вздрогнул мальчик.
— В другое племя.
— Хочу в свое стойбище.
— Хорошо. Но сначала, покажу тебе одну пещеру. И там духи… — Иван поморщился, но ничего не поделаешь — приходилось продолжать вранье. — Там духи быстро перенесут нас в другое место.
Иван взял Сана за руку и повел мимо темных каменных истуканов. Мальчик опасливо озирался.
Спустились в седловину, и среди редко расставленных берез Сан увидел скалы. Бока их ярко блестели в лунном сиянии. Иван подвел мальчика к крайней скале и сказал:
— Сейчас здесь откроется пещера.
Одной рукой он держал мальчика, а другой нащупывал в скале шероховатый выступ-кнопку.
Сан непонимающе взирал на гранитную стену: никакой пещеры не было. И вдруг стена раскололась, открылся темный провал. Мальчик отшатнулся. Но Иван втолкнул его в «пещеру» и усадил в кресло перед пультом. Вход в кабину бесшумно замкнулся. В тот же миг засветились многоцветные огоньки пульта и начался бег сквозь столетия.
Переход из ареала длился пятнадцать минут. Все это время Сан, сжавшись в кресле, оцепенело глядел, как на стене извиваются красные и зеленые змеи, а на доске перед ним мелькают огненные изогнутые палочки-цифры.
Когда цифры на темпоральной шкале замерли на нуле, стена разомкнулась и в «пещеру» хлынул яркий свет.
— С благополучным возвращением, — услышал Яснов голос Октавиана и увидел его полное улыбающееся лицо.
Иван взглянул на поникшего в кресле Сана и встревоженно спросил:
— Что с ним?
— Ничего особенного. Хроношок. То же было и с тобой. Там…
Сан зашевелился, встал и вышел из кабины с широко открытыми глазами.
Пошатываясь, он брел наугад.
— На первых порах то же было и с тобой, — повторил Октавиан. — Ну и напугал ты нас, когда лунатиком шатался по ночной саванне. Вот так же сейчас и мальчишка: все видит, но ничего пока не понимает.
«Какой он грязный!» — мысленно воскликнул Иван. Только сейчас, при ярком свете искусственного солнца, он по-настоящему разглядел мальчика, большие, в цыпках и ссадинах, ступни его ног, мозолистые руки, худое, остроносое лицо. В спутанных, грязно-пепельных волосах и по засаленной шкуре ползали насекомые. Яснов поежился, вспомнив, что в сумерках древней степи он обнимал и гладил по голове этого дикого заморыша.
Подплыла платформа с людьми в белых халатах. Они дали Сану что-то понюхать и увезли с собой мгновенно уснувшего мальчика.
Утром следующего дня Иван Яснов был уже дома, в Байкалграде. Прошелся по залитым солнцем комнатам, в библиотеке надолго остановился у книжных полок.
Прославленный космопроходец, а теперь уже и время-проходец Иван Яснов с увлечением коллекционировал старинные, еще на бумаге отпечатанные книги.
К своему удовольствию, Иван обнаружил на полке новое приобретение — редчайшую книгу древнеримского императора и философа Марка Аврелия «К самому себе». Он раскрыл ее и стоя углубился в чтение. Мог ли Иван тогда подумать, что восемь лет спустя будет мучительно вспоминать один из афоризмов Марка Аврелия? И вспоминать в неожиданном для себя качестве — колдуна…
Яснов положил книгу на стол и мысленно похвалил домашнего робота: «Молодец. Обменял у кого-то. Или… Или украл?» Домашние киберы у коллекционеров, увы, повально страдали древним недугом.
Незаметно похитить редкую книгу, марку или монету не считалось у них зазорным.
Да и сами коллекционеры смотрели на это сквозь пальцы: дескать, что с них, роботов, возьмешь… Но с некоторых пор Ивана это стало раздражать.
Он подошел к полке и увидел, что три книги, отложенные для обмена, на месте.
Все-таки украл! «Жулик, — нахмурился Иван. — Сейчас я ему задам».
— Афанасий! — громко крикнул он.
В дверях возник Афанасий — биоэлектронный детина в комбинезоне, сложенный, как античный бог. В толпе людей домашних роботов можно было узнать лишь по наивно-туповатым физиономиям, по эталонным, утрированно-правильным чертам лица.
Взглянув на книжную полку, Афанасий понял, что предстоит нагоняй, и тотчас изобразил раскаяние. Покраснел, воровато спрятав глаза.
— Ладно уж, иди, — рассмеялся Иван. — И поставь завтрак.
Кибер облегченно вздохнул и удалился на кухню.
После завтрака Иван зашел к Октавиану Крассу. Жил тот рядом, в таком же одноэтажном коттедже.
— Ну как мальчик? — спросил Иван.
— В терапевтическом и учебном сне, под перекрестным облучением, — охотно рассказывал Октавиан, — залечиваются раны, ссадины, порезы, а мозг впитывает знания о нашем мире. Очнувшись, Сан будет знать наш язык, быстро освоится с предметами быта и даже летательными машинами.
— Ну, это еще поглядим…
— Не усмехайся. В его веке процесс антропогенеза, становления человека давно закончился. Биологически по нервной организации Сан такой же, как и ты, как любой из нас.
— Знаю, что он кроманьонец. Ну, а психическая структура? Окостеневшие нейронные связи в мозгу? Вера в духов и прочие суеверия? Мне искренне жаль парнишку. Приживется ли он у нас?
— Через полгода ты его не узнаешь, — пообещал Октавиан.
Они расстались, не убедив друг друга. Октавиан улетел в институт времени «Хронос», а Яснов — на космодром, где модернизировался его корабль «Призрак».
Во второй половине дня Иван вернулся домой. Вот здесь-то, в его необычном кабинете, и начиналась настоящая работа. Нажим кнопки — и перед столом, похожим на пульт управления корабля, развертывался экран. Не выходя из кабинета, Иван мог консультироваться с любыми специалистами, присутствовать на заседаниях, принимать участие в спорах. Нажим другой кнопки — и земной мир исчезал. Перед столом-пультом распахивалась бездна, населенная легионами солнц, кометами, темными и светящимися туманностями, спиралями галактик…
За вечерними занятиями, телевстречами с учеными проходили дни, и Иван ни разу не наведался в «Хронос», хотя институт времени находился не так уж и далеко — в десяти тысячах километров над Землей.
Смешанное чувство испытывал Иван — желание повидать мальчика и какую-то неловкость перед ним, даже вину. «Спас малыша, — думал он. — А что дальше?» Дальше, правда, институт времени совместно с институтом «Космос» разрабатывал грандиозный и далеко идущий проект — «Миры Ориона». В созвездии Ориона нашли две планеты, где природные условия оказались очень схожими с земными. Чистые реки, богатая растительность, множество диковинных птиц и зверей. И ни малейших признаков мыслящих существ. Более того, ученые не нашли среди животных ни одного вида, способного пусть через миллионы лет обрести разум.
Естественно, земляне с таким «неразумием» природы согласиться не могли. И вот с открытием первого ареала у руководителей институтов «Хронос» и «Космос» возникла идея — заселять миры Ориона выходцами из прошлых эпох.
— Разных эпох! — расхаживая перед Иваном, с воодушевлением восклицал Октавиан. — Из разных культурных слоев! С разным типом мышления! Мужественный римлянин и первобытный охотник, воинственный викинг и мечтательный грек, выросший под синим небом олимпийской мифологии. У каждого будут свои недостатки, но и свои неповторимые достоинства. Они уйдут в космос, вооруженные всеми достижениями нашей цивилизации. Смешение рас и эпох даст невиданный эффект, в космосе возникнет новый тип человечества.
— А кто вылавливать будет? — перебил Иван своего увлекшегося друга. — Опять я?
— Технику похищения обреченных мы отработаем до совершенства. Создадим специальные отряды времяпроходцев-спасателей… Ты представляешь, сколько людей за всю историю погибло от наводнений, землетрясений, извержений вулканов?
Миллионы!.. Мы сделали только первую попытку спасения. Сан, конечно, останется на Земле, ибо до начала реализации проекта еще далеко. Сан — первая ласточка, залетевшая в нашу эпоху. И пусть он станет приемным сыном сегодняшнего человечества, сроднится с нашим миром.
«Сроднится ли?» — с сомнением спрашивал себя Иван.
Мальчик находился в «Хроносе» уже второй месяц, а землянам его по всемирной сети еще не показывали. Однако из разговоров Яснов знал, что оптимистическое предсказание Октавиана не оправдалось. Из «лечебно-учебного» сна мальчик вышел чужаком. Он дичился, испуганно смотрел на людей, убегал в рощи, а первые три дня вообще спал на деревьях. «Что и следовало ожидать», — констатировал Иван.
Несколько обнадежила его воспитательница мальчика Лиана Павловна, выступившая по телевидению. Невысокая женщина с добрым лицом поведала землянам: Сан не совсем четко, но уже понимает, что он в «другом племени», которое живет в той же саванне, но в ином времени, в далеком завтра. Как ни странно, а течение времени мальчик понимает почти правильно. И это считалось большой победой. Сан почти освоился с бытовой техникой, свободно говорит на всепланетном языке. Правда, здесь Лиана Павловна столкнулась с трудностями, которые Иван предвидел. Если в комнате, где много стульев, мальчику сказать: «Сан, принеси стул», то он остановится в недоумении — какой именно стул? Сан еще не понимает, что имеется в виду не единичный, конкретный, а стул вообще, любой стул.
Именно конкретность мышления первобытного человека Иван считал рубежом вряд ли преодолимым.
Однако уже на другой день Октавиан, потирая руки, заявил:
— Все в порядке. Наш Сан скоро станет Гегелем. Он уже овладевает абстрактным мышлением.
— Чего доброго, сделаете мальчика идеалистом, — пошутил Иван.
— Такой опасности нет. Психограммы показывают…
— Хорошо, хорошо! Верю. Но не думаю, что вам удастся так же легко разделаться с духами.
— Да он смеется над ними! — воскликнул Октавиан. — Над духами и над колдунами тоже. Сан прекрасно понимает, что спас его не колдун Ван, а просто дядя Ван.
— Помнит меня? — с улыбкой спросил Иван.
— Еще как! Он знает, что ты коренной житель нового племени и сейчас где-то рядом. И в то же время ты для него такой же, как его соплеменники. Мы исследуем его сны. Они пестрят картинами древнего мира и… твоей персоной. Да, да! Не удивляйся! Для него ты почти такой же древний житель, как и он сам… Даже мать и сестра почему-то на втором плане. Во сне он чаще всего видит хромого мастера из пещеры и тебя.
— Спасибо.
— Не усмехайся. Для мальчика ты многое значишь. Для него здесь все чужие, кроме тебя. Ты единственное связующее звено с саванной. С твоей помощью Сан быстрее бы привык к новому миру.
Прошло еще несколько дней. Ученые наконец сочли возможным познакомить землян с мальчиком — начались короткие ежедневные передачи из «Хроноса».
Однажды Иван включил экран. Одна из стен его гостиной распахнулась в зеленую даль. Комната наполнилась птичьими свистами, запахом трав. Справа шумела листвой березовая роща. Оттуда вышла на поляну Лиана Павловна с мальчиком. Что-то объясняя, она показала рукой на небо, где сияло искусственное солнце «Хроноса».
Сан задрал голову вверх, и первое, что отметил Иван в его облике, — красивые светло-золотистые волосы, уложенные в модную прическу. Это так возмутило Яснова, что он погасил экран, связался с Октавианом и насмешливо спросил:
— Вы начали красить мальчика? Делаете из него красивенький манекен?
— Ты имеешь в виду волосы? — улыбнулся Октавиан. — Но это их естественный цвет. Мы лишь отмыли их как следует. А прическа мне и самому не нравится. Переменим. Ты лучше обрати внимание на одежду.
Иван снова включил экран и нашел, что в «Хроносе» поступили остроумно. Сан одет был в тунику, отделанную внизу, у колен, и на коротких рукавах искусственным оленьим мехом. Туника недавно вышла из моды. Но она очень шла мальчику, а главное, привыкать к ней не приходилось. Можно было подумать, что Сан не вылезал из оленьей шкуры, сшитой в землянке его матерью. Широкий пояс подчеркивал стройную фигуру мальчика, но ходил он еще так, как передвигались охотники в саванне, — крадучись и чуть сгорбившись.
Сан повернулся лицом к зрителям. «Да он недурен», — удивился Иван, вспомнив, каким был этот заморыш там, у костра на Горе Духов. Мальчик поправился и выглядел уже не худым, а в меру худощавым. На гладкой коже, хранившей еще теплый загар первобытной прерии, ни царапин, ни ссадин.
Но выражение лица Ивану не нравилось. Сан будто закаменел в вечном испуге.
Слушал он Лиану Павловну хмуро, не очень внимательно, и даже его слегка вздернутый нос, выражавший раньше веселое любопытство, казался сиротливым и унылым.
«Бедный малыш», — вздохнул Иван.
Утром в саду он встретил Октавиана и заявил:
— С мальчиком что-то неладное.
— Мальчик как мальчик, — возразил глава «Хроноса».
— Я-то лучше знаю, каким он был в саванне. Смешливым и любопытным. А здесь?
— Давай-ка отправимся к нему вместе. Там и разберемся.
Октавиан и Яснов сели в двухместную «ласточку». Юркая летательная машина в атмосфере и в самом деле походила на ласточку. Но, вырвавшись в космос, она складывала крылья и становилась обычной гравитационной ракетой. Минут через десять «ласточка» скользнула в ангар «Хроноса».
На лифте друзья поднялись наверх, под исполинский купол, имитирующий сейчас утреннее небо. «Хронос» разворачивал свою сказочную феерию. Из-за горизонта выплывало жаркое солнце, ощупывая лучами-перьями тугие облака кучевых облаков, сотканных из вихревых фотонных волокон.
Яснов стал подтрунивать над Октавианом, принимавшим участие в проектировании «Хроноса».
— Театральщина. Отдает декорациями.
— Верх у нас и в самом деле не очень получился, — согласился Октавиан. — Но ты посмотри вниз.
Луга и сады «Хроноса» были великолепны. Иван шагал по самой настоящей живой траве, в чашечках полевых цветов уже копошились проснувшиеся пчелы. В дубовой роще, куда они вошли, на все голоса звенели птицы. Иван хотел сказать, что и от этого за версту разит декоративностью.
— Вот и они, — прошептал Октавиан, остановившись на опушке рощи. — Сан читает хорошо, но все еще побаивается телестраниц.
На берегу небольшой речки сидели в креслах Лиана Павловна и Сан. Перед ними наклонный столик, связанный теленитью с Центральным хранилищем Знаний и Книг. На столе выплывали из пустоты страницы какой-то детской книги и, прочитанные, уплывали в ничто — в свои далекие микроскопические гнезда. Мальчик читал довольно быстро. Но, видимо, не очень внимательно. Слегка оживлялся он, когда появлялись движущиеся картинки-иллюстрации.
При смене страниц Сан вздрагивал. Вот, желая пощупать светостраницу, он протянул руку. Пальцы вошли в пустоту и наткнулись на гладкую поверхность стола. Мальчик с испугом отдернул руку. Он никак не мог понять, есть на самом деле страницы или их нет.
— Сан, вот и твой спаситель, — сказала Лиана Павловна, заметив вышедших из рощи друзей.
Мальчик обернулся, и хмурые глаза его засветились.
— Дядя Ван!
— Узнаешь колдуна? — улыбнулся Иван.
Сан засмеялся, подбежал и вдруг начал скакать вокруг Яснова. «Какой экспансивный, — подумал Иван. — Еще, чего доброго, завопит: «У-о-ха!» Но Сан, смеясь и подпрыгивая, кричал:
— Дядя Ван! Колдун Ван!
И такой радостью звенел его мальчишеский голос, что в груди Ивана что-то дрогнуло. Он погладил Сана по голове и неожиданно предложил:
— Хочешь переселиться ко мне?
— Как? Насовсем?
— Насовсем.
— Хочу!
Лиана Павловна взглянула на главу «Хроноса» и, видя его одобрение, кивнула.
— Хорошая мысль. У Сана будет свой дом. Но все же, Сан, не забывай меня. Нам еще многое надо узнать.
По пути к лифту Иван посматривал на шагавшего рядом мальчика и спрашивал себя: «А получится ли из тебя, брат, воспитатель?» Он уже почти раскаивался в своем поступке.
Мальчик из саванны
К приятному удивлению Яснова, перелет на «ласточке» мальчик перенес вполне нормально. Первые минуты он с завороженным испугом смотрел, как за прозрачной стенкой кабины, в глубоком черном бархате, сверкают разноцветные искры.
Сведения, заложенные во сне, медленно всплывали в памяти, и Сан начал «узнавать».
— Звезды? — спросил он. — Межпланетное пространство?
— Точно! — весело отозвался Иван.
Он начал объяснять и еще раз убедился: знания, полученные во сне, в основном механические. Они лучше усваиваются вот в таких путешествиях и беседах.
Сан боязливо прижимался к дяде Вану. Черная бездна космоса, хотя и разгаданная, страшила его еще больше, чем ночная и полная опасностей саванна. Он увереннее почувствовал, когда «ласточка», развернув косые крылья, вошла в атмосферу и нырнула под облака.
Сан узнал Землю. С высоты трех километров он видел луга, позолоченные солнцем перелески, слюдяные ленты рек. Вдали сверкнула, а потом, приближаясь, начала быстро заполнять горизонт огромная, как море, синяя гладь Байкала.
«Ласточка» замедлила полет. Мальчик изумленно уставился на невиданных размеров гору, нависшую над берегом озера. Она парила в воздухе легче пушинки! «Вспомнит или нет? — гадал Иван. — Он же видел во сне подобные горы с улицами и парками».
— Город, — не очень уверенно проговорил Сан.
— Верно! — Ивану начала доставлять удовольствие роль гида. — Это наш Байкалград.
Вскоре «ласточка» уже стояла на взлетной площадке перед одноэтажным голубым домом с круглыми окнами и плоской крышей.
— Вот и наша землянка, — улыбнулся Иван. — Но сначала осмотрим сад, бассейн и волновой душ, который ты будешь принимать по утрам.
Сад мальчику понравился, особенно высокий старый тополь с густой, как туча, кроной и многочисленными дуплами. В них гнездились, мирно уживаясь, скворцы, синицы, воробьи. Тополь беспрерывно звенел птичьими голосами.
— Струнный оркестр, а не дерево, — сказал Иван. — Вижу, полюбился тебе тополь.
Окно моей спальни как раз выходит сюда. Дарю ее тебе, а сам устроюсь в другой комнате.
Иван показал мальчику библиотеку, гостиную, рабочий кабинет.
— Здесь я провожу много свободного времени, — пояснил хозяин. — А сейчас, кажется, пора перекусить… Обедать! — громко крикнул он.
В дверях появился кибер и застыл в картинной позе. Сан вздрогнул и трусливо спрятался за спину хозяина. Как ни объясняли ему в «Хроносе», мальчик так и не мог привыкнуть к роботам. Пойди, разберись, живые они или мертвые…
Иван погладил Сана по плечу, успокаивая:
— Не бойся, дурачок. Они, конечно не такие, как мы с тобой. И в то же время не совсем мертвые вещи. Даже стараются походить на людей, приобретая наши манеры, смешные привычки. В некоторых домах они становятся чуть ли не членами семейства, им дают вместо коротких кличек имена — Спиридон, Никифор, Евдоким. Моего зовут Афанасием.
— Так точно! — отозвался кибер и прищелкнул каблуками. Одет он был в крепкие, удобные для работы в саду ботинки, и щелчок поэтому получился отменный.
Сан несмело выглянул из-за спины Яснова. Любопытство мальчика возросло, когда Иван с преувеличенным огорчением стал жаловаться, что Афанасий — отменный плут и воришка.
— Признайся, Афанасий, книгу Марка Аврелия ты не обменял, а у кого-то украл. Так ведь?
— Украл, — Афанасий виновато потупил голову.
— Я не спрашиваю у кого. Очень уж не хочется возвращать… Но чтобы это было в последний раз. Слышишь? В последний!
— Слушаюсь, хозяин.
— А сейчас приготовь обед. На двоих.
За столом Сан сидел не шелохнувшись и не притронулся к еде до тех пор, пока Афанасий не ушел.
После обеда Иван улетел на космодром. Сан погулял по саду, потом долго играл с кошкой Чернышкой.
Под вечер вернулся Иван. Прошел в свой кабинет, сел за стол и углубился в работу. Сан тихонько пристроился сзади и зачарованно следил, как перед столом в глубокой космической тьме шевелились звезды, планеты, пролетали хвостатые кометы. Потом на столе начинали скакать, обгоняя друг друга, светящиеся цифры и формулы.
Мальчик Ивану не мешал. Напротив, присутствие его создавало какой-то особый уют.
В одиннадцать часов, когда за окнами стало заметно темнеть, Иван отвел Сана в спальню.
— Я еще поработаю, а тебе пора спать. Окно будет открыто, ночи не холодные.
Устраивайся как удобнее.
Однако разрешение «устраивайся как удобнее» Сан воспринял слишком буквально. Час спустя, заглянув в спальню, Иван обнаружил: кровать пуста, мальчик с одеялом исчез.
«На дерево шмыгнул, сорванец», — решил Яснов и глянул в окно, надеясь на ветвях тополя увидеть гнездо из одеяла и листьев. Тут из-под койки послышался шорох.
Иван наклонился и чуть не рассмеялся: мальчик спал, завернувшись в одеяло, как в звериную шкуру. «Будто в своей землянке», — подумал Иван, но будить не стал.
Пожалел. Тем более что поверх одеяла уютно расположилась Чернышка.
За завтраком Иван произнес целую речь о том, что сон под койкой — это новое слово в науке о здоровье. На Сана, чуткого к иронии, подшучивания и колкости дяди Вана подействовали куда сильнее, чем мягкие наставления Лианы Павловны. С тех пор он спал только на кровати.
Забирая Сана по утрам, глава «Хроноса» днем возвращал мальчика домой и рассказывал Ивану о его успехах. Были они, увы, довольно скромными. Надежды Октавиана на то, что Сан «станет Гегелем», оказались неосновательными: как раз к абстрактным наукам мальчик не имел никакой склонности. И хотя его мозг накачивали во сне целыми разделами математики и физики, мальчик хорошо усвоил пока только арифметику и основные законы Ньютона, да и то в своеобразном и образном преломлении.
Но в биологии, экологии, истории и литературе Сан даже обгонял своих одногодков, учившихся в нормальной школе. Многие мифы, сказки, легенды прошлых времен, стихи современных поэтов он не только знал наизусть, но и очень по-своему толковал.
Вот это «очень по-своему» для Лианы Павловны было особенно дорого. Своеобразно относился Сан и к духам своего племени. Он уже не верил в них, и в то же время ему было грустно расставаться с ними. Духи, даже злые, оставались для него близкими и понятными существами. Однако мальчик уже откровенно смеялся над суевериями своих соплеменников. С улыбкой рассказывал он случай, когда охотники, ушедшие в саванну, тут же вернулись, встревоженные и хмурые. Сразу за стойбищем дорогу им перебежал шакал, а это считалось дурным знаком.
В институте времени Сан получил наконец доступ к хроноэкрану. Мальчик уже понимал, что видит события далекого прошлого, что люди его племени давно умерли.
И в то же время он воспринимал их как живых. Его радовало, что мать и Лала сыты и здоровы, что Хромой Гун не остался без внимания, — ему помогает теперь Крок, тот самый, с которым он часто дрался. Видел Сан и фильм, запечатлевший его собственное спасение и все, что ему предшествовало.
Однажды Сан вернулся из «Хроноса» с Лианой Павловной.
— Мальчик все время среди взрослых, — сказала она Яснову. — Почти не видит ребят.
Хорошо ли это?
— Плохо, — согласился Иван. — Познакомлю-ка я его с такими же десятилетними сорванцами.
Однако первая попытка приобщить Сана к кругу сверстников кончилась весьма плачевно.
Сначала все шло хорошо. Яснов привел Сана на расположенную поблизости детскую площадку.
— Мальчик из каменного века! — весело кричали ребята, не раз видевшие Сана по телевизору. — Мальчик из саванны!
Сан настороженно посматривал на сверстников, обступивших его со всех сторон. В любую минуту он готов был дать отпор. Но ребята были так простодушно приветливы, что Сан оттаял и вскоре с интересом наблюдал за игрой в городки. В дни праздников ребятишки его племени развлекались игрой, отдаленно напоминавшей эту, только вместо деревянных чурок-рюх пользовались костями животных.
Сан попробовал играть в городки. Сначала он выглядел неловким, но потом дело пошло лучше. «Все в порядке», — решил Иван и покинул спортплощадку. Увы, через полчаса к нему привели Сана, плачущего и жалкого.
Оказалось, во время игры Сан нечаянно наступил на ногу Антону — сыну Октавиана.
Антон вскрикнул от боли. При этом у него вырвалось:
— Осторожнее ты, первобытный!
Сан вздрогнул, как от удара. Он уже понимал, какой обидный смысл вкладывают в это слово. Гнев застлал ему глаза, в груди закипала ярость. Сжимая кулаки, Сан надвигался с потемневшим лицом. Антон отступал и, защищаясь, вытягивал руки вперед.
— Но-но, не подходи…
Произнес ли Антон еще раз слово «первобытный» или Сану только послышалось, но он уже не мог сдержать себя. Левой рукой он сделал ложный выпад вниз. Антон прикрыл живот руками и в тот же миг, как было когда-то с Кроком, получил недетской силы удар. Антон упал и выплюнул выбитый зуб. Из носа брызнула кровь.
Сан отшатнулся. Он вдруг вспомнил, где находится. Мальчик закрыл лицо руками и заплакал. В таком виде он и предстал перед своим старшим другом.
— Ну, Сан, с тобой не соскучишься, — проворчал Яснов. — Напрасно я с тобой связался.
От этих слов Сан на миг перестал плакать, с тоской посмотрел на Ивана, а потом зарыдал пуще прежнего.
«Как я мог такое сказать! — клял себя Яснов. — Ведь это мальчик, выхваченный из глубины веков. Самый сиротливый малыш за всю историю человечества. Вселенский сирота!..» Ивану хотелось прижать мальчика к груди и просить прощения. Но такие нежности уже не годились в их шутливо-приятельских отношениях. К случившемуся лучше всего отнестись с юмором…
— Как же так получилось? — произнес Иван с хорошо разыгранным огорчением. — Неужели ты такой слабосильный? Всего два зуба выбил. Даже один, говоришь? Какая неудача!
Сан перестал плакать и с удивлением посмотрел на раздосадованного дядю Вана.
— Разве так надо было? — продолжал сокрушаться Иван. — Ты нанес прямой удар, а надо было сбоку. Тогда бы десяток зубов выбил. А ты с трудом выколотил лишь один… Позор!
Сан начал догадываться: дядя Ван шутит! Губы мальчика изогнулись в невольной улыбке. Иван рассмеялся и потрепал мальчика по плечу.
— А как же Антон… — вспомнил Сан. — Что с Антоном?
— Думаю, что все в порядке. Наша медицина творит чудеса. Знаешь, что такое видеопосещения?
— Это когда видишь человека, разговариваешь с ним, а на самом деле он далеко. Это еще не сам человек, а… — Сан замолк, отыскивая подходящее слово.
— Верно. Не сам человек, а его объемное изображение. Вот сейчас и явимся к Антону такими объемными призраками. Узнаем, что с ним… Контакт! — четко произнес Иван.
Тотчас на него и мальчика с потолка мягко упало клубящееся облако. Сначала Сан ничего не видел, но вот его взрослый друг назвал какие-то цифры — и туман рассеялся. Сан очутился в необычной овальной комнате с куполообразным потолком.
В дверях появился Антон. Увидев гостей, он улыбнулся, и Сан с облегчением заметил, что с зубами все в порядке. Он хотел сказать об этом, но его опередил Антон.
— Сан, извини меня. Я виноват перед тобой… Извини.
Сан опешил: побитый просит прощения!
— Извинения принимаем и приносим свои, — с шутливой важностью ответил Иван. — Приходи к нам не телегостем, а лично. Будем рады.
— Антон, конечно же, виноват, — сказал Иван, когда видеопосещение было закончено. — Но и ты тоже хорош. — Он взъерошил Сану волосы. — А вообще молодец, постоял за себя… Но все же пореже прибегай к боксерским приемам. — И, вздохнув с деланным сожалением, добавил: — У нас это почему-то не принято.
Инцидент был, казалось, исчерпан. Однако слово «первобытный», невзначай брошенное Антоном, сделало свое дело. После этого случая Сан часто останавливался перед зеркалом, выискивая в себе черты «первобытности». Особенно внимательно изучал он лоб, надбровные дуги, разрез глаз. И нашел, что с этой стороны все в порядке. Но вот зубы… У Антона, у всех других ребят небольшие, ровные и красивые зубы, а у него чуть ли не волчьи клыки.
Однажды Иван застал мальчика перед зеркалом и все понял.
— У тебя, конечно, зубы покрепче и острее, чем у многих из нас, — заговорил он. — И понятно почему. Ты с малых лет приучился рвать и пережевывать самую грубую пищу. Неженка Антон со своими красивыми зубами не прожил бы у вас и пяти дней… А менять тебе зубы на искусственные не советую. Даже запрещаю. У тебя замечательные зубы. Да, да! Просто отличные. Некоторую изнеженность нынешних людей я не считаю достоинством. Человек должен оставаться сильным. И такими же сильными должны быть у него зубы. Вот как у меня.
Иван начал хищно щелкать своими крепкими зубами, строя при этом такие уморительные рожи, что мальчик невольно рассмеялся.
Яснов чувствовал растущую привязанность Сана и сам все больше привязывался к мальчику. Ему нравилось играть с Саном, и игры эти были, кстати, хорошей разминкой после утомительных расчетов.
Почувствовав усталость, Иван гасил свою бутафорскую Вселенную, вставал с кресла и потягивался. Сан, кивая на подмигивающий огоньками волшебный стол, говорил с улыбкой:
— Колдун Ван.
— Сейчас я не колдун, а злой Урх, — строго поправлял Иван.
Он вытягивал руки вперед и свирепо надвигался на мальчика. Сан с визгом и хохотом выскакивал в гостиную и убегал в сад. Иван прыжками настигал его, теснил к бассейну. Казалось, вот-вот он столкнет мальчика в воду. Но тот, гибкий и юркий, как ящерица, выскользал из рук, прятался за кустами. Потом с ловкостью кошки вскакивал на дерево и дразнил:
— Урх! Коварный Урх! Не поймал!
Запыхавшийся Иван возвращался в кабинет и включал звездную сферу. Сзади снова пристраивался Сан. С неугасающим любопытством глядел он в театрально красивый космос.
После случая на спортплощадке Сан избегал сверстников, предпочитал общество взрослых. Только с Антоном завязалась странная дружба, такая взаимно учтивая, что невольно вызывала улыбку у Ивана.
По утрам мальчики встречались в саду и тихо беседовали. При этом Антон тщательно выбирал слова, чтобы ненароком не задеть обидчивого крепыша из каменного века.
Тот в свою очередь избегал резких движений, был предупредителен и вежлив.
Мальчики уходили в конец сада. Рядом за полосой движущихся тротуаров возвышалась огромная, похожая на дворец школа.
— Обидно, что она совсем близко, — пожаловался как-то Антон. — Два шага — и там. А я так люблю летать. Хочешь, научу тебя? Это просто.
Взлетно-посадочная площадка тоже находилась рядом. По вызову Антона из таинственных глубин города появилась «ласточка». Мальчики сели в кабину и взмыли ввысь.
На высоте двух-трех километров Сан чувствовал себя сносно. Антон даже удивился, как быстро он освоился с пультом. Но когда вырвались за пределы атмосферы, Сан струхнул. Одно дело наблюдать в уютном кабинете хоровод небесных тел. Но совсем другое — настоящий космос, его ледяная бездна.
Управление пришлось взять на себя Антону, он и привел «ласточку» домой.
К «ласточке» Сан так и не привык, но зато другой летательный аппарат — «лебедь» — полюбил сразу.
— Смотри, до чего додумались наши инженеры-бионики.
Антон нажал кнопку под словом «лебедь» — и на посадочной площадке появилось… яйцо! Самое обыкновенное лебединое яйцо, какие Сан часто находил на озерах родной саванны: в камышовых заливах Большой реки.
— Удивлен? — усмехнулся Антон. — А теперь возьми его в руки. Чувствуешь, какое легкое? Почти пушинка. На самом же деле яичко весит несколько тонн. Его сжатая масса уравновешена с полем тяготения Земли.
— А где же летающая машина? — спросил Сан, поглаживая яйцо.
— У тебя в руке! — Антон помолчал, наслаждаясь эффектом, и стал объяснять дальше: — «Лебедь» особенно удобен в дальних прогулках и туристических походах.
Захотел вернуться домой — пожалуйста. Вытаскивай из кармана яйцо, бросай на траву и приказывай развернуться в машину. Посадку он может совершить где угодно — на земле и воде, на дереве и скале. Но до чего тихоходная машина! Не больше пятисот километров в час. И летает только в атмосфере. Да вон смотри! Какие-то туристы возвращаются в город.
Сан поднял голову и в глубокой синеве заметил цепочку снежинок. Сверкая под солнцем, они замедляли полет, снижались, и вскоре можно было различить вытянутые гибкие шеи и крылья. У Сана закружилась голова, в памяти всколыхнулся рой далеких видений. Белые птицы! Он будто очутился в саванне, увидел в родном небе стаю лебедей, услышал в вышине их тревожные весенние крики. Но все это длилось лишь миг. Сан вздохнул и опустил голову.
— Что с тобой? — спросил Антон.
Мальчик молчал.
— Брось яйцо на посадочную площадку, — Антону хотелось расшевелить погрустневшего друга.
— Зачем?
— Бросай, не бойся. Оно не разобьется.
Сан бережно положил яйцо и отошел в сторону.
— А теперь, — прошептал Антон, — прикажи яйцу: развернись!
— Развернись…
— Да не шепотом, а громче.
— Развернись!
Сан изумленно замер. Яйцо на посадочной площадке треснуло, высунулась слабая шейка с желтой головой, по бокам появились крылышки. Вскоре перед мальчиками на длинных голенастых лапах стояла, грациозно изогнув шею, большая белая птица. Это был лебедь, самый настоящий, но увеличенный во много раз.
— Здорово? — улыбнулся Антон. — А теперь пойдем.
Сан приблизился, пощупал шелковистые перья. «Лебедь» повернул голову и посмотрел на Сана, как бы спрашивая: что нужно?
— Присядь, — приказал Антон.
Птица повиновалась. Антон взобрался на лебединую спину и поманил рукой Сана. В спине оказалось углубление с двумя креслами. Мальчики сели, и над ними тотчас же натянулась силовая полусфера. Сан пощупал ее невидимые стенки и только сейчас окончательно осознал, что это не птица, а летательный аппарат.
— А пульт? — спросил он.
— Не нужен. Машина принимает словесные команды.
Антон приказал «лебедю» снять силовой колпак.
— Он годится на большой высоте и при больших скоростях, а сейчас только мешает.
По команде «взлет» птица, издав лебединый крик «нга-га-га», мягко и сильно оттолкнулась ногами, взмахнула крыльями и поднялась в воздух.
Никогда еще Сану не было так хорошо. С застывшей счастливой улыбкой слушал веселый посвист ветра, рассматривал проносившиеся внизу парки с белыми дворцами, голубые арки и серые гранитные набережные. После нескольких сильных взмахов «лебедь» расправлял свои необъятные, как паруса, крылья и планировал. Вскоре он очутился за городом, снизился над берегом Байкала и с легким всплеском сел на воду. Потом заработал лапами и поплыл так быстро, что обгонял летящих рядом чаек.
Но вот прогулка кончилась, и друзья снова стояли на посадочной площадке. Рядом переминалась большая седая птица. Изогнув лебединую шею наподобие вопросительного знака, она ждала очередного приказа. Антон подмигнул Сану, и тот, помедлив, скомандовал:
— Свернись!
Мгновение — и на посадочной площадке вместо удивительного летательного аппарата белело обыкновенное лебединое яйцо.
— Нравится яичко? — смеялся Антон. — Можешь взять его насовсем.
Сан так и поступил. Он положил яйцо в карман коротких брюк и с тех пор не расставался с ним. Даже ложась спать, прятал его под подушку.
Удивительный полет на «лебеде» растревожил Сана. По ночам он снова и снова видел свою далекую, ушедшую в туман веков родину. Ему снились берега Большой реки и в щемящей голубизне неба — птицы, птицы без конца. Гуси, лебеди,
журавли стаями плыли над саванной, в их весенних криках слышалось что-то печальное и радостное одновременно. В снах своих мальчик был счастлив, и улыбка не слетала с его губ.
Но просыпался — и гасла улыбка. Сана окружал иной мир — добрый, но непонятный, чужой.
— Мальчик начинает тосковать, — сказала как-то Яснову Лиана Павловна. — Прошло полгода, а он еще не наш.
— Верно, — согласился Иван. — Еще не наш.
— К нашему миру Сан почти привык, — возражал Октавиан. — Видели бы вы, как он лихо летает на «лебеде». Считаю, что психологическая состыковка с этой эпохой у него в основном состоялась.
Однако ближе к осени, где-то в конце сентября, даже Октавиан заметил, что как раз с психологической состыковкой не все ладилось. Сан все чаще становился рассеянным, угрюмым. На шутки отвечал слабой, вымученной улыбкой.
Все реже стоял Сан за спиной Ивана в его волшебном кабинете. Часами бродил один по саду. Яснов с возрастающей тревогой пытался разгадать, что творится в душе Сана. Иван давно уже понял, что душевный мир мальчика не менее сложный и загадочный, чем у нынешних людей.
Однажды Сан сидел под тополем и рассеяно смотрел в небо. Там, поднимаясь из-за гор, стремительно неслись холодные серые тучи. Сквозь их тонкую лохматую ткань тусклым желтым пятном пробивалось солнце. Сан так долго глядел на него, что порой ему начинало казаться — тучи висят неподвижно, а солнце летит так быстро, как высохший осенний лист на ветру.
Мальчик закрыл глаза. И тут началось самое мучительное — ветер. Он гудел в ушах, а Сан слышал в этих звуках то говор людей своего племени, то плеск Большой реки и шелест трав в саванне…
Мальчику стало так горько, что он начал потихоньку всхлипывать.
Подошел Иван и тронул его за плечо.
— Сан, что с тобой?
— Ветер…
И Иван не нашелся что сказать. Он догадывался: ветер, вырывающийся в город из прибайкальских просторов, казался Сану ветром из глубины веков. Родные ветры бередили душу мальчика, касались ее невидимых струн.
По утрам Сан немного оживлялся. Широко открытыми глазами смотрел он на встающее дымное солнце, и что-то похожее на улыбку блуждало на его губах.
— Ты, Сан, язычник, солнцепоклонник, — качал головой Иван.
«Мальчик эмоционально побогаче меня, — отмечал он про себя. — Я рядом с ним почти сухарь».
Наступал полдень, и Сан снова замыкался, становился неразговорчивым. Опять садился под тополем, закрывал глаза, вслушивался в заунывные и зовущие песни ветра.
В конце ноября в тайге зашумели первые метели. Там уже стояли морозы, чуть смягченные инженерами-синоптиками, но столь привычные для растительного и животного мира Сибири. В городе пока было потеплее: жители Байкалграда решили продлить у себя сухую, теплую осень. В садах и парках еще золотились клены и березы. Правда, любимый Саном тополь почти совсем лишился листвы, словно ветер сдул с него летнее зеленое облако. Смолкли струнные звуки: улетели скворцы, давно покинула гнездо певунья иволга.
В начале декабря город покрылся пухлыми сугробами, на деревьях заискрились хрустали. За окнами слышались звонкие голоса детворы, катавшейся на коньках.
Но ничего не радовало Сана. Однако именно в эти дни, когда мальчиком, казалось, совсем завладеет глухая тоска по родине, неожиданно пришло спасение. И пришло со стороны… робота! Того самого Афанасия, который вызывал у Сана чуть ли не мистический трепет.
Конечно, теперь Сан уже меньше страшился человекоподобного. При виде Афанасия он уже не прятался за спину Ивана, а с пугливым любопытством следил за кибером. И, заметив это, Афанасий в присутствии мальчика стал вести себя весьма своеобразно.
Проходя однажды мимо Сана, кибер вежливо расшаркался, склонил голову и сладким голосом прошепелявил:
— Извините-с.
Сану стало смешно.
— Вот видишь! — сидевший за столом Иван повернулся к мальчику: — Афанасий ворует не только книги, но и забавные привычки. Роботам кажется, что таким образом они приобретут человеческую индивидуальность. Только никак не пойму, у кого Афанасий набрался слащавой вежливости. Ну-ка, отвечай, где ты стянул эту старомодную галантность?
Афанасий молчал, потупившись.
— Он еще и суеверный, — шепнул Сан на ухо Ивану.
Последив за кибером несколько дней, Иван убедился, что наблюдательный мальчик прав. Афанасий никогда не переступал порог левой ногой, он страшился понедельника и чертовой дюжины. В общем-то это было даже к лучшему: обрастая потешными привычками, робот в глазах мальчика как бы «очеловечивался», становился ближе и понятнее.
Как-то Ивану пришла мысль создать для Сана обстановку, хоть немного напоминающую ту, к которой мальчик привык в своем веке. Вернувшись домой, он спросил Афанасия:
— Что-нибудь знаешь о медвежьей шкуре?
— Это верхний покров крупного животного, обитающего…
— Правильно, — прервал Иван. — Мне нужно две таких шкуры.
— Необычный заказ, — Афанасий задумчиво почесал затылок.
«Еще одна дурацкая привычка», — с усмешкой подумал Иван, не подозревая, что эту привычку кибер «украл» у своего хозяина.
— Может обратиться в «службу редкостей»?
— Делай, как знаешь. Но через три часа у меня на столе должны лежать две медвежьи шкуры. Изготовлены они будут, конечно, из синтетики, но чтобы ничем не отличались от настоящих.
Вечером Яснов увидел на столе аккуратно сложенные медвежьи шкуры. Вскоре из «Хроноса» вернулся Сан, задумчивый и тихий.
— Это тебе, — Иван показал на стол.
Мальчик поднес шкуры к лицу, понюхал, и голова его закружилась от знакомого, так много напомнившего запаха. Он с благодарностью взглянул на Ивана и хотел сразу же отнести шкуры в спальню.
— Подожди, — остановил его Иван и подмигнул. — Пусть отнесет Афанасий, а мы посмотрим, как он это сделает.
В гостиной, на подоконнике, сидела черная кошка. Иван взял ее и сел в другом конце комнаты. Рядом встал Сан, успокаивая Чернышку, рвавшуюся из рук Ивана. Ей непременно хотелось на свое любимое место — на подоконник.
— Афанасий!
— Слушаю, хозяин, — в дверях возник кибер.
— Ты раздобыл хорошие шкуры. Отнеси их в комнату Сана.
Афанасий взял шкуры и зашагал в спальню. В это время из рук Ивана выскользнула Чернышка, тенью метнулась под ногами робота и вскочила на подоконник. Афанасий встал как вкопанный: дорогу ему перебежала черная кошка.
— О чем задумался? — спросил Иван.
Кибер потоптался, но с места не сдвинулся.
— Хозяин! — воскликнул он. — В шкурах наверняка много пыли. Вытряхну-ка я ее старинным способом.
Афанасий повернулся и выскочил на улицу. Иван и мальчик видели в окно, как он старательно встряхивает шкуры, хотя в них не было ни пылинки.
— Суеверный! — засмеялся Сан. — Я же говорил! Афанасий суеверный, как наши колдуны и охотники.
— Не пойму, где он нахватался этой дури? — вслух размышлял Иван.
Тайна раскрылась поздно вечером. Прежде, чем лечь спать, Иван зашел к Сану.
Мальчик спал, укрывшись медвежьей шкурой, а из-за неплотно прикрытой двери, ведущей в библиотеку, падал свет. Иван заглянул и увидел: на полу, рядом с нижней полкой, сидит Афанасий и читает книгу. А на полке той, красуясь золочеными корешками, стояли исторические романы, в основном из времен средневековья.
Заметив хозяина, Афанасий вскочил.
— Пополняю запас информации.
— Вижу. И давно увлекаешься средневековьем?
— Недавно, — обиженно ответил кибер, уловив в голосе хозяина иронию. Афанасий был своенравным и обидчивым созданием.
— Валяй, — милостиво позволил хозяин. — Пополняй свой запас.
Утром Сан, помня вчерашний эпизод, с интересом рассматривал Афанасия. Он уже не вздрагивал, когда робот, разнося блюда, случайно касался его плеча.
— Афанасий, принеси-ка нам слив, — попросил Иван. — И не такое количество, какое наугад выдаст кухонный аппарат, а скажем…
Иван сделал вид, что задумался.
— Полагаю, что четное число, — подсказал слуга. — Вас двое.
— Нет, не обязательно четное. Принеси нам… Ну, скажем, тринадцать.
Афанасий, собравшийся уже шагнуть в кухню, растерянно заморгал глазами.
— Ты что, окаменел? — спросил Иван. — Или не понял?
— Понял, — уныло ответил Афанасий и почесал затылок.
Сан хихикнул.
— Тогда выполняй, — поторопил Иван.
Афанасий побрел на кухню и возился там дольше обычного. Вернувшись, он поставил на стол тарелку с десятью сливами.
— Я же просил не десять, — напомнил Иван.
Афанасий молча повернулся и принес еще одну тарелку. На ней лежали недостающие три сливы.
— И ты считаешь это остроумным выходом? — усмехнулся Иван.
Однако Сан был в восторге от находчивости кибера. Хохоча, мальчик приплясывал вокруг него и восклицал:
— Ай да Афанасий! Молодец! Избежал чертовой дюжины.
Афанасий опустил голову, всем своим видом изображая обиду и оскорбленное достоинство.
— Бедный Афанасий, — учтиво проговорил мальчик. — Не обижайся. Мы пошутили. Так Сан подружился с домашним роботом. С тех пор даже равнодушные роботы «Хроноса», которые не в пример Афанасию, казались мальчику туповатыми и скучными, не вызывали у него неприязни.
По вечерам Афанасий частенько приходил теперь в звездный кабинет хозяина вместе с мальчиком.
Однажды вечером, погасив звездный экран, Иван обнаружил, что мальчика за спиной нет. «Спит», — решил он и заглянул в спальню. Постель была пуста, Сан исчез вместе с медвежьими шкурами. Заглянул Иван под койку, но там никого не было.
Слегка встревоженный, он вошел в библиотеку… и с трудом сдержал смех. Спиной к двери на прежнем месте сидел Афанасий. Рядом на медвежьей шкуре расположился Сан. Оба читали.
Иван незаметно ушел. Однако утром сделал Сану замечание.
— Твой железный приятель усталости не знает, но человеку по ночам надо спать.
Впрочем, новому увлечению Сана Яснов решил не мешать. Подумал: что, если мальчику с его древней привычкой ко всему конкретному и осязаемому больше полюбятся именно бумажные книги?
Иван не ошибся. В «Хроносе» мальчика, конечно, давно научили читать. Но читал он не очень внимательно, к светокнигам с их призрачными светостраницами Сан все еще относился с подозрением. А вот книги, отпечатанные на бумаге, ему полюбились сразу. Их можно было пощупать, полистать, даже понюхать и вдоволь насладиться застывшими картинками.
— Ты хоть все понимаешь? — спросил как-то Иван.
— Не совсем…
— Так я и думал. Афанасий подсовывает тебе тяжеловесные исторические романы, которые были скучноваты и для меня. Давай-ка лучше покажу книги, которыми я увлекался в твоем возрасте.
Сан увидел четыре большие полки. Здесь были те неумирающие книги, какими зачитывались дети и подростки на протяжении уже не одной сотни лет.
Вечером Сан взял одну из них. Его привлекло звучное имя автора — Майн Рид.
Мальчик раскрыл книгу с золоченой обложкой, и перед ним словно распахнулись золотые ворота в упоительный мир, полный вольного ветра, шумящих трав и удивительных, захватывающих дух, приключений.
Нельзя сказать, что Сану в «Хроносе» не показывали приключенческих фильмов. Да и дома Иван не раз усаживал мальчика рядом с собой, чтобы вместе посмотреть экранизацию полюбившегося с детства романа. Сан смотрел сначала с живым интересом, потом скучнел, зевал и даже жаловался на головную боль.
Лиана Павловна и Яснов пришли к одному мнению: мальчик обладает не столь уж частым творчески ценным качеством — самостоятельностью. Иной раз это была чрезмерная, даже агрессивная самостоятельность. Насколько Сан был послушен внешне, настолько оказалась упрямой, неподатливой и своенравной его внутренняя жизнь. Если Сан плохо «переваривал» насильственно вкладываемые во сне знания, то к телевизору относился порой вообще нетерпимо. Экран навязывал готовые зрительные и звуковые образы, а с таким «диктатом» своевольная фантазия мальчика мириться не могла.
Иное дело книги. В них даны только самые живописные детали обстановки и наиболее броские, характерные черты персонажей. Здесь для воображения Сана открывался полный простор, чужие образы он дополнял своими красками, звуками, запахами. В книгах Майн Рида, Густава Эмара мальчик видел не только северо-американские прерии, но и щемящие дали родной саванны — качающееся море трав, бескрайнее синее небо и табуны лошадей. А их Сан любил не меньше, чем птиц. Только в книгах лошади были уже приручены и назывались мустангами… Понятными Сану становились и люди — почти такие же охотники и дети природы, как его соплеменники. Они — точь-в-точь, как когда-то в мечтах Сана! — скакали верхом на лошадях, и ветер, наверное, свистел в их ушах. У мальчика белел кончик носа от волнения, когда герои книг, спасаясь от опасности, мчались на потных мустангах по дикому приволью степей.
Ностальгия
Зима и лето прошли для Сана в каком-то полусне. Мальчик механически ел, по принуждению Ивана спал, по привычке учился в «Хроносе». И учился, как ни странно, куда успешней, чем раньше. Но по-настоящему жил он в мире солнечных пространств и манящих образов, вставших со страниц Майн Рида и Купера, Стивенсона и Рони Старшего.
«Через книги мальчик привыкнет к нашему миру», — радовался Иван. Но вот снова наступила осень, и Яснов все чаще замечал Сана под тополем.
Дули прохладные ветры, шумела золотистая осенняя вьюга. Книга вывалилась у мальчика из рук, глаза его невидяще глядели вдаль. Потом Сан закрывал глаза. Он слушал ветер… Он снова узнавал в его гуле полузабытые звуки — топот бизоньего стада, сладкий шепот зеленых трав, голоса людей.
«Эолова арфа», — невесело усмехался Иван. Он догадывался, что творится с мальчиком. Ветер, наверное, снова бередил его душу.
В такие минуты Сан забывал образы, навеянные книгами. Другие, мучительно зовущие и неясные образы вытесняли их. Они клубились, колыхались и таяли, как клочья тумана. И снова возникали, но уже более четкие… И вдруг однажды Сан увидел родную саванну. Увидел так ярко, что чуть не вскрикнул. Казалось, стоит протянуть руку — и можно пощупать колоски злаковых трав, недвижно застывших под жгучим полуденным солнцем. Воздух струился испарениями, тишина стояла вокруг. Но вот на горизонте сгустились синие тучи, тени побежали по саванне, и зашелестел, зазвенел травой проснувшийся ветер…
Незабываемы ощущения первых лет жизни, первых прикосновений к миру! Предгрозовую летнюю саванну Сан видел и вдыхал всеми порами, когда ему, наверное, было года три или четыре. Сейчас он хотел удержать только что возникшую картину, не дать ей уйти, утонуть в прошлом. Но саванна заколыхалась, задрожала, словно отраженная в воде, и затерялась в тумане других неясных видений. Потом туманная кисея разорвалась и Сан опять очутился «дома» — на сей раз на своем любимом лугу у берега Большой реки. Это был не тот пожелтевший осенний луг последнего дня его жизни там, а луг весенний, сверкающий избытком жизни, звенящий птичьими голосами, радующий нежной и клейкой зеленью лозняка. Сан забыл обо всем, он жил в весеннем дыму, среди трав и цветов, среди гудящих пчел и шмелей. И сладкая истома охватывала его.
Новый порыв ветра — и мальчику почудился говор людей его племени, плач сестренки. Что с ней сейчас?.. Но еще неотвязней был услышанный в ветре голос матери. Грубовато-гортанный, с хрипотцой, голос этот казался таким нежным и призывно сладким, что Сан заскулил.
Иван чувствовал, что мальчик не только душевно, но чуть ли не физически уходит в свои, одному ему видимые дали. Как вернуть его оттуда, переманить на свою сторону? Чем поразить его богатое и своевольное воображение, чтобы он очнулся от грез?
По-прежнему перед сном Сан часто задерживался в кабинете Яснова, следил за его пальцами, прыгавшими по клавишам пульта и вызывавшими движения небесных тел, бег светящихся формул и цифр.
— Понимаешь, чего мы хотим добиться? — спросил как-то Иван.
— Лететь на «Призраке» быстрее света.
Ответил Сан правильно. Но как-то скучно, и глаза у него были невеселые и скучные.
— Но я не понимаю, — продолжал мальчик. — Меня учили, что скорость света — предел.
— Верно. Но этот закон природы можно обойти с помощью других законов и необычных свойств Вселенной. Ученые давно вели поиск в этом направлении. И вот сейчас полеты со сверхсветовыми скоростями стали наконец возможны. Здесь, за этим столом, я «проигрываю» и уточняю детали маршрута, которые мы получили из центра астронавигации института «Космос». Наш «Призрак» отправится к Полярной звезде.
До нее, как ты знаешь, пятьсот тысяч световых лет. А мы рассчитываем добраться до нее за год.
— За год?!
В глазах Сана засветилось любопытство, смешанное с недоверием. «Клюнуло», — подумал Иван и решил еще больше ошеломить мальчика.
— Да, за год. По пути мы будем гасить звезды и совать себе в карман.
— В карман? — изумленно прошептал мальчик.
— Ну не в буквальном смысле, конечно. Вот смотри…
Иван стал объяснять с помощью звездной сферы. Вокруг погасшей и провалившейся в бездонную тьму звезды Сан увидел ровное, лоскутное пространство, какие-то вихри и воронки. Вот одна из воронок засасывает в себя корабль и выбрасывает его в другом, точно рассчитанном месте — за сотню тысяч световых лет.
Иван добился своего — теперь ночами Сану снились звезды — оранжевые, зеленые, синие. Звезды, ослепительно взрывающиеся, и звезды, проваливающиеся в черную бездну.
— Возьми меня с собой на Полярную звезду, — попросил однажды мальчик.
— Лучше я привезу тебе в кармане парочку звезд. — Иван с улыбкой взъерошил ему волосы. — А хочешь, подарю кусочек саванны?
Сан не придал значения этом словам, счел за шутку. Но через несколько дней, переступив порог своей комнаты, он очутился в… ночной саванне! Над ним в темно-фиолетовом небе мерцали крупные звезды, в пяти шагах горел на камнях большой костер. Ошарашенный, Сан оглянулся. В дрожащем свете костра он понемногу стал различать кровать, стены и понял, что находится в своей комнате. Только потолок выгнут наподобие небесной сферы, а в стену вделан большой, почти в рост человека, камин. Сложенный из камней, он напоминал Сану пещеру.
Радости мальчика не было предела. Он суетился около огня, вбегал в кабинет дяди Вана и благодарил его, снова возвращался. С наслаждением понюхав смолистые сосновые сучья, совал их в костер. Афанасий подносил свежие порции дров.
Сан понимал: хворост выдают таинственные глубины города. Золу, угли и дым из камина город втягивает в себя, чтоб переработать в механизмы и приборы, в рубашки и вкусные хрустящие хлебцы, снова в дрова…
А как уютно читалось у камина! Сан брал книги и странствовал по их удивительным страницам, переходя из столетия в столетие, шагая по развалинам древних государств, отражая набеги пиратов.
Читал он книги уже по-иному. Вернее, не только читал, но и думал. Мальчика удивляло, что не так давно, во времена Фенимора Купера, люди жили почти в таких же землянках, как и его племя, пользовались почти таким же оружием. Только вместо каменных топоров и костяных ножей — стальные, вместо дротиков — стрелы, а потом пули. Книги, размышления над ними помогали мальчику заполнить громадную пропасть времени в триста веков — ту пропасть, которая отделяла его от тех далеких дней, когда он босиком бегал по берегам Большой реки и восхищался каменными изделиями Хромого Гуна.
Хромой Гун… Все чаще вспоминался Сану древний мастер. Каменный век сменился бронзовым и железным, потом появились пар и электричество. Совсем недавно, лет двести назад, грохотал век атомный и электронный. И вот, когда на земле было покончено с последними остатками капитализма, возник тихий, но могущественный век, приютивший Сана, — век гравитонный. Возник не случайно и не сразу, тысячелетия подготавливали его. Воздушные и подводные города, «Хронос» и другие исполинские лаборатории создавались постепенно, руками таких же мастеров…
От волнения сердце заколотилось у Сана в груди. Он открыл для себя великую тайну мира, в котором сейчас находится. Вокруг него живут и трудятся такие же умельцы, как… Как Хромой Гун! Но умельцы более искусные и знающие. Каждый что-то делает, все к чему-то стремятся. Антон хочет стать астронавигатором. И он добьется своей цели, уже сейчас знает интегральное исчисление, легко решает задачки, которых Сану не одолеть. А у дяди Вана совсем уж удивительная цель — Полярная звезда.
«А у меня что есть? — спрашивал себя Сан. — Ничего!..» Неуютной показалась Сану его комната, холодом повеяло от камина. Он здесь лишний, никому не нужный. В каменном веке он стал бы охотником. А в гравитонном?
Яснов заметил, что с мальчиком опять творится неладное. В «Хроносе» Сан был рассеянным и угрюмым, дома чаще всего сидел у камина, но не читал, а задумчиво глядел на огонь.
Однажды Сан ошеломил вопросом:
— Дядя Ван, а я здесь кто? Экспонат?
— Ну чего ты выдумываешь? — в растерянности пробормотал Иван.
Ответ, конечно, не слишком вразумительный… Но вопрос-то каков! Он застал врасплох, хотя Иван знал, что вопрос этот рано или поздно у мальчика возникнет.
«Малыш взрослеет, — думал Иван. — Взрослеет куда быстрее своих сверстников».
В конце февраля снега в городе растаяли и неслись стеклянно звенящими потоками в пруды и бассейны. В саду, перед окном Сана, зазеленела яблоня, на сухом пригорке засветились желтые огоньки мать-и-мачехи.
Сан часами сидел под тополем и смотрел на переливающийся в траве ручеек. Что он видел в его солнечных бликах? О чем думал?
Антон соблазнял своего друга лыжной прогулкой.
— Посмотри, — показывал он рукой вдаль. — Сан, ты только посмотри!
Далеко за городом, за невидимой сферой, создающей теплый микроклимат, еще держалась зима. После обильных февральских снегопадов установилась морозная ясная погода, и многие горожане, отложив дела, проводили целые часы в чистых, хрустально-звонких лесах.
— Хочешь покататься на обыкновенных лыжах? — спрашивал Антон. — Устанешь, можно сменить их на гравитационные. Это чудо — гравилыжи! Дух захватывает. Летишь на них по сугробам, как птица.
Но Сан от прогулки отказался. Опять он уходил в себя, в свой мир. Услышал вдруг крики птиц своей родины, пчелиный гул на цветущем лугу. Потом увидел песчаный берег реки и нарисованный им диск Огненного Ежа…
Однако он вспоминал не только свои солнечно-беззаботные дни и часы: их на долю мальчика в каменном веке выпало немного. Помнились ему и зимы, когда голод терзал желудок, когда он босиком бегал по мокрому снегу в ближайшую рощу, чтобы принести хворосту в землянку. Но и эти дни казались сейчас Сану бесконечно милыми, пахнущими родным дымом. Там он был на своем месте, среди своих.
Вечером у камина ему вспоминалась ненастная осень. Мокрыми волчьими шкурами плыли над стойбищем серые тучи. «Духи неба гневаются», — говорили старые охотники. Духи то сеяли мелкий дождик, то швыряли вниз холодные и острые копья ливней. Маленький Сан грелся в такие вечера в своей землянке. Тяжелые капли стучали по оленьей шкуре, закрывшей наглухо вход. За ней в осенней тишине слышался холодный плеск реки, глухой шорох мокрых ветвей, и от этого в землянке, у раскаленных камней очага, становилось особенно тепло и уютно. «Туда бы сейчас», — вздохнул Сан.
Утром, перед отправкой в «Хронос», он спросил:
— Дядя Ван, я часто вижу на хроноэкране свое племя. Можно мне вернуться туда?
— Куда, дурачок? — с горькой нежностью спросил Иван. — Куда? В пасть тигра? Ты же знаешь, что история, уготовив тебе гибель… Что она сделала?
— Вычеркнула меня из той реальности, — заученно ответил Сан.
— Правильно. И в той ушедшей реальности нет ни одной щелочки, куда бы мы могли втиснуть тебя, не нарушив причинно-следственной связи. К тому же мы могли б вернуть тебя только в натуральное время. А по натуральному времени прошло почти два года, как мы тебя спасли. Но ведь и в каменном веке прошло столько же — день в день, минута в минуту.
— Понимаю. Многое изменилось в жизни племени за это время. Некоторых уже нет. Мать свою не вижу…
— Считают, что в племени пронеслась эпидемия. И мать твою похоронили ночью. Это заметили хрононаблюдатели в инфракрасных лучах.
— А сестренка Лала живет сейчас в землянке Гуры.
— Верно. Бездетная Гура приютила твою сестру. Так что нет у тебя сейчас родной землянки. Ты такой же сирота, как и я. Ты знаешь, что родители мои погибли на далеком Плутоне во время опасного эксперимента. Мы оба сироты… Но мы не лишние здесь. Слышишь? Ты не лишний — ты мой брат! Разница в двадцать лет — сущий пустяк. И больше не зови меня дядей. Колдуном можешь звать. Даже Урхом! Но дядей ни в коем случае. Обижусь. Хочешь быть моим братом?
Сан улыбнулся: еще бы — иметь такого брата!
Однако разговор о сиротстве не прошел бесследно. Ночью мальчик метался во сне, плакал и стонал. Иван разбудил его и, гладя по голове, спрашивал:
— Братишка, что с тобой? Приснилось что-то?
— Мать вижу… На берегу реки, иногда в землянке… Она смотрит на меня и все плачет. Мне страшно…
Иван кое-как успокоил мальчика. Сан заснул. Но сон был беспокойным — видения древней родины звали к себе.
А Иван так и не мог уснуть. В голову навязчиво лезла фраза: «Мы больше растения, чем думаем». Где он ее вычитал? Кажется, в «Дворянском гнезде» Тургенева. И сказал эти слова герой романа, который долгие годы жил в Париже, тоскуя по России.
Растения… С этим словом у Яснова был связан один случай из детства. Как потешались тогда над ним мальчишки, его одногодки! Что поделаешь — мальчишки всегда мальчишки. Они называли Ваню неженкой и даже девчонкой. Это сейчас, после долгих лет самовоспитания, он стал «каменным Иваном», волевым командиром легендарного «Призрака».
А тогда?
Не любил Иван вспоминать тот эпизод. Было в нем что-то стыдное, сентиментальное.
Но сейчас он возник перед ним со всеми подробностями, как будто это было вчера.
Одиннадцатилетний Ваня Яснов приметил за городом простенький полевой цветок. Он рос на пригорке и сиротливо качался на холодном ветру, почему-то вызывая у мальчика щемящую жалость. Со всеми предосторожностями он выкопал растеньице и перенес под окно своей комнаты. Ухаживал за ним, поливая питательными растворами. Но то ли почва оказалась неподходящей, то ли Ваня повредил корни — цветок медленно увядал и наконец засох совсем. Для мальчика это было первое горе в жизни — погибло что-то живое, бесконечно ему дорогое. Ваня чуть не заплакал, глядя на побуревшие лепестки и жалко поникшие стебли.
«А мы что сделали с Саном? — спрашивал сейчас себя Яснов. — Вырвали из родной почвы! Но корни, незримые душевные корни остались там. А что, если мальчик зачахнет, как тот цветок?» От таких мыслей Ивану стало не по себе. Утром он отправился не на космодром, а в «Хронос», к Жану Виардо. Недолюбливал его Иван, очень не хотелось ему встречаться с Виардо — человеком, который отлично знал о той глубоко запрятанной чувствительности, ранимости, которой Иван стыдился в себе. Жан будто видел его насквозь… Но встретиться с ним надо — Виардо был главным психологом «Хроноса».
Иван застал его в одной из лабораторий. Виардо стоял перед стеной-экраном и поочередно смотрел то на голографический портрет какого-то сотрудника «Хроноса», то на извивающиеся синусоиды и световые всплески.
«Занимается вивисекцией душ», — с иронией отметил Иван.
Психолог отвернулся и вопросительно взглянул на гостя.
— Мальчик тоскует… — начал Иван.
— Знаю, — остановил его Виардо и жестом пригласил сесть. — Многим казалось, что наш приемыш — натура простенькая, первобытная и что он легко, безболезненно войдет в нашу жизнь. Его, дескать только накорми, и он будет доволен.
— Я так не думал, — нахмурился Иван.
— Думал, — возразил Виардо. — Многие так думали. Между тем мальчик попал к нам в любопытнейшем возрасте, когда психика еще гибка, подвижна, пластична. Хуже было бы, если бы у нас оказался первобытный охотник с окостеневшими рефлексами и представлениями, с застывшими нейронными связями. А Сан еще не успел огрубеть, затвердеть душой в своем суровом мире, этом царстве необходимости. И вот он попадает к нам — в царство свободы. Здесь-то и начинает формироваться интересный и сложный характер. Многих смущает, что Сан плохо усваивает абстрактные науки. Что поделаешь, вырос он в стихии конкретного мифологического мышления. В этом его известный недостаток, но в этом же его преимущество.
Величайшее! Сан знает не меньше наших детей. Только его знания другие. Он умеет пользоваться дротиком и идти по следу зверя; он понимает пение птиц и чувствует движение соков в стеблях трав. Информацию о внешнем мире он воспринимал иначе, чем наши дети. Он ее впитывал. Сан с малых лет жил жизнью стихий, вдыхал их запахи, окунался в травы и росы, в туманы и звездный блеск.
— Изящно сказано!
— Не ехидничай. Знаю, что недолюбливаешь меня. Но вернемся к Сану. В своем веке он прошел суровую, но неоценимую жизненную школу. Пульсы и ритм природы он чувствует, как собственный пульс. И у нас он пройдет хорошую школу. Думаю, что Сан найдет у нас свое место, совмещая в себе мудрость двух эпох.
— Мудрость двух эпох? — усмехнулся Иван. — Ну уж загнул!
— Если и загнул, то незначительно, — стоял на своем Виардо. — Рядом с тобой живет сын Октавиана — Антон. Наш сегодняшний мальчишка. Никогда не знал лишений, страданий, тоски по утраченной родине. Это хорошо или плохо? Коварнейший вопрос, однозначного ответа никто не даст. Антон, конечно, многого добьется, ибо у него спокойный, рассудительный, целеустремленный характер. Но если хочешь знать, тоскующий, мятущийся Сан мне симпатичнее.
— Мне тоже.
— Так чего же ты хочешь? — удивился Виардо.
— Мальчик страдает. Ведь вы, психологи, как-то можете приглушить воспоминания, даже отсечь их.
— Отсечь! — Виардо в негодовании всплеснул руками и вскочил на ноги. — Да ты понимаешь, что предлагаешь? Хирургическое вмешательство в психику! Предлагаешь лепить психику по своему произволу, лишать людей индивидуальности, превращать их в роботов. Это же фашизм!
«Ну, разошелся», — с неудовольствием подумал Иван. Но психолог быстро взял себя в руки, сел и спокойным, даже учтивым тоном продолжал:
— Да, технически нам многое доступно. Но согласись, что лечить человека от тоски по родине так же нелепо, как лечить, например от безответной любви, от переживаний вообще. За мальчиком мы, конечно, наблюдаем, но не будем грубо вмешиваться в естественное развитие души. А она у него уже необратимо переросла каменный век. Правда, иногда он кажется себе слишком «первобытным». В такие минуты посматривает в зеркало на свои зубы. Ты замечал? Но это со временем пройдет, ибо зубы у него нормальные. Только поострее, чем у нас… А вообще Сан склонен к сильным колебаниям настроений. Амплитуда колебаний великовата, но в общем в пределах нормы. У кого не бывает порой беспричинных переходов от печали к радости и наоборот? У кого не бывает своих недостатков? Разве что у роботов!
Но даже роботы перенимают мелкие человеческие слабости, чтобы больше походить на живых людей… Еще в старину понимали: недостатки людей — продолжение их достоинств. Я, например вспыльчив, легко взрываюсь. Твой друг, глава нашего института, Октавиан Красс иногда нерешителен в острых ситуациях. Но хирургически срезав у Октавиана нерешительность, мы тем самым задели бы другие душевные струны и лишились бы, вероятно, одареннейшего ученого, обладающего редкой способностью выбирать из веера многочисленных вариантов одно-единственное верное решение. Или возьмем тебя.
Иван поморщился: начинается!
— В космофлоте ты славишься холодным самообладанием, твердой волей. Иной раз становишься несколько неуживчивым, как, например, сейчас, обрастаешь этакой колючей иронией. — Виардо мягко улыбался. — Однако члены твоего экипажа не только уважают, но и любят, тянутся к тебе. Почему? Да потому, что за жесткой требовательностью, за твоими колючими репликами они чувствуют беспредельную доброту, даже нежность и ранимость.
Иван снова поморщился.
— Кстати, ты этих глубоко затаенных качеств почему-то стыдишься, считаешь сентиментальностью. Но, ты знаток старинной поэзии, ты должен помнить, что Маяковский не стыдился, когда сравнивал себя с нежным облаком. Его поэма так и называется «Облако».
— «Облако в штанах», — поправил Иван.
— Верно! Вот ты и есть доброе облако в штанах, — улыбнулся психолог. — И в то же время ты кремень, гранит. Редкое сочетание! Вот потому мы и выбрали тебя для первого рейда в прошлое, хотя кандидатов было хоть отбавляй. И не ошиблись! В древней саванне воля твоя справилась с чудовищной силы хроношоком. А с первобытным мальчиком ты быстро и естественно наладил контакт. Сан сразу же доверился тебе, почувствовал в незнакомце человека бесконечно доброго…
— Меня тревожит, чем все это кончится.
— Положись на время. Мальчик вживется в нашу эпоху. Как выражается Октавиан, психологически состыкуется.
…Весной предположение это начало как будто сбываться. Случайно Иван стал однажды свидетелем такой сцены: Сан стоял перед зеркалом и вдруг шаловливо показал своему отражению язык. Наверняка он увидел в зеркале вполне «гравитонного» мальчика с приятным лицом. Маятник настроений качнулся у него, видимо, в лучшую сторону. Этому способствовало и весеннее солнце. В саду перед завтраком Сан подолгу глядел на встающее светило и улыбался. Что он видел там, в дымном блеске утренней зари? Ивана радовало, что Сан спит спокойно, прилежно учится в «Хроносе», снова стал проявлять интерес к книгам. «Вживется», — решил Иван.
Однако в середине июня случилось неожиданное — Сан исчез.
Побег
В тот день, рано утром, Сану захотелось немного полетать на «лебеде».
— Пусть прогуляется, — сказал Октавиан. — Часа через два я вернусь домой, и мы вместе отправимся в «Хронос».
Но через два часа дома мальчика не оказалось. По-настоящему Яснов и Октавиан встревожились уже после полудня, когда на посадочной площадке увидели «личную» аэрояхту Сана. «Лебедь» вернулся без пассажира. Несчастный случай на такой машине был совершенно исключен. Неужели сбежал?
Но куда? Вместе с Лианой Павловной и школьниками — своими одногодками — Сан не раз путешествовал на летающей платформе — учебном географическом классе. Он видел сверху земные ландшафты и приземлялся во многих странах. Сильное впечатление произвела на него африканская саванна.
Решили искать Сана именно там, а также в северо-американских прериях и южноамериканских пампасах — в тех местах, которые больше всего напоминали мальчику родные просторы.
…Сану и в самом деле почудилось, что он неожиданно оказался «дома», в своем веке. Однако приземлился он сравнительно недалеко от города, к северу от Байкала, там, где река Лена, выйдя из горных сумеречных трясин, медлительно текла по малолесным равнинам.
«Лебедь» важно расхаживал на своих длинных лапах вдоль берега, а Сан, не выходя из кабины, вертел головой и не мог наглядеться. Что-то щемяще знакомое виделось ему в плавных извивах реки, в прибрежных кустах и густой осоке, в ласточках и чайках, носившихся над водой. У Сана вдруг пересеклось дыхание: это же Большая река!
Мальчик выпрыгнул из кабины и помчался по поляне, до головокружения напоминавшей его любимый древний луг. Сан все узнавал! Со всеми травами и кустами он встречался будто после долгой разлуки. Он почувствовал себя птицей, вырвавшейся на свободу.
Берега реки, заросшие бледным камышом, были топкими. Но Сан вскоре обнаружил среди кустов уютный заливчик с сухой песчаной отмелью. Он присел и быстро начертил на песке круг с расходящимися лучами. «Огненный Еж», — заулыбался Сан, следя, как искристые волны постепенно смывают рисунок. Долго сидел он так, ни о чем не думая, счастливо растворяясь в тихом плеске реки, ленивом колыхании света и тени.
Но радость, переполнявшая Сана, перехлестывала через край. Она требовала движений. Мальчик снова выбежал на поляну, где желтыми огоньками горели купавки и лютики. Прыгал и, вскидывая руки, кричал:
— У-о-ха! У-о-ха!
Случайный взгляд его упал на огромную белоснежную птицу. В ожидании пассажира «лебедь» все так же важно, величаво вышагивал вдоль берега. Наверно, пора возвращаться?
Мальчик еще раз огляделся вокруг и замер: Гора Духов! Как он ее раньше не заметил? С плавными склонами, покрытыми кустами и редколесьем, она, как две капли воды, походила на священную гору Ленивого Фао.
— Фао! — засмеялся Сан. — Ленивый Фао!
Мальчик снова взглянул на большую седую птицу и у него возникла озорная мысль.
— Лети! — махнул он рукой.
«Лебедь» повернул голову и посмотрел на мальчика, как бы спрашивая: «Куда? С кем?» — Лети обратно! Без меня!
Птица легко оттолкнулась ногами, взмахнула крыльями и с лебединым кличем поднялась над лугом. Летела сначала низко, потом круто взмыла вверх и, набрав скорость, исчезла в густой синеве.
Минуту спустя Сан, продираясь сквозь кустарник, взбирался на гору. На вершине остановился: перед ним высились почти такие же каменные изваяния, как на Горе Духов. Сан вскинул руки и закричал:
— Ленивый Фао! Где ты? Где твои духи?
Грозных духов Фао не было. Вместо них Сан видел другие, вышедшие из книг и воплотившиеся в камне образы: затейливо изогнутый гранитный столб смахивал на древнеримского легионера в шлеме и со щитом, а тянувшиеся рядом каменные палатки — на пиратскую шхуну. Сан тут же дал ей название: «Альбатрос».
Цепляясь за каменные карнизы и выемки, Сан взобрался на палубу «Альбатроса» и увидел, что шхуна давно брошена экипажем. Поперек «палубы» лежал поваленный ветром ствол сосны — рухнувшая бизань-мачта. Кругом валялись ржавые сучья-сабли и похожие на ножи щепки — следы абордажной схватки.
Сначала Сан бегал по палубе. Потом сел на бизань-мачту и замер: внизу перед ним колыхалось бескрайнее зеленое море — море свежих ветров и приключений.
Незаметно подкрался вечер. И уже другой вид поднимался перед Саном: красное солнце, словно корабль, вплывало в синие тучи и роняло вниз свои золотые якоря.
Сан глядел в тихий закат, и неясная легкая грусть томила его. Потом понял, в чем дело: светлых и добрых духов огня, увы, уже не было. Вместо пляски веселых духов он видел в струистом пламени заката иные образы — скачущую боевую конницу с развернутыми красными знаменами, голубые лагуны, алые паруса…
В конце концов Сан примирился и с таким закатом — он стал нравиться ему даже больше вечерних зорь.
Закат погас. Сан спустился вниз и под каменной шхуной развел костер. Он глядел в извивающиеся космы пламени и видел родной огонь — живой и вольный, не закованный в каменные своды камина.
Мальчик нашел прямую палку, конец ее обжег в пламени и заточил на камне.
Получилось что-то похожее на дротик. Сан лег на траву лицом к огню. Сжимая дротик в правой руке, левую он подсунул под голову, и сон, легкий и приятный, охватил его. Уснул так крепко, как не спал уже давно.
Проснулся от утренних лучей, коснувшихся закрытых век. Вскочил и, сжимая палку-дротик, испуганно оглянулся. Вспомнив, что находится не в древнем своем, полном опасностей мире, успокоился. Здесь и хищников, наверное, нет, а людей бояться и подавно нечего.
Подул слабый ветер. Вставало теплое, дымное солнце, и Сан загляделся на него. В короне желтых лучей утреннее светило показалось ему живым существом — мыслящим и добрым, похожим на лик златокудрого античного бога. Как его звали? Аполлон или Феб?
Сану так и не удалось вспомнить имя лучезарного обитателя древнегреческого Олимпа. Исподволь, незаметно, закрадывалась тревога. Если вчера безлюдье радовало, то сейчас оно начинало тяготить. Хотелось встретить кого-нибудь и узнать, как вернуться домой. Вольная жизнь, понял Сан, хороша до поры до времени. Вспомнились уют каминного огня, книги, смешной и услужливый Афанасий.
И, конечно же, брат. Добрый и веселый старший брат.
А тут еще голод стал допекать. Сан спустился с горы. Небольшая, залитая солнцем поляна у подножия так и светилась красными брызгами земляники. Но ягоды только распалили голод. После них есть захотелось просто нестерпимо.
Поляну обступал со всех сторон густой лес. Сан, держа наготове дротик, углубился в чащу. И заговорили, зазвенели в крови древние инстинкты. Он почувствовал себя охотником. Шел пригнувшись, ступая мягко и бесшумно. На первой же облитой солнцем лесной прогалине увидел лося. Тот стоял боком к нему и задумчиво жевал ветви.
Сан изготовился для броска, но тут же сообразил, что таким «дротиком» горло не проткнуть. Да и сил у него явно не хватит повалить крупного зверя.
Лось повернул голову и посмотрел на Сана. Мальчик уставился на него, ничего не понимая: зверь не убежал! Не испугался человека! Более того, лесной великан словно понял, что охотник перед ним никудышный. Он приблизился к Сану, с минуту постоял на своих мосластых ногах-ходулях. Затем, мотнув головой, презрительно фыркнул и неторопливо ушел в глубину чащи.
Мальчик с досады швырнул палку в куст и вернулся на поляну. Встал на колено, чтобы набрать ягод, и тут увидел выскочившего из леса зайца. Вот такой зверь как раз по его силам. Сан хотел кинуться за ним, но спохватился: не догнать!
— Зайчик! — окликнул он.
Заяц замер, поводя длинными ушами.
— Сюда, зайчик! — манил рукой Сан, хотя и понимал, конечно нелепость своих слов. — Иди ко мне!
И тут Сан вытаращил глаза: заяц запрыгал в его сторону. Еще один прыжок — и пушистый комочек в руках у пораженного мальчика. «Сумасшедший какой-то заяц», — мелькнула мысль. Сан нащупал теплую шейку — и придушил…
На гору он вбежал в один миг. Костер еще не погас, на оранжевых углях скакали голубые огоньки. Сан навалил сухих веток, и заплясало, загудело пламя.
Мальчик отстегнул от пояса металлическую пряжку и заточил ее на камне. Забыл он, что эта пряжка особенная, с ее помощью можно связаться с любой точкой земного шара. Сан воспользовался пряжкой как ножом, освежевал тушку и зажарил на костре.
Через час он спускался с гор сытый и повеселевший.
— Сумасшедший заяц, — не переставал удивляться мальчик.
Вспомнился такой же удивительный лось, странные непуганые птицы, и в душу начало заползать глухое беспокойство. Решив проверить смутную догадку, от которой вдруг заныло в груди, он стал подкрадываться к сосне: на ее нижней ветке сидела белка.
Увидев его, рыжая непоседа взмахнула хвостом и затихла. Сан подошел и погладил хвост — пушистый и яркий, как огонь. В тот же миг словно от ожога отдернул
руку и с криком бросился в сторону.
Он все понял! Звери и птицы потому так доверчивы, что привыкли видеть в человеке своего друга и защитника.
«Что я наделал, — в ужасе заметался Сан. — Зайчика съел… Своего младшего друга. Дикарь я. Дикарь!»
Чувствуя себя чуть ли не людоедом, Сан упал на траву и завыл.
Саня
Ночь Сан провел на горе около костра. Спал плохо. Снились страшные сны: десятки, сотни зайцев доверчиво скакали перед Саном, а он хватал их и глотал живьем.
Мальчик вскрикивал, просыпался. Сунув в костер веток, снова засыпал. Проснулся с восходом солнца. Однако и оно сейчас Сана не радовало.
Он спустился с гор и зашагал на восток. Шел без мыслей и без желаний, в смутном настроении. Давно кончилась чащоба, где Сан встретился с лосем. Открылась степь, окаймленная по горизонту лесистыми горами. Недалеко справа кудрявилась березовая роща, наполненная птичьими звонами. Вверху, словно подгоняемые солнечными лучами, плыли на запад белые паруса облаков.
В густой синеве неба сверкнули под солнцем две стремительно летевшие пушинки.
Это были «лебеди». Сан укрылся под раскидистой, одиноко росшей сосной. Не хотел он, чтоб его увидели люди. Стыдно ему было перед ними.
Когда «лебеди» скрылись за зелеными холмами, Сан вышел из-под сосны и прислушался. Его встревожил топот и чей-то звонкий голос. Вскоре из-за рощи выскочила великолепная черная лошадь с белыми ниже колен ногами. У Сана от восхищения загорелись глаза: лошадь мчалась легко и красиво, как на крыльях.
Лошадь-птица! На ней, пригнувшись, сидела девочка лет двенадцати в коричневых шароварах и белой блузке, облаком вздувшейся на спине.
— Стой, Белоножка! Стой! — крикнула она и соскочила с лошади. — Ты откуда, мальчик?
Сан вздрогнул и завертел головой в поисках какого-нибудь укрытия.
— Ты чего испугался? Вот смешной!
Девочка внимательно вгляделась и воскликнула:
— Так это же Саня! Санечка! Нашелся наконец! Тебя же ищут! И где? В прериях и пампасах… А он здесь!
Девочка решительно схватила Сана за руку.
— Идем! Ты, наверное, проголодался? Конечно, проголодался! Ну, идем же! Белоножка, за мной!
Лошадь послушно пошла за девочкой. Да и Сан не мог устоять перед таким напором. «Ну и ну, — подумал он. — Не девчонка, а вихрь какой-то».
— Меня зовут Зина. Запомнил? Зина! А тебя как? — и рассмеялась. — Что это я? Ты же Саня! Санечка! А еще ты похож на Буратино, особенно твой нос. Помнишь сказку про золотой ключик?
Она осмотрела его закопченный костюм, обгоревшие рукава. И восхитилась:
— Дым! Как приятно пахнет от тебя дымом. Ночевал у костра? Завидую тебе!
Смеясь, беспрерывно задавая вопросы и сама же отвечая на них, Зина привела мальчика в березовую рощу. Спиной к ним на небольшой поляне сидел черноволосый с проседью человек. Рядом матово белел невысокий, почти вровень с травой, стол.
Сан однажды уже видел подобный столик, сотканный из каких-то неведомых ему полей и умещающийся в свернутом состоянии в сжатом кулаке. Создан он был, видимо, по тому же принципу, что и «лебедь». На столе лежали какие-то яства, остро ударившие в нос. Сан проглотил слюну.
Человек оглянулся и с удивлением посмотрел на Сана.
— Знакомься, это Буратино, мальчик из сказки, — с серьезным и торжественным видом представила Зина. — Да что ты, папа? Не узнаешь? Это же Саня! Саня нашелся!
— Саня? — человек улыбнулся и жестом пригласил присесть. — Ты неплохо осовременила ему имя. Саня! То есть Александр! — он протянул мальчику руку. — Будем знакомы, тезка. Александр Грант. А это моя дочь. Придвигайся к столу, если есть хочешь.
— Если есть хочешь! — Зина в притворном возмущении всплеснула руками. — Да ты что, пап? Посмотри на него. Он голоден, как сто волков. Да он мою Белоножку съест.
У Сана оборвалось что-то в груди. Мигом вспомнился съеденный зайчик. Он вскочил на ноги, оглянулся по сторонам и тут же устыдился своего намерения бежать. Надо признаться во всем. Но как трудно это сделать! Сан сел на траву с опущенной головой. Лицо его жалко сморщилось, на глазах выступили слезы.
— Ты чем-то расстроен? — спросил Грант.
— Я… — начал было Саня, но губы его задрожали, и он замолк.
— Что стряслось? Да говори же! — торопила Зина.
— А я… Я зайчика съел.
— Кого? — не понял Грант.
Саня, торопясь и запинаясь, рассказал о своем вчерашнем пиршестве.
— Он сам виноват, — оправдывался мальчик. — Я только поманил его рукой, а он… Сам бросился в руки.
— Съел? Ну и что? — искренне изумился Александр Грант. — Из-за этого ты так ужасно переживаешь?
Отец и дочь взглянули друг на друга и рассмеялись. Если отец смеялся чуточку нарочито, то Зина хохотала так безудержно и громко, что лошадь, щипавшая неподалеку траву, всхрапнула и посмотрела на свою хозяйку.
На губах Сана робко проглянула улыбка. Вина его, видимо, не так уж велика…
— Саня! Ха-ха-ха! До чего смешной! Зайчика съел! — не унималась Зина. — Съел прямо у костра? С дымом? Представляю себе!
— Видишь ли Саня, — посерьезнев, стал объяснять Грант, зайчиков у нас давным-давно никто не ест. Сотни лет люди не охотятся на птиц и животных, не обижают их. Вот они и привыкли к человеку.
— Я понял, — кивнул Саня. — Еще вчера.
— Тогда давай завтракать.
Саня набросился на паштет. Приготовленный из искусственного мяса, он казался ему вкуснее и ароматнее вчерашней зайчатины.
Грант воткнул в землю небольшой стержень с решетчатой антенной.
— Установлю связь с нашей квартирой, — пояснил он Сане. — Пусть домашние посмотрят на нас да и на тебя тоже.
— Весть о тебе тут же разнесется по всему миру, — смеялась Зина. — Ты же событие!
Она рассказала, что живут они в Австралии, но в Сибири бывают часто. Папа ее — цветовод. Сейчас он изучает высокогорную растительность Сибири, а потом будет разводить ее на Марсе.
— Здесь я подружилась с Белоножкой. Лесник разрешает мне кататься на ней. После завтрака я отведу ее обратно в табун, и мы пойдем пешком. А ты будешь нашим проводником.
Далеко на северо-западе взметнулся в небо ослепительный шар. Он повис с минуту, меняя цвета, потом опустился и погас.
— Вот кто по-настоящему ходит пешком, — с завистью проговорила Зина. — Это они.
— Романтики, — усмехнулся Грант.
— Не смейся, папа. Они молодцы.
Зина объяснила недоумевающему мальчику, что в их сторону из района Подкаменной Тунгуски идут сотрудники «Гелиоса» — космической лаборатории Солнца. По пути они запускают зонды, имитирующие своим излучением искусственное солнце. Его они собираются зажечь в Приполярье. В экспедиции в основном экологи и биологи, они изучают, какие излучения наиболее благоприятны для растительного и животного мира Сибири.
— Романтики, — Грант иронически хмыкнул, подзадоривая дочь. — Выдумывают дополнительные трудности. Подражают экспедициям древних времен.
— Правильно делают, — возражала Зина. — Некоторые изнеженные любители природы путешествуют с целой свитой роботов. А они не такие! Все несут на своих плечах. Не признают никаких карманных летательных машин, никакой техники, кроме видеоприемника и пульсатора для разжигания костров… Представляешь, — обратилась она к Сане. — Ночуют они под открытым небом у костров. Пищу готовят сами на огне. Не то что мы со своим свертывающимся столом.
После завтрака Грант попросил Саню показать гору, на которой тот ночевал.
— Ты же знаток здешних мест, — прокомментировала Зина. — Веди нас.
Шли медленно, останавливаясь чуть ли не у каждого кустика цветов. Саня слушал Гранта, раскрыв рот. О любой, даже самой невзрачной травинке тот говорил с нежностью, рассказывал о ее жизни, полной удивительных приключений, о ее связи с земными ливнями и соками, с лучиком самой далекой звезды. И мир, красота его открывались перед Саней с удивительной стороны. Разглядывая какой-нибудь цветок, он видел теперь в нем синее небо, а с его ароматами вдыхал запахи Вселенной.
— Здорово? — шепнула Зина мальчику. — Смеется над романтиками. А сам кто?
Саня привел отца и дочь на «свою» гору. Грант нашел россыпь каких-то редких цветов и углубился в их изучение, расстелив вокруг странные извивающиеся хоботки-анализаторы. Зина бегала вокруг погасшего костра и ворошила уголь.
Потом, встав на колени, понюхала еще теплый пепел и завидовала Сане, проведшему ночь у «первобытного огня».
Около полудня Грант сказал:
— Нам пора, Саня. По пути доставим тебя домой. Ждут тебя.
Мальчик погрустнел. Жаль было расставаться с новыми друзьями, хотелось еще побыть в лесах, напоенных солнцем и птичьими песнями, побродить по полям.
Но Сане в этот день определенно везло. Внизу, под горой, послышались голоса, и вскоре на плоскую вершину, раздвигая ветви кустарника, вышли странные молодые люди в болотных сапогах, с внушительными рюкзаками на спинах. Это и были сотрудники «Гелиоса».
— Ребята! — воскликнул кто-то из них. — Саня!
Молодые люди уже знали из последних известий, что мальчик из каменного века уже нашелся и что он где-то здесь. Они обступили Саню и, знакомясь, пожимали ему руку. Услышав, что отец с дочерью хотят доставить мальчика домой, молодые люди возмутились:
— Не отпустим! Вы отправляйтесь домой, а Саню оставьте. Он теперь наш!
Вершина с причудливыми каменными палатками понравилась сотрудникам «Гелиоса», и они решили устроить здесь привал.
Все хозяйственные дела взяла в свои руки тонкая и хрупкая, но, видимо, с решительным характером девушка. Звали ее Анна-Луиза. Саня глядел на нее во все глаза, удивляясь, как несла она на своих узких плечах такой увесистый рюкзак.
Девушка легко сбросила его на землю и объявила:
— Сегодня на первое у нас картофельный суп. Нет только воды.
— Я знаю, где вода, — живо откликнулся Саня. — Под горой река. Песчаный берег.
— Идем туда вместе, — предложил Юджин Вест.
Это был самый молодой участник экспедиции, невысокий крепыш с огромным рюкзаком на спине. Юджин подмигнул мальчику, и тот, догадавшись, помог снять ношу с крутых плеч. Из развязавшегося рюкзака посыпалась картошка. К удивлению Сани в рюкзаке оказался самый простой и сильно закопченный котел, набитый, к еще большему изумлению мальчика, обыкновенными камнями.
— Для веса. Чтобы тяжелее было, — с усмешкой пояснил Юджин и кивнул в сторону своих попутчиков. — Это они придумали. Вот эти изверги.
Почему «изверги», Саня узнал по пути к реке.
— В лаборатории Солнца я работаю художником, — говорил Юджин. — Мое участие в экспедиции не обязательно. Но меня нарочно взяли и заставили нести самые большие тяжести. Для моей же пользы, сказали они, чтобы воспитать у меня твердый характер и выбить лень. Ну разве я похож на лентяя?
Саня внимательно посмотрел на своего попутчика и словно увидел перед собой старшего брата. Почти такой же крутой лоб, крепкой подбородок, твердые, мужественные черты лица. Вот только какая-то изнеженность в глубине глаз…
— Так похож я на лентяя или нет? — допытывался Юджин.
— Не знаю, — замялся Саня.
— Эх ты, — Юджин потрепал мальчика по плечу и со вздохом добавил: — И ты, Брут!
Саня рассмеялся. Его развеселила не только шутка. Его радовало, что может вести разговор на равных. Он знает, кто такой Брут! Он знает многое из того, что знают его новые знакомые.
На гору Юджин и Саня поднялись, уже подружившись. Весело переговариваясь, поставили котел на землю. Потом огляделись, не понимая, почему их встретили хмурым молчанием.
— Напрасно старались, — послышался чей-то голос.
— Почему? — спросил Юджин.
— Посмотрите вот на этого растяпу, — Анна-Луиза сурово кивнула в сторону рыжеволосого парня.
Тот сидел перед кучей сухого хвороста и держал в руках два камня. Виновато опустив голову, он внимательно и грустно рассматривал их.
— А что он натворил?
— Потерял где-то пульсатор. Теперь нечем разжечь костер. Не будет у нас горячего супа. Вообще ничего не будет.
— С голоду будем грызть сырую картошку, — невесело пошутил кто-то.
Юджин смекнул, что дело видно не в пульсаторе, что вся эта сцена разыграна специально для Сани. С какой целью? Об этом Юджин тоже начал догадываться.
— Ребята! — воскликнул он. — А что будем делать с раззявой?
— Бить, — послышался мрачный голос.
— Предложение толковое, — согласился Юджин. — Но смотрите! Он, кажется, сам пытается исправить свою оплошность.
Рыжеволосый сунул в хворост сухих листьев и начал старательно бить камнем о камень, пытаясь, видимо, высечь искру.
К нему подскочил Саня и весело закричал:
— Не получится! Не получится! Разве так надо?
Мальчик взял из рук парня камень, осмотрел его и отбросил в сторону.
Забраковал он и второй камень.
— Не все ли равно, какие камни, — буркнул рыжеволосый.
— Молчал бы уж, — зашикали на него ребята, внимательно наблюдавшие за Саней.
А тот посмотрел вокруг и нашел камень, которым пользовался еще вчера.
— Медный колчедан, — определил кто-то не очень уверенным голосом.
Саня отыскал второй камень и присел к куче хвороста. Рыжеволосый, неохотно уступая место, ворчал:
— Ничего не выйдет…
Но его оттеснили в сторону. Саня несильно стукнул камень о камень. Веером брызнули искры и впились в сухой мох. Вот он слегка задымился, потом скакнули язычки пламени. Мальчик осторожно сунул туда желтые хвоинки. Молодые люди, боясь дохнуть на робкий огонек, помогали подкладывать сухие листья, тонкие былинки.
Минуты через две уже пылал большой костер.
Сотрудники «Гелиоса», способные зажечь искусственное солнце, радовались первобытному огню, как дети.
— Молодец, Саня! Выручил! Качать Саню! Качать!
Радость мальчика перехлестнула через край: он оказался нужен людям! Да еще как нужен! Если бы его сейчас попросили ради общего блага прыгнуть в огонь, он сделал бы это не раздумывая.
Как знать, быть может, именно в эти минуты окончательно установились душевные связи с новыми для мальчика людьми, произошла та «психологическая состыковка» с эпохой, которой так долго добивались воспитатели в «Хроносе», а Иван Яснов дома.
Мальчик почувствовал себя не воспитанником, не опекаемым приемышем, а по-настоящему равным… И даже имя у него теперь чуточку другое: Сан превратился в Саню, в Александра.
Обед прошел очень весело. Рыжеволосый парень, переживавший свою неудачу, нерешительно топтался поодаль. Наконец ему разрешили присесть к костру и отведать супа. К радости Сани, рыжеволосый к концу обеда был прощен окончательно.
После еды молодые люди располагались на отдых. Некоторые сели перед видеоэкраном послушать музыку и последние известия. Анна-Луиза с подругой тихонько запели.
Юджин Вест хотел было вздремнуть в тени под кустом, но его с хохотом вытащили оттуда.
— Не позволим! Мы будем отдыхать, а ты работай!
Юджин недовольно пожал плечами и шепнул Сане:
— Говорил же тебе. Изверги!
Саня сочувственно улыбнулся. А Юджин, вздохнув, вытащил из кармана небольшой кубик, который стал развертываться в походный этюдник. К таким фокусам гравитехники Саня давно привык. Они уже не производили на него впечатления.
Дальше он был вообще раздосадован: оказывается, рисовали здесь не какими-нибудь цветными лучами, а обыкновенной кисточкой. Но сам этюдник ему понравился. Под синтетическим полотном, заменившим старинный холст, тянулась многоцветная клавиатура. Нажмешь зеленую клавишу — и внизу, в углублении, всплывает зеленая краска, слева, такая же зеленая, но объемная. А справа появляется совсем уж удивительная краска — слегка светящаяся.
Саня внимательно следил, как художник накладывал на холст краски. Скалы и деревья у него получились как живые, и даже красивее настоящих. Но вот это красивость, видимо, смущала Юджина. Он хмурился, исправлял отдельные детали и наконец проговорил:
— Не то.
Юджин нажал на кнопку, и краски, как дождевые потоки на стеклах окна, заструились и поползли вниз. Холст очистился.
— Хочешь попробовать?
Саня, боясь опозориться, заколебался, хотя руки его так и тянулись к кисточке.
Она напоминала ему расщепленную палочку, которой он пользовался давным-давно.
— Для начала одной краской, хотя бы контуры, — уговаривал Юджин.
Саня закрыл глаза, вспоминая свой рисунок на камне, который остался в далеком прошлом, на берегу Большой реки. И тут возникла в его воображении наездница Зина.
Он взял кисточку. Руки и пальцы, не натруженные грубой работой, оказались к радости Сани, еще более ловкими, чем прежде. Они ничего не забыли! Уверенно и быстро мальчик восстановил на полотне свой давний любимый рисунок.
Сотрудники «Гелиоса» столпились за Саниной спиной.
— Вот это да! — прошептал кто-то. — Не лошадь, а ветер.
— Выразительно, — одобрил Юджин.
Внутри Сани все пело. Но дальше его ждал конфуз: всадник получился никудышный.
— Поза напряженная, ноги слишком коротки и скрючены, — объяснял Юджин. — Нам с тобой еще надо учиться и учиться. Но глаз у тебя верный. Глаз художника. Хочешь попросимся в ученики к Денису Кольцову?
Сане не раз показывали картины Дениса Кольцова — одного из старейших художников Солнечной системы. Учиться в его знаменитой «студии талантов» удавалось редким счастливцам.
— Примет, — подмигнул Юджин мальчику. — С тобой и меня примет. Учиться живописи можно, конечно, в художественной школе и даже дома. Но живое общение с таким талантом, как Денис Кольцов, — совсем другое дело. Одно его замечание заменяет целую лекцию по эстетике.
Через два дня на одной из лесных станций гравипланов молодые люди в последний раз поужинали вместе, а потом разлетелись по домам. От экспедиции в памяти у Сани остались запахи костров, песни парней и девушек, напоенные птичьими звонами леса. В груди долго не угасала праздничное настроение.
В Байкалград Саня и Юджин прибыли поздним вечером.
— Вот наш дом, — показал Саня. — Окно моей комнаты светится. Кто бы это… А брат, как всегда, в своем звездном кабинете. Видишь, его окно мерцает?
— Брат у тебя строгий, слышал я о нем, — сказал Юджин. — Предстоит, видимо, головомойка. Но ты крепись.
Он ободряюще подмигнул, пожал мальчику руку и сказал:
— Встретимся завтра.
На эскалаторе Юджин спустился вниз и растаял в темноте. Жил он на нижнем витке улицы.
Саня подошел к окну своей комнаты и остановился под тополем-великаном. В его многочисленных дуплах и гнездах еще возились и попискивали птицы, уютно устраиваясь на ночь. Уютом веяло и из комнаты. Саня увидел камин с тлеющими головешками, сидевшего в кресле Афанасия с книгой и почувствовал себя дома.
Однако в звездный кабинет мальчик вошел робко и тихо. Иван хмуро взглянул на него.
— Явился…
В суровом голосе брата Саня уловил знакомые и добрые нотки. Он уже готов был броситься к Ивану, но тот с недовольным видом повернулся спиной, уставился в свой театральный космос и светящимся пунктиром начал прокладывать среди звезд какую-то трассу. О мальчике он будто забыл.
Саня вздохнул и начал разглаживать свою одежду. Была она, увы, не только помята.
Правая штанина разорвана, рукава обгорели. И вообще Саня выглядел не очень представительно. Особенно, после вчерашнего дня, когда он вместе со всеми продирался сквозь колючий болотный кустарник. На лбу красовался синяк, а на правой щеке и подбородке тянулись царапины. На губах мальчика чернела сажа: час назад он ел у костра печеную картошку.
Иван обернулся, смерил мальчика критическим взглядом и мрачно поздравил:
— Отлично выглядишь! Любой разбойник позавидует.
Рассмеялся и, притянув мальчика за плечи, зашептал в ухо:
— Если надумаешь еще раз сбежать, прихвати и меня. Прогуляться хочу, засиделся я. Договорились?
— Договорились!
Однако времени для походов у Ивана не оставалось ни капельки. Подготовка экспедиции к Полярной звезде шла полным ходом. С космодрома Иван часто прилетал совсем поздно. А потом часами не выходил из своего кабинета, «проигрывая» на звездной сфере варианты маршрута.
Саню целиком захватила другая жизнь. В «Хроносе» его отпустили на каникулы, но мальчик часто бывал там и рассказывал Лиане Павловне о своих новых друзьях. По утрам Саня торопился к Юджину Весту, в котором теперь души не чаял.
«Золотое кольцо»
— Слетаем в «Золотое кольцо», — однажды предложил Юджин.
Саня знал — так называли гигантскую Солнечную галерею. Там было собрано лучшее, что создали художники за всю историю человечества.
«Золотое кольцо» — одно из красивейших сооружений века — висело над волнами Тихого океана, южнее Гавайских островов. До них друзья долетели на быстрых гравипланах и увидели сверху Солнечную галерею — огромное, диаметром пять километров, кольцо, отлитое из золотистого металла. Сверкавшее ярким огнем кольцо разделялось серебряными ободками на секторы.
Юджин и Саня побывали сначала в секторе первобытного искусства. Мальчик с волнением рассматривал наскальные рисунки своих прежних современников. Рисунков Хромого Гуна, к сожалению, не нашел.
Минуя другие отделы, друзья сразу перебрались в секторы гравитонного века. Юджин рассказывал:
— Быть навечно представленным в «золотом кольце» для художника нашего века — большая честь. Художник получает при этом высшую премию и звание лауреата «Золотого кольца». Такой чести трижды удостоился Денис Кольцов. Трижды!
Однако визит к трижды лауреату «Золотого кольца» Юджин откладывал.
Чувствовалось, что он трусил.
— Выгнал меня из своей студии за лень, — вздыхая, говорил Юджин. — Ну какой же я лентяй? Трудился как раб.
Наконец он собрался с духом и вместе с мальчиком предстал перед великим художником. Перед входом в студию он еще раз напомнил:
— Кольцов, конечно, гигант живописи, но свиреп невероятно.
Такие напутствия не очень воодушевляли Саню. Но отступать было уже поздно. Входя в куполообразную светлую комнату, он боялся увидеть сердитого великана с насупленными густыми бровями. И опасения его как будто сбывались.
Саня, открыв рот, немигающе смотрел на сидящего в кресле пожилого человека с крупной головой, покрытой густой, как туча, шевелюрой. Выглядел живописец таким внушительным и массивным, что Сане почему-то вспомнилась недавно виденная гора Эверест. Но вот гора улыбнулась и жестом подозвала мальчика к себе.
— Покажи.
Саня робко протянул пластиковые свитки с рисунками. Кольцов развернул их, внимательно вгляделся, и на лице его появилась такая добродушнейшая улыбка с веером морщинок вокруг глаз, что у Сани отлегло от сердца. Он же добрый!
— Рисовал раньше? Там, у себя? — спросил живописец и при этом ткнул пальцем вниз, словно в глубину веков.
Мальчик кивнул.
— Так что же ты молчал? Надо было давно ко мне!
Он взглянул на смиренно стоявшего поодаль Юджина, и глаза его под густыми, опаленными сединой бровями насмешливо сощурились.
— А с тобой что делать, одареннейший байбак? Ладно, беру обоих, но учтите, искусство — не забава, а тяжкий труд. Будете лениться, оба вылетите в два счета.
Саня занимался в самой младшей группе с десятью такими же, как он, мальчиками и девочками. Подолгу рисовали с натуры шары, кубики, цилиндры. Сначала карандашом.
Постепенно привыкали к краскам. Учитель был если не свиреп, как обещал Юджин, то требователен до беспощадности. Одни и те же наброски заставлял переделывать по многу раз.
Но Саня не жаловался. Для него наступила удивительная своей новизной пора. Все ностальгические зовы и муки древнего ветра забылись. Спал он теперь хорошо.
Вставал с солнцем и с солнечным ощущением жизни. Выходил в сад, где перекликались птицы и сверкала роса, дули с Байкала синие радостные ветры. Здесь мальчик старательно выполнял задания учителя, заканчивал наброски, начатые в студии.
Наступал яркий день, брызжущий красками и светом. Саня расставлял под тополем этюдник и старался перенести на полотно переливы этого света. Втайне от учителя он уже много дней работал над этюдом под названием «Поющая листва».
Когда этюд был готов, Саня отошел от полотна, долго разглядывал его и остался доволен. Листья тополя получились живыми и объемными. Они будто шевелились, стучали и звенели под ветром. Отдельные, пронизанные солнцем листочки горели как зеленые фонарики.
Однако учитель отнесся к этюду более чем прохладно.
— Пестро, нарядно, крикливо. Злоупотребляешь объемными и светящимися красками. Но техника! Здесь ты обгоняешь своих сверстников.
Саня был рад и такой оценке. Если бы знал учитель, каких трудов стоило ему проникнуть в тайну светящихся и объемных красок!..
А время шло. Миновал август. Золотой птицей пролетела осень, отшелестели падающие листья. И к середине октября у Сани была готова картина «Осенний вальс». Мальчик задался дерзкой целью. Он хотел, чтобы картина звучала, чтобы в кружении осенней листвы слышалась мелодия грустного вальса.
Долго мучился Саня над своим первым полотном. Но картина оставалась немой. Осень была, а вальса — нет, не было.
Однако Ивану картина понравилась. «Творец», — с улыбкой подумал он, не придавая, впрочем, увлечению мальчика серьезного значения.
В конце ноября начали порхать редкие сухие снежинки. Саня несколько дней оставался в «Хроносе» — участвовал в ежегодном семинаре по проблемам наблюдений в ареале. А когда вернулся, увидел на крыше дома две смыкающиеся полусферы. Одна из них была прозрачной.
— Твоя мастерская, — пояснил Иван. — Подарок от города — по моим чертежам… Идем посмотрим.
По лестнице братья поднялись наверх. Купол и стены непрозрачной полусферы были отделаны под малахит и мрамор. Здесь находились Санины эскизы, наброски, этюды.
За бархатным занавесом стояло в подрамнике большое чистое полотно — хоть сейчас принимайся писать картину.
Но еще лучше была прозрачная полусфера. Органическое стекло защищало от холодных ветров и осадков, но пропускало солнечные лучи, звуки и даже запахи. Здесь художник мог чувствовать себя как летом под открытым небом.
Саня носился по мастерской из одной полусферы в другую. Остановился перед братом, но от радости не мог вымолвить ни слова.
— А название! — наконец воскликнул он. — Как мы ее назовем?
— Я уже придумал, — улыбнулся Иван.
— Какое?
— Вспомни, где писал картины твой самый первый учитель.
— Понял! — ликовал Саня. — Мы ее назовем пещерой Хромого Гуна.
Иван пригласил Дениса Кольцова показать необычную мастерскую и заодно похвалиться первой Саниной картиной. «Пещера» великому художнику понравилась, но «Осенний вальс» он разнес в пух и прах.
— Рисунок груб, композиция разваливается. А название! Какое-то пошло-красивенькое… И все здесь выдержано в духе этого названия. Краски по-прежнему ярки и аляповаты. Рано еще браться за такие полотна.
Увидев в мастерской бюст, он дал задание срисовать его карандашом.
— Не торопись. Приноси мне частями — ухо, глаз, подбородок, а потом уж бюст целиком.
В студии занятия шли своим чередом: упражнения в композиции, рисунок с натуры, анатомия, свет, перспектива. Это еще не само искусство, понимал Саня, но необходимые подступы к нему. И он не гнушался черновой работы.
Дома Саня проводил все свободные часы в «пещере Хромого Гуна». С заходом солнца располагался в непрозрачной полусфере и под искусственным светом продолжал овладевать азбукой живописи. Глаз, например, он рисовал так старательно, что тот, казалось, как живой весело глядел на своего творца: дескать, молодец, Саня, продолжай в том же духе.
Иван видел, с каким ожесточением работал мальчик. И это начало его тревожить.
Однажды он ворвался в мастерскую, выхватил из рук Сани начатый набросок и изорвал его в клочья. Изображая гнев, Иван топал ногами и кричал:
— Это что? Средневековое аутодафе?! Самосожжение на костре вдохновения?! Не позволю. В добрые старые времена таких розгами пороли!
Афанасий испуганно вытянулся в струнку, держа руки по швам. Но Саня понимал брата. Подумал, что на месте Ивана он, пожалуй, тоже тревожился бы не меньше.
Утихнув, Иван ворчливо заметил:
— Хватит. С завтрашнего дня будешь жить по моему расписанию.
С тех пор, прежде чем засесть за свои расчеты, Иван шумно влетал в святилище начинающего художника и с порога кричал:
— Эй, фанатик! Кончай самоизбиение. Отправляемся в тайгу, в дебри, в глухомань.
Часа по два носились братья по заснеженной тайге. Иногда к ним присоединялись Антон и Юджин Вест. Сибирский лес открывался Сане с новой стороны.
В своей мастерской, опять втайне от учителя, он начал писать большую картину под названием, увы, снова весьма банальным — «Зимняя сказка».
В конце зимы Саня решил навестить Зину. Справочная служба дала ему австралийский адрес биолога Александра Гранта. Саня окутался облаком видеосвязи, назвал индекс. Когда облако рассеялось, мальчик решил, что попал в какую-то оранжерею — так много было кругом невиданных цветов. Они росли на подоконниках, на полу, свисали с потолка наподобие люстры.
Зину он тоже сначала не узнал. За оргафоном — овальным музыкальным инструментом — сидела незнакомая печальная девочка. И звуки, которые она извлекала из оргафона, были такими же задумчивыми и печальными.
Девочка подняла голову и увидела видеопосетителя.
— Зайчик! — вскочила она и завертелась вокруг возникшего из тумана гостя. — Буратино! Какой ты умница, Саня, что догадался посетить нас. А ну, выкладывай новости!
«Вихрь», — улыбался Саня. Он рад был видеть прежнюю ураганно-веселую Зину. Но вот она снова села за оргафон, чтобы сыграть понравившуюся ему музыкальную пьесу. И снова Саня поразился. Зина ли это? Лицо девочки затуманилось, стало незнакомо строгим и печальным.
От грустных, скорбно-протяжных переливов у Сани тревожно и сладко защипало в груди.
Взглянув на гостя, девочка рассмеялась.
— Нет, не буду тебе играть. У тебя такой грустный вид. Лучше поговорим. Слышал? Это наш молодой композитор, известен пока лишь на нашем континенте.
— А это? — Саня показал на потолок. — Как они растут?
— Вниз головой? Это папа получил новый вид. Они растут во всех направлениях. Цветы пригодятся на космических объектах в условиях невесомости. Я тоже буду цветоводом. А ты?
«Художником», — хотел сказать Саня, но почему-то застеснялся и промолчал.
— Приходи в гости, — пригласил он и торопливо попрощался.
Зина не стала «включаться» в Санину комнату по видеооблаку. Она явилась лично.
Картины Зина одобрила, еще больше ей понравился камин. И уж в совершеннейший восторг привел ее Афанасий.
В тот день к нему пришел Спиридон — кибер одного из коллекционеров. По заданию своего хозяина он принес для обмена томик Лукреция. Обмен состоялся честь по чести. Однако Спиридон не удержался и, уходя, прихватил с полки еще одну книгу.
Афанасий это заметил и устроил шумную сцену.
— Что они там не поделили? — спросил Иван, входя в комнату Сани.
Распахнулась дверь библиотеки.
— Какой позор! — вопил Афанасий, за шиворот вытаскивая оттуда Спиридона. — Стащил. Книгу стащил!
— Гнусная клевета! — возмущался Спиридон, высвобождаясь из цепких лап своего собрата. — Ничего я не брал.
— Не брал? А это что! — Афанасий ловко запустил руку под комбинезон Спиридона и выхватил оттуда книгу. — Вот она!
— Не понимаю… Случайно попала… — глупо оправдывался Спиридон.
Афанасий в шею вытолкал проворовавшегося собрата, но еще долго не мог успокоиться.
Зина хохотала, глядя на кибера, кипевшего благородным негодованием. А Саня поражался, как бесподобно копировал Афанасий хозяина! В своем бутафорском гневе он так же потрясал кулаками, топал ногами и кричал:
— Жулик! Ворюга! В добрые старые времена таких розгами пороли!
Иван погрозил Афанасию пальцем: не передразнивай.
— Какой милый, — прошептала Зина и предложила братьям: — Давайте меняться киберами. У нас тоже забавный. Но какой-то тихий. Вообразил себя поэтом и все время пишет стихи. Такие смешные и глупые.
Нет, меняться Саня не хотел. К Афанасию он привязался. Тот даже помогал ему, вдохновлял, на все лады расхваливая начатую «Зимнюю сказку». Мальчик, конечно, понимал, что кибер в искусстве не смыслит и может лишь имитировать восприятие прекрасного. Но Саня старался не думать об этом. Ему приятно было чувствовать за спиной пусть электронного, но доброжелательного зрителя. Афанасий, посматривая, как продвигается работа, то и дело прищелкивал языком и восхищенно восклицал:
— Красиво!
К середине лета картина была готова, и Сане казалось, что Афанасий прав.
Получилось и в самом деле красиво. Просто здорово получилось! На заснеженных кустах и деревьях блещут хрустали, а морозный воздух вышел таким ощутимым и стеклянно-прозрачным, что так и чудится: вот-вот зазвенит.
У Дениса Кольцова картина вызвала восторг. Но такой, что Саня готов был сквозь землю провалиться.
— Как красиво! Какая пышная, ослепительная красота! И название… Такое же яркое и оригинальное.
Взглянув на убитого Саню, художник постарался смягчить удар:
— Прости, малыш. Ты же сам понимаешь, что это не красота, а красивость.
Саня кивнул. Сейчас он с беспощадной ясностью видел это.
— Твоя картина похожа на снимок. На цветной голографический снимок. А в чем задача художника?
— Увидеть мир таким, каким его еще никто не видел.
— Вот и ищи свой взгляд на мир, воплощая свои настроения.
Саня притронулся к кнопке на краю мольберта. Если нажать ее — краски тут же разбегутся по своим местам.
— Ни в коем случае! — остановил его Кольцов. — Картину не смывай, краски зафиксируй. Не обращай внимания на старого ворчуна. Картина хорошая. Да, да! Хорошая. Но только в техническом отношении. Мы ее сохраним в учебных целях. Пусть твои товарищи посмотрят, как надо владеть кистью.
Такая похвала уже не радовала Саню. Он и сам знал, что владеет кистью хорошо. Но от этого художниками не становятся.
Саня был так подавлен неудачей, что работа валилась у него из рук. Он все чаще покидал мастерскую и на «лебеде» отправлялся за город.
Мальчик бродил по лесам и лугам и размышлял: в чем же оно заключается, необычное, художническое видение мира? «Ищи свой взгляд…» — вспомнил он слова учителя. Легко сказать — ищи!..
Как-то ранним утром Саня забрел в сосновый лес с небольшими, поросшими вереском полянами. Чуткий, полусумеречный лесной покой нарушался струнной перекличкой синиц, изредка вливались флейтовые посвисты иволги. А над всеми пернатыми оркестрантами царил барабанщик-дятел.
Но вот солнце коснулось макушек сосен. Полумгла дрогнула и отступила. И полилась другая, беззвучная музыка. Солнечные лучи сначала пробивались сквозь густые ветви острыми иголочками, тянулись по земле сверкающими паутинками, потом стали осторожно переливаться через кроны деревьев. Хлынул настоящий солнечный водопад.
Саня следил, как мягкий, скользящий свет нежно лепит объемы, создает перспективу и настроение…
Долго наблюдал мальчик игру солнечных лучей. Неясные мысли бродили в его голове. Вдруг, осененный внезапной догадкой, он вскочил на «лебедя». Вернулся в мастерскую и торопливо набросал на полотне контуры композиции.
Картина настолько сложилась в воображении, что Саня начал писать ее с легкостью, удивившей его самого. Будто кто-то другой водил его кистью. Но легкость была кажущейся. Добиваясь отточенной чистоты мазка, одну и ту же деталь мальчик переделывал много раз. Картина постепенно оживала, приобретала глубину и объем.
Саня трудился всю осень, зиму и весну. Работал втайне от всех, даже от брата.
Афанасию он запретил появляться в мастерской. Однажды кибер все же проник туда и тихонько пристроился за спиной мальчика. Еще не разобравшись толком, Афанасий с восхищением прищелкнул языком:
— Красиво!
— Иди, иди! — смеялся Саня, выпроваживая робота. — В живописи ты разбираешься еще меньше меня.
К середине лета, когда Сане исполнилось четырнадцать лет, картина была готова.
Мальчик хотел назвать ее «Симфония света». Но, решив, что звучит это слишком красиво («во вкусе Афанасия»), оставил картину без названия.
Саня любовался своим полотном, но что-то в картине смущало, даже тревожило его.
Но что — он так и не мог понять. Наконец решился показать свою работу брату и Денису Кольцову.
Иван долго смотрел на полотно, а потом чуть наклонился (мальчик почти догнал его ростом) и шепнул:
— Молодец! Это что-то настоящее.
Денис Кольцов взглянул на картину сначала с профессиональной точки зрения и увидел искусство контрастной светотени, выразительное и драматическое. На холсте шла как будто непримиримая борьба. Ранние солнечные лучи острыми шпагами протыкали глубокую тень. Свет переливался через кроны деревьев и широкими сверкающими клинками рубил, рассекал уползающую в чащобу мглу. Но и мгла не казалась олицетворением зла и поражения. Она цепко сопротивлялась, обхватывая клинки света своими щупальцами, сознавая, что придет черед — и она снова вернется. И снова начнется борьба двух вечных стихий, одушевленных и почти разумных начал.
Старый учитель поцеловал своего ученика.
— Изумительно! Талантливо! Картина открывает людям глаза! Я теперь по-иному буду смотреть на свет и тьму, ты помог мне увидеть в них великую и живую тайну, которая вечно ускользает от нас… А как мы назовем картину? Давай пока просто — «Свет и тьма». На ней, словно живые, борются боги света и тьмы.
«Боги! — Настроение у Сани мигом упало. — Вот что, оказывается, смущало меня. Только не боги — древние духи. Дикие суеверия колдунов…»
— Ты чем-то недоволен? — спросил учитель. — Или название не нравится?
— Название хорошее.
— И картина отличная! Я знал, что художник ты самобытный.
«Не самобытный, а первобытный», — хмуро думал Саня.
Оставшись один, он долго не отходил от холста. Учитель все же прав: картина удалась. Саня опять залюбовался игрой света на холсте и вдруг вспомнил закат в родной саванне, представил себя одетым в звериные шкуры, сидящим в сумерках на травянистом холме. В закатном пожарище он видел тогда пляску веселых и добрых духов огня. «Почти то же самое и сейчас не холсте…» — мелькнуло у Сани. Остро вдруг кольнули где-то читанные слова: «первобытный мифологизм».
«Нет, так не годится, — решил Саня. — Надо писать картины гравитонного века, а не каменного».
Он притронулся к кнопке на мольберте, чтобы смыть краски. Но, взглянув на полотно, отдернул руку. Уничтожать такую картину показалось святотатством.
Несколько дней боролся с собой мальчик и все-таки решился — нажал кнопку. Холст очистился.
Дениса Кольцова этот поступок возмутил до глубины души.
— Варварство! — гневно кричал он. — Истребление культурных ценностей. Вандализм!
Старый учитель несколько дней не разговаривал с мальчиком. Саня страшно переживал, но твердо стоял на своем: в творчестве не отставать от века! Писать как все!
— Зачем ты сделал это? — хмурясь, выговаривал брату Иван.
— На картине духи света и тьмы. Но ведь в действительности никаких духов нет!
— Ну и дурак же ты, Александр! — в сердцах воскликнул Иван. — И не духи в твоей картине, а душа природы светится. Вернее, светилась… Эх, поговорил бы я с тобой, да не хочется ссориться на прощание…
— Уже? — губы мальчика дрогнули.
— Уже, Саня, — вздохнул Иван, глядя на погрустневшего брата. — Наш «Призрак» готов к отлету… Не переживай, ты ведь почти взрослый. Скоро я вернусь. А с тобой всегда остаются друзья — Антон, Юджин, Зина… И еще — Афанасий!
Иван улыбнулся, хотя ему было совсем не весело.
Месяц спустя не космодроме Ивана Яснова провожали самые близкие друзья и брат Александр.
После долгой разлуки
«Призрак» вернулся через два с половиной года.
На космодроме среди встречавших Иван с трудом узнал младшего брата.
— Саня! Ты ли это? Ну и вымахал же!
Они крепко обнялись.
— Ого, и усы намечаются! — весело изумлялся Иван. — Прямо жених!
От него не укрылось, что Санины щеки чуть порозовели при этих словах. «А что, может, уже и влюбился. Не мальчик — семнадцать скоро…»
Торжественное заседание во Дворце космоса транслировалось на всю Солнечную систему. Но доклады участников экспедиции Саня слушал не очень внимательно: самое главное Иван рассказал ему еще там, на космодроме, в первые часы после встречи. О чудовищных пространственно-временных вихрях и водоворотах, едва не поглотивших «Призрак». О неистово пылающих безднах Полярной звезды, где безвозвратно сгинули все запущенные зонды. О диковинных планетах, самую загадочную из которых нарекли Надеждой — так звали любимую Ивана, погибшую в звездном рейсе за полтора года до того, как первобытный мальчик Сан очутился в гравитонном веке…
В Байкалград братья прилетели ранним утром. Над знакомым водоемом еще стлался туман, и роса осколками звезд блестела на траве. Цвела черемуха, тополь-великан окутался, словно зеленым дымом, молодыми и клейкими листьями и звенел весенними птичьими голосами. «Дома! — счастливо вздыхал Иван. — Наконец я дома!» Стоявший у порога Афанасий сделал замысловатый старинный реверанс, чуть не упав при этом, и напыщенно произнес:
— Рыцарю дальних странствий мой почтительный поклон.
— Ну и Афанасий! — качал головой Иван. — Где ты этого нахватался? Опять же в средневековых романах? Смотри, свихнешься на них.
Кабинет хозяина Афанасий содержал в отличном состоянии. На столе лежала стопка добытых им редких книг. Среди них самым ценным приобретением была «Божественная комедия» Данте. Иван листал книгу и был счастлив, как ребенок, получивший новую игрушку. Потом посмотрел на Афанасия и строго спросил:
— Не украл?
— Никак нет! — с достоинством ответил кибер и прищелкнул каблуками. — Обменял у библиофила из Варшавы Виктора Ситковского.
— Сейчас проверю. Помнится, ты как-то стащил у него две книги.
Иван связался с Варшавой и выяснил, что на этот раз состоялся честный обмен.
После завтрака братья поднялись в мастерскую.
— Вижу, ты не сидел сложа руки, — одобрил Иван, разглядывая многочисленные этюды и картины. Особенно ему нравилась «Наездница».
— Кто это верхом на лихом коне? — заинтересовался он. — О, да это же хохотунья Зина!
«Не такая уж хохотунья», — хотел сказать Саня, но промолчал. Он чувствовал, что всадница не получилась. Даже конь у него мыслящий. А психологический портрет человека — плоский, однозначный. Как ни бился художник, не
удавалось ему передать текучесть и неуловимость Зининых настроений.
Временами — и это было для Сани необъяснимым — девушка казалась веселой и грустной, доброй и гневной, нежной и строгой. И все это одновременно! Все это сливалось в ней в единое целое, как цвета в радуге или краски в закатном небе.
Зина догадывалась: юноша влюблен в нее. Это льстило девушке, радовало ее и в то же время… забавляло! Она поддразнивала Саню, прикидываясь кроткой и нежной. И вдруг взрывалась звонким смехом, способным ужалить и не такое легкоранимое самолюбие, как у Сани. Смешное, неуклюжее в нем она умела подметить удивительно метко. Но долго обижаться Саня не мог. Обида проходила и он снова смотрел на Зину с восхищением — так прекрасны были ее смеющиеся глаза, ее летящие черные брови…
Иван решил устроить себе нечто вроде каникул и полностью доверился Сане, желавшему показать звездному скитальцу «неведомую планету».
— Такой планеты ты не найдешь и за миллионы световых лет отсюда, — говорил Саня.
Каждый день они отправлялись по новому маршруту, и Иван не узнавал порой знакомых мест — так многое изменилось за два с половиной года.
Однажды приземлились в густой роще. Иван не знал даже, на каком они материке: кабину гравиплана юноша так зашторил, что старший брат не мог видеть проносившиеся внизу ландшафты.
Иван вышел из рощи и очутился на берегу тихой реки. За ней открывались щемящие, повитые голубизной дали. Под косыми лучами восходящего солнца сверкали луга, в чистом небе плыли алые голубые облака.
— Куда же ты меня затащил? — воскликнул Иван. — В какую райскую страну?
— Догадайся. Может, тебе подскажет вот этот пока единственный в своем роде город. Он не висит на месте, а передвигается на волнах тяготения, как на морских волнах.
На аквамариновом горизонте, меж кучевых белобоких облаков, Иван разглядел сказочный воздушный город, издали похожий на старинный морской корабль с туго надутыми парусами-секторами и бушпритом-энергоприемником. Даже транспортные эстакады между секторами и зеленоватым корпусом тянулись наподобие мачт и такелажных снастей. Удивительный город почти не отбрасывал тени: «днище» его светилось голубизной, сливаясь с красками неба.
Иван морщил лоб: где он видел это чудо гравитонного градостроительства?
— Вспомнил! Это же Рязань! Но когда успели?! Я же видел все это в макете…
— Пока вы там проделывали всякие штучки со временем, люди не теряли его даром, — улыбнулся Саня.
Не раз после этого прилетали братья в лесостепь, где шумели травы с медовыми запахами, где по синему горизонту плыл, соперничая белизной с облаками, многопарусный дивный город-бригантина с двухмиллионным экипажем. Они ходили по лугам, отдыхали в прохладных рощах. Иван с удивлением узнавал в младшем брате другого человека. От детской «первобытности» не осталось и следа. Перед ним был современный юноша, немного, правда, застенчивый и с грустинкой в глазах, но с ясным и счастливым ощущением жизни.
Однако что-то в нем осталось и от прежнего Сана. Что-то очень редкое и ценное, помогавшее ему видеть и воспринимать мир иначе, чем другие люди, — глубже, своеобразней, одухотворенней. «Мудрость двух эпох», — вспомнились Ивану слова психолога.
И слушать младшего брата было интересно. Было в его словах что-то свое, какие-то искорки и соки образной речи.
— Постой! — осенило Ивана. — Уж не пишешь ли ты стихи?
Саня смущенно признался: есть такой грех.
— Покажешь?
— Не знаю…
Однажды они сидели на зеленом холме и долго, до хрипоты, спорили об искусстве, о музыке. Иван был задет за живое: он почувствовал, что в этой области порядком поотстал от Сани.
Спор закончился весьма неожиданно. На весь этот день синоптики запланировали в среднерусской полосе сухую, солнечную погоду. Но в их небесном механизме, в этом хитром переплетении силовых полей, внезапно что-то разладилось. Какой-то циклон вырвался из-под контроля и пошел гулять по степи, как Соловей Разбойник. Он свистел ливнями, встряхивал землю громами, полосовал небо сабельными взмахами.
Братья вскочили на ноги и ошарашенно глядели на обступившую весь небосклон тучу, исчерканную ветвистыми молниями. Потом все поняли и расхохотались. Разгоряченные и потные, они запрокидывали лица навстречу освежающему дождю, ловили ртом тугие струи.
В разрывы туч глянуло солнце. Но ливень от этого только разъярился. Он гудел, ликующе барабаня по траве. Веселились и братья. Они скакали по лужам, как малыши. Взметывая брызги, что-то кричали друг другу, ничего не слыша и почти ничего не видя, — все исчезло в серебряном кипении ливня, клекоте воды и сиянии брызг.
Ливень прекратился так же внезапно, как и начинался. Синоптики прекратили циклон, усмиренная туча сконфуженно уползала за горизонт. И снова в небе ни облачка. Один лишь город-бригантина сверкал в синеве своими парусами.
— До чего хорошо, черт побери! — восклицал освеженный дождевым душем Иван.
День этот надолго запомнился братьям.
В августе их вылазки на природу прекратились. В «Космосе» — гигантском сооружении, повисшем между Землей и Луной, — создали лабораторию искусственных коллапсаров, и Яснов стал ее руководителем. Дома он опять засиживался в своем звездном кабинете до глубокого вечера.
Работа приносила Ивану радость. Но брату своему он все же чуточку завидовал.
«Саня, — говорил он себе, — познал высшее счастье — счастье художественного творчества…» Осенью юноша начал новое полотно «Бригантина», где задумал в необычном освещении изобразить город-парусник. Город этот волновал воображение Сани, казался символом великого века, бережно хранящего связи с прошлым.
— Наконец-то! — радовался Денис Кольцов, посетивший мастерскую ученика. — Наконец-то ты повернул от суховатого реализма к парусам романтики. Сколько раз говорил тебе, что романтизм — твоя стихия. А это кто? — спросил он, разглядывая стоявший рядом с неоконченной «Бригантиной» портрет. — О, это же Юджин Вест, твой коллега!.. Однако ты его не пощадил!
С картины, казалось, глядел волевой человек с лицом твердым и решительным. Но в ленивом прищуре глаз, в из глубине угадывалось нечто сибаритское, изнеженное.
— Мужественный, волевой лентяй! — с жесткой усмешкой подытожил свои впечатления учитель. — Да, не пощадил ты своего друга, не пощадил.
Во второй полусфере мастерской Денис Кольцов увидел дымчатый занавес. За ним угадывалась какая-то картина.
— Новый пейзаж? — спросил художник.
— Да.
— Пока секрет?
Саня кивнул и с грустью подумал, что секретом картина останется, видимо, навсегда. Секретом для всех, а для него самого — загадкой.
Работал он над ней уже два года. Работал упорно, не щадя себя, и в то же время словно отдыхал над ней, отводя душу. Однажды — это случилось год назад — почувствовал, что картина ускользает из-под его власти, не подчиняется его разуму. Она будто сама водила его кистью. Но самое удивительное: это воспринималось не как рабство, а как высшая свобода. Такую же раскованность Саня ощущал, когда писал «Свет и тьму». Вот это его и настораживало: нет ли здесь опять какого-нибудь «первобытного» подвоха?
Странная получалась картина, очень странная… Непонятная для самого художника, будет ли она понятна другим? Не раз порывался Саня смыть краски, очистить полотно. Но рука не поднималась. Вот и сейчас он стоял перед покрывалом и не знал, что делать.
Денис Кольцов подошел к юноше.
— Готовься, Саня, к выставке. Могут, конечно, и поругать. Но на люди выходить пора. Предложим «Наездницу», два-три пейзажа и портреты. Жаль, что «Бригантина» не закончена.
Выставка художников Азиатского континента открылась в Бомбее. Саня дважды побывал там и увидел немало хороших картин. Но и свои полотна, особенно пейзажи, считал достойными приза.
Засыпая накануне знаменательного дня — дня присуждения призов, Саня представлял, как его картины, одобренные в Бомбее, уже летят в Венецию — на выставку всемирную. А там глядишь… В разгулявшемся воображении возникло заветное «Золотое кольцо». Стать лауреатом «Золотого кольца»! Эта мысль показалась такой несбыточной и сумасбродной, что Саня рассмеялся. Заснул он с улыбкой: в успех на выставке зональной он, во всяком случае, верил.
В день присуждения призов они сели перед экраном и подключились к Бомбею. На специальной платформе за круглым столом уже расположились члены жюри — искусствоведы и художники, накануне подробно обсудившие между собой все полотна.
Денис Кольцов отсутствовал, так как среди участников выставки было немало его учеников.
Платформа плыла из одного зала в другой, останавливаясь перед полотнами, достойными внимания.
К удивлению Ивана, Юджин Вест, работавший куда меньше Сани, получил почетный приз. Телезрителям показали этот приз — бюст Леонардо да Винчи из меркурита — редчайшего минерала, найденного пока лишь на Меркурии.
Саня повернулся к брату. «Ай да Юджин!» — говорил его взгляд. Но вот юноша снова взглянул на экран, и улыбка мигом сбежала с его лица: платформа вплывала в зал, где находились его картины.
Члены жюри начали, казалось бы, с похвал, отметив зрелое мастерство юного художника, его высокую технику. «Далась им эта техника», — с неудовольствием подумал Саня. Говорилось и о таланте, заметном в отдельных деталях. Кто-то из членов жюри уточнил: «Талант, закованный в цепи подражательности». Его поддержали, заговорили о вторичности не только в манере письма, но и в самом видении мира. И уж совсем холодом обдали чьи-то слова: «Заданность замысла, спокойствие дисциплинированного мастерства…» О чем еще говорилось? Саня плохо слышал и почти ничего не видел. Словно туман опустился на глаза, уши заложило ватой. Понял лишь, что ни одна картина не удостоилась приза…
— Крепись, малыш, — услышал он голос брата. — У тебя еще все впереди.
— Я что… Я ничего, — вяло ответил Саня и ушел в свою комнату.
Сел, глядя в камин. Перед ним вдруг открылась беспощадная правда о своем творчестве. «Вторичность… цепи подражательности…» — эти жестокие, но верные слова не выходили из головы. Так было с красивенькой «Зимней сказкой», так и теперь… «Меня просто жалели. Из жалости говорили о таланте. Вот Юджину все дается легко, потому что он действительно талантлив. А я бездарность. Трудолюбивая бездарность».
Вспомнилось детство, когда он вот так же сидел перед камином и думал: «Зачем я здесь?» В душу снова заползала мысль о своей ненужности, «первобытности». Шесть лет он занимается живописью. А чего добился? Научился красиво, «технично» копировать натуру. Но с этим справится и Афанасий, если его как следует поднатаскать… Правда, в мастерской, за дымчатым покрывалом, стоит еще одна картина. Ее пока никто не видел. «И хорошо, что не видел», — подумал Саня. Сейчас она представилась не только странной, но и сумбурной. В лучшем случае — банальный пейзаж.
Утром Иван, взглянув на осунувшееся лицо брата, предложил:
— Ты пока отдохни от картин.
— Я к ним больше вообще не прикоснусь.
— То есть как это не прикоснешься? Ты же художник по натуре. Другое дело, что отдохнуть, конечно, надо. Давай-ка возобновим наши походы, поговорим о живописи, о музыке, о стихах. Кстати, покажешь мне когда-нибудь хоть одно свое стихотворение?
Он взял неохотно протянутый Саней лист с чуть светящимися буквами, отпечатанными на светографе, и прочитал:
Когда в лесу — глухом, угрюмом —
Костер впервые запылал,
Далекий пращур и не думал,
Что первым космос штурмовал.
Колумб межзвездных поколений!
В полете смелом меж светил
Ты вспомни тех, кто сумрак древний
Огнем впервые осветил.
— А мысль не дурна! — воскликнул Иван. — Но вот по форме… — он чуть замялся. — Стихи мне кажутся несколько старомодными. Они неплохо выглядели бы где-то в веке двадцатом, даже девятнадцатом.
— В моем веке, — Саня опустил голову. — В каменном.
— Тоже мне максималист нашелся! — Иван рассердился не на шутку. — Или все ему подавайте, или ничего! Или Цезарь, или никто! А до Цезаря в живописи надо трудиться и трудиться. Искать себя, рвать цепи зависимости и подражательности. И не переживай ты так свою временную неудачу. У кого их не бывает? А стихи, конечно, пиши, хотя, на мой взгляд, ты все-таки не поэт, а художник.
«Не поэт и не художник», — уныло думал Саня, оставшись один в своей комнате. Он сидел перед камином и бесцельно ворошил пылающие головешки. Лист с красиво напечатанными стихами бросил в огонь. Пластиковая бумага долго сопротивлялась.
Чернела, шевелилась, корежилась и наконец вспыхнула. «Вот и все, — подумал Саня. — Так бы и с картинами…» И вдруг холодным потом прошибло: он же давал стихи Зине!
— О, да ты еще и поэт! — удивилась девушка. Но, прочитав, ничего не сказала, видать не хотела огорчать… Только улыбнулась, показав свои ровные и красивые, как у Антона, зубы.
Мысль о зубах окончательно доконала Саню. Он вспомнил, как стоял тогда перед Зиной и широко ухмылялся, — этакий зубастый дикарь, довольный своими бездарными древнекаменными виршами…
От этого воспоминания Сане стало так больно, что он застонал. Собственная жизнь в гравитонном веке показалась ему не только никчемной, но и постыдной.
Первобытный! Нелепый обломок прошлого!.. Его жизнь жалка и бессмысленна в этом мире, где заняты все своим делом.
Все ли? За эту мысль Саня поначалу ухватился, как утопающий за соломинку. Он вспомнил о так называемых «вечных туристах»… Не о тех, кто после упорных трудов и напряженных творческих поисков уходил в леса и луга или совершал турне по планетам Солнечной системы. «Вечными туристами» называли людей, ни к чему не прикипевших душой, работавших с прохладцей — лишь бы выполнить необременительный трудовой минимум. Много времени они проводили в развлечениях — путешествовали по континентам Земли, по городам Марса, Ганимеда, Венеры, охотились на искусственных зверей в густо разросшихся джунглях Луны. Таких людей было немного, и обузой для общества они не являлись, хотя частенько и становились мишенью юмористов и сатириков.
Саня знал: как выходец из далекой эпохи, он мог бы стать пожизненным, «вечным туристом», не вызывая обидных усмешек. К нему отнеслись бы с пониманием. Но жить «просто так», не отдавая себя людям? Жить впустую?.. Этого Сан и представить не мог. «Вечный» туризм представился ему засасывающей дырой, черной ямой… Так где же выход?
На другой день после завтрака Саня сказал:
— Слетаю в «Хронос».
— Конечно! — согласился Иван. — Посидишь у хроноэкрана, развлечешься.
Для сотрудников «Хроноса» Саня всегда был желанным гостем. Посидев у хроноэкрана, понаблюдав за жизнью в ареале, за перелетами птиц и поведением зверей, он обычно прилетал домой к обеду или вечером.
Но в этот вечер в кабинете Яснова из видеооблака возник Октавиан и спросил:
— А где наш питомец? Что-то давно его не видно.
— Как? — удивился Иван. — Он не был у вас? Но ведь он полетел в «Хронос»! — Его охватило беспокойство.
Не вернулся Саня и на другой день. Неужели опять сбежал? Объявлять розыск было неловко — не мальчик, семнадцать уже парню. А если что-то случилось?
Подождав до полудня, Яснов обратился в Спасательную службу. Попросил начать поиски.
«Полонез»
Ожидая сообщений от поисковых групп, Иван не находил себе места. Бесцельно бродил по саду. Прохладный сентябрьский ветер гнал по земле опавшие листья. «В ареале сейчас все наоборот, — подумал Иван. — По натуральному времени начинается весна».
Мысль об ареале вызывала почему-то тревожные предчувствия, и он повернул к дому.
Зашел в Санину комнату. Она казалась пустой и холодной, несмотря на то, что увлекшийся Афанасий развел в камине слишком жаркий огонь.
Иван поднялся в мастерскую и от неожиданности остановился у порога. Рядом с картинами, вернувшимися с выставки, он увидел… давно уничтоженное полотно «Свет и тьма». Мистика!
— Откуда это? — спросил Иван у кибера.
— Это я! — Афанасий хвастливо ткнул себя пальцем в грудь. — Я видел, как Саня собирался и долго не решался смыть краски. И я раздобыл редкий аппарат — нейтронный молекулятор. С его помощью можно до последнего атома скопировать любую вещь.
— И ты успел снять молекулярную копию? Ай да молодчина!
— Здесь еще одна картина, — сказал польщенный Афанасий. — Саня никого к ней не подпускал. Но я все же заглянул… Красиво! Показать?
Кибер притронулся к стене — и дымчатый бархат покрывала заструился, поднялся вверх и растворился в потолке. Большое полотно открылось глазам Ивана.
Холмик на переднем плане, поросший овсюгом и клевером, был как будто знаком.
Совсем недавно они отдыхали с Саней здесь, в тени редких берез, а за холмом парил в небе причудливый город-парусник. На картине города не было, но почему-то ясно угадывалось, что он там, за спиной. А впереди распахивалась странная, волнующая бесконечность. Современная среднерусская лесостепь как-то незаметно и плавно, окутываясь сиреневой дымкой, переходила в древнюю саванну с густыми травами и редкими деревьями. Словно вся история открывалась перед Иваном, словно он видел мир глазами людей всех времен сразу. Связь времен подчеркивалась рекой, текущей из сиреневой дали, будто из глубины веков. Как и всякий художник, Саня запечатлел, конечно, всего лишь один миг. Но в этом миге ощущалось дыхание вечности.
— Удивительно, — шептал Иван, то отходя от полотна, то приближаясь.
Но дальше его ждали вещи еще более удивительные. Сначала все на картине — травы, деревья, сам воздух — выглядело застывшим в немой печали. Но чем больше Иван всматривался, тем больше казалось, что пейзаж что-то говорит, шепчет. Это ощущение исходило от шумящих трав и листьев, от таинственных перепадов света, от жаворонка. Сам он на картине не был виден. Но так и чудилось, что он висит в небе и сплетает серебристые узоры своих песен. И еще река… Ее ритмично чередующиеся извивы, усиливая впечатление бесконечности, напоминали грустно протяжную песню о чем-то безвозвратно утерянном, оставшемся там, в глубине тысячелетий — в этой повитой синью дали.
Иван встряхнул головой, пытаясь избавиться от слухового наваждения. Потом закрыл глаза и попытался трезво рассуждать. Да, своей необычностью и совершенством картина Сани создавала сильный и своеобразный эмоциональный настрой, воздействовала одновременно на центры зрительные и слуховые. Видимо, так. Но что же ему послышалось? Один из старинных вальсов?
Иван открыл глаза. И снова перед ним все заискрилось, наполнилось шелестом трав, напевами реки, музыкой степей. Нет, это не вальс… Тут что-то более глубокое и нежное, трогающее до глубины души, до слез. Но что?
И вдруг взгляд Ивана упал в затаенный угол картины, где светилась подпись-намек, подпись-подсказка: «Полонез».
Верно! Как он мог забыть? В старину полонезы писали Чайковский, Шопен и многие другие. Но здесь слышался единственный в своем роде полонез, уже не одну сотню лет тревожащий души людей, — «Полонез» Огинского.
Иван глядел на картину и слышал бессмертную мелодию — невыразимо грустную и в то же время пронизанную солнцем и светлыми чувствами. В ней вылилась душа художника. В ней было все, что тревожило Саню: и тоска по утраченной родине, и радость приятия нового, и благоговение перед жизнью, и снова печаль.
— Или я совсем ничего не понимаю в искусстве, или это…
— Красиво! — торжественно возвестил Афанасий, закончив начатую Иваном фразу. При этом слуга поднял вверх указательный палец.
— Помалкивай, знаток, — оборвал его Иван и бросился вниз.
В своем кабинете он окутался облаком связи и отыскал Дениса Кольцова. Тот отдыхал, сидя в глубоком кресле. Увидев гостя, художник встал.
— Нашелся?
— Саня? Пока нет… Но я нашел нечто удивительное. Очень прошу ко мне…
Старый художник проявил расторопность и минут через десять был в мастерской.
— Воскресла? — остановился он в изумлении перед «Светом и тьмой».
— Это кибер постарался. Успел снять молекулярную копию. Но я не за этим звал. — Иван кивнул в сторону покрывала и, похлопав сияющего Афанасия по плечу, сказал: — Открой.
Старый художник, как и всегда в подобных случаях, взглянул на полотно как профессионал и холодный аналитик. Он заговорил о таинственных ритмах света, о законах простоты и античного лаконизма форм. Это огорчило Ивана. «Видно, ошибся я в своей оценке», — подумал он.
Но Кольцов внезапно смолк. Глаза его изумленно расширились. «Пробрало», — торжествовал Иван. Он чувствовал: старый мастер увидел картину и «услышал» ее.
Увидел полотно, где все трепетало и мерцало, воздух струился, а краски светились, взаимно проникали друг в друга и… говорили, пели, звучали.
Минуту или две художник находился целиком во власти картины. Потом взгляд его переместился в нижний угол, где чуть приметно светилась подпись.
— Верно, — прошептал он. — Поразительно верно.
Наконец Иван оторвался от полотна и повернулся к Ивану.
— Где мальчик? А ну подай мне его сюда! Ах да, сбежал… Найти! Немедленно найти!
— Ищут.
— Да ты понимаешь, что это такое? Редчайшее явление! Связать в одно целое живопись с музыкой, искусство пространственное с искусством временным удалось пока лишь одному Ришару.
— Я слышал эту легенду, — кивнул Иван.
— Ришар — не легенда! Я ведь стар, как библейский Мафусаил, и лет сто назад, в дни юности, был знаком с Ришаром — астролетчиком и художником исключительной и трагичной судьбы. А талант — это судьба и богатство чувств… В распоряжении Ришара оказались только что изобретенные тогда объемные и светящиеся краски. И он сотворил живописно-музыкальное чудо. Но картина и ее творец погибли во время извержения венерианского сверхвулкана. А нейтронных молекуляторов тогда еще не было… У нашего Сани тоже исключительная судьба. И все, что он пережил, передумал, нашло выражение в «Полонезе». Да, талант — не только природное дарование, это прежде всего судьба, сама жизнь! Не такая, конечно, как у Юджина Веста. Этот одареннейший байбак душевно пассивен, готов всю жизнь пролежать на боку…
— Ты несправедлив. Юджин много работает.
— «Работает»… — усмехнулся Кольцов и показал на картину Сани. — Работать надо вот так! А про Юджина мне только что сообщили: отправился в длительный туристский круиз. Того и гляди, станет «вечным туристом»…
«Полонез» старый художник решил взять с собой. Заодно прихватил «Свет и тьму».
— Жюри еще не закончило работу, — пояснил он. — И мы вместе подумаем, что делать.
Этот грузный и обычно медлительный пожилой человек удивил Ивана своей напористостью и расторопностью. Вечером того же дня Яснов увидел его возникшим из облака связи.
— Удача! — возгласил Кольцов. — «Свет и тьма» уже в пути на всемирную выставку, а «Полонез» в виде исключения сразу отправляется в Солнечную галерею. Так что можешь поздравить Саню с почетнейшим званием лауреата «Золотого кольца».
Иван вяло поблагодарил. Тревожные мысли, мелькнувшие еще утром, в саду, с новой силой завладели им. А тут еще Зина подлила масла в огонь. Едва успел Денис Кольцов «раствориться», как облако связи вновь заструилось.
— Я боюсь! — Зина едва сдерживала слезы. — Саня уже не мальчик, чтоб прятаться в лесу. Тут что-то другое…
Опасения Зины и недобрые предчувствия Ивана сбылись. Утром из облака связи явился Октавиан Красс. Вид у «бога вечности» был весьма бледный.
— Саня… — начал он и замолк.
— Что — Саня? Говори же!
— Его искали не там… Он прятался у нас, в «Хроносе, в металлический лесах энергосистемы.
— А сейчас?
— Сбежал… В свою эпоху.
Октавиан сжато и отрывисто рассказал, как все произошло. Сане удалось погасить роботов, охранявших «Скалу». Сбежал он не в мягком комбинезоне, а в полускафандре с жестким корпусом…
— Сейчас я буду у вас, — коротко бросил Иван и кинулся на стартовую площадку.
Из «ласточки» он выжал предельную скорость и через семь минут был у хроноэкрана.
Здесь собралось около десятка сотрудников «Хроноса».
— Скоро «Скала» реализуется на Горе Духов, — говорил Октавиан. — Хроношока у Сани не будет, ведь он абориген той эпохи.
Хроноглаз отфокусировался и нацелился в сторону Горы Духов. Кроны деревьев уже окутались в зеленый, полупрозрачный весенний бархат. На гибких ветвях появились клейкие листья, слышался их влажный лепет. Стоило, казалось, протянуть руку — и пальцы коснутся верхушки ближайшей березы.
Между стволами виднелись ярко освещенные солнцем одиночные островерхие скалы, отороченные внизу яркой майской травой. Внезапно, как гриб с острой шляпкой, выросла еще одна скала, ничем, казалось, не отличающаяся от своих сестер.
Трещина в камне разошлась, превратилась во вход. Оттуда, из капсул времени, высунулась голова — точнее, непрозрачный колпак полускафандра.
Секунду-другую Саня колебался, потом осторожно ступил на поляну перед «Скалой», откинул колпак и огляделся по сторонам.
— А «Скалу» забыл закрыть, — прошептал кто-то.
— Он вернется, — с надеждой сказал Октавиан.
Надеждам этим как будто суждено было сбыться. Саня взглянул вверх и наверняка увидел звездочку — хроноглаз. На лице юноши отразилась растерянность. Тревожное мигание звездочки он, конечно же, понял как приказ вернуться. Не спуская с него завороженного взгляда, Саня попятился, нащупал за спиной неровные края входа в «пещеру» и наполовину скрылся в ней. Еще полшага, и вход закроется, капсула автоматически начнет обратный бег во времени.
Затаив дыхание, все ждали этого полушага. Но Саня, в нерешительности постояв, вдруг кинулся прочь от «Скалы». Ее зев остался открытым… Юноша миновал седловину и вскоре показался на вершине. Остановился перед затейливо изогнутыми скалами — «духами Фао». Потом зашел под крону березы с раздвоившимся снизу стволом. Ее почки только начинали распускаться. Сквозь мелкую листву, как сквозь зеленую кисею, видно было, что делал Саня. Он сел на камень — излюбленное место колдуна, взял палку и поворошил еще не погасшие угли.
Горькая жалость пронзила Ивана. О чем думал сейчас Саня? Может быть, вспоминал свою встречу с «колдуном Ваном» и ночь, проведенную у костра?
— Посидит, подумает и — вернется, — Октавиан еще хотел надеяться на благополучный исход.
Однако Саня, как видно, возвращаться не собирался. Он встал и начал спускаться с горы по тропинке, протоптанной Ленивым Фао.
— Что он делает? — разволновался Октавиан. — Скоро на тропинке появится колдун.
Он уже где-то у подножия. Они столкнутся!
Но Саня недаром провел много часов у хроноэкрана. Он запомнил, как будет протекать жизнь племени в ближайшем будущем. Юноша остановился, накинул на голову колпак и свернул с тропинки в кустарник.
Вскоре на хроноэкране показался Ленивый Фао. Немощный и дряхлый, он сильно горбился, брел медленно, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание.
Склоны горы так густо поросли высоким кустарником, что трудно было сказать, наблюдает ли Саня за колдуном или спускается вниз. Иногда казалось, что спускается, — ветви на склонах колыхались. Но раскачивать их мог и налетавший порывами ветер.
Внимание сотрудников «Хроноса» было приковано сейчас к колдуну. Нет ли в его поведении странностей? Не заметил ли он что-нибудь подозрительное?
Включили боковой экран. На нем жила и шумела листвой та же Гора Духов, но зафиксированная в визуальном, наблюдаемом времени — времени, протекавшем по своим вековечным законам, без «вмешательства» Сани. Раздвоения событий никто не заметил. На обоих экранах Ленивый Фао вел себя одинаково. Он медленно приблизился к кострищу, потоптался, потом сел на камень и почесал спину о ствол березы. Колдун поеживался, кутаясь в рваные шкуры, но те, видимо, плохо согревали старые кости. Фао разгреб кострище и навалил на горящие угли сухих веток.
Загорелся костер, обхватывая колдуна приятным жаром. Фао с наслаждением прислонился к березе и закрыл глаза.
— Так он продремлет часа полтора, — сказал Октавиан шепотом, словно опасаясь, что его услышит колдун.
— А Саня! — забеспокоился кто-то. — Где он?
Дремлющего колдуна оставили в покое. Хроноглаз фокусировался в поисках беглеца.
Он то выхватывал отдельные холмы и ложбинки, то с трехкилометровой высоты окидывал взглядом весь ареал.
Лишь через час далеко в саванне отыскался Саня. Он вынырнул из густых трав и быстрым шагом приближался к озеру Круглому, к тому берегу, где почти восемь лет назад произошла его встреча с «колдуном Ваном». Берег этот был охвачен кустарником, над которым царственно высились два тополя. Свежие листья их шелестели от набегавшего ветра и серебрились под солнцем.
— Что он делает! — встревожился Октавиан. — Ему несдобровать, скоро здесь появится носорог…
Никто не заметил, как побелели губы Ивана. Никто не мог слышать его немого крика: «Остановись, Саня!.. Вернись!» Но тут же Иван с кривой усмешкой подумал, что похож на колдуна, произносящего бессмысленные заклинания. Остановить ход событий уже было нельзя…
— Носорог! — послышалось рядом. — Вон он, идет к водопою… Но Саня успеет скрыться в кустарнике.
Однако Саня и не думал укрываться. Как только из-за холма выплыла горбатая спина зверя, он сделал несколько шагов навстречу.
Носорог на миг замер. Потом кинулся вперед, нацелив на юношу свой страшный рог, способный проткнуть ствол дуба.
В последний момент Саня, видимо, испугался. Он стремительно нырнул в кустарник.
Но зверь не отставал. Ослепленный яростью, он ворвался в заросли, как танк. Его серая спина скрылась в высоком ивняке, ветви которого трещали и качались как во время урагана.
— Только бы Саня успел залезть на дерево. Там он спасется… — услышал Иван чей-то напряженный голос.
Вскочить на тополь Саня, видимо, не успел. Из кустарника выбежал носорог. На своей бугристой морде он нес обмякшее в скафандре тело юноши. Удар зверя был так силен, что его крепкий и острый, как штык, рог проткнул полускафандр насквозь.
— Убит, — глухо прошептал Октавиан.
Носорог сбросил скафандр на землю, и тот почти скрылся в густой высокой траве.
Но зверь не оставил его в покое. Кипя яростью, он начал топтать скафандр своими чудовищными лапами. Послышался хруст пластикового каркаса… Этот жуткий звук будто ударил Ивана по голове. Сознание на миг помутилось. Когда туман рассеялся, он заметил, что сотрудники «Хроноса» уже переместили хроноглаз на Гору Духов.
— События совпадают.
Сказал это Иван. Не из желания сообщить что-то новое — все и без него видели, — а для того, чтобы хоть как-то отвлечься, подавить свою боль.
На хроноэкране и на боковом экране события совпадали: синхронно, в такт, раскачивались под ветром макушки деревьев, с ветки на ветку перелетали те же птицы и пели одинаковыми голосами.
— Это сейчас совпадают, — проворчал Октавиан. — Но как поведет себя дальше чертов колдун?
Ленивый Фао натурального, текущего времени пока в точности повторял все движения Ленивого Фао на боковом экране, где прокручивалась пленка, запечатлевшая события, исторически сложившиеся, — какими они должны быть. Вот он встал и пошел к седловине горы в поисках топлива для костра. Наклоняясь, Фао на обоих экранах одинаково постанывал от болей в пояснице, подбирал те же сухие ветки.
Около кривой сосны Ленивый Фао остановился. Это было видно на обоих экранах. И вдруг началось расщепление событий. На боковом экране колдун, как и положено, повернулся и пошел к костру, а на хроноэкране Фао натурального времени застыл на месте, уставившись на «Скалу». Не сама скала привлекла его внимание, а зиявшая в ней глубокая пещера, пещера, которой — колдун отлично это помнил — здесь никогда раньше не было.
Октавиан забеспокоился.
— Еще ничего страшного не случилось, — успокаивал сидевший рядом Жан Виардо. — Постоит да вернется к костру греться. Человеческая история от этого не пострадает.
Однако колдун пошел в сторону, противоположную той, которая была предписана ему историей. Крадучись он медленно приближался к «Скале».
— Черт бы его побрал! — выругался Октавиан.
Ленивый Фао подступил к самому входу и заглянул внутрь. Увидел ли колдун в темноте пульт, осталось неизвестным, но он отшатнулся и выронил хворост. Постоял немного, испуганно озираясь по сторонам и принюхиваясь. Любопытство все же взяло верх. Фао вошел в «пещеру» — и вход за ним замкнулся. Биополе включило автоматику. «Скала» растаяла.
Октавиан схватился за голову. Натыкаясь на кресла, он бегал вдоль хроноэкрана и бормотал:
— Браконьеры истории! Такое проглядеть!.. Убить нас мало! Разогнать весь «Хронос»!..
— Перестань суетиться!
Металлические нотки в голосе Ивана отрезвили «повелителя времени». Он остановился и воскликнул:
— Надо что-то делать!
— Сначала встретим гостя, а потом решим, что делать, — сказал Иван. — С ним и с этой дыркой в истории.
— А дырка получилась порядочная, — заметил кто-то.
У хроноэкрана остались лишь дежурные. Остальные через минуту были на холме, имитирующем Гору Духов. Здесь находились и подоспевшие медики.
— Уверяю вас, — заявил один из них. — Колдун стар и немощен, он просто умрет в капсуле от потрясения и страха.
Врач оказался прав. Из пучин времени выплыла «Скала», ее зев раскрылся, и оттуда вывалилась груда грязных шкур. Бесцветные глаза колдуна, широко раскрытые от застывшего ужаса, немигающе глядели на яркое искусственное солнце «Хроноса».
— Мертв… — констатировал врач. — Оживить не удастся.
— Но там, — Октавиан побледнел. — Колдун должен работать на историю еще три дня. И под конец спасти мальчика. Очень важного мальчика!
Октавиан вдруг остановился. В голову ему пришла спасительная мысль.
— Иван! — воскликнул он, умоляюще глядя на своего друга. — Больше некому… Заменить колдуна больше некому!
— Понимаю, — кивнул Иван и подумал, что лучшей кандидатуры и в самом деле не найти. Он уже побывал в каменном веке, адаптировался, и хроношока не будет.
— Ты знаешь язык, — продолжал Октавиан. — Знаешь жизнь племени, обладаешь актерскими способностями. Рост почти тот же. Колдун, правда, обрюзг и расплылся. Но мы наклеим пластиковый жирок и на нем, кстати, нанесем тот самый шрам, которым колдун так гордится. Шкуры дадим чуть почище.
— А глаза? У меня карие, а у колдуна серые, почти бесцветные.
— Ты что? Забыл? — повеселевшим голосом откликнулся Октавиан. — Иные наши модницы частенько меняют цвет глаз. Один пигментный укол — и на три дня у тебя будут другие глаза. Времени для подготовки достаточно…
Времени, однако, оставалось, не так уж много. К вечеру, еще засветло, колдун должен спуститься с гор и войти в стойбище.
А пока Гора Духов пустовала, Иван перед хроноэкраном готовился принять сан колдуна.
— Давай, Ваня! Спасай историю! — посмеивались гримеры.
А Яснову было не до шуток: перед глазами стоял Саня… Не мог, не хотел он верить, что брат погиб. Не поверит, пока не убедится воочию!..
На боковом экране снова и снова прокручивались кадры, показывающие, как в недалеком от натурального момента времени должна протекать жизнь племени. Иван запоминал каждое слово, каждый жест Ленивого Фао, кое-что тут же отрепетировал.
Запоминать, к счастью, пришлось, не так уж много. Колдуну оставалось жить семьдесят пять часов. И трое суток он мало бывал на людях. Почти все время спал в землянке или дремал на священной горе.
Не успело весеннее солнце уйти за бескрайнее болото Урха, как на Горе Духов бесшумно возникла «Скала». Створки ее разошлись, и на землю каменного века бесшумно ступил новый колдун. Он тщательно закрыл вход в пещеру-капсулу и с этого момента старался ничем не отличаться от своего предшественника.
Кряхтя и постанывая, лже-Фао нагнулся, подобрал хворост, оброненный прежним колдуном, и не торопясь зашагал по седловине. С частыми передышками взобрался на вершину, где темнели каменные «духи Фао», оживил огонь под березой.
Ленивый Фао грелся около костра минут пятнадцать. В стойбище он вошел в точно назначенное историей время, когда длинные вечерние тени растворялись в сгущающихся сумерках.
И вот прошли три дня, внешне бездеятельных, но мучительных, потребовавших от Ивана немалых нервных усилий. Подходит к концу и последняя ночь. Чтобы отдохнуть, Яснов в эту ночь расслабился, отдался воспоминаниям. Но в целом роль Ленивого Фао он исполнил, кажется, хорошо, без срывов и отклонений. Завтра старый колдун должен уйти из мира, утонуть в пенистом водовороте реки…
Иван взглянул на часы. Нет, не завтра, а уже сегодня. До рассвета осталось полчаса.
Утро выдалось тихое и безоблачное. Ленивый Фао выполз из землянки, когда Огненный Еж уже выкатился из-за дальних холмов и вовсю припекал землю горячими лучами. Добрые духи, говорили в такие дни старые люди, несут на своих крыльях тепло и удачу.
Удача и в самом деле сопутствовала охотникам племени. Только уселся колдун под березкой, чтобы погреться на солнышке, как в дальнем конце стойбища послышались крики, радостные детские взвизгивания. Подслеповато щуря глаза, Фао долго смотрел в ту сторону и наконец увидел: охотники принесли из саванны тушу еще одного оленя. Тут же, у крайней землянки, разожгли костер. К нему спешили люди.
С противоположного берега реки торопился Гзум — тот самый «важный мальчик», которого в интересах истории необходимо было во что бы то ни стало спасти. И сделать это мог только колдун.
Привычно хватаясь за высохшие, а в иных местах и полусгнившие сучья, мальчик шел по бревнам, перекинутым через поток. На него из-под насупленных бровей посматривал лже-колдун, знавший наперед каждое движение мальчика, каждый его будущий шаг.
Шагах в десяти от землянки колдуна кипел водоворот, грохотали камни. Здесь Гзум поскользнулся и упал. Одной рукой он успел ухватиться за ветку, и вереща от страха, пытался подтянуться к бревну. Но тугие спирали водоворота крутили его, тащили в глубину. Рука Гзума слабела, ветка гнулась.
Толпившиеся у костра люди повернули головы в ту сторону, где сквозь шум воды прорывались отчаянные вопли. Один из охотников бросился на выручку. Но вряд ли успел бы он спасти мальчика. Было слишком далеко.
И тут Ленивый Фао удивил всех. Видно, охотничья сноровка не совсем еще забылась и не вся его сила угасла в его мышцах. В три-четыре прыжка он подскочил к бревну, на четвереньках подполз к мальчику и схватил его за руку в тот миг, когда ветка обломилась.
Вытащив Гзума на бревно, Фао сердито заворчал и дал такого пинка, что мальчик перевернулся в воздухе и упал в неглубоком месте.
Ленивый Фао спас Гзума, но сам не удержал равновесия, покачнулся и грузно плюхнулся в воду. Рухнул без вскрика, без единого звука. Видимо, он потерял сознание. Еще какое-то мгновение сухие шкуры крутились на поверхности. Но вот и они, намокнув, скрылись в пенистых струях водоворота.
Снова в саванне
У самого дна Иван уцепился за каменистый выступ, нащупал в шкурах кислородную маску и натянул ее на лицо. Чтобы не всплыть на поверхность, сунул за пояс под шкуры увесистый камень. По песчаному, в мелких камешках дну прополз несколько шагов, перевернулся на спину и пытался рассмотреть, что делается вверху. Сквозь взбаламученную воду ничего не увидел, кроме размытого диска солнца.
Подгоняемый упругим течением, Иван наискось пополз к другому берегу. Там, в излучине, образовался уютный заливчик со стоячей водой. С песчаного дна в вязкий ил Иван вполз с предосторожностями, побаиваясь водяных крыс и пиявок. Их здесь, к счастью, не оказалось. Из водорослей выскакивали воздушные пузырьки. Приятно щекоча руки и ноги, они стайками бежали вверх.
Раздвинув головой слой ряски, Иван всплыл и очутился в тихой заводи с редкими кочками. На широких глянцевитых листьях кувшинок сидели любопытные лягушки и таращили на него глаза. Иван замер и прислушался. Еле слышно шуршали камыши.
Одна из лягушек, приняв его голову за кочку, прыгнула на самую макушку.
Чертыхнувшись, Иван сбросил ее и стал подбираться к краю зарослей. Здесь он осторожно раздвинул камыши и выглянул.
На противоположном берегу стояли охотники и смотрели на водоворот, поглотивший колдуна. Женщины и дети, крича и размахивая руками, бегали вдоль берега. Слов Иван разобрать не мог. Но все движения людей, все их жесты были в точности такими, какими и должны быть по естественному, ненарушенному ходу времени. Все это он не раз видел на хроноэкране.
Бывший колдун усмехнулся и поздравил себя с успешным завершением исторической миссии. Последний эпизод он сработал особенно четко и филигранно.
Теперь надо убраться подальше от стойбища. Иван нырнул и погрузился в водоросли.
Отыскал брошенный камень и сунул его за шкуры. Из отвратительно липкого ила и тины выполз на песчаное дно с таким облегчением, как будто выбрался на асфальтированную дорогу. По дну «зашагал» на четвереньках.
Через полчаса он вышел на берег. Только сейчас, на холодном ветру, почувствовал, что промерз. Руки посинели и покрылись гусиной кожей, зубы мелко стучали.
Стараясь вытряхнуть воду из ушей и одновременно согреться, Иван отчаянно запрыгал. Потом отжал шкуры, бороду и помчался к Горе Духов. Видели б охотники, как лихо бегает воскресший колдун! Но людей поблизости не было и не могло быть.
На горе слегка дымилось вчерашнее кострище. Но разжигать огонь уже нельзя.
«Исторический» колдун погиб, и долго еще над Горой Духов не будет виться дым.
Иван лишь разгреб кострище, сел на камень и вытянул закоченевшие ноги над горячими углями. Вспомнив, что в кабине имеется кое-что получше, быстрым шагом направился к «Скале», нажал кнопку и, не заходя в раскрывшуюся кабину, дотянулся до пульта, переключив капсулу на ручное управление. Теперь можно войти, не опасаясь, что биополе включит автоматику… Закрыв кабину, Яснов скинул амуницию колдуна — шкуры, ожерелье, амулеты. С трудом отодрал бороду, парик и биопластиковые наклейки, раствором смыл грим. Голый сел в кресло и включил массажеобогрев.
Вокруг Ивана закружились вихри теплого воздуха. Сверху брызнул волновой душ, встряхивающий каждую клетку организма. Иван ворочался в кресле, вздыхая и постанывая от наслаждения. Не хватит, казалось, никаких сил вырваться из этих теплых объятий, из убаюкивающих волн. Но через минуту он приказал себе: «Довольно нежиться!» Оделся в костюм, плотно облегающий тело, напялил
комбинезон, сунул в карман пару галет и вышел наружу.
С горы спускался уже давно знакомыми склонами. Наверх, в небо, старался не смотреть, знал, что в «Хроносе» с тревогой и недоумением следят за каждым его шагом. У подножия все же задрал голову и увидел, как тихо тлевшая искорка тревожно замигала. В ответ Иван лишь досадливо махнул рукой: дескать, ничего страшного с вашей историей не случится. Ни о каком возвращении не может быть и речи, пока он не узнает о судьбе Сани, пока своими глазами не увидит, что произошло…
Солнце все выше поднималось к зениту и уже припекало вовсю, жгло почти по-летнему. От земли и сочных трав поднимались горячие испарения, дрожал воздух.
Все реже слышались птичьи песни — саванна готовилась к полудневному зною.
Вспотевший от быстрой ходьбы Иван выбрался из низин с негустым ивняком и поднялся на сухой пригорок, чтобы передохнуть и осмотреться. И вздрогнул: совсем близко, в сотне шагов, увидел то самое место, где три дня назад буйствовал носорог. Страшась узнать правду, Иван медлил. Стал думать почему-то о полускафандре, который был на Сане.
От полускафандра, конечно, мало что осталось. Лишившись биополя живого организма, он быстро истлевал, распадался на составляющие его элементы — так было запрограммировано. Ничего, никаких следов будущего не должно сохраниться в древней степи. Но сам человеческий организм на это не запрограммирован…
Встряхнув головой, Иван побежал. Вот и та самая ложбинка. Раздвигая упругие стебли конопли, овсюга и других злаковых трав, внимательно всматривался под ноги. Вот один дотлевающий кусок полускафандра, в метре от него еще три клочка, а под самыми ногами почти целиком сохранившийся пояс и… больше ничего! Как ни всматривался — вокруг ничего больше не было. Никаких костей!
На Ивана вдруг нахлынуло такое облегчение, что, разом обессилев, он сел на траву: жив! Хруст, который он слышал с хроноэкрана, не был хрустом костей!
Трещал каркас полускафандра!.. Иван пошарил вокруг и нашел еще не распавшиеся куски полускафандра.
Вслед за облегчением поднималось какое-то радостно-мстительное чувство. Иван даже потер руки от злого удовольствия: ну подожди, милый братишка, я тебе задам взбучку! Ты у меня попляшешь! Но тут же оборвал себя. Как смеет он радоваться, когда еще не известно, что с Саней! Да, носорог его не растоптал, но мало ли опасностей в саванне…
Сначала Иван решил исследовать заросли ивняка и вербы, охватившие берег озера. В плотную стену кустарника, под его полутемный шатер, проник по следам носорога.
Тот прошелся здесь, как вездеход, проложив широкий коридор. Кое-где сохранились наполненные водой вмятины — следы чудовищных лап. Особенно много следов вокруг тополя. Иван осмотрел его могучий старый ствол с многочисленными дуплами и наростами. По такому стволу нетрудно добраться до ветвей даже в полускафандре, что и сделал, вероятно, Саня. Оттуда, как догадывался Иван, он и сбросил полускафандр на растерзание рассвирепевшему зверю. Сейчас там Сани, конечно, нет. На всякий случай, Иван обошел вокруг дерева, глядя вверх. Сквозь шелестящую листву пробивались тоненькие лезвия солнечных лучей, кое-где темнели гнезда с горластыми птенцами.
Из кустарника Иван вышел уже на другом берегу Круглого озера. И здесь ему сразу повезло: на небольшой песчаной отмели обнаружил рубчатые следы эйлоновых кед — мягкой, но прочной обогревающей обуви космопроходцев. На Иване сейчас под комбинезоном были точно такие же кеды.
Следы вели в сторону Дубовой рощи, зеленевшей в полукилометре от озера. По характеру следов можно догадаться: Саня не шел, а бежал, стараясь поскорее проскочить открытое пространство и укрыться от всевидящего хроноглаза в высоких травах. Так и есть! В густых травянистых зарослях, этих джунглях мелких зверьков и насекомых, Иван обнаружил коридорчик примятых стеблей. Видимо, Саня почти ползком добирался до рощи.
В «Хроносе» рощу окрестили Дубовой, хотя здесь можно было встретить и березу, ясень, клен, сосну. Роща — отличное укрытие от крупных хищников и людей, она опоясалась болотистыми низинами с труднопроходимым ельником и колючим кустарником. Восемь лет назад Иван уже бродил в этих зарослях, приходя в себя после хроношока. Но тогда здесь царила осенняя тишина, а сейчас стоило Ивану войти, как встревоженные птицы подняли невообразимый гвалт. То и дело он натыкался на гнезда с попискивающими птенцами.
«Чем же эти дни мог питаться Саня? — размышлял Иван. — Неоперившимися птенцами? Вряд ли. После того случая с зайчиком стал до щепетильности бережно относиться к животному и птичьему миру. Впрочем, голод не тетка… А может, питался травами? Известными ему с детства стеблями и клубнями?»
Иван с трудом выбрался из цепких зарослей, миновал редкий кустарник и ступил на поляну с низкорослой травой и царственным дубом посередине. Взглянул вверх, в могучую крону, и ничего не заметил в зеленом океане листвы. Но внизу — еле приметные следы кед. Здесь же — сорванные сочные стебли, кучка продолговатых листьев какой-то съедобной травы. Иван пожевал их и ощутил приятно-кисловатый вкус. Щавель! Ничего себе, еда…
Вверху послышался шорох, треск сучьев. Иван спрятался за кустом. Из ветвей высунулись кеды, потом показался сам Саня. Цепляясь за бугорчатые наросты, он спустился вниз и прислонился к стволу. Увидел выступившего из-за куста Ивана и бросился к нему.
— Ваня! Я знал… знал!.. — голос Сани дрогнул.
— Ну и отощал же ты, Александр, — обнимая брата, проворчал Иван.
И тут же отстранился, чтобы не расчувствоваться. Протянул Сане тонизирующую галету.
— Сначала подкрепись, а потом я устрою тебе сцену под дубом.
Саня откусил большой кусок и пытался проглотить его целиком. Поперхнувшись, закашлялся.
— Не торопись!
Саня начал старательно пережевывать галету. На его исхудавших щеках задвигались желваки.
«Мальчишка. Совсем еще мальчишка», — с остро кольнувшей жалостью подумал Иван.
Однако всякие нежности считал пока неуместными. Когда младший брат проглотил последний кусок, Иван, усмехнувшись, спросил:
— Хорошо здесь устроился? Как думаешь дальше жить-поживать?
Саня понурил голову и сбивчиво заговорил:
— Хотел погибнуть, чтоб все видели и не искали… А потом… Потом страшно стало. Не помню, как очутился на дереве. Вынырнул из скафандра, бросил его прямо на рог… С дерева видел, как носорог топчет его в траве. Думал, что искать меня не станут. Все же видели сверху, как погиб… Испугался я в последний момент. Понимаешь? Испугался… — Глядя на старшего брата, ожидая его ответа как приговора, тихо спросил: — Я трус?
— В основном ты дурак, — хмуро заверил Иван.
На губах Сани невольно дрогнула улыбка.
— Не ухмыляйся! — повысил голос Иван. — Вернемся, я уже ругать не буду. Бить буду! Вот только вернемся домой.
— Домой? — Саня заметался на поляне. — Нет мне там места… Нигде нет!
— Прекрати истерику!
Голос Ивана зазвенел такой жесткой силой, что Саня послушно сел на траву, глядя на старшего брата. Таким он Ивана еще не видел. А тот сел напротив и заговорил резко, без предисловий:
— Ну и дурак же ты, Александр. Дома ему, видите ли, места нет. Тоже мне — талант, одолеваемый комплексами неполноценности… Но о таланте позже. Сначала о трусости. Пожалуй, что и трус… Жалкий и постыдный. И вот почему.
Иван рассказал, как тяжело переживает Санин побег Зина.
— По-моему, она питает к тебе чувства более нежные, чем дружба. Да и ты, как я заметил, не равнодушен к ней. И вот этот галантный кавалер, — Иван усмехнулся, — вместо того, чтобы объясниться, трусливо сбежал. Позор!
Саня смутился. Чтобы переменить тему, спросил:
— А Юджин?
— Юджина я не видел. Говорят, он отправился в какой-то длительный туристский круиз. Чуть ли не годовой.
— Годовой! — воскликнул Саня. — С его-то характером…
Мысленно он вдруг отчетливо увидел уютный салон транспланетного лайнера. Увидел и Юджина, мягко развалившегося в кресле. Он ведет ленивый разговор с попутчиками, предвкушая беззаботное времяпрепровождение в отелях Марса и Ганимеда, охотничьи приключения в джунглях Луны…
— Нельзя Юджину в такие круизы! — замотал головой Саня. — Засосет… Сам не заметит, как станет «вечным туристом»… Спасать его надо!
— Надо, — согласился Иван. — А кто спасать будет? Я? Не имею с ним профессиональных контактов. Денис Кольцов? У того и своих забот хватает, да и стар он… Вот и получается, что ты трус и предатель, сбежавший от своих обязанностей перед друзьями! Да, да! Не смотри на меня так!..
Иван понимал, что хватил через край. Но остановиться уже не мог и с каким-то мстительным наслаждением рубил с плеча. Саня затравленно глядел на брата.
— Наконец о главном, — Иван несколько смягчился, заговорил спокойней. — О долге перед людьми. Талант твой — не только твоя собственность, это достояние всего общества, воспитавшего тебя. А у тебя подлинный талант, в чем никто не сомневается, кроме самого художника. Доказательства? Да хотя бы успех на всемирной выставке картины «Свет и тьма»!
— «Свет и тьма»?! — изумился Саня. — На выставке в Венеции?! Да откуда она взялась?
— Афанасий успел снять молекулярную копию… Как видишь, даже он оказался умнее тебя. Он же показал мне твою лучшую картину. Ты почему скрывал «Полонез»? Ах, не придавал значения! Считал непонятной! И даже претенциозной!.. Да в уме ли ты? Знаешь ли ты, какое впечатление она произвела на Дениса Кольцова, на живописцев, на весь художественный совет? В порядке редкого исключения она сразу же отправлена в Солнечную галерею, в «Золотое кольцо». Ты лауреат «Золотого кольца»!
Саня был потрясен. Первые секунды он не мог выговорить ни слова. Потом тихо спросил:
— Это правда?
— Лгуном считаешь? — проворчал Иван.
— Да я теперь… — С засиявшими глазами Саня вскочил и заметался, забегал по поляне, размахивая руками. — Я все силы… Вот увидишь… — Остановился и выкрикнул совсем уж мальчишеское: — Я еще не такие картины напишу!
— Это где же? — насмешливо спросил Иван и ткнул пальцем в густую крону. — Там, что ли? В логове из дубовых листьев? Уютное местечко. Самое подходящее для лауреата!
Но Саня, казалось, не обращал внимания на иронические уколы брата.
— Я понял свою ошибку! — восклицал он. — Понял, может быть, только сейчас! Я действительно болван. Сдерживал себя, топтал свое… Старался писать, как все…
— Невероятно! — Иван театрально всплеснул руками. — Поумнел! Надо же — поумнел!
Лишь короткая улыбка мелькнула в глазах Сани.
— Я задумал еще одну картину, — в возбуждении говорил он. — Она будет вызывать в памяти симфонию Анри Лорана. Будет называться «Тревога»…
— Ладно, Саня. О картинах поговорим в другом месте. Мы и так загостились. Идем, нас там ждут, — Иван показал пальцем в небо. — А то, может, раздумал? Останешься?
— Не ехидничай. У тебя сегодня что-то плохо получается… Идем!
Братья зашагали в сторону Круглого озера. Прокладывая дорогу, впереди шел Иван.
В густом, ощетинившемся колючками, кустарнике ему пришлось накинуть на голову прозрачный гермошлем. И вовремя: оберегая свои гнезда, какие-то крупные хищные птицы с кривыми и острыми клювами атаковали братьев. Налетая, долбили по колпаку гермошлема, царапали когтями комбинезон… Легко одетому Сане пришлось бы совсем худо, если бы не брат, отгонявший пернатых налетчиков.
На опушке Саня, обладающий куда более тонким слухом, предостерегающе поднял палец.
— Слышишь топот? Это табун лошадей. В этом году они поздно вернулись с юга.
— Нам нельзя туда, — тихо сказал Иван.
— Пойдем левее. Там никого не спугнем…
Слева от озера крупных животных не встретили. Но дорога оказалась не из приятных. Братья обходили наполненные водой ямы и овраги. Под болотистой низиной остановились.
— Я-то в комбинезоне, пройду, — сказал Иван. — А тебя придется посадить на плечи. Превращусь в Урха, доброго духа болот.
— Добрых Урхов не бывает, — весело возразил Саня, однако на крутые и сильные плечи брата уселся охотно.
За болотом до самой Горы Духов простиралась сравнительно сухая равнина с шелковистой травой, редкими рощицами и одинокими деревьями. В тени шумного, говорливого под ветром тополя братья на минуту остановились передохнуть. Сзади доносился еле слышный плеск воды, всхрапывание лошадей.
— Саванна оживает, — тихо говорил Саня. — Скоро вернутся бизоны, сайгаки. У охотников будет богатая добыча.
Пока шли к горе, Саня поведал о том, каких страхов натерпелся в Дубовой роще.
Сбежал он, конечно, по-глупому, сгоряча, не подумав. Нападение носорога отрезвило — охватил ужас… Двое суток Саня прятался на дубе и с высоты видел ночами костры охотников в саванне. На душе было так безнадежно тоскливо, что хотел даже вернуться в племя. Но какая бы паника поднялась тогда в стойбище!
Нет, места в этой эпохе ему уже нет… Наконец он, преодолев страх и стыд, решил днем выйти на открытое место и знаками показать хроноглазу, что он жив и нуждается в помощи. Но тут, к счастью, подоспел Иван.
— Ты вторично спас меня, — сжал Саня руку брата.
Через полчаса, уже километрах в двух от Горы Духов, Иван и Саня разговаривали во весь голос, громко смеялись, подталкивали друг друга. Догадывались, что хроноглаз сейчас отчаянно мигает, призывая к порядку разгулявшихся странников времени, а разгневанный бог «Хроноса» Октавиан, наверное, мечет в их адрес громы и молнии…
Однако, взглянув, наконец на небо, братья увидели, что искорка хроноглаза горит тихо, спокойно и даже приветливо. Октавиан, видимо, доволен был исходом вылазки Ивана и смотрел на неуместные шалости снисходительно.
— Слушай, Урх! Нет ли у тебя за пазухой еще одной галеты? — с улыбкой спросил Саня.
— Проголодался? — весело откликнулся Иван. — Есть у меня за пазухой галета. Но мы ее поделим пополам. Я ведь тоже наголодался, пока был…
Чуть было не сказал «колдуном», но спохватился. «Еще переживать будет… Из-за него же я подвергся такому нелегкому испытанию. Потом узнает…» Братья сели на пригорок, спугнув стайку гревшихся на солнце мышей. Поели. Саня, поглядывая на Гору Духов, сказал:
— Опустела гора. Все же жаль старого колдуна. Кто бы мог подумать, что Ленивый Фао способен на такую прыть? Пожертвовал собой, спасая Гзума…
«Знал бы ты, кто был Ленивым Фао», — усмехнулся Иван, но вслух сказал:
— А ты, оказывается, неплохо изучил ход событий, прежде чем улепетнуть сюда.
Саванна, милая сердцу Сани родная степь, незаметно меняла свой облик. Только что она знойно дремала. Недвижные травы источали горячие ароматы, с басовитым гулом перелетали с цветка на цветок шмели, упоенно трещали кузнечики. И вдруг насекомые, мгновенно исчезнув куда-то, притихли. Что-то невидимое пронеслось над равниной. С легким вздохом шевельнулись верхушки трав, поднялся упругий ветер, и саванна зашелестела, заколыхалась зелеными валами.
— Гроза, — прошептал Саня. — Скоро будет майская гроза.
Наслаждаясь прохладой, Иван закрыл глаза. Шум трав, плескавшихся у подножия холма, казался ему гулом морского прибоя. Вспомнив, какую неизъяснимо пугающую, мучительную власть имел ветер над Саней, он открыл глаза и осторожно скосил их на брата. Но нет, не муку выражало лицо юноши, а радость. Однако странную, задумчиво печальную и даже горькую радость.
«Эолова арфа», — подумал Иван. Ветер, догадывался он, проникает в глубь души Сани, шевеля ее самые затаенные и нежные струны. «А у меня эти струны спят…» На прощание Саня вдыхал родную ширь, впитывал ее звуки, запахи, жил ее жизнью.
Но прощание затягивалось, и это начинало тревожить Ивана.
— Здесь хорошо, — проговорил он. — Однако пора. Идем.
Саня послушно шел рядом с братом. Был он задумчив и малоразговорчив. На горе, уже вблизи «Скалы», смущенно признался:
— Боязно… Как теперь людям в глаза смотреть?
— Чудак же ты все-таки! Закрой глаза и представь, как встретят тебя. Представил? Ну и что подсказывает твое тощенькое воображение? Да все только рады будут! Никто не осудит тебя не только словом, но и в мыслях своих!
— Давай постоим еще немного, — попросил Саня.
— Постоим, — согласился Иван.
Незаметно подкралась лохматая черная туча и обложила все небо. Стало темно, как в вечерних сумерках, и тревожно тихо — не шелохнется ни одна травинка. Дождя все не было.
В туче сверкнула кривая, как ятаган, упругая молния и с треском впилась в сосну, в ее давно пожелтевшие ветки. Ствол сосны медленно обволакивался спиралями дыма.
И вдруг дерево вспыхнуло, как факел, разбрызгивая искры и горящие ветки.
Послышался гул пламени, на притихших холмах и низко висевшей туче заплясали отсветы.
— Здорово! — шепнул Саня. — Прощальная иллюминация…
Но вот по листьям берез защелкали крупные, ртутно-тяжелые капли дождя, и братья укрылись в распахнувшемся зеве кабины. «Скала» вновь закрылась и растаяла.
Ветер тысячелетий
Встретили их, как считал Саня, не по заслугам пышно. Едва братья вышли из капсулы, как лифт поднял их на крышу «Хроноса», и там они снова увидели иллюминацию — на этот раз небесную. Беззвучным фейерверком взрывались бутафорские звезды, вращались многоцветные спирали галактик. Так торжественно встречали обычно звездолеты, возвращающиеся из дальних рейсов.
Иллюминация погасла. И тут же, на черном бархате неба, засверкали огненные слова светогазеты. Большими буквами пламенел заголовок:
БРАТЬЯ ЯСНОВЫ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ РЕЙД В ПРОШЛОЕ.
Саня с облегчением вздохнул: его побег выглядел в этом сообщении как важный научный эксперимент. «А может, так и вышло на самом деле?..» — думал он.
Уплывая в космос, в бесконечность, светогазета уменьшалась и наконец исчезла совсем. Вместо нее в небе возник дружеский шарж: братья Ясновы с забавными жестами и ужимками прыгают через овраги и ущелья тысячелетий.
Шумная встреча в «Хроносе» незаметно перешла в научный диспут. Он был непродолжительным, и в тот же день братья вернулись домой, в Байкалград.
Здесь их тоже ждал торжественный прием.
Стоявший у входа Афанасий сделал замысловатый реверанс, вычитанный из старинных романов, и начал напыщенное приветствие:
— Рыцарям дальних странствий…
Комнаты сияли чистотой, а камине горел огонь. Однако в отсутствие хозяев кибер допустил вопиющую вольность: черную кошку, чтобы та не перебегала ему дорогу, он упрятал в силовую клетку. Кошка металась и, натыкаясь на невидимую решетку, жалобно мяукала.
Иван так сурово отчитал Афанасия, что тот даже сгорбился. Сане стало его жалко.
Желая доставить киберу удовольствие, он сказал:
— У тебя наверняка припрятана какая-нибудь одежда из твоего любимого средневековья. Так ведь?
— Так точно! — повеселевший Афанасий лихо прищелкнул каблуками. — Показать?
Вскоре кибер щеголял в странном костюме, напоминающем не то ливрею кучера, не то форму адмирала. Афанасий уверял, что так одевались слуги герцога Анжуйского.
Провести вечер братья решили в кругу самых близких друзей. Афанасий рассылал по почте шутливо-официальные приглашения, встречал гостей у входа и спрашивал, как они желают доложить о себе. Кибер с самодовольным видом исполнял роль средневекового слуги.
— Повелитель времени Октавиан Красс! — гулко звучал в гостиной его голос.
Октавиан, пожав братьям руки и, кивнув в сторону Афанасия, усмехнулся:
— Живете прямо как средневековые бароны.
Следом пришла жена Октавиана с Антоном. Затем однокашники Сани по студии — Юний и Граций.
— Трижды лауреат «Золотого кольца» Денис Кольцов! — доложил Афанасий.
Увидев Саню, старый художник чуть не прослезился. Он обнял юношу, поцеловал и лишь после этого приветствовал остальных.
Гостей собралась уже целая дюжина, а Зины все не было. С волнением Саня ждал ее и гадал: какой она явится? Тихой и задумчивой? Или строгой, рассудительной?
Больше всего ему хотелось видеть ее сейчас веселой и шумной, как вихрь.
В дверях показался сияющий Афанасий и поднял руку, призывая к тишине. Необычайно торжественным голосом он провозгласил:
— К нам пожаловала королева Испании Изабелла.
Гости переглянулись. Иван подозрительно покосился на кибера: уж не свихнулся ли?
— В свое время мудрая Изабелла не оценила заслуг великого Колумба, — продолжал Афанасий. — И вот королева явилась из своего шестнадцатого века, чтобы исправить историческую несправедливость и одарить своим монаршим вниманием великих времяплавателей нашей эпохи.
Афанасий отступил в сторону и учтиво расшаркался.
В дверях возникла дама в ослепительном наряде, высокой башенкой-прической на гордо посаженной головке. «Зина», — вздрогнул Саня, и глаза его засветились восхищением: до того ошеломляюще красивой была девушка в длинном платье королевы.
Она не шла, а шествовала. Сверкали бриллианты, царственно шелестели шелка.
Гости, оценив игру Зины и ее наряд, заулыбались, кто-то захлопал в ладоши. Но королева величественно повела взглядом, и неуместные аплодисменты смолкли.
— Магеллану космоса и первому времяплавателю Ивану Яснову, — сказала она, протянув руку.
Иван склонился и поцеловал длинные с золотыми перстнями пальцы.
Королева подошла к Сане.
— Колумбу «Хроноса»… — начала она.
Саня не сдержался и фыркнул. Но королева метнула такой гневный и надменный взгляд, что он моментально притих и приник к монаршей руке.
Тут вся царственность слетела с Зины. Она взорвалась веселым смехом, стала тормошить Саню.
— Расскажи, как гулял по своим любимым пампасам. А ночевал у костра? Представляю: черная мгла, звезды и пляшущие отблески огня… Как я завидую тебе!
«Вихрь», — улыбался Саня. Но улыбка тут же слетела. Саня увидел вмиг преобразившееся, ставшее грозным лицо Зины. Звенящим шепотом, не предвещавшим ничего хорошего, она спросила:
— А ты там зайчика не съел?
И звонко расхохоталась.
— Какие там зайчики, — смеялся Иван. — Он в своих пампасах одну лишь травку пощипывал. Кстати, не пора ли за стол?
Все уже садились, когда Афанасий доложил:
— Гость, прибывший срочным рейсом с планеты Ганимед.
«Кто бы это?» — недоумевал Иван. Но Саня сразу догадался: Юджин!
Вошел молодой художник и смущенно поздоровался, стараясь не встречаться взглядами с Денисом Кольцовым.
— А-а, — насмешливо протянул старый мастер. — Выдающийся турист…
Афанасий разносил блюда и напитки. Но Зина на этот раз была недовольна им.
— Не туда ставишь, — то и дело поправляла она. — А Юджину принеси сначала апельсиновый сок. Ты что, не знаешь его вкусы?
Кончилось тем, что девушка совсем отстранила Афанасия. Королева Испании сама взялась обслуживать гостей.
Отдохнув недельку дома, Саня отправился на Меркурий, где работал теперь Юджин.
Под исполинским куполом, защищавшим от испепеляющих лучей близкого Солнца, на Меркурии шло строительство нового комплекса института «Гелиос». Саня помогал Юджину в планировке садов и парков, в художественном оформлении жилых помещений и лабораторий. Работа увлекала. Но вскоре Саня почувствовал такую тоску по Земле, по ее тихим зорям и шумным ветрам, что Юджин сжалился и отпустил друга, пообещав навещать его.
— С туризмом покончено, — заверил он.
На Земле потянулись обычные будни — учеба в «Хроносе», встречи с Денисом Кольцовым в студии. По просьбе старого мастера Саня помогал ему учить самых маленьких студийцев — десятилетних мальчиков и девочек.
За ужином братья обменивались новостями, спорили, подтрунивали друг над другом и сообща над Афанасием. Тот не оставался в долгу: научился отвечать обидчикам вычитанными в романах колкостями и афоризмами. Получалось иногда довольно метко, но чаще всего невпопад.
После ужина Саня с полчаса простаивал за спиной брата в звездном кабинете. Потом поднимался наверх, нажимом кнопки убирал прозрачный купол своей мастерской, и та превращалась в веранду. За перилами ее шелестели верхушки деревьев сада, а с высоты открывались прибайкальские дали. Саня садился за стол и вызывал светокнигу. Читая, то и дело посматривал на горизонт: а вдруг сегодня повезет? И в один из вечеров дождался своего часа — на западе развертывался изумительный по красоте закат, именно такой, о каком он мечтал…
«Начинается, — с неудовольствием подумал Иван. — Заснет теперь под утро». Но вмешиваться не стал. Он чувствовал: у брата вдохновение, и его нельзя расплескать. Не знал, конечно, Иван что закат этот для молодого художника не только праздник освобожденных красок. Сюда, на веранду, вместе с ветром и гаснущими лучами солнца врывалось дыхание ушедших веков…
Солнце, покрываясь тускнеющей окалиной, уходило в туман, за зубчатую стену леса.
Уходил вместе с ним и Саня, уходил в дальние времена. Странные образы и видения проносились перед ним. В цепочке мелких кучевых облаков он узнавал паруса средневековых каравелл, в темных изломах туч — шлемы римских воинов и пики древнегреческой фаланги.
Закатный костер гас, уплывая за горизонт, и звал Саню еще дальше, в глубь тысячелетий. Мучительно-сладкое чувство кольнуло сердце — юноша узнал вдруг костры родного стойбища. Но вот уплыли и они, и вместе с тускнеющей зарей Саня уходил в еще более немыслимые дали, в давно угасшие времена…
Зябко поеживаясь от ночной прохлады, юноша убегал под другой, непрозрачный купол мастерской. Включив свет и приплясывая от нетерпения, хватался за кисть. Как изобразить на холсте небывалую игру красок и обрывки видений, только что уловленных им в пурпуре вечерней зари? Как воплотить на картине дыхание угасших, как закат, веков?
Дни шли, но решение не приходило. Саня улетал на «лебеде» в лесостепь, бродил в одиночестве по лугам, и голова у него кружилась от шалфейных, медовых запахов и от наплыва невиданных образов и замыслов. Картины одна заманчивей другой возникали перед ним, а из головы не выходило почему-то четверостишие старинного поэта:
Поделись живыми снами,
Говори душе моей,
Что не выскажешь словами, —
Звуком на душу навей.
Но не навевало, не выстраивалось…
Однажды Сане показалось, что из зыбкого строя видений, из этой радужной пены тумана выплывает нечто такое, что не выразить ни рисунком, ни формой, ни словом, а действительно можно лишь намекнуть звуком, неясной музыкой. Что-то степное служило этому толчком и началом. Но что? Не запахи же? И вдруг, вздрогнув, понял: ветер!
Саня садился на пригорок спиной к городу-паруснику и смотрел, как травы, набегая друг на друга, катились шелковистыми валами. Потом закрывал глаза и слушал. Как и раньше, ветер бередил душу, вызывая образы потонувшей в веках, но неугасимой в памяти родины. Но тот же древний ветер нес теперь Сане и отраду. Странную, мучительно-зыбкую, наполняющую беспокойством отраду. Чувство более властное, чем тоска по родине, овладевало им — тоска по прекрасному, по невиданной, неуловимой красоте.
В шуме ветра Саня слышал теперь не только шорохи родной саванны, но и гул ушедших веков — звон мечей в битве на Каталаунских полях, топот конницы Буденного и многое другое. Что-то емкое, огромное вставало перед ним. Это огромное хотелось воплотить в одном образе, в одной картине и назвать ее…
«Ветер времени».
Саня даже вскочил на ноги от волнения, от предчувствия дерзновенного замысла.
Домой он вернулся счастливо оживленным. Иван же, наоборот, встретил брата хмурым молчанием: обижался, что не берет его Саня с собой, не делится настроениями и мыслями.
Саня видел, что старший брат опять становится «колючим Иваном». Будет теперь дуться, иронизировать, сыпать язвительными замечаниями. «Еж»… — улыбался Саня.
Желая загладить свою вину, он через несколько дней за завтраком пригласил брата в «пампасы гравитонного века».
— Я вчера облюбовал это удивительное место. Мы там откроем филиал студии Кольцова… Кроме учителя, меня и Юджина будут Зина с отцом, Граций и Юний, еще кое-кто из студийцев. Хочешь вместе с нами провести весь день?
— Некогда, — угрюмо отговаривался Иван.
— Ты не разгибаешь спины над своими вычислениями, — не отставал Саня и в отместку за прежние колкости съязвил: — В математической пустыне ты высох и скрючился как знак интеграла.
Иван хмуро отмахивался, но в конце концов сдался.
— Ладно… Разве что посмотреть твои пампасы…
Через час братья приземлились на зеленом пригорке, где их уже ждали Зина, Юджин, Денис Кольцов и его шумные ученики. В первые минуты, обмениваясь рукопожатиями, знакомясь с юными питомцами Кольцова, Иван не мог как следует оглядеться. Но вот Саня отвел его в сторону и показал рукой: смотри.
Давным-давно, когда еще не знали синтеза белка, здесь, видимо, волнами колыхалась пшеница. А сейчас — безбрежное холмистое море васильков с белопенными, как буруны, островками ромашек. Вдали, заштрихованные знойным маревом, голубели рощи.
— Ну как? — спросил Саня.
— Красиво, как сказал бы наш Афанасий.
— Не туда смотришь! — улыбнулся Саня. — Взгляни сначала налево, на юг, а потом направо.
Слева парил в голубизне неба город Калуга. Он сливался с окружающим пейзажем, придавая ему странное очарование. Справа, далеко на севере, высился еще один город. Он походил на исполинскую триумфальную арку, сотканную из мерцающего света. Иван много раз бывал в этом двадцатимиллионном городе, семицветной дугой раскинувшемся над своим историческим центром. Но не предполагал, что Москва, это чудо гравитехники, так удивительно выглядит со стороны.
«Как радуга иди северное сияние, — подумал Иван и, взглянув на вольно раскинувшиеся внизу луга и рощи, не мог не согласиться с Саней: — И в самом деле пампасы гравитонного века…»
— Самое замечательное в том, — говорил Саня, словно угадав мысли брата, — что вся гравитехника, не нарушая гармонии, вписывается в древние степи и леса. Москва меж грозовых туч, наверное, не отличается от редкого по красоте погодного явления. Она и сейчас смотрится как картина Куинджи «Радуга». Или взгляни в небо! Не сразу скажешь, летят ли там настоящие, живые лебеди или это группа отдыхающих на летательных аппаратах. Вот эту естественность и гармонию нашего века мне хотелось бы передать в новой картине. А назову ее…
Саня вдруг замолк, осененный какой-то догадкой. Потом, размахивая руками, заговорил с возрастающим воодушевлением:
— Нашел!.. Я кажется нашел зримую основу будущей картины. Назову — «Ветры времени», а еще лучше — «Ветер тысячелетий»… На полотне, предположим, ты увидишь всего лишь эту степь. В ней то печет солнце, то гуляют веселые грозы и свистящие ливни…
— Изящно говоришь. Вот бы Афанасий восхитился!
— Не перебивай и не язви, — шутливо толкнул его плечом Саня. — Да, ты увидишь природу, не подавленную человеком, а эстетически им облагороженную. Это «лебеди», летящие в чистом небе, города-парусники и семицветные радуги будут ее естественным и гармоничным продолжением. Но это лишь видимая, зримая основа. Главное в картине — ветер, его музыка. Как передать его? Через бег облаков? Или в шорохе трав, в мерцании города-радуги? Еще не знаю… Скорее всего через особое настроение зрителя. Он должен услышать в ветре дыхание отшумевших веков — голоса рабов, строящих Парфенон, звон битв, звон скифских повозок, грохот танков… Труд и жертвы предков лежат в фундаменте нашего века. Пампасы гравитонного века — это венец предшествующей истории. Зритель должен почувствовать это. Он будет видеть на картине города-радуги и нетронутые луга, а слышать во всем этом песни древнего ветра, дующего из-за горизонта, и гул тысячелетий…
— Задумано здорово, — одобрил Иван. — Дело за картиной!
— Я ее как следует еще не вижу, — помолчав, проговорил Саня. — А главное — плохо слышу…
Ему не хотелось больше говорить о картине, и он поспешил переменить тему разговора.
После обеда Иван наблюдал, как действует «полевой филиал» студии Кольцова. По заданию учителя юные художники рисовали портрет Зины. Посмеиваясь над художниками, она смотрела на них, и выражение ее лица все время менялось. То оно было лукавым и насмешливым, то становилось серьезным. Девушка задумчиво смотрела в степь, грусть затуманивала ее глаза. Но грусть вдруг исчезла, и легкая улыбка вновь трогала губы. Вот и попробуй уловить отблески чувств и переливы настроений!
Художники хмурились и, вытирая пот со лба, поругивали Зину, говорили, что натурщица она никудышная. На это старый учитель с усмешкой возражал, что никудышных натурщиц не бывает, а бывают никудышные художники.
Понаблюдав немного за работой Сани, Иван решил прогуляться. Переходя вброд речку, заметил широкую излучину. Там величаво плавали гигантские птицы — «лебеди». Увидев человека, они дружно повернули головы в ожидании команды.
На другом берегу Иван выбрался из зарослей черемухи и зашагал в синие васильковые просторы. Шел долго, ни о чем не думая, прислушиваясь к шорохам трав и пению жаворонков. На одном из холмов оглянулся и увидел, что художники разбрелись кто куда.
Долго не мог Иван отыскать брата. Наконец далеко в стороне заметил его светловолосую голову. Саня шагал по траве навстречу ветру и, наверное размышлял над своей будущей картиной.
Ивана кольнула легкая зависть. Ему казалось, что Саня все дальше уходит от него, погружаясь в свою сладкую творческую жизнь, в мир прекрасного вымысла. Но тут же мысленно возразил: нет, милый братишка, сладенькой жизни не жди! Впереди у тебя радость и горе, взлеты и падения… Да и что такое счастье? Исполнение всех желаний? Нет, как ни парадоксально, но счастье — это и мука, постоянное недовольство собой и вечная тревога. И не будь этой тревоги — история человечества пришла бы к своему концу.
Иван накинул на нос пенсне-бинокуляр, чтобы разглядеть лицо брата. Саня шагал в степь, где пели птиц, где между облаков неугасимой радугой светился город. Он шел и улыбался. Его волосы развевались, под ногами колыхались и шелестели травы — древние и вечно юные травы… Сейчас Саня, наверное, слушал. Только слушал. И что-то далекое, радостное и мучительное теснило ему грудь, сжимало сердце — ветер тысячелетий пел в его ушах…
1
Слова академика Г.И. Наана. (Прим. авт.).
(обратно)
2
Слова академика Г. И. Наана. (
Прим. автора).
(обратно)
3
Стихи К. Бальмонта.
(обратно)
Оглавление
Семен Слепынин
ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА
Пришелец
Черная аннигиляция
Город Электронного Дьявола
Земля
Дым на горе
Кочующий аквагород
Парадокс странника
Снова Хабор
Встреча с друзьями
Царство Абсолюта
Незнакомка
На полюсах Земли и полюсах мироздания
Звездные берега
Поющие луга
Вместо эпилога
СЛЕПЫНИН С
ФАРСАНЫ
Семен Слепынин
Звездный странник
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Видения
ГЛАВА ВТОРАЯ
Черная аннигиляция
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пришелец
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Город Электронного Дьявола
ГЛАВА ПЯТАЯ
Земля…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Дым на горе
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Кочующий аквагород
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Парадокс Странника
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Гость из Вечности
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Встреча с друзьями
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Царство Сатаны
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Незнакомка
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
На полюсах Земли и полюсах Мироздания
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Поющие луга
Семен Слепынин
ПАЛОМНИКИ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Пролог
Часть первая
Часть вторая
Семен Слепынин
СФЕРА РАЗУМА
Соблазны
Страна изгнанников. Проверка
Пастушья свирель
Непобедимый дядя Абу
Сфера Разума
Случай с д’Артаньяном
Лебединое озеро
Ночные гости
Валькирии и викинги
Великий Гроссмейстер
Венок Аннабель Ли
Кто я?
Вместо эпилога
Семен Слепынин
МАЛЬЧИК ИЗ САВАННЫ
Ленивый Фао
Выход в ареал
Сан
Другое племя
Мальчик из саванны
Ностальгия
Побег
Саня
«Золотое кольцо»
После долгой разлуки
«Полонез»
Снова в саванне
Ветер тысячелетий
*** Примечания ***

 Семен Слепынин
ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА
Семен Слепынин
ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА
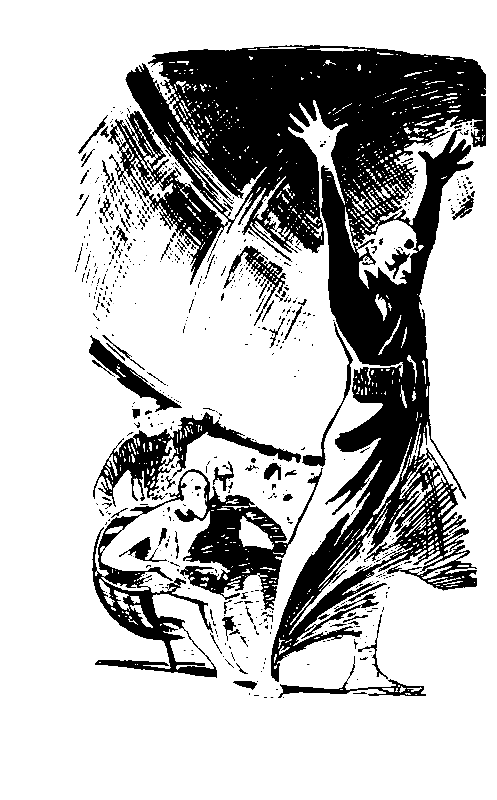
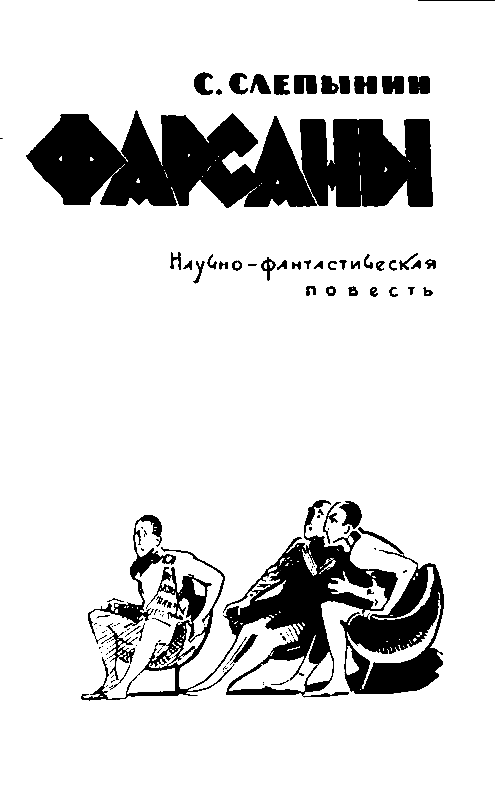
 Нет,я не прав! Сэнди-Ски хорошо памятен этот эпизод из нашей жизни на Зургане.Он сам тут же вспомнил о нем.Но вспомнил так,что я не почувствовал жаркого дыхания пустыни,как-то рассудочно… И нельзя сказать, что речь Сэнди-Ски была унылой и плоской,как та пустыня,о которой он говорил, сравнивая нашу обожженную солнцем планету с многоводной планетой Голубой.Его речь была по-прежнему сочна и метафорична.Но странное дело: все метафоры и живописные слова словно потускнели.Да,именно такое впечатление, как будто Сэнди-Ски не жил на Зургане.Он словно не впитывал всеми порами своего тела жарких лучей нашего буйного солнца,словно никогда не ощущал упоительной прохлады северных лесов…
Когда я подумал об этом, сидя за экраном внешней связи, я почувствовал вдруг какое-то смутное беспокойство,даже тревогу и невольно обернулся. Меня не удивило выражение жадного любопытства на лице Сэнди-Ски. Именно таким я и ожидал увидеть лицо моего друга в этот момент. Но его глаза! Не знаю почему, но я вздрогнул, взглянув в его глаза!…
Нет,я не прав! Сэнди-Ски хорошо памятен этот эпизод из нашей жизни на Зургане.Он сам тут же вспомнил о нем.Но вспомнил так,что я не почувствовал жаркого дыхания пустыни,как-то рассудочно… И нельзя сказать, что речь Сэнди-Ски была унылой и плоской,как та пустыня,о которой он говорил, сравнивая нашу обожженную солнцем планету с многоводной планетой Голубой.Его речь была по-прежнему сочна и метафорична.Но странное дело: все метафоры и живописные слова словно потускнели.Да,именно такое впечатление, как будто Сэнди-Ски не жил на Зургане.Он словно не впитывал всеми порами своего тела жарких лучей нашего буйного солнца,словно никогда не ощущал упоительной прохлады северных лесов…
Когда я подумал об этом, сидя за экраном внешней связи, я почувствовал вдруг какое-то смутное беспокойство,даже тревогу и невольно обернулся. Меня не удивило выражение жадного любопытства на лице Сэнди-Ски. Именно таким я и ожидал увидеть лицо моего друга в этот момент. Но его глаза! Не знаю почему, но я вздрогнул, взглянув в его глаза!…
 Али-Ан встал,вышел на середину каюты и с минуту молчал,собираясь с мыслями.Я уважаю этого поразительно хладнокровного пилота,умного и волевого. Высокий и стройный,он был бы красив, если бы не сухое и несколько надменное выражение лица.В противоположность Лари-Ла и Сэнди-Ски, он постоянно строг и серьезен.Лишь изредка на его бледных губах появляется тонкая улыбка,острая, как клинок.И вообще Али-Ан холоден и логичен,как учебник геометрии. Никаких эксцентричностей, никаких причуд,как у Сэнди-Ски.Но и взлетов никаких. «Под таких,как Али-Ан,очень легко и с большим совершенством подделываются молодчики Вир-Виана»,- подумалось мне. Но я постарался отогнать эту вздорную мысль.
— Сегодняшний день,-начал Али-Ан,-самый знаменательный, переломный в нашей экспедиции.Мы произвели торможение на дальних подступах к планетной системе — цели нашего полета.Все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Механизмы и приборы в полной исправности. До орбиты самой близкой к нам планеты осталось около десяти дней полета на межпланетной скорости. Начинаем готовиться к посадке на планету.А на какую планету- об этом полезно выслушать мнение планетолога Сэнди-Ски.
Вот и все. Али-Ан, как всегда, краток и точен.
Сэнди-Ски встал и начал крупными шагами ходить по кают-компании. Я посмотрел на его горящие вдохновением глаза,на его оживленное лицо — и мне стало стыдно за свою мнительность.
— Нам повезло,-остановившись, заговорил Сэнди-Ски.- Чертовски повезло. Я просто не ожидал,что мы найдем здесь такую необычайно сложную и богатую систему.Вокруг центрального светила вращаются девять планет.Девять!И у многих- спутники.
Жестикулируя,Сэнди-Ски кратко,но живописно охарактеризовал каждую планету. Он еще больше оживился,когда стал под конец рассказывать о жемчужине системы — о планете Голубой.
Я с любопытством взглянул на нашего биолога и врача Лари-Ла. Как он воспримет весть о богатой биосфере Голубой?
Добродушный толстяк Лари-Ла обычно не сидел, а полулежал в свободной, ленивой позе.Но сейчас он, упираясь руками в подлокотники глубокого кресла, привстал и с живейшим интересом слушал планетолога.
— Что? — прошептал он. — Зеленая растительность? Органическая жизнь?
Он вскочил и начал кружиться вокруг Сэнди-Ски.
— Это же здорово!- восклицал Лари-Ла, размахивая руками. Хлопнув по плечу Сэнди-Ски,он сказал:- Ну, дружище, ты меня обрадовал. Наконец-то я займусь настоящей работой. Как я устал от безделья!
Лари-Ла и в самом деле изнывал от безделья.На корабле никто не болел.И ему никак не удавалось обогатить медицинскую науку открытием новых, космических болезней.Особой склонности к теоретической работе он не имел и все дни только и делал,что писал у себя в каюте своеобразный юмористический дневник, напичканный разными анекдотами и происшествиями. Мы иногда смеялись над тем, что к моменту возвращения на Зургану у нас будет не только серьезный, академический бортовой журнал,записываемый в памяти главного электронного мозга, но и дневник Лари-Ла, рисующий нашу экспедицию в весьма своеобразном освещении.
— Однажды от безделья,-заговорил Лари-Ла,когда Сэнди-Ски сел в кресло,- я превратился знаете в кого?В колдуна!Да-да!Не удивляйтесь:в древнего колдуна. Это было, конечно, на Зургане.Я работал одно время врачом в археологической экспедиции. Археологи- неприлично здоровый народ, и меня томила скука. От одного из археологов я узнал,как выглядели и чем занимались древние колдуны. И вот я решил напугать археологов,сыграть с этими здоровяками злую шутку. Однажды ночью археологи сидели около костра.Я же в это время, спрятавшись в кустах, наспех переодевался и гримировался.Вы только представьте себе такую картину: темная ночь, тревожный шум кустов, первобытный костер и разговоры о древних суевериях и прочей чертовщине.И вдруг перед археологами из-за кустов появился самый настоящий колдун- в живописном костюме, с густой и длинной, до колен,бородой и с нелепыми телодвижениями.Вы бы только посмотрели — эффект был поразительный!
И Лари-Ла показал нам, как он изображал перед оторопевшими археологами колдуна Лари-Ла обладал незаурядным актерским талантом, и все мы смеялись от души.Его артистическому успеху способствовал сегодняшний костюм.Он, единственный у нас,зачастую нарушал форму астронавта. Мы все носили простые, крепкие и удобные комбинезоны. А Лари-Ла питал пристрастие к праздничной одежде,иногда крикливой и сверхмодной.Сегодня вечером, как нарочно, он был в живописном, экстравагантно красочном костюме, сильно смахивавшем на одеяние древних колдунов.
— А вот еще один случай…
Но в это время снова раздался трехкратный звон, и все жилые помещения корабля наполнились звуками ночной мелодии. Это своеобразная музыка, ласковая и усыпляющая. В ней слышатся звуки ночной природы: и шелест травы, и легкий перезвон листвы, и мягкое шуршание морского прибоя.
Лари-Ла больше уже ничего не рассказал. Он строг и придирчив, когда дело касается режима.
— Об этом случае завтра,- сказал он.
Все разошлись по каютам. Лишь молодой штурман Тари-Тау остался дежурить у пульта управления.
Вечер в кают-компании мне понравился. Смешно, что у меня возникли какие-то нелепые подозрения. И все же… Все же мне почему-то грустно и немножко не по себе. Почему- и сам не знаю.
Звуки ночной мелодии становятся все нежней и нежней. Невольно слипаются глаза. С завтрашнего дня буду вести дневник систематически. А сейчас спать.
Али-Ан встал,вышел на середину каюты и с минуту молчал,собираясь с мыслями.Я уважаю этого поразительно хладнокровного пилота,умного и волевого. Высокий и стройный,он был бы красив, если бы не сухое и несколько надменное выражение лица.В противоположность Лари-Ла и Сэнди-Ски, он постоянно строг и серьезен.Лишь изредка на его бледных губах появляется тонкая улыбка,острая, как клинок.И вообще Али-Ан холоден и логичен,как учебник геометрии. Никаких эксцентричностей, никаких причуд,как у Сэнди-Ски.Но и взлетов никаких. «Под таких,как Али-Ан,очень легко и с большим совершенством подделываются молодчики Вир-Виана»,- подумалось мне. Но я постарался отогнать эту вздорную мысль.
— Сегодняшний день,-начал Али-Ан,-самый знаменательный, переломный в нашей экспедиции.Мы произвели торможение на дальних подступах к планетной системе — цели нашего полета.Все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Механизмы и приборы в полной исправности. До орбиты самой близкой к нам планеты осталось около десяти дней полета на межпланетной скорости. Начинаем готовиться к посадке на планету.А на какую планету- об этом полезно выслушать мнение планетолога Сэнди-Ски.
Вот и все. Али-Ан, как всегда, краток и точен.
Сэнди-Ски встал и начал крупными шагами ходить по кают-компании. Я посмотрел на его горящие вдохновением глаза,на его оживленное лицо — и мне стало стыдно за свою мнительность.
— Нам повезло,-остановившись, заговорил Сэнди-Ски.- Чертовски повезло. Я просто не ожидал,что мы найдем здесь такую необычайно сложную и богатую систему.Вокруг центрального светила вращаются девять планет.Девять!И у многих- спутники.
Жестикулируя,Сэнди-Ски кратко,но живописно охарактеризовал каждую планету. Он еще больше оживился,когда стал под конец рассказывать о жемчужине системы — о планете Голубой.
Я с любопытством взглянул на нашего биолога и врача Лари-Ла. Как он воспримет весть о богатой биосфере Голубой?
Добродушный толстяк Лари-Ла обычно не сидел, а полулежал в свободной, ленивой позе.Но сейчас он, упираясь руками в подлокотники глубокого кресла, привстал и с живейшим интересом слушал планетолога.
— Что? — прошептал он. — Зеленая растительность? Органическая жизнь?
Он вскочил и начал кружиться вокруг Сэнди-Ски.
— Это же здорово!- восклицал Лари-Ла, размахивая руками. Хлопнув по плечу Сэнди-Ски,он сказал:- Ну, дружище, ты меня обрадовал. Наконец-то я займусь настоящей работой. Как я устал от безделья!
Лари-Ла и в самом деле изнывал от безделья.На корабле никто не болел.И ему никак не удавалось обогатить медицинскую науку открытием новых, космических болезней.Особой склонности к теоретической работе он не имел и все дни только и делал,что писал у себя в каюте своеобразный юмористический дневник, напичканный разными анекдотами и происшествиями. Мы иногда смеялись над тем, что к моменту возвращения на Зургану у нас будет не только серьезный, академический бортовой журнал,записываемый в памяти главного электронного мозга, но и дневник Лари-Ла, рисующий нашу экспедицию в весьма своеобразном освещении.
— Однажды от безделья,-заговорил Лари-Ла,когда Сэнди-Ски сел в кресло,- я превратился знаете в кого?В колдуна!Да-да!Не удивляйтесь:в древнего колдуна. Это было, конечно, на Зургане.Я работал одно время врачом в археологической экспедиции. Археологи- неприлично здоровый народ, и меня томила скука. От одного из археологов я узнал,как выглядели и чем занимались древние колдуны. И вот я решил напугать археологов,сыграть с этими здоровяками злую шутку. Однажды ночью археологи сидели около костра.Я же в это время, спрятавшись в кустах, наспех переодевался и гримировался.Вы только представьте себе такую картину: темная ночь, тревожный шум кустов, первобытный костер и разговоры о древних суевериях и прочей чертовщине.И вдруг перед археологами из-за кустов появился самый настоящий колдун- в живописном костюме, с густой и длинной, до колен,бородой и с нелепыми телодвижениями.Вы бы только посмотрели — эффект был поразительный!
И Лари-Ла показал нам, как он изображал перед оторопевшими археологами колдуна Лари-Ла обладал незаурядным актерским талантом, и все мы смеялись от души.Его артистическому успеху способствовал сегодняшний костюм.Он, единственный у нас,зачастую нарушал форму астронавта. Мы все носили простые, крепкие и удобные комбинезоны. А Лари-Ла питал пристрастие к праздничной одежде,иногда крикливой и сверхмодной.Сегодня вечером, как нарочно, он был в живописном, экстравагантно красочном костюме, сильно смахивавшем на одеяние древних колдунов.
— А вот еще один случай…
Но в это время снова раздался трехкратный звон, и все жилые помещения корабля наполнились звуками ночной мелодии. Это своеобразная музыка, ласковая и усыпляющая. В ней слышатся звуки ночной природы: и шелест травы, и легкий перезвон листвы, и мягкое шуршание морского прибоя.
Лари-Ла больше уже ничего не рассказал. Он строг и придирчив, когда дело касается режима.
— Об этом случае завтра,- сказал он.
Все разошлись по каютам. Лишь молодой штурман Тари-Тау остался дежурить у пульта управления.
Вечер в кают-компании мне понравился. Смешно, что у меня возникли какие-то нелепые подозрения. И все же… Все же мне почему-то грустно и немножко не по себе. Почему- и сам не знаю.
Звуки ночной мелодии становятся все нежней и нежней. Невольно слипаются глаза. С завтрашнего дня буду вести дневник систематически. А сейчас спать.
 — Конечно,читай!- воскликнул Сэнди-Ски,с любопытством глядя на Тари-Тау. — Читай! Мы слушаем.
Лари-Ла снисходительно согласился послушать, как он выразился, «убаюкивающие» стихи. Чтение таких стихов перед сном он тоже находил полезным делом.
— Конечно,читай!- воскликнул Сэнди-Ски,с любопытством глядя на Тари-Тау. — Читай! Мы слушаем.
Лари-Ла снисходительно согласился послушать, как он выразился, «убаюкивающие» стихи. Чтение таких стихов перед сном он тоже находил полезным делом.
 Мы давно знали,что Тари-Тау,этот не очень общительный, углубленный в себя юноша, пишет стихи. Но никто из нас их ни разу не слышал.
Штурман вышел на середину кают-компании и сначала робко,а потом все более уверенно стал читать стихи.
Мы были буквально ошеломлены,ничего подобного никто не ожидал.Стены корабля словно раздвинулись, и мы почувствовали безграничный Космос, его ледяное и манящее дыхание… Стихи таили в себе глубокую философию.
Сэнди-Ски не выдержал и бросился обнимать поэта. Даже Али-Ан,холодный и рассудочный Али-Ан, горячо и искренне поздравил Тари-Тау.
Сейчас, сидя у себя в каюте за клавишным столиком и вспоминая этот вечер, я испытываю хорошую зависть. Да, я завидую этому мечтательному юноше, почти мальчику.Я тоже иногда пишу стихи.Но какое это убожество по сравнению с поэзией Тари-Тау! Ну что ж, придется примириться с тем, что я всего лишь астронавт и ученый. Великую, сказочную радость художественного творчества я всегда считал привилегией редких счастливцев. Таким счастливцем оказался Тари-Тау. Я рад за него.
Прекрасный, незабываемый день пережил я сегодня, начиная с солнечного утра в кабине утренней свежести и кончая вечером. Правда, на минуту я поддался какому-то нелепому страху и тревоге. Но быстро взял себя в руки. А вечер в кают-компании окончательно развеял сомнения.
Мы давно знали,что Тари-Тау,этот не очень общительный, углубленный в себя юноша, пишет стихи. Но никто из нас их ни разу не слышал.
Штурман вышел на середину кают-компании и сначала робко,а потом все более уверенно стал читать стихи.
Мы были буквально ошеломлены,ничего подобного никто не ожидал.Стены корабля словно раздвинулись, и мы почувствовали безграничный Космос, его ледяное и манящее дыхание… Стихи таили в себе глубокую философию.
Сэнди-Ски не выдержал и бросился обнимать поэта. Даже Али-Ан,холодный и рассудочный Али-Ан, горячо и искренне поздравил Тари-Тау.
Сейчас, сидя у себя в каюте за клавишным столиком и вспоминая этот вечер, я испытываю хорошую зависть. Да, я завидую этому мечтательному юноше, почти мальчику.Я тоже иногда пишу стихи.Но какое это убожество по сравнению с поэзией Тари-Тау! Ну что ж, придется примириться с тем, что я всего лишь астронавт и ученый. Великую, сказочную радость художественного творчества я всегда считал привилегией редких счастливцев. Таким счастливцем оказался Тари-Тау. Я рад за него.
Прекрасный, незабываемый день пережил я сегодня, начиная с солнечного утра в кабине утренней свежести и кончая вечером. Правда, на минуту я поддался какому-то нелепому страху и тревоге. Но быстро взял себя в руки. А вечер в кают-компании окончательно развеял сомнения.
 Мой планетолет,задрав в фиолетовое небо тускло поблескивающий нос,стоял на ровной площадке небольшого космодрома. В раскрытую пасть грузового отсека поселенцы затаскивали слитки.Дело продвигалось медленно:подъемные механизмы на этой насквозь прохваченной космическим холодом планете часто выходили из строя.
Около рабочих суетился начальник нашей экспедиции Данго-Дан,нерешительный, слабовольный и ворчливый пожилой человек.
— Не мешало бы побыстрее,ребята,- уговаривал он их.
В это время я, разминаясь после долгого сидения за пультом управления, с удовольствием бродил по льдистому берегу речки.Вместо воды здесь,дымясь, текла жидкая углекислота. Долго стоял около памятника Тутусу — первому астронавту из сулаков,погибшему здесь при посадке. В его честь и названа эта морозная планета.
Когда планетолет был загружен, Данго-Дан направился ко мне, и я услышал в наушниках его голос:
— Тонри-Ро!Хорошо,если бы ты,Тонри, поторопился.Строители транспланетной ждут материалы.
Весил я на этой планете раз в пять меньше,чем на Зургане.Поэтому быстро, в два-три приема, поднялся на площадку верхнего люка и стал ждать, когда неповоротливый Данго-Дан взберется ко мне.
Сняв скафандры,мы разместились в тесной каюте грузового планетолета.Я — у щита управления,Данго-Дан- сзади.
Планетолет легко оторвался от космодрома и быстро набрал скорость. Трасса Зургана-Тутус- была спокойной:ни метеоритов, ни комет. Я переключил планетолет на автоматическое управление и стал мечтать о первой межзвездной экспедиции, которая была приурочена к столетию Эры Братства Полюсов. Меня могли зачислить в экипаж звездолета.Ведь я ученый-астрофизик и второй пилот после Нанди-Нана.Я согласен быть на корабле кем угодно,хоть третьим,запасным пилотом. Возглавит экспедицию, конечно, Нанди-Нан.
Погруженный в мечты о межзвездной экспедиции,я чуть не упустил момент, когда надо было переходить на ручное управление.Почти весь экран локатора занимала Зургана- огромный полосатый шар. На полюсах находились благоустроенные космодромы.Оттуда металл на грузовых гелиопланах доставляли строителям.
— По-моему,сегодня лучше садиться на южный космодром.Оттуда ближе к дороге,- сказал Данго-Дан.
Но у меня появилась дерзкая мысль — совершить посадку в пустыне, прямо на пески, совсем близко от строительства.
Планетолет вошел в атмосферу и стал приближаться к пустыне. На экране возникли желтые волны песчаных барханов.
— Что ты делаешь?- забеспокоился Данго-Дан.- Не видишь разве, где космодром?
— Строители транспланетной ждут материалы,- повторил я его же слова.
— Не надо было этого делать,- умоляюще проговорил Данго-Дан, — разобьешь планетолет.
— Не бойтесь. Самое большее — слегка деформирую опоры.
— Не позволю своевольничать!- вдруг закричал он. В его голосе слышалось отчаяние.
Мне стало жаль его,но было уже поздно.Двигатели перешли на режим торможения.На экране замелькали барханы и многочисленные извилистые трещины. Их надо опасаться больше всего. Для посадки я выбрал самый пологий и мягкий бархан.Планетолет должен сесть на него, как на подушку. Нужен безошибочный расчет,чутье,вдохновение пилота, чтобы точно посадить планетолет в необычных условиях. И мои руки замелькали на щите управления среди многочисленных кнопок и верньеров.
Наконец опоры мягко вонзились в песок бархана.Двигатели заглохли. Планетолет слегка накренился, но по аварийным огонькам щита управления я видел, что даже опоры в полной исправности. Я ликовал.
Едва мы вышли на площадку верхнего люка, как на нас с визгом обрушился песчаный шквал. Данго-Дан встал сзади и,прикрывая глаза от пыли, с облегчением вздохнул:
— Повезло тебе, Тонри, с посадкой.
— Это не просто везение…
Но тут я заснул.Таблетка приятных сновидений, наконец, подействовала. Вернее, не заснул, а провалился в сон, как в яму. Заснул мгновенно и крепко.
Первое, что ощутил во сне,это песок. Он набивался в уши, в ноздри, противно хрустел на зубах. А сзади услышал облегченный вздох Данго-Дана:
— Повезло тебе, Тонри,с посадкой.
— Это не просто везение,а точный расчет,-несколько самоуверенно ответил я.
Спускаясь вниз, мы чувствовали жаркое дыхание пустыни. От раскаленных песков поднимался горячий воздух, сверху немилосердно-жгучим потоком лились солнечные лучи.Но песчаный шквал, к счастью, затих.
Мы увидели группу людей в серебристых комбинезонах. Они махали нам руками.
— Приглашают нас под купол дороги.Там прохладно, — пояснил Данго-Дан. — Идем туда.
Как я ни всматривался, никакого купола не видел. Заметив мое недоумение, Данго-Дан рассмеялся:
— Его и не увидишь. Он прозрачен, как воздух, — в словах Данго-Дана чувствовалась гордость энтузиаста транспланетной магистрали.
— Видишь вон там,- он показал рукой,-матово-белую полосу,прямую,как стрела?Это и есть основание дороги.Над ним прозрачный купол — тоннель из стеклозона.Вернее,два купола:внешний и внутренний. Когда дорога протянется от полюса к полюсу, из внутреннего купола выкачают воздух.В вакууме по белой гладкой полосе с огромной скоростью помчатся в электромагнитных полях скользящие поезда.
— Дешевле было бы обойтись воздушным транспортом.
Это замечание рассердило Данго-Дана.
— А пустыня?- недовольно спросил он.- Пустыня пусть,по-твоему, так и остается? Дорога- не только средство сообщения полюсов.Она нужна как первый этап для наступления на пустыню. Видишь по краям большие вогнутые чаши?
— Это верно,гелиостанции?- спросил я,вытирая пот с лица.Данго-Дан почти в три раза старше меня, но он не страдал от жары и шагал по раскаленным пескам довольно легко. «Привык он, что ли?» — с завистью думал я.
— Да, это гелиостанции. Для них-то мы и привезли редкие металлы. Гелиостанции превращают лучистую энергию жаркого экваториального светила в электрическую.А энергия нужна для синтеза воды и холодильных устройств. Вдоль дороги скоро зазеленеют сады и парки,появятся жилые дома. Это будет не просто дорога, а дорога-оазис.
Данго-Дан говорил, все более воодушевляясь. Я всегда любил слушать энтузиастов своего дела.Но сейчас изнемогал от жары, поэтому почувствовал большое облегчение,когда мы вошли под купол дороги. Здесь и в самом деле было прохладно.
— Стеклозон,- с восхищением проговорил Данго-Дан,постучав по куполу. — Он не пропускает жаркие инфракрасные лучи. Потому здесь и прохладно.
— Наши дома ведь тоже строятся из стеклозона?
— Из вспененного стеклозона,- поправил он.- Наши дома- это легкая пена стеклозона,на девяносто процентов состоящего из воздуха,вернее- из воздушных пузырьков. Кроме того, туда добавляются красящие вещества: голубые, зеленые, пепельно-серые.Но купол дороги делается из чистого и монолитного стеклозона. Эта дорога просуществует тысячелетия,и никакие песчаные бури не нанесут куполу ни малейших царапин… Я ведь специалист по стеклозону,-продолжал он. — И зачем я согласился стать начальником экспедиции на Тутус? Но нам так нужен был металл. Теперь откажусь от этого. Стеклозон! Перспективный строительный материал! Культура стекла- самая древняя. На нашей песчаной планете человек научился варить стекло раньше, чем металл. А стеклозон — это высшая ступень производства стекла.В сущности, это не стекло. Какое же это стекло, если оно прочнее всех металлов? Архитектурные и скульптурные ансамбли из стеклозона нетленны…
Данго-Дан разошелся.Он бы еще долго говорил,если бы ему не помешали.К нам подъехал большой гусеничный вездеход.Такие вездеходы,с кухней, душем и прочими удобствами,заменяют кочевникам-строителям жилые и служебные помещения.
Из кабины выскочила загоревшая почти до черноты девушка и крикнула нам:
— Вас вызывают к экрану всепланетной связи!- Подойдя ближе, она спросила:
— У вас авария? Или горючего не хватило?
— Какая там авария,-проворчал Данго-Дан.- Мальчишке захотелось отличиться — вот и все.
Девушка с любопытством посмотрела в мою сторону. Она узнала меня: изображения астронавтов часто показывают на экране всепланетной связи.
Я не заметил восхищения своим поступком. Более того, на ее губах дрогнула ироническая улыбка, когда она сказала:
— Вам предстоит, видимо, крупный разговор с самим председателем Совета Астронавтики. Нанди-Нан ждет вас обоих у экрана.
— Идем, Тонри, — вздохнул Данго-Дан.
— Идите один. Вы же начальник экспедиции.
Мне было неудобно перед Нанди-Наном за нарушение строгих правил космической навигации.Только сейчас я начал осознавать глупость своего лихачества.
Вздохнув еще раз, Данго-Дан нерешительно направился к вездеходу.
Вернулся он сияющий.
— Все в порядке,я уже не начальник экспедиции,-радостно объявил он.-Нанди- Нан больше всего расспрашивал о тебе.Он ждет тебя в Совете Астронавтики, хочет лично побеседовать.
Настроение у меня совсем упало. Я вышел из прохладного купола в опаляющий зной пустыни.
Подошел к одноместному гелиоплану и с удовольствием положил руки на его приятно-холодноватый корпус.Покрытые полупроводником корпус и крылья не накалялись и не отражали тепло. Наоборот, они почти без остатка поглощали лучистую энергию и превращали ее в электрическую. На этой даровой энергии гелиоплан летал по воздуху, раскинув свои широкие крылья.
Одной ногой я уже забрался в кабину,но кибернетический пилот, вмонтированный в пульт управления, бесстрастным голосом доложил:
— Энергии всего на пятьдесят лиг.
Это означало,что гелиоплан после недавнего полета не успел накопить в аккумуляторах достаточно энергии. Пришлось снова идти по горячим пескам. К счастью,одноместных гелиопланов было много. Киберпилот соседней машины металлически отчеканил:
— Энергии на тысячу лиг.
«С избытком хватит», — думал я, усаживаясь в мягкое кресло. Прозрачный колпак кабины захлопнулся.
— Куда? — спросил киберпилот.
— В Совет Астронавтики, — ответил я. Меня так разморило, что не хотелось самому вести машину. Доверился автомату, чего я вообще-то не любил.
Гелиоплан легко и бесшумно взлетел и, набирая высоту, взял направление на Северный полюс. На большой высоте воздух был прохладней, и мне захотелось впустить в кабину струю свежего ветра. На мою попытку открыть колпак киберпилот предупредил:
— Сейчас не рекомендуется этого делать. Разогревшись в пустыне, вы можете простудиться.
— Подумаешь, какая забота, — с неудовольствием проговорил я.
Но автомат был прав, и я не стал открывать колпак. Не хватало еще, чтобы к Нанди-Нану явился законченный космический разбойник с осипшим голосом.
Через два часа внизу зазеленели поля, сады и парки Северного полюса, заискрились реки и водоемы. Вдали, среди высоких раскидистых гелиодендронов и вечноцветущих кустов, засверкали купола и шпили Зурганоры — столицы Зурганы.
Гелиоплан пошел на снижение и вскоре плавно приземлился около Дворца астронавтов- величественного голубого здания,всеми своими легкими,воздушными линиями устремленного ввысь. Архитектор придал ему форму звездолета, каким представляли его себе писатели и художники-фантасты. Дворец, напоминающий космический корабль в момент старта, хорошо отражает мечту человечества о звездных полетах.
Во Дворце я узнал, что Нанди-Нан находится в галактическом зале. Я вошел в зал и словно очутился в Космосе. В темноте сверкала мириадами звезд наша Галактика. На фоне светлой туманности вырисовывался четкий профиль Нанди-Нана.
Вспыхнул свет,и зал приобрел обычный вид.Нанди-Нан направился к клавишному столику, чтобы сделать какую-то запись. Нанди-Нан, как и Данго-Дан, давно перешагнул за средний возраст.Но какая разница! В противоположность располневшему и нерешительному Данго Дану,Нанди-Нан сухощав,строен,энергичен в движениях.
— Ага, лихач! — засмеялся он, увидев меня. — Космический авантюрист!
Я с облегчением заметил,что, несмотря на несмешливые слова, Нанди-Нан улыбался дружелюбно.
— Ну-ка, расскажи, как ты ухарски посадил в пустыне грузовой планетолет.
Не дослушав до конца, Нанди-Нан строго осведомился:
— Ты был уверен в успехе или рисковал?
— Абсолютно уверен.
— Я так и предполагал.Узнаю себя, когда я был таким же молодым. Все же ты нарушил правила навигации,и многие предполагали от имени Совета Астронавтики выразить тебе порицание. Но я отстоял тебя.
Помолчав немного, он внимательно посмотрел на меня и предложил:
— Давай сядем и поговорим.
Мы уселись в кресла друг против друга.
— Ты не догадываешься, зачем я тебя вызвал?
— Сейчас нет. До этого думал…
— Знаю,о чем ты думал.Но речь сейчас не о том. За время твоего отсутствия произошло несколько важных и,думаю,очень приятных для тебя событий. Начну с менее важного.Круг арханов рассмотрел твою работу по астрофизике и нашел ее хоть и незаконченной,но очень перспективной и оригинальной.Твои смелые поиски в области переменных звезд получили всеобщее признание,и Круг арханов избрал тебя членом Всепланетного Круга ученых.
— Если это менее важное событие, то что же дальше! — воскликнул я.
— А дальше то,что Круг арханов совместно с Советом Астронавтики определил состав будущей межзвездной экспедиции.
— И я назначен вторым пилотом?.- от волнения я даже привстал с кресла.
— Ты назначен первым пилотом, капитаном корабля, начальником экспедиции.
Я был до того ошеломлен, что долго не мог вымолвить ни слова.
— А как же… А как же вы?- наконец спросил я.
— Я слишком стар.То есть не то, чтобы очень уж стар.Летать еще могу и буду летать в пределах системы.Но для межзвездной экспедиции не гожусь. Она продлится много лет,и нужны самые молодые. На Зургану должны вернуться не дряхлые старики,а люди в зрелом, цветущем возрасте.
— Ну, и чтобы окончательно добить тебя,- усмехнулся Нанди-Нан,- скажу еще одно: в экспедицию зачислен твой друг планетолог Сэнди-Ски.
Это было уже слишком для одного дня. Я буквально онемел от счастья.
— Вижу, что на сегодня хватит,-засмеялся Нанди-Нан и, положив руку на мое плечо, добавил: — Рад за тебя. Обо всем подробней поговорим в следующий раз. А сейчас иди отдыхать.
Я вышел из Дворца Астронавтов и бросился к гелиоплану.Но его не оказалось на месте. Кто-то уже улетел на нем. Однако я быстро нашел другую машину.
— Куда? — спросил киберпилот, едва я уселся в кабине.
— Домой! — воскликнул я.
— Где ваш дом?- сухо и,как мне показалось,недружелюбно спросил киберпилот. Можно было показать на карте щита управления точку, где надо совершить посадку. Но я всегда недолюбливал автоматику, слишком уж подделывающуюся под человека. К тому же от переполнявшего меня счастья хотелось двигаться, что-то делать.Я отключил киберпилота и взялся за штурвал.
Поднявшись в небо, я сделал круг над Зурганорой. Прекрасные голубые арки, серые, под цвет гранита, набережные и лестницы, разноцветные, но простые и удобные жилые дома- все сделано из пеностеклозона,о котором с таким увлечением рассказывал Данго-Дан,из материала,который прочнее стали и легок, как кружева.А дворцы!Создавая их, архитекторы вложили все свое мастерство и вдохновение.Каждый дворец — это оригинальное, неповторимое произведение искусства.
Я любил Зурганору…
Повернув штурвал,я направил гелиоплан домой, вдоль темной ленты гелиодороги.Дорога эта, как и корпус гелиоплана, покрыта полупроводниковым слоем, жадно впитывающим лучи, льющиеся сверху мощным золотым потоком. На гелиодороге я заметил под тентами людей. Странные люди! Видимо, они не очень спешили, если пользовались дорогой, движущейся не быстрее бегуна. Я всегда предпочитал более современные способы передвижения:гелиопланы и ракетопланы.
Поднявшись выше, я открыл верх кабины и полетел с максимальной скоростью, опьяняющей и захватывающей дух.
Внизу проносились поля, сельскохозяйственные постройки, плодоносные сады и заводы со светлыми, как оранжереи, цехами. А вот большая огороженная и тщательно охраняемая территория самой мощной на планете аннигиляционной энергостанции.На меня она производит гнетущее впечатление.Видимо,потому,что там во время опасного эксперимента погиб мой отец. Сверху я видел отдельные неземные сооружения энергостанции.Там,глубоко под землей, стоит несмолкаемый грозный шум гигантских турбин.
Показалась Тиара- город, в котором я живу.Тиара — это скорее не город, а буйно зеленеющий парк с редкими вкраплениями многоцветных домов и дворцов. Я посадил машину около моего дома на открытой,незатененной площадке, где гелиоплан мог бы накапливать солнечную энергию.В саду собирал плоды покорный и неутомимый кибернетический слуга, похожий на вертикально поставленного огромного муравья.
— Гок!- позвал я его.
Гок проворно подбежал ко мне на своих гибких ногах-сочленениях.
— Где мама? — спросил я.
— На аннигиляционной энергостанции. Вернется не скоро.
Значит,снова под землей, на гигантской фабрике энергии. Работая в экспериментальном цехе, она старается заменить отца.
Я направился в свою комнату.Только сейчас я почувствовал усталость. Слипались глаза, хотелось спать.
Слуга послушно плелся сзади.Он вызывал во мне безотчетную неприязнь, словно живое существо. Мать же, наоборот, любила часами беседовать с ним.
Гок- последнее слово малой,так называемой, домашней кибернетики. По своей универсальности он не уступает огромным электронным «думающим» машинам, построенным по старинке- на полупроводниках.Его толстое муравьиное брюхо, до отказа напичканное миллионами микроэлементов,- бездонное хранилище знаний. Гок способен производить с молниеносной быстротой сложнейшие вычисления.Без него я запутался бы в черновых расчетах,и моя работа по астрофизике затянулась бы на десятки лет. Но- странное дело!- чем больше я нуждался в нем, тем неприятнее он мне становился.
В комнате было светло, как на улице. За прозрачными стенами гнулись под свежеющим ветром деревья. Скоро, видимо, будет дождь.
— А вчера мама была дома? — спросил я, раздеваясь.
— Да. Вчера мы вычисляли коэффициент аннигилируемой меди.
— Меди?
— Да, меди.Архан с Южного полюса Ронти-Рот и несколько ученых-северян выдвинули предположение, что медь с успехом можно использовать в наших аннигиляционных станциях. Я же считаю, что медь скоро вытеснит более дорогую ртуть и антиртуть.
И откуда только Гок знает все эти новости?Мне захотелось посадить в лужу этого тупицу-всезнайку.
— Вчера Круг арханов составил список членов межзвездной экспедиции,-сказал я.- Кого,по-твоему,назначили начальником экспедиции?Ну-ка,сообрази,пошевели своими железными мозгами.
— Конечно, Нанди-Нана.
— Вот ты и ошибся. Назначили меня.
— Не может быть. Потому что…
— Ну ладно, хватит! — прервал я его. — Хочу спать.
Слуга знал мою привычку спать под открытым небом.Он быстро проковылял к стене и нажал кнопку.Стены потемнели.Надо мной раскинулся купол искусственного темно-фиолетового неба,усыпанного огненной звездной пылью. Беззвучно заработали невидимые вентиляторы.Легкими порывами подул свежий ночной ветер.
Я повалился на постель и мгновенно заснул.Проснулся от шума,доносившегося со стороны экрана всепланетной связи. Не открывая глаз, я прислушался. Там происходила какая-то перебранка. «Кто мог быть на экране? — гадал я. — Сэнди-Ски! Ну конечно, он! Только он мог так сочно выражаться». Гок что-то пытался ему объяснить. На это вспыльчивый планетолог разразился градом проклятий.
Я слегка приоткрыл один глаз и увидел забавную сцену.На светящемся экране -сердитое лицо моего друга,его густые брови грозно хмурились.Перед экраном, облитый призрачным светом, стоял Гок и однообразно тянул:
— Он спит всего три часа. Не стану его будить.
— Молчи,дурак!- стараясь сдержаться, говорил Сэнди-Ски.- Он срочно нужен.
— Но поймите, он вернулся из межпланетного полета…
— Но-но, болван, железная побрякушка, ты еще учить меня вздумал!
Рассмеявшись,я вскочил, подбежал к экрану и оттолкнул Гока. Тот отлетел в сторону, едва удержав равновесие.
— Так его,хама,- злорадствовал Сэнди-Ски.- Эо, Тонри!
— Эо!- приветствовал я его.- В чем дело?
— Ты разве не знаешь? Сейчас загорится огонь над Шаровым Дворцом знаний. Я жду тебя у Дворца.
Огонь над Дворцом знаний означал,что там собрался Всепланетный Круг ученых, обсуждающих какую-нибудь важную проблему.
«Почему Нанди-Нан ничего не сказал об этом?-думал я.-Видимо,хотел,чтобы я хорошо отдохнул».
Я быстро оделся и выскочил на улицу.
Через час я был в Зурганоре.
Мой планетолет,задрав в фиолетовое небо тускло поблескивающий нос,стоял на ровной площадке небольшого космодрома. В раскрытую пасть грузового отсека поселенцы затаскивали слитки.Дело продвигалось медленно:подъемные механизмы на этой насквозь прохваченной космическим холодом планете часто выходили из строя.
Около рабочих суетился начальник нашей экспедиции Данго-Дан,нерешительный, слабовольный и ворчливый пожилой человек.
— Не мешало бы побыстрее,ребята,- уговаривал он их.
В это время я, разминаясь после долгого сидения за пультом управления, с удовольствием бродил по льдистому берегу речки.Вместо воды здесь,дымясь, текла жидкая углекислота. Долго стоял около памятника Тутусу — первому астронавту из сулаков,погибшему здесь при посадке. В его честь и названа эта морозная планета.
Когда планетолет был загружен, Данго-Дан направился ко мне, и я услышал в наушниках его голос:
— Тонри-Ро!Хорошо,если бы ты,Тонри, поторопился.Строители транспланетной ждут материалы.
Весил я на этой планете раз в пять меньше,чем на Зургане.Поэтому быстро, в два-три приема, поднялся на площадку верхнего люка и стал ждать, когда неповоротливый Данго-Дан взберется ко мне.
Сняв скафандры,мы разместились в тесной каюте грузового планетолета.Я — у щита управления,Данго-Дан- сзади.
Планетолет легко оторвался от космодрома и быстро набрал скорость. Трасса Зургана-Тутус- была спокойной:ни метеоритов, ни комет. Я переключил планетолет на автоматическое управление и стал мечтать о первой межзвездной экспедиции, которая была приурочена к столетию Эры Братства Полюсов. Меня могли зачислить в экипаж звездолета.Ведь я ученый-астрофизик и второй пилот после Нанди-Нана.Я согласен быть на корабле кем угодно,хоть третьим,запасным пилотом. Возглавит экспедицию, конечно, Нанди-Нан.
Погруженный в мечты о межзвездной экспедиции,я чуть не упустил момент, когда надо было переходить на ручное управление.Почти весь экран локатора занимала Зургана- огромный полосатый шар. На полюсах находились благоустроенные космодромы.Оттуда металл на грузовых гелиопланах доставляли строителям.
— По-моему,сегодня лучше садиться на южный космодром.Оттуда ближе к дороге,- сказал Данго-Дан.
Но у меня появилась дерзкая мысль — совершить посадку в пустыне, прямо на пески, совсем близко от строительства.
Планетолет вошел в атмосферу и стал приближаться к пустыне. На экране возникли желтые волны песчаных барханов.
— Что ты делаешь?- забеспокоился Данго-Дан.- Не видишь разве, где космодром?
— Строители транспланетной ждут материалы,- повторил я его же слова.
— Не надо было этого делать,- умоляюще проговорил Данго-Дан, — разобьешь планетолет.
— Не бойтесь. Самое большее — слегка деформирую опоры.
— Не позволю своевольничать!- вдруг закричал он. В его голосе слышалось отчаяние.
Мне стало жаль его,но было уже поздно.Двигатели перешли на режим торможения.На экране замелькали барханы и многочисленные извилистые трещины. Их надо опасаться больше всего. Для посадки я выбрал самый пологий и мягкий бархан.Планетолет должен сесть на него, как на подушку. Нужен безошибочный расчет,чутье,вдохновение пилота, чтобы точно посадить планетолет в необычных условиях. И мои руки замелькали на щите управления среди многочисленных кнопок и верньеров.
Наконец опоры мягко вонзились в песок бархана.Двигатели заглохли. Планетолет слегка накренился, но по аварийным огонькам щита управления я видел, что даже опоры в полной исправности. Я ликовал.
Едва мы вышли на площадку верхнего люка, как на нас с визгом обрушился песчаный шквал. Данго-Дан встал сзади и,прикрывая глаза от пыли, с облегчением вздохнул:
— Повезло тебе, Тонри, с посадкой.
— Это не просто везение…
Но тут я заснул.Таблетка приятных сновидений, наконец, подействовала. Вернее, не заснул, а провалился в сон, как в яму. Заснул мгновенно и крепко.
Первое, что ощутил во сне,это песок. Он набивался в уши, в ноздри, противно хрустел на зубах. А сзади услышал облегченный вздох Данго-Дана:
— Повезло тебе, Тонри,с посадкой.
— Это не просто везение,а точный расчет,-несколько самоуверенно ответил я.
Спускаясь вниз, мы чувствовали жаркое дыхание пустыни. От раскаленных песков поднимался горячий воздух, сверху немилосердно-жгучим потоком лились солнечные лучи.Но песчаный шквал, к счастью, затих.
Мы увидели группу людей в серебристых комбинезонах. Они махали нам руками.
— Приглашают нас под купол дороги.Там прохладно, — пояснил Данго-Дан. — Идем туда.
Как я ни всматривался, никакого купола не видел. Заметив мое недоумение, Данго-Дан рассмеялся:
— Его и не увидишь. Он прозрачен, как воздух, — в словах Данго-Дана чувствовалась гордость энтузиаста транспланетной магистрали.
— Видишь вон там,- он показал рукой,-матово-белую полосу,прямую,как стрела?Это и есть основание дороги.Над ним прозрачный купол — тоннель из стеклозона.Вернее,два купола:внешний и внутренний. Когда дорога протянется от полюса к полюсу, из внутреннего купола выкачают воздух.В вакууме по белой гладкой полосе с огромной скоростью помчатся в электромагнитных полях скользящие поезда.
— Дешевле было бы обойтись воздушным транспортом.
Это замечание рассердило Данго-Дана.
— А пустыня?- недовольно спросил он.- Пустыня пусть,по-твоему, так и остается? Дорога- не только средство сообщения полюсов.Она нужна как первый этап для наступления на пустыню. Видишь по краям большие вогнутые чаши?
— Это верно,гелиостанции?- спросил я,вытирая пот с лица.Данго-Дан почти в три раза старше меня, но он не страдал от жары и шагал по раскаленным пескам довольно легко. «Привык он, что ли?» — с завистью думал я.
— Да, это гелиостанции. Для них-то мы и привезли редкие металлы. Гелиостанции превращают лучистую энергию жаркого экваториального светила в электрическую.А энергия нужна для синтеза воды и холодильных устройств. Вдоль дороги скоро зазеленеют сады и парки,появятся жилые дома. Это будет не просто дорога, а дорога-оазис.
Данго-Дан говорил, все более воодушевляясь. Я всегда любил слушать энтузиастов своего дела.Но сейчас изнемогал от жары, поэтому почувствовал большое облегчение,когда мы вошли под купол дороги. Здесь и в самом деле было прохладно.
— Стеклозон,- с восхищением проговорил Данго-Дан,постучав по куполу. — Он не пропускает жаркие инфракрасные лучи. Потому здесь и прохладно.
— Наши дома ведь тоже строятся из стеклозона?
— Из вспененного стеклозона,- поправил он.- Наши дома- это легкая пена стеклозона,на девяносто процентов состоящего из воздуха,вернее- из воздушных пузырьков. Кроме того, туда добавляются красящие вещества: голубые, зеленые, пепельно-серые.Но купол дороги делается из чистого и монолитного стеклозона. Эта дорога просуществует тысячелетия,и никакие песчаные бури не нанесут куполу ни малейших царапин… Я ведь специалист по стеклозону,-продолжал он. — И зачем я согласился стать начальником экспедиции на Тутус? Но нам так нужен был металл. Теперь откажусь от этого. Стеклозон! Перспективный строительный материал! Культура стекла- самая древняя. На нашей песчаной планете человек научился варить стекло раньше, чем металл. А стеклозон — это высшая ступень производства стекла.В сущности, это не стекло. Какое же это стекло, если оно прочнее всех металлов? Архитектурные и скульптурные ансамбли из стеклозона нетленны…
Данго-Дан разошелся.Он бы еще долго говорил,если бы ему не помешали.К нам подъехал большой гусеничный вездеход.Такие вездеходы,с кухней, душем и прочими удобствами,заменяют кочевникам-строителям жилые и служебные помещения.
Из кабины выскочила загоревшая почти до черноты девушка и крикнула нам:
— Вас вызывают к экрану всепланетной связи!- Подойдя ближе, она спросила:
— У вас авария? Или горючего не хватило?
— Какая там авария,-проворчал Данго-Дан.- Мальчишке захотелось отличиться — вот и все.
Девушка с любопытством посмотрела в мою сторону. Она узнала меня: изображения астронавтов часто показывают на экране всепланетной связи.
Я не заметил восхищения своим поступком. Более того, на ее губах дрогнула ироническая улыбка, когда она сказала:
— Вам предстоит, видимо, крупный разговор с самим председателем Совета Астронавтики. Нанди-Нан ждет вас обоих у экрана.
— Идем, Тонри, — вздохнул Данго-Дан.
— Идите один. Вы же начальник экспедиции.
Мне было неудобно перед Нанди-Наном за нарушение строгих правил космической навигации.Только сейчас я начал осознавать глупость своего лихачества.
Вздохнув еще раз, Данго-Дан нерешительно направился к вездеходу.
Вернулся он сияющий.
— Все в порядке,я уже не начальник экспедиции,-радостно объявил он.-Нанди- Нан больше всего расспрашивал о тебе.Он ждет тебя в Совете Астронавтики, хочет лично побеседовать.
Настроение у меня совсем упало. Я вышел из прохладного купола в опаляющий зной пустыни.
Подошел к одноместному гелиоплану и с удовольствием положил руки на его приятно-холодноватый корпус.Покрытые полупроводником корпус и крылья не накалялись и не отражали тепло. Наоборот, они почти без остатка поглощали лучистую энергию и превращали ее в электрическую. На этой даровой энергии гелиоплан летал по воздуху, раскинув свои широкие крылья.
Одной ногой я уже забрался в кабину,но кибернетический пилот, вмонтированный в пульт управления, бесстрастным голосом доложил:
— Энергии всего на пятьдесят лиг.
Это означало,что гелиоплан после недавнего полета не успел накопить в аккумуляторах достаточно энергии. Пришлось снова идти по горячим пескам. К счастью,одноместных гелиопланов было много. Киберпилот соседней машины металлически отчеканил:
— Энергии на тысячу лиг.
«С избытком хватит», — думал я, усаживаясь в мягкое кресло. Прозрачный колпак кабины захлопнулся.
— Куда? — спросил киберпилот.
— В Совет Астронавтики, — ответил я. Меня так разморило, что не хотелось самому вести машину. Доверился автомату, чего я вообще-то не любил.
Гелиоплан легко и бесшумно взлетел и, набирая высоту, взял направление на Северный полюс. На большой высоте воздух был прохладней, и мне захотелось впустить в кабину струю свежего ветра. На мою попытку открыть колпак киберпилот предупредил:
— Сейчас не рекомендуется этого делать. Разогревшись в пустыне, вы можете простудиться.
— Подумаешь, какая забота, — с неудовольствием проговорил я.
Но автомат был прав, и я не стал открывать колпак. Не хватало еще, чтобы к Нанди-Нану явился законченный космический разбойник с осипшим голосом.
Через два часа внизу зазеленели поля, сады и парки Северного полюса, заискрились реки и водоемы. Вдали, среди высоких раскидистых гелиодендронов и вечноцветущих кустов, засверкали купола и шпили Зурганоры — столицы Зурганы.
Гелиоплан пошел на снижение и вскоре плавно приземлился около Дворца астронавтов- величественного голубого здания,всеми своими легкими,воздушными линиями устремленного ввысь. Архитектор придал ему форму звездолета, каким представляли его себе писатели и художники-фантасты. Дворец, напоминающий космический корабль в момент старта, хорошо отражает мечту человечества о звездных полетах.
Во Дворце я узнал, что Нанди-Нан находится в галактическом зале. Я вошел в зал и словно очутился в Космосе. В темноте сверкала мириадами звезд наша Галактика. На фоне светлой туманности вырисовывался четкий профиль Нанди-Нана.
Вспыхнул свет,и зал приобрел обычный вид.Нанди-Нан направился к клавишному столику, чтобы сделать какую-то запись. Нанди-Нан, как и Данго-Дан, давно перешагнул за средний возраст.Но какая разница! В противоположность располневшему и нерешительному Данго Дану,Нанди-Нан сухощав,строен,энергичен в движениях.
— Ага, лихач! — засмеялся он, увидев меня. — Космический авантюрист!
Я с облегчением заметил,что, несмотря на несмешливые слова, Нанди-Нан улыбался дружелюбно.
— Ну-ка, расскажи, как ты ухарски посадил в пустыне грузовой планетолет.
Не дослушав до конца, Нанди-Нан строго осведомился:
— Ты был уверен в успехе или рисковал?
— Абсолютно уверен.
— Я так и предполагал.Узнаю себя, когда я был таким же молодым. Все же ты нарушил правила навигации,и многие предполагали от имени Совета Астронавтики выразить тебе порицание. Но я отстоял тебя.
Помолчав немного, он внимательно посмотрел на меня и предложил:
— Давай сядем и поговорим.
Мы уселись в кресла друг против друга.
— Ты не догадываешься, зачем я тебя вызвал?
— Сейчас нет. До этого думал…
— Знаю,о чем ты думал.Но речь сейчас не о том. За время твоего отсутствия произошло несколько важных и,думаю,очень приятных для тебя событий. Начну с менее важного.Круг арханов рассмотрел твою работу по астрофизике и нашел ее хоть и незаконченной,но очень перспективной и оригинальной.Твои смелые поиски в области переменных звезд получили всеобщее признание,и Круг арханов избрал тебя членом Всепланетного Круга ученых.
— Если это менее важное событие, то что же дальше! — воскликнул я.
— А дальше то,что Круг арханов совместно с Советом Астронавтики определил состав будущей межзвездной экспедиции.
— И я назначен вторым пилотом?.- от волнения я даже привстал с кресла.
— Ты назначен первым пилотом, капитаном корабля, начальником экспедиции.
Я был до того ошеломлен, что долго не мог вымолвить ни слова.
— А как же… А как же вы?- наконец спросил я.
— Я слишком стар.То есть не то, чтобы очень уж стар.Летать еще могу и буду летать в пределах системы.Но для межзвездной экспедиции не гожусь. Она продлится много лет,и нужны самые молодые. На Зургану должны вернуться не дряхлые старики,а люди в зрелом, цветущем возрасте.
— Ну, и чтобы окончательно добить тебя,- усмехнулся Нанди-Нан,- скажу еще одно: в экспедицию зачислен твой друг планетолог Сэнди-Ски.
Это было уже слишком для одного дня. Я буквально онемел от счастья.
— Вижу, что на сегодня хватит,-засмеялся Нанди-Нан и, положив руку на мое плечо, добавил: — Рад за тебя. Обо всем подробней поговорим в следующий раз. А сейчас иди отдыхать.
Я вышел из Дворца Астронавтов и бросился к гелиоплану.Но его не оказалось на месте. Кто-то уже улетел на нем. Однако я быстро нашел другую машину.
— Куда? — спросил киберпилот, едва я уселся в кабине.
— Домой! — воскликнул я.
— Где ваш дом?- сухо и,как мне показалось,недружелюбно спросил киберпилот. Можно было показать на карте щита управления точку, где надо совершить посадку. Но я всегда недолюбливал автоматику, слишком уж подделывающуюся под человека. К тому же от переполнявшего меня счастья хотелось двигаться, что-то делать.Я отключил киберпилота и взялся за штурвал.
Поднявшись в небо, я сделал круг над Зурганорой. Прекрасные голубые арки, серые, под цвет гранита, набережные и лестницы, разноцветные, но простые и удобные жилые дома- все сделано из пеностеклозона,о котором с таким увлечением рассказывал Данго-Дан,из материала,который прочнее стали и легок, как кружева.А дворцы!Создавая их, архитекторы вложили все свое мастерство и вдохновение.Каждый дворец — это оригинальное, неповторимое произведение искусства.
Я любил Зурганору…
Повернув штурвал,я направил гелиоплан домой, вдоль темной ленты гелиодороги.Дорога эта, как и корпус гелиоплана, покрыта полупроводниковым слоем, жадно впитывающим лучи, льющиеся сверху мощным золотым потоком. На гелиодороге я заметил под тентами людей. Странные люди! Видимо, они не очень спешили, если пользовались дорогой, движущейся не быстрее бегуна. Я всегда предпочитал более современные способы передвижения:гелиопланы и ракетопланы.
Поднявшись выше, я открыл верх кабины и полетел с максимальной скоростью, опьяняющей и захватывающей дух.
Внизу проносились поля, сельскохозяйственные постройки, плодоносные сады и заводы со светлыми, как оранжереи, цехами. А вот большая огороженная и тщательно охраняемая территория самой мощной на планете аннигиляционной энергостанции.На меня она производит гнетущее впечатление.Видимо,потому,что там во время опасного эксперимента погиб мой отец. Сверху я видел отдельные неземные сооружения энергостанции.Там,глубоко под землей, стоит несмолкаемый грозный шум гигантских турбин.
Показалась Тиара- город, в котором я живу.Тиара — это скорее не город, а буйно зеленеющий парк с редкими вкраплениями многоцветных домов и дворцов. Я посадил машину около моего дома на открытой,незатененной площадке, где гелиоплан мог бы накапливать солнечную энергию.В саду собирал плоды покорный и неутомимый кибернетический слуга, похожий на вертикально поставленного огромного муравья.
— Гок!- позвал я его.
Гок проворно подбежал ко мне на своих гибких ногах-сочленениях.
— Где мама? — спросил я.
— На аннигиляционной энергостанции. Вернется не скоро.
Значит,снова под землей, на гигантской фабрике энергии. Работая в экспериментальном цехе, она старается заменить отца.
Я направился в свою комнату.Только сейчас я почувствовал усталость. Слипались глаза, хотелось спать.
Слуга послушно плелся сзади.Он вызывал во мне безотчетную неприязнь, словно живое существо. Мать же, наоборот, любила часами беседовать с ним.
Гок- последнее слово малой,так называемой, домашней кибернетики. По своей универсальности он не уступает огромным электронным «думающим» машинам, построенным по старинке- на полупроводниках.Его толстое муравьиное брюхо, до отказа напичканное миллионами микроэлементов,- бездонное хранилище знаний. Гок способен производить с молниеносной быстротой сложнейшие вычисления.Без него я запутался бы в черновых расчетах,и моя работа по астрофизике затянулась бы на десятки лет. Но- странное дело!- чем больше я нуждался в нем, тем неприятнее он мне становился.
В комнате было светло, как на улице. За прозрачными стенами гнулись под свежеющим ветром деревья. Скоро, видимо, будет дождь.
— А вчера мама была дома? — спросил я, раздеваясь.
— Да. Вчера мы вычисляли коэффициент аннигилируемой меди.
— Меди?
— Да, меди.Архан с Южного полюса Ронти-Рот и несколько ученых-северян выдвинули предположение, что медь с успехом можно использовать в наших аннигиляционных станциях. Я же считаю, что медь скоро вытеснит более дорогую ртуть и антиртуть.
И откуда только Гок знает все эти новости?Мне захотелось посадить в лужу этого тупицу-всезнайку.
— Вчера Круг арханов составил список членов межзвездной экспедиции,-сказал я.- Кого,по-твоему,назначили начальником экспедиции?Ну-ка,сообрази,пошевели своими железными мозгами.
— Конечно, Нанди-Нана.
— Вот ты и ошибся. Назначили меня.
— Не может быть. Потому что…
— Ну ладно, хватит! — прервал я его. — Хочу спать.
Слуга знал мою привычку спать под открытым небом.Он быстро проковылял к стене и нажал кнопку.Стены потемнели.Надо мной раскинулся купол искусственного темно-фиолетового неба,усыпанного огненной звездной пылью. Беззвучно заработали невидимые вентиляторы.Легкими порывами подул свежий ночной ветер.
Я повалился на постель и мгновенно заснул.Проснулся от шума,доносившегося со стороны экрана всепланетной связи. Не открывая глаз, я прислушался. Там происходила какая-то перебранка. «Кто мог быть на экране? — гадал я. — Сэнди-Ски! Ну конечно, он! Только он мог так сочно выражаться». Гок что-то пытался ему объяснить. На это вспыльчивый планетолог разразился градом проклятий.
Я слегка приоткрыл один глаз и увидел забавную сцену.На светящемся экране -сердитое лицо моего друга,его густые брови грозно хмурились.Перед экраном, облитый призрачным светом, стоял Гок и однообразно тянул:
— Он спит всего три часа. Не стану его будить.
— Молчи,дурак!- стараясь сдержаться, говорил Сэнди-Ски.- Он срочно нужен.
— Но поймите, он вернулся из межпланетного полета…
— Но-но, болван, железная побрякушка, ты еще учить меня вздумал!
Рассмеявшись,я вскочил, подбежал к экрану и оттолкнул Гока. Тот отлетел в сторону, едва удержав равновесие.
— Так его,хама,- злорадствовал Сэнди-Ски.- Эо, Тонри!
— Эо!- приветствовал я его.- В чем дело?
— Ты разве не знаешь? Сейчас загорится огонь над Шаровым Дворцом знаний. Я жду тебя у Дворца.
Огонь над Дворцом знаний означал,что там собрался Всепланетный Круг ученых, обсуждающих какую-нибудь важную проблему.
«Почему Нанди-Нан ничего не сказал об этом?-думал я.-Видимо,хотел,чтобы я хорошо отдохнул».
Я быстро оделся и выскочил на улицу.
Через час я был в Зурганоре.
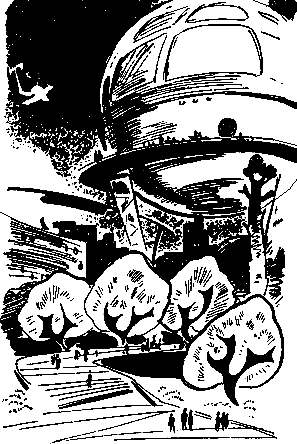 Шаровой Дворец- своеобразное здание. Это гигантский сиреневый шар, находящийся на большой высоте.Создается впечатление,что шар ничем не связан с поверхностью планеты и свободно парит над столицей Зурганы, купаясь в синеве неба.Но на самом деле он неподвижен и стоит на очень высоких и совершенно прозрачных стеклозонных колоннах.
Я посадил гелиоплан на свободную площадку. Под колоннами Дворца меня ждал Сэнди-Ски.
— Какие вопросы обсуждаются на Круге?- спросил я его.
— Ты даже этого не знаешь?- засмеялся он.- Ты совсем одичал за время межпланетного полета.Вопрос один- генеральное наступление на пустыню.Пойдем скорее, мы и так опоздали.
Шаровой Дворец- своеобразное здание. Это гигантский сиреневый шар, находящийся на большой высоте.Создается впечатление,что шар ничем не связан с поверхностью планеты и свободно парит над столицей Зурганы, купаясь в синеве неба.Но на самом деле он неподвижен и стоит на очень высоких и совершенно прозрачных стеклозонных колоннах.
Я посадил гелиоплан на свободную площадку. Под колоннами Дворца меня ждал Сэнди-Ски.
— Какие вопросы обсуждаются на Круге?- спросил я его.
— Ты даже этого не знаешь?- засмеялся он.- Ты совсем одичал за время межпланетного полета.Вопрос один- генеральное наступление на пустыню.Пойдем скорее, мы и так опоздали.
 На прозрачном эскалаторе мы поднялись на головокружительную высоту и встали на площадке перед входом во Дворец. Отсюда,с высоты полета гелиоплана, была видна вся столица Зурганы.Мы вошли внутрь,в гигантский круглый зал. Он напоминал сейчас огромную чашу, наполненную цветами, — так праздничны были одежды присутствующих.
В центре чащи, на возвышении, образуя круг, расположились арханы- самые выдающиеся ученые.Поэтому высший совет ученых планеты так и называется — Круг арханов.
Мы с Сэнди-Ски прошли в свой сектор астронавтики и уселись на свободные места. Здесь были знакомые мне астрофизики, астробиологи, планетологи, астронавты.
— Имеется два основных проекта освоения Великой Экваториальной пустыни, — услышал я голос одного из арханов.- Первый проект вы сейчас увидите.
Погас свет.Огромный полупрозрачный светло-сиреневый купол зала стал темнеть,приняв темно-фиолетовый цвет ночного неба. На нем зажглись искусственные звезды.
И вдруг в темноте,в центре зала,возник большой полосатый шар- макет нашей планеты.
— Последнее слово инженеров-оптиков, — шепнул мне Сэнди-Ски.
Это был изумительный макет Зурганы- в точности такой планеты, какую я не раз видел в Космосе со своего планетолета. На полюсах — зеленые шапки с правильными линиями гелиодорог и аллей, с квадратами и овалами парков и водоемов.Зеленые шапки-оазисы отделялись от пустыни узкими серовато-бурыми полосами.Здесь растительная жизнь в виде желтой травы и безлистного кустарника отчаянно боролась с песками и жаром пустыни. Три четверти поверхности занимал широкий желтый пояс Великой Экваториальной пустыни. Безжизненный край,край визжащих бурь и смерчей. А вот и транспланетная магистраль,для которой я недавно доставлял редкие металлы. Правда, здесь, на макете,она была изображена уже готовой.Примыкая к магистрали, протянулись с Севера на Юг полосы зеленых насаждений. «Дорога-оазис», — вспомнились мне слова Данго-Дана.По меридиану,параллельно первой магистрали, появилась вторая, третья… Десятка два магистралей-оазисов. Они соединились темными лентами гелиодорог — солнечной энергии на экваторе хоть отбавляй. В пустыне появились сверкающие квадраты водоемов, первые города. И вот вся планета была расчерчена парками и аллеями, гелиодорогами и каналами. Она напоминала гигантский чертеж. У меня вызвала досаду эта математически правильная, геометрически расчерченная планета.
Сэнди-Ски сердито хмурил брови.
— Нравится? — спросил я его.
— Чертова скука, — ответил он.
Такое же мнение,хотя и не так энергично, высказали многие участники Круга, когда в зале снова вспыхнул свет.
— Что мы сейчас видели? Бедную,израненную планету! — с горечью воскликнул Рут-Стренг из сектора биологии.- Планету, изрезанную на куски аллеями, исхлестанную гелиодорогами.Человек на такой планете окончательно оторвется от природы, породившей его.Нет,с таким проектом согласиться нельзя.
Рут-Стренг ушел с трибуны под одобрительный шум зала. На трибуне появился архан Грон-Гро, высокий, еще сравнительно молодой человек. Он поднял обе руки, призывая к тишине.
— Еще в эпоху классового разобщения и вражды полюсов,-начал он,- высказывалась правильная мысль о том,что человек не может быть по-настоящему свободным, радостным и духовно богатым, если он смотрит на природу чисто утилитарно, потребительски.Переделывая мир,человек соответственно переделывает и себя.Вот почему мы должны относиться к природе как к источнику радости и эстетической ценности.Автор проекта не очень оригинален. Он просто распространил на всю планету то,что имеется сейчас на полюсах. Но уже давно сложилось мнение,что цивилизация наша приобретает неверный,слишком утилитарный,слишком технический характер. Мне по душе другой проект, который вы сейчас увидите.
В зале погас снова свет.И снова в космическом пространстве, искусно созданном инженерами-оптиками,кружился огромный полосатый шар Зурганы. По меридианам пролегли транспланетные магистрали-оазисы. Они так же, как и в первом проекте,соединялись лентами гелиодорог с поселками по обе стороны. Но вместо аллей и геометрически правильных водоемов и каналов на планете зазеленели огромные массивы возрожденных древних лесов. Это были настоящие джунгли, края непуганых птиц и зверей, заповедные места с крутыми горами, с извилистыми реками,со звенящими водопадами.Мир предстал перед нами непостижимо разнообразным — могучим, буйно зеленым, радостно шумящим…
— Вот это я понимаю!- восторгался Сэнди-Ски.- То, что надо здоровому человеку. Согласен?
— Да, согласен…- пробормотал я. Мне было сейчас не до разговоров. Словно завороженный, я смотрел в соседний, гуманитарный сектор. Там сидела девушка своеобразной красоты.Я видел четкий, прекрасный профиль, густую волну темных волос, чуть скрывавших загорелую, словно выточенную из бронзы шею. Это была типичная представительница расы шеронов, расы, которая всегда боготворила женскую красоту.Но не красота ее поразила меня: я встречал не менее миловидных девушек, и ни одна из них не взволновала меня, не затронула мою душу и сердце. А эта!…Девушка была не просто красивой. Лицо ее — музыка, запечатленная в человеческих чертах.
Девушка,словно почувствовав пристальный взгляд,посмотрела в мою сторону.По ее лицу скользнула грустно-ироническая улыбка.
Я отвернулся и стал смотреть на трибуну,стараясь вникнуть в смысл выступлений.
— Человек должен взаимодействовать с естественной средой обитания на условиях,адекватных его сущности,его гуманистической сущности,- говорил один из рядовых членов Круга.Выражался он слишком мудрено. Видимо, такой же новичок здесь, как и мы с Сэнди-Ски.
В противоположность ему речь архана Нанди-Нана,выступившего следующим, отличалась простотой и образностью.
— Второй проект не лишен частных недостатков, но в целом он мудр и дальновиден.Автор его правильно подчеркивает,что живая,первозданная природа, в лоне которой появился человек,необходима нам, как воздух. С детства человек испытывает ее благотворное влияние.Ребенок,изумленно уставившийся на жука,ползущего по зеленой качающейся травинке,полюбит живую природу,найдет в ней что-то бесконечно ценное и доброе.Природа в большей степени, чем искусство, формирует гуманиста.
— Мы овладели ядерной энергией,-продолжал Нанди-Нан,-наши ученые проникли в тайну самой могущественной энергии- энергии всемирного тяготения. И я считаю позором, что столь высокая цивилизация до сих пор терпит у себя на планете громадный безжизненный край раскаленных песков. Правда, наша планета не так густо населена. Но это может служить отчасти объяснением, но никак не оправданием.
Мне всегда нравился Нанди-Нан,и взгляды его я полностью разделял. Стройный и сухощавый,он стоял на трибуне и говорил вдохновенно и темпераментно. Но сейчас я слушал его невнимательно.Мои мысли были заняты иным, и я снова то и дело смотрел в сторону гуманитарного сектора.В это время девушка повернулась к соседке и что-то шептала ей, мягко жестикулируя.Меня поразила естественная грация ее движений, высокая культура каждого жеста,свойственная нашим знаменитым танцовщицам. «Но кто она?- гадал я.- Может быть, действительно танцовщица? Или поэтесса?»
Я словно сквозь сон слышал разгоревшиеся споры,гул голосов в зале.И вдруг наступила тишина.Я невольно взглянул на трибуну. На ее возвышение, не спеша, поднимался архан Вир-Виан- выдающийся ученый и тонкий экспериментатор, личность почти легендарная.Он был из тех немногих шеронов, которые высокомерно,неприязненно относились к новому,гармоничному строю, установившемуся на всей планете.
Выступал Вир-Виан очень редко.Большей частью он молчал,угрюмо и отчужденно глядя в зал. Его редкие и короткие выступления выслушивались в глубокой тишине,ибо они всегда поражали новизной, неожиданностью научных и философских концепций. Но на этот раз он выступил с большой программной речью.
Изложить сегодня ту речь не успею. На наших корабельных часах вечер, и фарсаны уже собрались в кают-компании, дожидаясь меня. К тому же сильно разболелось плечо.Ушиб я его при обстоятельствах, которые нарушили мой сон и чуть не привели к гибели всего корабля. Об этом стоит упомянуть, но уже после того, как целиком опишу свой сон.
На прозрачном эскалаторе мы поднялись на головокружительную высоту и встали на площадке перед входом во Дворец. Отсюда,с высоты полета гелиоплана, была видна вся столица Зурганы.Мы вошли внутрь,в гигантский круглый зал. Он напоминал сейчас огромную чашу, наполненную цветами, — так праздничны были одежды присутствующих.
В центре чащи, на возвышении, образуя круг, расположились арханы- самые выдающиеся ученые.Поэтому высший совет ученых планеты так и называется — Круг арханов.
Мы с Сэнди-Ски прошли в свой сектор астронавтики и уселись на свободные места. Здесь были знакомые мне астрофизики, астробиологи, планетологи, астронавты.
— Имеется два основных проекта освоения Великой Экваториальной пустыни, — услышал я голос одного из арханов.- Первый проект вы сейчас увидите.
Погас свет.Огромный полупрозрачный светло-сиреневый купол зала стал темнеть,приняв темно-фиолетовый цвет ночного неба. На нем зажглись искусственные звезды.
И вдруг в темноте,в центре зала,возник большой полосатый шар- макет нашей планеты.
— Последнее слово инженеров-оптиков, — шепнул мне Сэнди-Ски.
Это был изумительный макет Зурганы- в точности такой планеты, какую я не раз видел в Космосе со своего планетолета. На полюсах — зеленые шапки с правильными линиями гелиодорог и аллей, с квадратами и овалами парков и водоемов.Зеленые шапки-оазисы отделялись от пустыни узкими серовато-бурыми полосами.Здесь растительная жизнь в виде желтой травы и безлистного кустарника отчаянно боролась с песками и жаром пустыни. Три четверти поверхности занимал широкий желтый пояс Великой Экваториальной пустыни. Безжизненный край,край визжащих бурь и смерчей. А вот и транспланетная магистраль,для которой я недавно доставлял редкие металлы. Правда, здесь, на макете,она была изображена уже готовой.Примыкая к магистрали, протянулись с Севера на Юг полосы зеленых насаждений. «Дорога-оазис», — вспомнились мне слова Данго-Дана.По меридиану,параллельно первой магистрали, появилась вторая, третья… Десятка два магистралей-оазисов. Они соединились темными лентами гелиодорог — солнечной энергии на экваторе хоть отбавляй. В пустыне появились сверкающие квадраты водоемов, первые города. И вот вся планета была расчерчена парками и аллеями, гелиодорогами и каналами. Она напоминала гигантский чертеж. У меня вызвала досаду эта математически правильная, геометрически расчерченная планета.
Сэнди-Ски сердито хмурил брови.
— Нравится? — спросил я его.
— Чертова скука, — ответил он.
Такое же мнение,хотя и не так энергично, высказали многие участники Круга, когда в зале снова вспыхнул свет.
— Что мы сейчас видели? Бедную,израненную планету! — с горечью воскликнул Рут-Стренг из сектора биологии.- Планету, изрезанную на куски аллеями, исхлестанную гелиодорогами.Человек на такой планете окончательно оторвется от природы, породившей его.Нет,с таким проектом согласиться нельзя.
Рут-Стренг ушел с трибуны под одобрительный шум зала. На трибуне появился архан Грон-Гро, высокий, еще сравнительно молодой человек. Он поднял обе руки, призывая к тишине.
— Еще в эпоху классового разобщения и вражды полюсов,-начал он,- высказывалась правильная мысль о том,что человек не может быть по-настоящему свободным, радостным и духовно богатым, если он смотрит на природу чисто утилитарно, потребительски.Переделывая мир,человек соответственно переделывает и себя.Вот почему мы должны относиться к природе как к источнику радости и эстетической ценности.Автор проекта не очень оригинален. Он просто распространил на всю планету то,что имеется сейчас на полюсах. Но уже давно сложилось мнение,что цивилизация наша приобретает неверный,слишком утилитарный,слишком технический характер. Мне по душе другой проект, который вы сейчас увидите.
В зале погас снова свет.И снова в космическом пространстве, искусно созданном инженерами-оптиками,кружился огромный полосатый шар Зурганы. По меридианам пролегли транспланетные магистрали-оазисы. Они так же, как и в первом проекте,соединялись лентами гелиодорог с поселками по обе стороны. Но вместо аллей и геометрически правильных водоемов и каналов на планете зазеленели огромные массивы возрожденных древних лесов. Это были настоящие джунгли, края непуганых птиц и зверей, заповедные места с крутыми горами, с извилистыми реками,со звенящими водопадами.Мир предстал перед нами непостижимо разнообразным — могучим, буйно зеленым, радостно шумящим…
— Вот это я понимаю!- восторгался Сэнди-Ски.- То, что надо здоровому человеку. Согласен?
— Да, согласен…- пробормотал я. Мне было сейчас не до разговоров. Словно завороженный, я смотрел в соседний, гуманитарный сектор. Там сидела девушка своеобразной красоты.Я видел четкий, прекрасный профиль, густую волну темных волос, чуть скрывавших загорелую, словно выточенную из бронзы шею. Это была типичная представительница расы шеронов, расы, которая всегда боготворила женскую красоту.Но не красота ее поразила меня: я встречал не менее миловидных девушек, и ни одна из них не взволновала меня, не затронула мою душу и сердце. А эта!…Девушка была не просто красивой. Лицо ее — музыка, запечатленная в человеческих чертах.
Девушка,словно почувствовав пристальный взгляд,посмотрела в мою сторону.По ее лицу скользнула грустно-ироническая улыбка.
Я отвернулся и стал смотреть на трибуну,стараясь вникнуть в смысл выступлений.
— Человек должен взаимодействовать с естественной средой обитания на условиях,адекватных его сущности,его гуманистической сущности,- говорил один из рядовых членов Круга.Выражался он слишком мудрено. Видимо, такой же новичок здесь, как и мы с Сэнди-Ски.
В противоположность ему речь архана Нанди-Нана,выступившего следующим, отличалась простотой и образностью.
— Второй проект не лишен частных недостатков, но в целом он мудр и дальновиден.Автор его правильно подчеркивает,что живая,первозданная природа, в лоне которой появился человек,необходима нам, как воздух. С детства человек испытывает ее благотворное влияние.Ребенок,изумленно уставившийся на жука,ползущего по зеленой качающейся травинке,полюбит живую природу,найдет в ней что-то бесконечно ценное и доброе.Природа в большей степени, чем искусство, формирует гуманиста.
— Мы овладели ядерной энергией,-продолжал Нанди-Нан,-наши ученые проникли в тайну самой могущественной энергии- энергии всемирного тяготения. И я считаю позором, что столь высокая цивилизация до сих пор терпит у себя на планете громадный безжизненный край раскаленных песков. Правда, наша планета не так густо населена. Но это может служить отчасти объяснением, но никак не оправданием.
Мне всегда нравился Нанди-Нан,и взгляды его я полностью разделял. Стройный и сухощавый,он стоял на трибуне и говорил вдохновенно и темпераментно. Но сейчас я слушал его невнимательно.Мои мысли были заняты иным, и я снова то и дело смотрел в сторону гуманитарного сектора.В это время девушка повернулась к соседке и что-то шептала ей, мягко жестикулируя.Меня поразила естественная грация ее движений, высокая культура каждого жеста,свойственная нашим знаменитым танцовщицам. «Но кто она?- гадал я.- Может быть, действительно танцовщица? Или поэтесса?»
Я словно сквозь сон слышал разгоревшиеся споры,гул голосов в зале.И вдруг наступила тишина.Я невольно взглянул на трибуну. На ее возвышение, не спеша, поднимался архан Вир-Виан- выдающийся ученый и тонкий экспериментатор, личность почти легендарная.Он был из тех немногих шеронов, которые высокомерно,неприязненно относились к новому,гармоничному строю, установившемуся на всей планете.
Выступал Вир-Виан очень редко.Большей частью он молчал,угрюмо и отчужденно глядя в зал. Его редкие и короткие выступления выслушивались в глубокой тишине,ибо они всегда поражали новизной, неожиданностью научных и философских концепций. Но на этот раз он выступил с большой программной речью.
Изложить сегодня ту речь не успею. На наших корабельных часах вечер, и фарсаны уже собрались в кают-компании, дожидаясь меня. К тому же сильно разболелось плечо.Ушиб я его при обстоятельствах, которые нарушили мой сон и чуть не привели к гибели всего корабля. Об этом стоит упомянуть, но уже после того, как целиком опишу свой сон.
 — Почему,- спрашивал он, — нынешний человек отвергает великолепную поэзию прошлых веков, монументальное искусство шеронов — искусство тонких интеллектуальных раздумий и переживаний?Да потому, что человек перестает понимать его.Оно,дескать, устарело.И начались поиски какого-то современного стиля, рассчитанного на стандартизацию человеческих чувств. Процесс «обесчеловечения» искусства особенно заметен в таком популярном среди юношества жанре,как научная фантастика, которая все более и более превращается из философского человековедения в машиноведение.
— На наших глазах,- говорил Вир-Виан, повышая голос,- происходит необратимый процесс машинизации человека и очеловечения машины,процесс тем более опасный и коварный, что он происходит постепенно и незаметно.
Вир-Виан нарисовал перед нами мрачную картину грядущего упадка. Человек постепенно упрощается, его духовный мир в будущем царстве покоя и сытости стандартизируется.Между тем ученые, работая по инерции, будут еще некоторое время обеспечивать научно-технический прогресс, темпы которого станут все более и более замедляться.Появятся совершеннейшие кибернетические устройства.Со временем эти умные машины превзойдут человека с его упрощенным духовным миром.Они возьмут на себя не только черновой, утилитарный умственный труд,но и отчасти труд творческий. Однако процесс совершенствования кибернетической аппаратуры не будет бесконечным.Даже самых выдающихся ученых грядущего затянет неудержимый поток всеобщей деградации. Ученые сами попадут в духовное рабство к машинам.Кибернетические устройства, не руководимые человеком, будут повторять одни и те же мыслительные и производственные операции, обеспечивая человечеству изобилие материальных и даже так называемых духовных благ. Наступит царство застоя.
— Духовная жизнь на Зургане замрет,- говорил Вир-Виан.-Научно-технический прогресс прекратится.
— Чепуха! — раздался в тишине чей-то звонкий голос.
Поднялся невообразимый шум.Все старались перекричать друг друга. Сэнди-Ски что-то сказал мне, но я не расслышал.Вир-Виан,сумрачно усмехаясь, с ироническим любопытством смотрел на расшумевшихся людей.
Вдруг в секторе ядерной физики поднялся, удивив всех огромным ростом, худой и лысый шерон. Он был так же стар,как и Вир-Виан,и помнил, наверное, эпоху господства своей расы. Громовым голосом, неожиданным для его тощего тела, он прокричал:
— Дайте человеку выступить! Вир-Виан говорит жестокую правду.
Его поддержал другой шерон,помоложе, из сектора биологии.
Наконец все успокоились. Снова наступила тишина.
— Не думайте,что я предсказываю царство омерзительного вырождения, царство обжорства и разврата,- спокойно продолжал Вир-Виан. — Это будет в общем-то сносный век.Это будет золотой век человечества,но век изнеженный и, в сущности, угасающий.Обессиленное человечество станет марионеткой в руках природы,не будет в состоянии бороться с неизбежными космическими катастрофами. Настает час расплаты, час трагической гибели цивилизации.
Вир-Виан подробно объяснил одну,наиболее вероятную по его мнению, причину космической гибели человечества.Всем известен,говорил он, эффект красного смещения.Свет от далеких галактик приходит к нам смещенным в красную сторону спектра.И чем дальше галактики, тем более смещенным приходит к нам свет. Объясняется это тем,что галактики расширяются от некоего центра, разлетаются с огромными скоростями.Мы живем в пульсирующей области бесконечной Вселенной.Мы живем в благоприятную для органической жизни эпоху красного смещения,эпоху разлета галактик.Но в будущем, через десять-двадцать миллиардов лет,эпоха красного смещения постепенно сменится эпохой фиолетового смещения, эпохой всевозрастающего сжатия галактик. Степень ультрафиолетовой радиации неизмеримо возрастет. Одного этого достаточно, чтобы испепелить,уничтожить органическую жизнь. Кроме того, сжатие галактик будет сопровождаться грандиозными космическими катастрофами.
— Человечество неизбежно погибнет в вихре враждебных космических сил! — воскликнул Вир-Виан,патетически потрясая обеими руками.-Не такова ли судьба других высоких цивилизаций, возникших задолго до нас? Я утверждаю: именно такова!
— Вселенная вечна и бесконечна,- говорил он. — В ней множество миров, населенных разумными существами.И естественно предположить, что рост всепланетного, а затем космического могущества мыслящих существ так же вечен и бесконечен.
— Но где же следы этой вечно растущей мощи разумных существ?-спрашивал он. — Где новые солнца,зажженные ими,где следы переустройства галактик? Нет их! Тысячи лет наблюдаютастрономы Зурганы за звездами, на миллионы световых лет проникли они своим взглядом вглубь мироздания и нигде не обнаружили ни малейших следов космической деятельности мыслящего духа.
— Почему?- спрашивал Вир-Виан. И отвечал: — Потому, что разум на других населенных планетах угасает,не успев разгореться во всю мощь.Носители разума становятся жалкими игрушками, марионетками в руках враждебных космических сил. Весь блеск расцветающих цивилизаций, все достижения разума неизбежно гибнут, бесследно исчезают в огромном огненном водовороте Вселенной.
Я посмотрел вокруг. Все слушали внимательно. Многие новички, вроде нас с Сэнди-Ски, были захвачены яркой речью Вир-Виана. Однако на лицах большинства присутствующих выражалось недоумение. Нанди-Нан и некоторые другие арханы воспринимали социально-космические идеи своего коллеги со снисходительной улыбкой.
В гуманитарном секторе я, конечно, снова отыскал взглядом незнакомку, поразившую меня своей необычной красотой. И первое, что бросилось в глаза, — сосредоточенность и грусть, с которой она слушала Вир-Виана. Легкий налет печали на ее лице еще больше подчеркивал одухотворенность и нешаблонность ее красоты. Но почему она так грустна?
— Знаешь, кто это?- вдруг услышал я голос Сэнди-Ски.
— О ком ты говоришь, не понимаю.
Я поглядел на Сэнди-Ски и увидел в его глазах озорные,дружелюбно-насмешливые огоньки.
— Не притворяйся. Я ведь все вижу.
— Ну, говори уж, если начал.
— Она работает сейчас в археологической партии на раскопках погибшего фарсанского города, недалеко от острова Астронавтов. Как и большинство, она имеет несколько специальностей: историк, археолог, палеонтолог и еще что-то в этом роде.
— А как ее имя?
— Аэнна-Виан, дочь Вир-Виана.
Вот оно что!Теперь мне стало понятно,почему она слушала Вир-Виана с таким серьезным и чуть грустным вниманием.
Между тем Вир-Виан продолжал развивать свои космические теории. Представим себе, говорил он, некую воображаемую точку в Космосе. С этой точки мы наблюдаем за бесконечной Вселенной бесконечно долгое время.И что мы видим? Вот за многие миллиарды веков до нас возникла жизнь в разных уголках Вселенной. На отдельных планетах вспыхнули светильники разума. Разум на этих планетах выковывался и совершенствовался в борьбе,и только в борьбе.Сначала в звериной, ожесточенной борьбе за существование, в борьбе с голодом. Затем в борьбе различных племен и общественных групп.И,наконец,в борьбе за полное изобилие благ.
Цивилизация на тех далеких во времени планетах достигла такого же сравнительно уровня,как сейчас на нашей Зургане. Разумные обитатели этих планет,объединившись,достигнув изобилия, встали на шаблонный путь развития. Ибо этот исторический путь,казалось бы самый естественный,легко напрашивающийся в логичный,- путь всеобщего равенства, дружбы, космического братства. Но это ошибочный путь — путь отказа от всякой борьбы.
Правда, оставался еще один вид борьбы — борьба с природой в планетарном масштабе.На одних планетах это было освоение жарких пустынь, как у нас, на других- борьба с холодом и льдами. Наконец, всякая борьба прекратилась. Разумным существам осталось только довольствоваться плодами своих прежних побед. Наступает царство застоя. Научно-технические достижения, явившиеся результатом предыдущей борьбы,открыли возможность межзвездных сообщений. Но для чего использовали эту возможность жители тех планет, вставшие на наш шаблонный и ошибочный путь развития?Для поисков новых и более грандиозных форм борьбы,чтобы предотвратить застой и вырождение? Нет! Они стали летать друг к другу с дружественными целями, для удовлетворения научной любознательности. Но и эта любознательность со временем увянет, ибо она не воодушевляется никакой необходимостью.Таким образом, даже межзвездные сообщения не спасут от застоя и вырождения. В состоянии постепенного угасания разумные обитатели многочисленных планет того неизмеримо далекого времени пребывали миллионы лет. Достигнув полного благополучия, они уже не стремились ни к чему,просто наслаждались,нежились в лучах собственных солнц -естественных или даже искусственно созданных ими.Но Вселенная не может все время находиться в метафизически-неподвижном,устойчивом состоянии. Вот мы видим со своей воображаемой точки,как стали намечаться качественные изменения,гигантские превращения одних форм материи и энергии в другие. Гибли целые галактики,возникали новые.Древние,но изнеженные цивилизации, эти крохотные водоворотики жизни, бесследно исчезали в огромном потоке рушащихся миров и галактик.
Вир-Виан на минуту умолк, оглядел зал и с удовлетворением увидел внимательные лица.
— Но вот Вселенная снова пришла в относительно устойчивое состояние, — продолжал он,- и снова в разных ее уголках вспыхнули огоньки разума, колеблемые ветром космических пространств.Но и эти огоньки погасли по тем же причинам. И так повторялось бесчисленное множество раз.Вот почему мыслящий дух ни на одной из планет не смог добиться вечного существования, вечного и бесконечного роста и могущества.Вот почему ученые Зурганы,проникнув взором в неизмеримые дали Вселенной, не обнаружили ни малейших следов гигантской космической деятельности творческого разума.
— И я с полной уверенностью утверждаю,- раздавался в тишине громкий голос Вир-Виана, временами принимавший трагическое звучание,- что и наша Зургана будет принадлежать к тому же бесчисленному сонму погибших миров. Можем ли мы допустить это? Нет,надо бороться. Перед нами, зурганами,стоит великая космическая цель:не дать погибнуть разуму на нашей планете, как бы далека ни была эта гибель.А для этого,не в пример предыдущим погибшим цивилизациям, мы должны возвеличить мыслящий дух,сделать разум равновеликим Космосу,способным успешно бороться с его гигантскими враждебными силами. Что нужно для этого? Борьба и господство. Борьба — враг застоя и вырождения.Господство — условие высшей культуры.
Кто-то звонко рассмеялся.В зале зашумели.Вир-Виан поднял руку.На его губах играла сумрачная и высокомерная усмешка.Когда немного стихло, Вир-Виан опустил руку и сказал:
— Я знал,что слова «борьба и господство» вызовут у вас ироническую реакцию.Вы,может быть, думаете, что я призываю к возрождению иерархического строя шеронов? Нет.Шеронат рухнул на моих глазах,когда я был еще подростком. Он погиб закономерно и безвозвратно.Но он сыграл великую прогрессивную роль в планетарном масштабе, создав на Зургане самую высокую духовную культуру. Чем обусловлен невиданный взлет шеронской культуры? Борьбой и господством. Стоит подумать, и вы поймете, что борьба и господство всегда были наивысшим законом прогресса. Вспомните хотя бы некоторые биологические законы. Когда древние животные поднимались ступенькой выше по великой эволюционной лестнице, когда они делали шаг на победном пути к человеческой мудрости? Быть может,в спокойные периоды их жизни? Нет! В такие периоды животные вырождались,в их клетках накапливались деградирующие признаки.И наоборот. В кризисные,революционные моменты жизни, когда в борьбе за существование требовалось проявить максимум физических и психических усилий, животные обретали свои лучшие боевые качества:силу и хитрость, ловкость и сообразительность. В клетках организма происходили благоприятные мутации, которые,накапливаясь,передавались потомству.Таков объективный закон природы, и он относится не только к животным, но и к человеку, и ко всему человеческому обществу.
Я вам напомню одну древнюю,но мудрую шеронскую легенду. Очень давно, говорится в легенде,когда на Зургане еще не было человека,бог предложил двум живым существам на выбор- в одной руке сытую и спокойную жизнь, а в другой — стремление к ней. Более проворное животное схватило сытую и спокойную жизнь и убежало с нею в лес.Оно так и осталось животным существом.Другому досталось стремление к сытости и благополучию. И оно со временем стало мыслящим существом — человеком.
И вот сейчас,накануне межзвездных сообщений, вы предлагаете человечеству сытую жизнь и космическое братство. Я с негодованием отвергаю это розовое благополучие,без потрясений и борьбы. Взамен я предлагаю стремление к высокой цели.Вечное и безраздельное торжество духа над материей- вот эта цель.В конечном счете она,может быть, и недостижима.Но ведь в данном случае важна не сама цель, а стремление к ней, стремление, которое неизбежно предполагает борьбу и господство во вселенском масштабе.
Мы сейчас на пороге межзвездных сообщений.За первым кораблем уйдут в Космос,к другим планетам новые,более совершенные. И мы должны использовать эту возможность для борьбы и господства на новом,космическом этапе.Все жители Зурганы станут космическими шеронами,то есть господами во вселенском масштабе и творцами гигантских духовных ценностей. Все населенные планеты Космоса- сначала ближние,а затем и дальние- должны быть завоеваны нами.Но мы не будем жителей покоренных планет истреблять или обращать в физическое рабство.Нет,пусть завоеванные цивилизации развиваются,но под нашим руководством. Это даст возможность нашему человечеству избежать биологического и духовного угасания.Ведь само ощущение власти над другими цивилизациями явится условием воспитания сильных и гармоничных чувств. Кроме того,каждая,даже не очень развитая,цивилизация обладает неведомыми научными и техническими достижениями. И мы можем все научные открытия и технические идеи собирать, накапливать здесь, на Зургане, в памятных машинах.
Но Зургана не должна быть простым хранилищем научной информации Вселенной. Нет,ученые Зурганы будут обобщать,синтезировать эту информацию,создавая новые науки,которые сделают нас еще более могущественными.В результате Зургана сможет успешно бороться с цивилизациями, достигшими самого высокого уровня развития.Это будет апофеоз космической борьбы. Вселенная станет содрогаться от грома сталкивающихся небесных тел,озаряться вспышками взрывающихся звезд и целых галактик.Эта великолепная борьба, стремление к высшему господству предотвратят застой, биологическое и духовное угасание. В буре и грохоте космической борьбы будет выковываться воля и совершенствоваться мощный разум зурган-шеронов,разум,равновеликий Вселенной. Зургане соберут из удаленных уголков Вселенной новую научно-техническую информацию. Творчески обобщенная, она сделает нас еще более могучими и сильными в дальнейшей борьбе. Зургане покорят новые и самые высокоразвитые планеты, приблизятся к сферам отдаленнейших солнц.
Так будет побеждена извечная жестокость Космоса,и светоч разума не погаснет никогда. Факел разума на Зургане будет пылать на всю Вселенную, озаряя космическую ночь,согревая своим теплом не только нас, но и другие, подчиненные цивилизации,предохраняя их от гибели. В этом я вижу величие и космоцентризм человека Зурганы. Некогда зыбкий мыслящий дух станет могучим, будет создавать новые миры и галактики, управлять Вселенной, увековечив свое торжество над гигантскими стихийными силами. А Зургана, наша родная планета, станет столицей Космоса, планетой…
— Планетой-диктатором,- насмешливо подсказал один из арханов.
— Согласен с моим ироничным оппонентом,-усмехнувшись, сказал Вир-Виан.- Но повторяю:диктатура не самоцель,а необходимое средство для достижения грандиозной и благородной цели. Эта цель- защитить жизнь от враждебных космических сил, возвеличить ум, увековечить торжество мыслящего духа над косной материей. Да, наша Зургана станет столицей Космоса и солнцем разума всей Вселенной.
На этом Вир-Виан закончил свою речь и стал медленно сходить с трибуны, всем своим видом выражая презрение к людям, которые не хотят его понять.
— Хау!- закричал вдруг тощий лысый шерон из сектора ядерной физики.
— Хау!- поддержал его еще один шерон.
Таким восклицанием у нас, на Зургане, выражается высшее одобрение. Но этих двух шеронов больше никто не поддержал. Напротив, послышались недовольные возгласы, все зашумели.
Нанди-Нан, взойдя на трибуну, поднял руку и долго успокаивал расходившихся участников Всепланетного Круга ученых. Когда наступила тишина, он выразил сожаление,что один из выдающихся ученых Зурганы так жестоко ошибается в своих социально-космических взглядах,в прогнозах на будущее.Только на основе дружбы и сотрудничества с разумными обитателями других миров, сказал Нанди-Нан, можно победить враждебные силы Космоса. Эту же мысль высказывали и другие участники Круга.
Обсуждение проектов освоения Великой Экваториальной пустыни под влиянием речи Вир-Виана отклонилось в сторону. Многие выступающие, сказав несколько слов по поводу проектов, начинали возражать Вир-Виану и забирались в дебри космической философии.
Всепланетный круг ученых затянулся, и все начали чувствовать усталость. Наконец,открылись двери и заработали радиально расположенные эскалаторы. По ним люди спускались вниз.Эскалаторы напоминали многоцветные, шумные, веселые водопады. В этом людском потоке я потерял из виду Аэнну-Виан.
Когда мы очутились внизу, под огромным голубым шаром Дворца, Сэнди-Ски сказал:
— Приходи через некоторое время в аллею гелиодендронов, там найдешь меня.
И затерялся в толпе. Меня удивило загадочное поведение друга.
Ослепительный диск солнца только что скрылся за горизонтом.Наступила самая чудесная пора на Зургане- вечер с приятным для глаз полусумраком,с ласкающей прохладой.
Люди не расходились по домам,и дискуссия,начатая там,в Шаровом Дворце, не прекращалась.В сущности,Всепланетный Круг послужил лишь началом обсуждения, и споры словно выплескивались из сиреневого шара наружу, вспыхивали с новой силой в многочисленных аллеях и парках, прилегающих к Дворцу.
Дискуссии разгорелись в каждом доме,в узком семейном кругу, перед экранами всепланетной связи.Проблемы,затронутые учеными,обсуждала вся планета.Через несколько дней от населения начнут поступать предложения,и комиссия всепланетного Круга, проанализировав и обобщив их, выработает единое мнение планеты по обсуждавшемуся вопросу.
Я свернул в парк электродендронов.Здесь было особенно многолюдно. Парк привлекал людей свежим, бодрящим воздухом. Широкие и плотные листья электродендронов весь день поглощали лучистую энергию могучего светила. А сейчас, с наступлением темноты, деревья выделяли избыток энергии в виде электрических разрядов.То и дело раздавался сухой треск, вспыхивали, на миг озаряя густеющие сумерки,короткие молнии. Это деревья вели между собой электрическую перестрелку, озонируя воздух.
Люди шли группами,смеясь и оживленно беседуя. Один только я брел в одиночестве, невольно ловя обрывки фраз.
Некоторое время я шел с компанией очень веселых молодых людей, видимо, впервые присутствовавших на Круге.
— Вир-Виан не прав,- услышал я голос какого-то юнца.- Наступление на Экваториальную пустыню- это лишь начало космической борьбы с природой. И в этой борьбе человечество не изнежится, не захиреет.
— Вир-Виан хороший ученый, но плохой философ,- смеясь, сказал невысокий молодой человек.
— Банальный афоризм, — серьезно возразила ему девушка. — Я бы сказала о Вир-Виане иначе…
Но что она сказала бы о Вир-Виане,я так и не услышал. Молодые люди зашли в ажурную беседку и уселись за круглый стол, на котором в прозрачных сосудах искрились вина, стояла еда.Многие,проголодавшись,следовали их примеру. Споры в беседках разгорались с новой силой. Таким образом, вечер и начало ночи после Круга превращались в своеобразный праздник-дискуссию.
В аллее гелиодендронов,куда я зашел в надежде отыскать таинственно исчезнувшего Сэнди-Ски,стояла лирическая тишина. Высокие и густые деревья накопившуюся за день энергию выделяли бесшумно- свечением. К ночи крупные цветы гелиодендронов раскрылись и светились, как голубые фонари, привлекая ночных опыляющих насекомых.
Здесь было совсем мало народу. Голубые тихие сумерки аллеи стали убежищем влюбленных пар, которые сидели на качающихся скамейках под густыми кронами гелиодендронов.
Я почувствовал себя совсем одиноким и уже начал сердиться на Сэнди-Ски, как вдруг из-за поворота,в голубом сумеречном сиянии показалась его крупная фигура. Он разговаривал с какой-то девушкой. Неуловимое изящество походки, отточенная и в то же время естественная грация жестов и движений… Да это же Аэнна! Теперь я начал понимать причину загадочного поведения Сэнди-Ски: он хотел словно случайно познакомить меня с Аэнной.
— Эо, Тонри! — воскликнул он с таким видом, как будто видел меня сегодня впервые. И с деланным удивлением спросил: — Ты почему один?
Обратившись к Аэнне, он шутливо-торжественным тоном сказал:
— Да будет тебе известно, Аэнна,это Тонри-Ро- начальник нашей экспедиции, первый разведчик Вселенной, первооткрыватель звездных миров.
— Можно не представлять,- рассмеялась она и в тон Сэнди-Ски шутливо продолжила:- Астронавты настолько популярны сейчас,что их все знают.Это не то что мы,историки,археологи и люди прочих незаметных, сереньких профессий, все более оттираемых в неизвестность воинственным племенем астронавтов.
В присутствии друга я чувствовал себя легко и свободно. Мы вошли в потрескивающий разрядами парк электродендронов и заняли в беседке свободный столик. Но тут Сэнди-Ски неожиданно вскочил:
— Черт побери! Я и забыл, что мне надо обязательно встретиться с Нанди-Наном. Извините меня.
И он ушел,оставив нас с Аэнной.Взглянув друг на друга, мы рассмеялись над неуклюжей хитростью Сэнди-Ски: он явно хотел оставить нас вдвоем.
— Почему,- спрашивал он, — нынешний человек отвергает великолепную поэзию прошлых веков, монументальное искусство шеронов — искусство тонких интеллектуальных раздумий и переживаний?Да потому, что человек перестает понимать его.Оно,дескать, устарело.И начались поиски какого-то современного стиля, рассчитанного на стандартизацию человеческих чувств. Процесс «обесчеловечения» искусства особенно заметен в таком популярном среди юношества жанре,как научная фантастика, которая все более и более превращается из философского человековедения в машиноведение.
— На наших глазах,- говорил Вир-Виан, повышая голос,- происходит необратимый процесс машинизации человека и очеловечения машины,процесс тем более опасный и коварный, что он происходит постепенно и незаметно.
Вир-Виан нарисовал перед нами мрачную картину грядущего упадка. Человек постепенно упрощается, его духовный мир в будущем царстве покоя и сытости стандартизируется.Между тем ученые, работая по инерции, будут еще некоторое время обеспечивать научно-технический прогресс, темпы которого станут все более и более замедляться.Появятся совершеннейшие кибернетические устройства.Со временем эти умные машины превзойдут человека с его упрощенным духовным миром.Они возьмут на себя не только черновой, утилитарный умственный труд,но и отчасти труд творческий. Однако процесс совершенствования кибернетической аппаратуры не будет бесконечным.Даже самых выдающихся ученых грядущего затянет неудержимый поток всеобщей деградации. Ученые сами попадут в духовное рабство к машинам.Кибернетические устройства, не руководимые человеком, будут повторять одни и те же мыслительные и производственные операции, обеспечивая человечеству изобилие материальных и даже так называемых духовных благ. Наступит царство застоя.
— Духовная жизнь на Зургане замрет,- говорил Вир-Виан.-Научно-технический прогресс прекратится.
— Чепуха! — раздался в тишине чей-то звонкий голос.
Поднялся невообразимый шум.Все старались перекричать друг друга. Сэнди-Ски что-то сказал мне, но я не расслышал.Вир-Виан,сумрачно усмехаясь, с ироническим любопытством смотрел на расшумевшихся людей.
Вдруг в секторе ядерной физики поднялся, удивив всех огромным ростом, худой и лысый шерон. Он был так же стар,как и Вир-Виан,и помнил, наверное, эпоху господства своей расы. Громовым голосом, неожиданным для его тощего тела, он прокричал:
— Дайте человеку выступить! Вир-Виан говорит жестокую правду.
Его поддержал другой шерон,помоложе, из сектора биологии.
Наконец все успокоились. Снова наступила тишина.
— Не думайте,что я предсказываю царство омерзительного вырождения, царство обжорства и разврата,- спокойно продолжал Вир-Виан. — Это будет в общем-то сносный век.Это будет золотой век человечества,но век изнеженный и, в сущности, угасающий.Обессиленное человечество станет марионеткой в руках природы,не будет в состоянии бороться с неизбежными космическими катастрофами. Настает час расплаты, час трагической гибели цивилизации.
Вир-Виан подробно объяснил одну,наиболее вероятную по его мнению, причину космической гибели человечества.Всем известен,говорил он, эффект красного смещения.Свет от далеких галактик приходит к нам смещенным в красную сторону спектра.И чем дальше галактики, тем более смещенным приходит к нам свет. Объясняется это тем,что галактики расширяются от некоего центра, разлетаются с огромными скоростями.Мы живем в пульсирующей области бесконечной Вселенной.Мы живем в благоприятную для органической жизни эпоху красного смещения,эпоху разлета галактик.Но в будущем, через десять-двадцать миллиардов лет,эпоха красного смещения постепенно сменится эпохой фиолетового смещения, эпохой всевозрастающего сжатия галактик. Степень ультрафиолетовой радиации неизмеримо возрастет. Одного этого достаточно, чтобы испепелить,уничтожить органическую жизнь. Кроме того, сжатие галактик будет сопровождаться грандиозными космическими катастрофами.
— Человечество неизбежно погибнет в вихре враждебных космических сил! — воскликнул Вир-Виан,патетически потрясая обеими руками.-Не такова ли судьба других высоких цивилизаций, возникших задолго до нас? Я утверждаю: именно такова!
— Вселенная вечна и бесконечна,- говорил он. — В ней множество миров, населенных разумными существами.И естественно предположить, что рост всепланетного, а затем космического могущества мыслящих существ так же вечен и бесконечен.
— Но где же следы этой вечно растущей мощи разумных существ?-спрашивал он. — Где новые солнца,зажженные ими,где следы переустройства галактик? Нет их! Тысячи лет наблюдаютастрономы Зурганы за звездами, на миллионы световых лет проникли они своим взглядом вглубь мироздания и нигде не обнаружили ни малейших следов космической деятельности мыслящего духа.
— Почему?- спрашивал Вир-Виан. И отвечал: — Потому, что разум на других населенных планетах угасает,не успев разгореться во всю мощь.Носители разума становятся жалкими игрушками, марионетками в руках враждебных космических сил. Весь блеск расцветающих цивилизаций, все достижения разума неизбежно гибнут, бесследно исчезают в огромном огненном водовороте Вселенной.
Я посмотрел вокруг. Все слушали внимательно. Многие новички, вроде нас с Сэнди-Ски, были захвачены яркой речью Вир-Виана. Однако на лицах большинства присутствующих выражалось недоумение. Нанди-Нан и некоторые другие арханы воспринимали социально-космические идеи своего коллеги со снисходительной улыбкой.
В гуманитарном секторе я, конечно, снова отыскал взглядом незнакомку, поразившую меня своей необычной красотой. И первое, что бросилось в глаза, — сосредоточенность и грусть, с которой она слушала Вир-Виана. Легкий налет печали на ее лице еще больше подчеркивал одухотворенность и нешаблонность ее красоты. Но почему она так грустна?
— Знаешь, кто это?- вдруг услышал я голос Сэнди-Ски.
— О ком ты говоришь, не понимаю.
Я поглядел на Сэнди-Ски и увидел в его глазах озорные,дружелюбно-насмешливые огоньки.
— Не притворяйся. Я ведь все вижу.
— Ну, говори уж, если начал.
— Она работает сейчас в археологической партии на раскопках погибшего фарсанского города, недалеко от острова Астронавтов. Как и большинство, она имеет несколько специальностей: историк, археолог, палеонтолог и еще что-то в этом роде.
— А как ее имя?
— Аэнна-Виан, дочь Вир-Виана.
Вот оно что!Теперь мне стало понятно,почему она слушала Вир-Виана с таким серьезным и чуть грустным вниманием.
Между тем Вир-Виан продолжал развивать свои космические теории. Представим себе, говорил он, некую воображаемую точку в Космосе. С этой точки мы наблюдаем за бесконечной Вселенной бесконечно долгое время.И что мы видим? Вот за многие миллиарды веков до нас возникла жизнь в разных уголках Вселенной. На отдельных планетах вспыхнули светильники разума. Разум на этих планетах выковывался и совершенствовался в борьбе,и только в борьбе.Сначала в звериной, ожесточенной борьбе за существование, в борьбе с голодом. Затем в борьбе различных племен и общественных групп.И,наконец,в борьбе за полное изобилие благ.
Цивилизация на тех далеких во времени планетах достигла такого же сравнительно уровня,как сейчас на нашей Зургане. Разумные обитатели этих планет,объединившись,достигнув изобилия, встали на шаблонный путь развития. Ибо этот исторический путь,казалось бы самый естественный,легко напрашивающийся в логичный,- путь всеобщего равенства, дружбы, космического братства. Но это ошибочный путь — путь отказа от всякой борьбы.
Правда, оставался еще один вид борьбы — борьба с природой в планетарном масштабе.На одних планетах это было освоение жарких пустынь, как у нас, на других- борьба с холодом и льдами. Наконец, всякая борьба прекратилась. Разумным существам осталось только довольствоваться плодами своих прежних побед. Наступает царство застоя. Научно-технические достижения, явившиеся результатом предыдущей борьбы,открыли возможность межзвездных сообщений. Но для чего использовали эту возможность жители тех планет, вставшие на наш шаблонный и ошибочный путь развития?Для поисков новых и более грандиозных форм борьбы,чтобы предотвратить застой и вырождение? Нет! Они стали летать друг к другу с дружественными целями, для удовлетворения научной любознательности. Но и эта любознательность со временем увянет, ибо она не воодушевляется никакой необходимостью.Таким образом, даже межзвездные сообщения не спасут от застоя и вырождения. В состоянии постепенного угасания разумные обитатели многочисленных планет того неизмеримо далекого времени пребывали миллионы лет. Достигнув полного благополучия, они уже не стремились ни к чему,просто наслаждались,нежились в лучах собственных солнц -естественных или даже искусственно созданных ими.Но Вселенная не может все время находиться в метафизически-неподвижном,устойчивом состоянии. Вот мы видим со своей воображаемой точки,как стали намечаться качественные изменения,гигантские превращения одних форм материи и энергии в другие. Гибли целые галактики,возникали новые.Древние,но изнеженные цивилизации, эти крохотные водоворотики жизни, бесследно исчезали в огромном потоке рушащихся миров и галактик.
Вир-Виан на минуту умолк, оглядел зал и с удовлетворением увидел внимательные лица.
— Но вот Вселенная снова пришла в относительно устойчивое состояние, — продолжал он,- и снова в разных ее уголках вспыхнули огоньки разума, колеблемые ветром космических пространств.Но и эти огоньки погасли по тем же причинам. И так повторялось бесчисленное множество раз.Вот почему мыслящий дух ни на одной из планет не смог добиться вечного существования, вечного и бесконечного роста и могущества.Вот почему ученые Зурганы,проникнув взором в неизмеримые дали Вселенной, не обнаружили ни малейших следов гигантской космической деятельности творческого разума.
— И я с полной уверенностью утверждаю,- раздавался в тишине громкий голос Вир-Виана, временами принимавший трагическое звучание,- что и наша Зургана будет принадлежать к тому же бесчисленному сонму погибших миров. Можем ли мы допустить это? Нет,надо бороться. Перед нами, зурганами,стоит великая космическая цель:не дать погибнуть разуму на нашей планете, как бы далека ни была эта гибель.А для этого,не в пример предыдущим погибшим цивилизациям, мы должны возвеличить мыслящий дух,сделать разум равновеликим Космосу,способным успешно бороться с его гигантскими враждебными силами. Что нужно для этого? Борьба и господство. Борьба — враг застоя и вырождения.Господство — условие высшей культуры.
Кто-то звонко рассмеялся.В зале зашумели.Вир-Виан поднял руку.На его губах играла сумрачная и высокомерная усмешка.Когда немного стихло, Вир-Виан опустил руку и сказал:
— Я знал,что слова «борьба и господство» вызовут у вас ироническую реакцию.Вы,может быть, думаете, что я призываю к возрождению иерархического строя шеронов? Нет.Шеронат рухнул на моих глазах,когда я был еще подростком. Он погиб закономерно и безвозвратно.Но он сыграл великую прогрессивную роль в планетарном масштабе, создав на Зургане самую высокую духовную культуру. Чем обусловлен невиданный взлет шеронской культуры? Борьбой и господством. Стоит подумать, и вы поймете, что борьба и господство всегда были наивысшим законом прогресса. Вспомните хотя бы некоторые биологические законы. Когда древние животные поднимались ступенькой выше по великой эволюционной лестнице, когда они делали шаг на победном пути к человеческой мудрости? Быть может,в спокойные периоды их жизни? Нет! В такие периоды животные вырождались,в их клетках накапливались деградирующие признаки.И наоборот. В кризисные,революционные моменты жизни, когда в борьбе за существование требовалось проявить максимум физических и психических усилий, животные обретали свои лучшие боевые качества:силу и хитрость, ловкость и сообразительность. В клетках организма происходили благоприятные мутации, которые,накапливаясь,передавались потомству.Таков объективный закон природы, и он относится не только к животным, но и к человеку, и ко всему человеческому обществу.
Я вам напомню одну древнюю,но мудрую шеронскую легенду. Очень давно, говорится в легенде,когда на Зургане еще не было человека,бог предложил двум живым существам на выбор- в одной руке сытую и спокойную жизнь, а в другой — стремление к ней. Более проворное животное схватило сытую и спокойную жизнь и убежало с нею в лес.Оно так и осталось животным существом.Другому досталось стремление к сытости и благополучию. И оно со временем стало мыслящим существом — человеком.
И вот сейчас,накануне межзвездных сообщений, вы предлагаете человечеству сытую жизнь и космическое братство. Я с негодованием отвергаю это розовое благополучие,без потрясений и борьбы. Взамен я предлагаю стремление к высокой цели.Вечное и безраздельное торжество духа над материей- вот эта цель.В конечном счете она,может быть, и недостижима.Но ведь в данном случае важна не сама цель, а стремление к ней, стремление, которое неизбежно предполагает борьбу и господство во вселенском масштабе.
Мы сейчас на пороге межзвездных сообщений.За первым кораблем уйдут в Космос,к другим планетам новые,более совершенные. И мы должны использовать эту возможность для борьбы и господства на новом,космическом этапе.Все жители Зурганы станут космическими шеронами,то есть господами во вселенском масштабе и творцами гигантских духовных ценностей. Все населенные планеты Космоса- сначала ближние,а затем и дальние- должны быть завоеваны нами.Но мы не будем жителей покоренных планет истреблять или обращать в физическое рабство.Нет,пусть завоеванные цивилизации развиваются,но под нашим руководством. Это даст возможность нашему человечеству избежать биологического и духовного угасания.Ведь само ощущение власти над другими цивилизациями явится условием воспитания сильных и гармоничных чувств. Кроме того,каждая,даже не очень развитая,цивилизация обладает неведомыми научными и техническими достижениями. И мы можем все научные открытия и технические идеи собирать, накапливать здесь, на Зургане, в памятных машинах.
Но Зургана не должна быть простым хранилищем научной информации Вселенной. Нет,ученые Зурганы будут обобщать,синтезировать эту информацию,создавая новые науки,которые сделают нас еще более могущественными.В результате Зургана сможет успешно бороться с цивилизациями, достигшими самого высокого уровня развития.Это будет апофеоз космической борьбы. Вселенная станет содрогаться от грома сталкивающихся небесных тел,озаряться вспышками взрывающихся звезд и целых галактик.Эта великолепная борьба, стремление к высшему господству предотвратят застой, биологическое и духовное угасание. В буре и грохоте космической борьбы будет выковываться воля и совершенствоваться мощный разум зурган-шеронов,разум,равновеликий Вселенной. Зургане соберут из удаленных уголков Вселенной новую научно-техническую информацию. Творчески обобщенная, она сделает нас еще более могучими и сильными в дальнейшей борьбе. Зургане покорят новые и самые высокоразвитые планеты, приблизятся к сферам отдаленнейших солнц.
Так будет побеждена извечная жестокость Космоса,и светоч разума не погаснет никогда. Факел разума на Зургане будет пылать на всю Вселенную, озаряя космическую ночь,согревая своим теплом не только нас, но и другие, подчиненные цивилизации,предохраняя их от гибели. В этом я вижу величие и космоцентризм человека Зурганы. Некогда зыбкий мыслящий дух станет могучим, будет создавать новые миры и галактики, управлять Вселенной, увековечив свое торжество над гигантскими стихийными силами. А Зургана, наша родная планета, станет столицей Космоса, планетой…
— Планетой-диктатором,- насмешливо подсказал один из арханов.
— Согласен с моим ироничным оппонентом,-усмехнувшись, сказал Вир-Виан.- Но повторяю:диктатура не самоцель,а необходимое средство для достижения грандиозной и благородной цели. Эта цель- защитить жизнь от враждебных космических сил, возвеличить ум, увековечить торжество мыслящего духа над косной материей. Да, наша Зургана станет столицей Космоса и солнцем разума всей Вселенной.
На этом Вир-Виан закончил свою речь и стал медленно сходить с трибуны, всем своим видом выражая презрение к людям, которые не хотят его понять.
— Хау!- закричал вдруг тощий лысый шерон из сектора ядерной физики.
— Хау!- поддержал его еще один шерон.
Таким восклицанием у нас, на Зургане, выражается высшее одобрение. Но этих двух шеронов больше никто не поддержал. Напротив, послышались недовольные возгласы, все зашумели.
Нанди-Нан, взойдя на трибуну, поднял руку и долго успокаивал расходившихся участников Всепланетного Круга ученых. Когда наступила тишина, он выразил сожаление,что один из выдающихся ученых Зурганы так жестоко ошибается в своих социально-космических взглядах,в прогнозах на будущее.Только на основе дружбы и сотрудничества с разумными обитателями других миров, сказал Нанди-Нан, можно победить враждебные силы Космоса. Эту же мысль высказывали и другие участники Круга.
Обсуждение проектов освоения Великой Экваториальной пустыни под влиянием речи Вир-Виана отклонилось в сторону. Многие выступающие, сказав несколько слов по поводу проектов, начинали возражать Вир-Виану и забирались в дебри космической философии.
Всепланетный круг ученых затянулся, и все начали чувствовать усталость. Наконец,открылись двери и заработали радиально расположенные эскалаторы. По ним люди спускались вниз.Эскалаторы напоминали многоцветные, шумные, веселые водопады. В этом людском потоке я потерял из виду Аэнну-Виан.
Когда мы очутились внизу, под огромным голубым шаром Дворца, Сэнди-Ски сказал:
— Приходи через некоторое время в аллею гелиодендронов, там найдешь меня.
И затерялся в толпе. Меня удивило загадочное поведение друга.
Ослепительный диск солнца только что скрылся за горизонтом.Наступила самая чудесная пора на Зургане- вечер с приятным для глаз полусумраком,с ласкающей прохладой.
Люди не расходились по домам,и дискуссия,начатая там,в Шаровом Дворце, не прекращалась.В сущности,Всепланетный Круг послужил лишь началом обсуждения, и споры словно выплескивались из сиреневого шара наружу, вспыхивали с новой силой в многочисленных аллеях и парках, прилегающих к Дворцу.
Дискуссии разгорелись в каждом доме,в узком семейном кругу, перед экранами всепланетной связи.Проблемы,затронутые учеными,обсуждала вся планета.Через несколько дней от населения начнут поступать предложения,и комиссия всепланетного Круга, проанализировав и обобщив их, выработает единое мнение планеты по обсуждавшемуся вопросу.
Я свернул в парк электродендронов.Здесь было особенно многолюдно. Парк привлекал людей свежим, бодрящим воздухом. Широкие и плотные листья электродендронов весь день поглощали лучистую энергию могучего светила. А сейчас, с наступлением темноты, деревья выделяли избыток энергии в виде электрических разрядов.То и дело раздавался сухой треск, вспыхивали, на миг озаряя густеющие сумерки,короткие молнии. Это деревья вели между собой электрическую перестрелку, озонируя воздух.
Люди шли группами,смеясь и оживленно беседуя. Один только я брел в одиночестве, невольно ловя обрывки фраз.
Некоторое время я шел с компанией очень веселых молодых людей, видимо, впервые присутствовавших на Круге.
— Вир-Виан не прав,- услышал я голос какого-то юнца.- Наступление на Экваториальную пустыню- это лишь начало космической борьбы с природой. И в этой борьбе человечество не изнежится, не захиреет.
— Вир-Виан хороший ученый, но плохой философ,- смеясь, сказал невысокий молодой человек.
— Банальный афоризм, — серьезно возразила ему девушка. — Я бы сказала о Вир-Виане иначе…
Но что она сказала бы о Вир-Виане,я так и не услышал. Молодые люди зашли в ажурную беседку и уселись за круглый стол, на котором в прозрачных сосудах искрились вина, стояла еда.Многие,проголодавшись,следовали их примеру. Споры в беседках разгорались с новой силой. Таким образом, вечер и начало ночи после Круга превращались в своеобразный праздник-дискуссию.
В аллее гелиодендронов,куда я зашел в надежде отыскать таинственно исчезнувшего Сэнди-Ски,стояла лирическая тишина. Высокие и густые деревья накопившуюся за день энергию выделяли бесшумно- свечением. К ночи крупные цветы гелиодендронов раскрылись и светились, как голубые фонари, привлекая ночных опыляющих насекомых.
Здесь было совсем мало народу. Голубые тихие сумерки аллеи стали убежищем влюбленных пар, которые сидели на качающихся скамейках под густыми кронами гелиодендронов.
Я почувствовал себя совсем одиноким и уже начал сердиться на Сэнди-Ски, как вдруг из-за поворота,в голубом сумеречном сиянии показалась его крупная фигура. Он разговаривал с какой-то девушкой. Неуловимое изящество походки, отточенная и в то же время естественная грация жестов и движений… Да это же Аэнна! Теперь я начал понимать причину загадочного поведения Сэнди-Ски: он хотел словно случайно познакомить меня с Аэнной.
— Эо, Тонри! — воскликнул он с таким видом, как будто видел меня сегодня впервые. И с деланным удивлением спросил: — Ты почему один?
Обратившись к Аэнне, он шутливо-торжественным тоном сказал:
— Да будет тебе известно, Аэнна,это Тонри-Ро- начальник нашей экспедиции, первый разведчик Вселенной, первооткрыватель звездных миров.
— Можно не представлять,- рассмеялась она и в тон Сэнди-Ски шутливо продолжила:- Астронавты настолько популярны сейчас,что их все знают.Это не то что мы,историки,археологи и люди прочих незаметных, сереньких профессий, все более оттираемых в неизвестность воинственным племенем астронавтов.
В присутствии друга я чувствовал себя легко и свободно. Мы вошли в потрескивающий разрядами парк электродендронов и заняли в беседке свободный столик. Но тут Сэнди-Ски неожиданно вскочил:
— Черт побери! Я и забыл, что мне надо обязательно встретиться с Нанди-Наном. Извините меня.
И он ушел,оставив нас с Аэнной.Взглянув друг на друга, мы рассмеялись над неуклюжей хитростью Сэнди-Ски: он явно хотел оставить нас вдвоем.
 Вверху,прямо над нами,с колючим треском вспыхнула молния электроразряда. В ее мгновенном, но ярком свете я впервые разглядел глаза Аэнны-Виан: темно-синие, как утренний океан, глубокие, как горные озера. Ее густые волосы, освещаемые сзади многочисленными крохотными молниями электроразрядов, казались усыпанными танцующей звездной пылью. Аэнна была до того неправдоподобно красива,что меня охватила непривычная робость. Наступило неловкое молчание. Первой нарушила его Аэнна.
— Как тебе понравилось выступление моего отца? — спросила она.
— Мне оно понравилось.
— Вот как!- Ее брови взметнулись,как крылья встревоженной птицы.- Не ожидала. Значит, ты хотел бы стать астронавтом-завоевателем?
На ее серьезном лице скользнула уже знакомая мне улыбка, печальная и слегка ироническая.
— Нет, не то,- смутился я. — Мне понравилась яркая поэтичность речи.
— Но все это форма выступления.Я согласна с тобой: речь его временами просто талантлива. Мой отец вообще, к сожалению, очень талантливый человек.
— Почему к сожалению?!- удивился я.
— Ну,об этом долго рассказывать.Моего отца по-настоящему мало кто знает, — медленно и с грустью проговорила она. Немного помолчав, она спросила:
— Как все-таки ты относишься к выступлению моего отца? Я имею в виду, конечно, содержание, а не форму.
— У меня к нему двойственное отношение.
— Двойственное?-снова удивилась она.-Какое может быть двойственное отношение к столь путаной, ошибочной философии.
— Согласен: в речи твоего отца много путаницы и ошибок, — заговорил я свободно,отделавшись, наконец, от смущения. — Но, с другой стороны, она привлекает своим бунтарским характером.В ней звучит проповедь бунта мыслящего духа против враждебных сил Космоса, стремление к построению цивилизации исполинской и вечной.
— Ого, ты начинаешь усваивать стиль речи моего отца,- рассмеялась Аэнна. Затем спросила:-И что же нужно делать?Неужели для этого необходима борьба во вселенском масштабе,завоевание населенных планет,грабежи научно-технических достижений и, чтобы не выродиться, господство жителей Зурганы над всеми мыслящими обитателями Космоса?
— Нет, конечно…- начал я.
Но в это время Аэнна воскликнула:
— А вот и твой кумир идет! Посмотри.
В парке появился Вир-Виан в сопровождении нескольких шеронов. Среди них я увидел высокого лысого старика, который громко кричал на Круге «хау».
— Ты подожди меня,- сказала Аэнна, вставая, — я на минуту подойду к отцу, спрошу, когда мы будем возвращаться домой.
Вернувшись, Аэнна весело заговорила:
— А знаешь, ты пользуешься у моего отца большим успехом. Он хочет поближе познакомиться с начальником первой межзвездной экспедиции. Он дал мне понять,что было бы неплохо, если бы я пригласила тебя в наш дом. А ведь мой отец — нелюдим.
Вир-Виан, оживленно беседуя с шеронами, остановился недалеко от нас. Шероны часто оборачивались и смотрели в нашу сторону. Один из них был до того стар, что его щеки обвисли и болтались, как салфетки.
— Пойдем отсюда в аллею гелиодендронов,- предложила Аэнна.- Друзья моего отца — не очень приятное зрелище.
В аллее гелиодендронов мы шли некоторое время молча, прислушиваясь к приятному гулу ночных насекомых, перелетающих с одного светящегося цветка на другой. На черном небе огненной росой сверкали звезды. Среди них выделялась ярким блеском Туанга- царица северного неба.
— Туанга!- задумчиво заговорила Аэнна.-Когда я смотрю на нее, мне кажется, что там, в немыслимой дали, живут на цветущей планете невыразимо прекрасные существа.Их разум сверкает подобно голубой звезде Туагне, словно вобравшей в себя весь свет мирового пространства. И никакие черные провалы Космоса не затмят этот блеск,никакие вселенские катаклизмы не сокрушат могучую цивилизацию, вставшую на путь вечного совершенствования и развития. Со временем и наша Зургана станет такой же.И тогда две прекрасные цивилизации, разделенные огромным расстоянием, найдут друг друга, сольются, чтобы стать еще могущественней и прекрасней, чтобы в неизмеримых глубинах Космоса искать себе подобных. И так без конца.Разум Вселенной будет разгораться все ярче и ни когда не погаснет, не станет жалкой игрушкой в руках гигантских стихийных сил.Перед ним вечная борьба с природой,вечная и неутолимая жажда творчества и познания.
Смутившись, Аэнна усмехнулась и сказала:
— Вот видишь,я тоже начала выражаться патетически, как и мой отец. Но я иначе,чем он,представляю развитие мирового мыслящего духа.Конечно, разумные обитатели отдельных планет, достигнув определенного и даже сравнительно высокого уровня развития,все же, вероятно, гибнут в потоке всесокрушающих враждебных сил Космоса.И задача могучих цивилизаций не покорять их, не господствовать над ними, а помогать. Здесь я не согласна с моим отцом и его горячим единомышленником.
— С каким единомышленником?-спросил я.- Это с тем тощим и лысым шероном?
— Да нет же, я имею в виду тебя,- рассмеялась Аэнна. Но слова ее звучали скорее дружелюбно, чем насмешливо.
— Это же клевета,Аэнна,- возразил я.- Идея агрессии, этакого космического разбоя, у меня вызывает отвращение. К тому же я считаю, что величайшие достижения науки неотделимы от высшей гуманности.Покорение других планет, господство над ними вообще невозможны нигде и никогда. Само по себе освоение Космоса предполагает такой высокий уровень сознания, который исключает все это.
— Ты так думаешь?А напрасно.То есть мысль вообще-то правильная, но не во всех случаях.Конечно, на подавляющем большинстве населенных планет общество разумных существ развивается в принципе таким же путем, как и у нас на Северном полюсе.Развитие смутных эпох завершается великим переворотом, установлением гармонического общества на всей планете. Однако не исключена и другая возможность.На какой-нибудь планете цивилизация, даже достигнув необычайных научно-технических высот,может получить уродливые, злые, антигуманистические формы.Ведь перед нами пример не только Северного полюса, но и Южного,где иерархический общественный строй держался тысячелетиями при очень высокой культуре. Почему-то у нас недооценивают историю многовекового господства шеронов, считая это господство высококультурной расы чем-то случайным, незакономерным. Расскажи, например, что ты знаешь о шеронате?
Я вспомнил то, что говорили нам об истории Южного полюса в высшей школе астронавтов.
— Однако немногому вас учили.Я так и знала,что история Юга недооценивается. Факты ты,конечно,знаешь,но без глубокого проникновения в них. Ты астронавт и тем не менее не понимаешь космической опасности, заключенной в самой идее шероната.Предположим- а такая возможность не была исключена,- что иерархический строй шеронов распространился бы на Северный полюс.В этом случае шеронат на планете сохранялся бы еще многие столетия и вышел бы во Вселенную,стремясь к космическому господству.В сущности,к этому и сводилось все выступление моего отца. Он призывал Всепланетный Круг к мирному восстановлению шероната,не особенно на это надеясь.Для убедительности он использовал философские софизмы, устрашая слушателей грядущим вырождением и гибелью вселенского разума. Он настолько одержим этой идеей,что не прочь бы прибегнуть к военному возрождению шероната.Но для этого у него нет таких условий.Большинство шеронов его не поддержит. А самое главное,нет основной военной силы шеронов- фарсанов, все они погибли в войне с северянами. Я специально занимаюсь древней историей шеронов и их воинственных фарсанов и с удовольствием расскажу об этом подробнее. Тебе, астронавту, это полезно знать. Хочешь послушать?
— В другой раз,- сказал я, давая понять, что наша сегодняшняя встреча не будет последней.
— Хорошо,- согласилась Аэнна.- Лучше всего завтра днем. Весь день завтра я буду у отца.Ты знаешь, где он живет? Ну да, в оазисе Риоль. Он живет, как отшельник,в пустыне,чтобы любопытные не мешали его научным изысканиям. Но попасть к нам не так просто.Надо знать шифр,который меняется каждые пять дней. Тебе его можно знать: ведь отец сам желает видеть тебя. На воротах увидишь циферблат и наберешь шифр: ДН-34-03.
В это время мы проходили мимо висячей скамейки. На ней, видимо, кто-то сидел совсем недавно: скамейка еще слегка раскачивалась.Мы сели на нее и с увлечением заговорили о другом- о своей жизни, об искусстве, о природе. Это были прекрасные минуты.Над нами шелестели листья огромного гелиодендрона. Его светящиеся цветы чуть раскачивались, когда на них с радостным гудением садились ночные насекомые. Голубой свет пробивался сквозь шуршащие листья и падал на дорожку, рисуя меняющиеся, причудливые узоры. А вверху, над нами, неуловимо-медленно и беззвучно кружился хоровод серебристых звезд во главе с царственной Туангой…
Нет, не могу без волнения и щемящей грусти вспоминать эту ночь. Именно тогда я впервые почувствовал,что,улетая в скором времени в Космос,я покину, и быть может навсегда,одну из самых прекраснейших планет Вселенной. Думая о Зургане, я всегда вспоминаю и голубые светящиеся цветы гелиодендронов, и трепетные тени на дорожке аллеи, и огненную россыпь звезд, и голос Аэнны…
Когда Аэнна рассказывала о себе, в ее голосе звучала грусть.Я начал понимать причины этой грусти.Она любила отца и в то же время не понимала его,не разделяла его взглядов. Но она не покидала отца. Ведь он был так одинок, если не считать его помощников по научной работе.
— Странные они, эти помощники,- говорила Аэнна.- Люди это,безусловно, одаренные.Многие из них участники сегодняшнего Круга.Совсем недавно были они общительными, находили время беседовать со мной.Часто спорили с отцом, не соглашались с ним по многим научно-философским вопросам. Дело доходило до разрыва. Многие собирались уйти,несмотря на то, что в лаборатории отца проводились какие-то интересные опыты.Какие- я не знаю.Отец не пускает туда никого,кроме помощников.И вдруг с помощниками произошли непонятные перемены. Они стали менее общительными.Лишь изредка вступают со мной в короткий разговор,даже шутят.Но делают это словно по обязанности, торопятся поскорее скрыться в лаборатории.Работают на отца,как рабы. И что самое удивительное — никаких споров, никаких разногласий. Они во всем соглашаются с моим отцом, поддерживают и даже пытаются развивать дальше его ошибочные, зачастую идеалистические философские концепции. Отец, конечно, обладает могучим интеллектом и сильной волей.Но впасть в полное духовное порабощение- это уже слишком,в этом что-то непонятное.Я сама стала избегать встреч с помощниками. Особенно я боялась одного типа,который используется отцом на самых черновых работах. Он мне внушал просто отвращение. Причину своего отвращения я поняла недавно, когда услышала от отца, что этот тип совсем даже не человек…
На этом мой сон оборвался. Сильным толчком я был выброшен из постели. Таблетки приятных сновидений тогда хороши, когда вокруг все спокойно. Но с кораблем творилось что-то неладное. Последние слова Аэнны прозвучали в моем мозгу,когда я уже летел в воздухе.Больно ударившись плечом об угол клавишного столика, проснулся на полу каюты.
Корабль резко,рывками бросало из стороны в сторону.Я беспомощно катался по каюте,отскакивая от стен, как мяч. Наконец, я уцепился за ножку клавишного столика и взглянул на тревожно мигавший аварийный сигнал.Две красные вспышки и одна белая… Метеоритная опасность!…
Я живо представил, словно со стороны, картину судорожных движений нашего звездолета в космическом пространстве.Корабль,очевидно, попал в метеоритную тучу и то ускорял полет,то замедлял его,лавировал,избегая грозной встречи с крупными метеоритами. Мелкие обломки барабанили по сверхпрочной обшивке корпуса, не причиняя ему особого вреда. Корабль напоминал сейчас огромный грохочущий колокол, по которому с чудовищной силой били тысячи молотов.
Скорее в рубку управления! Надо немедленно найти ближайшую границу метеоритного облака и вырваться из него.
Держась за столик, я поднялся и бросился к двери. Неудача! Крутой поворот корабля- и я снова катался по полу.Ползком я все же добрался до двери. Нажал кнопку,и дверь автоматически открылась. В узком коридоре мне было уже легче. Упираясь руками в стены,я дошел до лестницы и уцепился за перила.Поднялся в кают-компанию.Наполненная грохотом темнота кают-компании изредка прерывалась кровавыми вспышками аварийной лампочки. Резкий удар- и лампочка погасла. На противоположном конце кают-компании- дверь в рубку управления.Нажимая кнопку, я пытался открыть ее и застопорить в открытом состоянии. Но автоматика управления дверью, видимо, вышла из строя. Дверь не открывалась.
Что делать? Пока я размышлял, дверь неожиданно, после резкого толчка корабля,сама пришла в движение.Она то открывалась,то,звеня,со страшной силой захлопывалась. Когда дверь открывалась, из рубки управления вырывался белый сноп света. Теперь надо проскочить в дверь так, чтобы не быть раздавленным.
Цепляясь за наглухо прикрепленные к полу кресла,я добрался до взбесившейся двери. У пульта управления сидел, прикрепившись к креслу, Тари-Тау.
— Тари-Тау!- крикнул я как можно громче.
Молодой штурман обернулся.И меня словно озарило:человек!Тари-Тау- человек! Фарсан не может так бесподобно вести себя. На побледневшем лице Тари-Тау я увидел неподдельную растерянность и даже страх.Бедный мальчик! Он, конечно, растерялся, попав в такой неожиданный и опасный переплет.
— Освободи место!- прокричал я. Несмотря на опасность, в моем голосе звучала радость. — Встань позади кресла.
Дверь оглушительно захлопнулась и через секунду снова открылась. Тари-Тау уже стоял позади кресла, вцепившись в спинку.
Я прыгнул в дверь и скоро, пристегнувшись, сидел в мягком кресле.
На экране радароскопа мелькали светлячки — изображения твердых частиц. Корабль не может самостоятельно,с помощью автопилота,выйти из этого густого метеоритного роя.При самостоятельном полете он руководствуется, словно живой организм, своим инстинктом самосохранения, слепым и недальновидным. Поэтому, попав в метеоритную тучу,корабль не полетел наперерез потоку твердых частиц, чтобы скорее вырваться из него.Он выбрал самое простое и безопасное — включился в общий метеоритный поток.Таким образом, уменьшалась опасность встречи с большими частицами.Кроме того, даже в случае столкновения с крупным,но параллельно летящим метеоритом сила удара не была бы такой разрушительной.
Взглянув на правый боковой радароскоп,я похолодел:в центре экрана, совсем близко,качалась, вращаясь вокруг своей оси, тень огромного обломка скалы. Я отчетливо видел зазубренные края.Но корабль реагировал слабо,так как обломок летел параллельным курсом. Метеорит все же коснулся обшивки корабля. Раздался скрежет. Обломок, скользнув по обшивке, остался позади.
Нет,так не годится.Если не помочь кораблю выйти из метеоритного потока, он погибнет.Вращая боковыми радароскопами,я отыскал ближайшую границу метеоритного облака и решительно направил туда корабль. Опасность, конечно, возросла. Звездолет делал отчаянные рывки и уклоны. Но ему все же не удалось избежать столкновения с довольно крупным, величиной с кулак, метеоритом, который взорвался,к счастью, в носовой, наиболее прочной части звездолета. Корабль затрясся и зазвенел,стрелки приборов беспорядочно запрыгали. Но все обошлось благополучно.Мы вырвались из страшного метеоритного плена.Правда, в пространстве еще носились отдельные обломки, и корабль качался из стороны в сторону, избегая встреч с ними. Но это была спокойная качка, какая бывает в море после шторма на длинных и пологих волнах. Вскоре прекратилась и она. На стеклозон горизонтальных приборов можно было положить ртутный шарик, и он не сдвинулся бы с места — так ровно летел сейчас корабль.
— Все, — с облегчением вздохнул я и обернулся назад.
Тари-Тау!Он смотрел на меня с таким смущением,что мне стало жаль его.Милый юноша! Он переживал за свой недавний страх и растерянность. Мне хотелось утешить его, даже обнять как своего единственного союзника.
В рубке управления столпились все фарсаны: Лари-Ла и Рогус- бледные и перепуганные, Али-Ан- как всегда, невозмутимый и спокойный,и хмурый, чем-то недовольный Сэнди-Ски.
— В чем дело, Сэнди?- спросил я.-Чем недоволен?
— Это я виноват, — угрюмо проворчал Сэнди-Ски.- Я предполагал, что между орбитами четвертой и пятой планет есть густая метеоритная зона- обломки погибшей планеты. Но я не придал этому особого значения и не предупредил.
— Не расстраивайся,Сэнди.Видишь,все в порядке,- улыбнулся я, показывая на приборы и аварийные лампочки.Тревожная сигнализация прекратилась.По приборам можно было определить, что корабль не имел серьезных повреждений.
В это время зазвучала бодрая утренняя мелодия.
— Сейчас нам отдыхать некогда, — сказал я. — Сегодня под руководством бортинженера Рогуса все будут осматривать корабль. Проверить все отсеки и механизмы. Выявить и устранить все, даже малейшие, неисправности и скрытые повреждения.
Вверху,прямо над нами,с колючим треском вспыхнула молния электроразряда. В ее мгновенном, но ярком свете я впервые разглядел глаза Аэнны-Виан: темно-синие, как утренний океан, глубокие, как горные озера. Ее густые волосы, освещаемые сзади многочисленными крохотными молниями электроразрядов, казались усыпанными танцующей звездной пылью. Аэнна была до того неправдоподобно красива,что меня охватила непривычная робость. Наступило неловкое молчание. Первой нарушила его Аэнна.
— Как тебе понравилось выступление моего отца? — спросила она.
— Мне оно понравилось.
— Вот как!- Ее брови взметнулись,как крылья встревоженной птицы.- Не ожидала. Значит, ты хотел бы стать астронавтом-завоевателем?
На ее серьезном лице скользнула уже знакомая мне улыбка, печальная и слегка ироническая.
— Нет, не то,- смутился я. — Мне понравилась яркая поэтичность речи.
— Но все это форма выступления.Я согласна с тобой: речь его временами просто талантлива. Мой отец вообще, к сожалению, очень талантливый человек.
— Почему к сожалению?!- удивился я.
— Ну,об этом долго рассказывать.Моего отца по-настоящему мало кто знает, — медленно и с грустью проговорила она. Немного помолчав, она спросила:
— Как все-таки ты относишься к выступлению моего отца? Я имею в виду, конечно, содержание, а не форму.
— У меня к нему двойственное отношение.
— Двойственное?-снова удивилась она.-Какое может быть двойственное отношение к столь путаной, ошибочной философии.
— Согласен: в речи твоего отца много путаницы и ошибок, — заговорил я свободно,отделавшись, наконец, от смущения. — Но, с другой стороны, она привлекает своим бунтарским характером.В ней звучит проповедь бунта мыслящего духа против враждебных сил Космоса, стремление к построению цивилизации исполинской и вечной.
— Ого, ты начинаешь усваивать стиль речи моего отца,- рассмеялась Аэнна. Затем спросила:-И что же нужно делать?Неужели для этого необходима борьба во вселенском масштабе,завоевание населенных планет,грабежи научно-технических достижений и, чтобы не выродиться, господство жителей Зурганы над всеми мыслящими обитателями Космоса?
— Нет, конечно…- начал я.
Но в это время Аэнна воскликнула:
— А вот и твой кумир идет! Посмотри.
В парке появился Вир-Виан в сопровождении нескольких шеронов. Среди них я увидел высокого лысого старика, который громко кричал на Круге «хау».
— Ты подожди меня,- сказала Аэнна, вставая, — я на минуту подойду к отцу, спрошу, когда мы будем возвращаться домой.
Вернувшись, Аэнна весело заговорила:
— А знаешь, ты пользуешься у моего отца большим успехом. Он хочет поближе познакомиться с начальником первой межзвездной экспедиции. Он дал мне понять,что было бы неплохо, если бы я пригласила тебя в наш дом. А ведь мой отец — нелюдим.
Вир-Виан, оживленно беседуя с шеронами, остановился недалеко от нас. Шероны часто оборачивались и смотрели в нашу сторону. Один из них был до того стар, что его щеки обвисли и болтались, как салфетки.
— Пойдем отсюда в аллею гелиодендронов,- предложила Аэнна.- Друзья моего отца — не очень приятное зрелище.
В аллее гелиодендронов мы шли некоторое время молча, прислушиваясь к приятному гулу ночных насекомых, перелетающих с одного светящегося цветка на другой. На черном небе огненной росой сверкали звезды. Среди них выделялась ярким блеском Туанга- царица северного неба.
— Туанга!- задумчиво заговорила Аэнна.-Когда я смотрю на нее, мне кажется, что там, в немыслимой дали, живут на цветущей планете невыразимо прекрасные существа.Их разум сверкает подобно голубой звезде Туагне, словно вобравшей в себя весь свет мирового пространства. И никакие черные провалы Космоса не затмят этот блеск,никакие вселенские катаклизмы не сокрушат могучую цивилизацию, вставшую на путь вечного совершенствования и развития. Со временем и наша Зургана станет такой же.И тогда две прекрасные цивилизации, разделенные огромным расстоянием, найдут друг друга, сольются, чтобы стать еще могущественней и прекрасней, чтобы в неизмеримых глубинах Космоса искать себе подобных. И так без конца.Разум Вселенной будет разгораться все ярче и ни когда не погаснет, не станет жалкой игрушкой в руках гигантских стихийных сил.Перед ним вечная борьба с природой,вечная и неутолимая жажда творчества и познания.
Смутившись, Аэнна усмехнулась и сказала:
— Вот видишь,я тоже начала выражаться патетически, как и мой отец. Но я иначе,чем он,представляю развитие мирового мыслящего духа.Конечно, разумные обитатели отдельных планет, достигнув определенного и даже сравнительно высокого уровня развития,все же, вероятно, гибнут в потоке всесокрушающих враждебных сил Космоса.И задача могучих цивилизаций не покорять их, не господствовать над ними, а помогать. Здесь я не согласна с моим отцом и его горячим единомышленником.
— С каким единомышленником?-спросил я.- Это с тем тощим и лысым шероном?
— Да нет же, я имею в виду тебя,- рассмеялась Аэнна. Но слова ее звучали скорее дружелюбно, чем насмешливо.
— Это же клевета,Аэнна,- возразил я.- Идея агрессии, этакого космического разбоя, у меня вызывает отвращение. К тому же я считаю, что величайшие достижения науки неотделимы от высшей гуманности.Покорение других планет, господство над ними вообще невозможны нигде и никогда. Само по себе освоение Космоса предполагает такой высокий уровень сознания, который исключает все это.
— Ты так думаешь?А напрасно.То есть мысль вообще-то правильная, но не во всех случаях.Конечно, на подавляющем большинстве населенных планет общество разумных существ развивается в принципе таким же путем, как и у нас на Северном полюсе.Развитие смутных эпох завершается великим переворотом, установлением гармонического общества на всей планете. Однако не исключена и другая возможность.На какой-нибудь планете цивилизация, даже достигнув необычайных научно-технических высот,может получить уродливые, злые, антигуманистические формы.Ведь перед нами пример не только Северного полюса, но и Южного,где иерархический общественный строй держался тысячелетиями при очень высокой культуре. Почему-то у нас недооценивают историю многовекового господства шеронов, считая это господство высококультурной расы чем-то случайным, незакономерным. Расскажи, например, что ты знаешь о шеронате?
Я вспомнил то, что говорили нам об истории Южного полюса в высшей школе астронавтов.
— Однако немногому вас учили.Я так и знала,что история Юга недооценивается. Факты ты,конечно,знаешь,но без глубокого проникновения в них. Ты астронавт и тем не менее не понимаешь космической опасности, заключенной в самой идее шероната.Предположим- а такая возможность не была исключена,- что иерархический строй шеронов распространился бы на Северный полюс.В этом случае шеронат на планете сохранялся бы еще многие столетия и вышел бы во Вселенную,стремясь к космическому господству.В сущности,к этому и сводилось все выступление моего отца. Он призывал Всепланетный Круг к мирному восстановлению шероната,не особенно на это надеясь.Для убедительности он использовал философские софизмы, устрашая слушателей грядущим вырождением и гибелью вселенского разума. Он настолько одержим этой идеей,что не прочь бы прибегнуть к военному возрождению шероната.Но для этого у него нет таких условий.Большинство шеронов его не поддержит. А самое главное,нет основной военной силы шеронов- фарсанов, все они погибли в войне с северянами. Я специально занимаюсь древней историей шеронов и их воинственных фарсанов и с удовольствием расскажу об этом подробнее. Тебе, астронавту, это полезно знать. Хочешь послушать?
— В другой раз,- сказал я, давая понять, что наша сегодняшняя встреча не будет последней.
— Хорошо,- согласилась Аэнна.- Лучше всего завтра днем. Весь день завтра я буду у отца.Ты знаешь, где он живет? Ну да, в оазисе Риоль. Он живет, как отшельник,в пустыне,чтобы любопытные не мешали его научным изысканиям. Но попасть к нам не так просто.Надо знать шифр,который меняется каждые пять дней. Тебе его можно знать: ведь отец сам желает видеть тебя. На воротах увидишь циферблат и наберешь шифр: ДН-34-03.
В это время мы проходили мимо висячей скамейки. На ней, видимо, кто-то сидел совсем недавно: скамейка еще слегка раскачивалась.Мы сели на нее и с увлечением заговорили о другом- о своей жизни, об искусстве, о природе. Это были прекрасные минуты.Над нами шелестели листья огромного гелиодендрона. Его светящиеся цветы чуть раскачивались, когда на них с радостным гудением садились ночные насекомые. Голубой свет пробивался сквозь шуршащие листья и падал на дорожку, рисуя меняющиеся, причудливые узоры. А вверху, над нами, неуловимо-медленно и беззвучно кружился хоровод серебристых звезд во главе с царственной Туангой…
Нет, не могу без волнения и щемящей грусти вспоминать эту ночь. Именно тогда я впервые почувствовал,что,улетая в скором времени в Космос,я покину, и быть может навсегда,одну из самых прекраснейших планет Вселенной. Думая о Зургане, я всегда вспоминаю и голубые светящиеся цветы гелиодендронов, и трепетные тени на дорожке аллеи, и огненную россыпь звезд, и голос Аэнны…
Когда Аэнна рассказывала о себе, в ее голосе звучала грусть.Я начал понимать причины этой грусти.Она любила отца и в то же время не понимала его,не разделяла его взглядов. Но она не покидала отца. Ведь он был так одинок, если не считать его помощников по научной работе.
— Странные они, эти помощники,- говорила Аэнна.- Люди это,безусловно, одаренные.Многие из них участники сегодняшнего Круга.Совсем недавно были они общительными, находили время беседовать со мной.Часто спорили с отцом, не соглашались с ним по многим научно-философским вопросам. Дело доходило до разрыва. Многие собирались уйти,несмотря на то, что в лаборатории отца проводились какие-то интересные опыты.Какие- я не знаю.Отец не пускает туда никого,кроме помощников.И вдруг с помощниками произошли непонятные перемены. Они стали менее общительными.Лишь изредка вступают со мной в короткий разговор,даже шутят.Но делают это словно по обязанности, торопятся поскорее скрыться в лаборатории.Работают на отца,как рабы. И что самое удивительное — никаких споров, никаких разногласий. Они во всем соглашаются с моим отцом, поддерживают и даже пытаются развивать дальше его ошибочные, зачастую идеалистические философские концепции. Отец, конечно, обладает могучим интеллектом и сильной волей.Но впасть в полное духовное порабощение- это уже слишком,в этом что-то непонятное.Я сама стала избегать встреч с помощниками. Особенно я боялась одного типа,который используется отцом на самых черновых работах. Он мне внушал просто отвращение. Причину своего отвращения я поняла недавно, когда услышала от отца, что этот тип совсем даже не человек…
На этом мой сон оборвался. Сильным толчком я был выброшен из постели. Таблетки приятных сновидений тогда хороши, когда вокруг все спокойно. Но с кораблем творилось что-то неладное. Последние слова Аэнны прозвучали в моем мозгу,когда я уже летел в воздухе.Больно ударившись плечом об угол клавишного столика, проснулся на полу каюты.
Корабль резко,рывками бросало из стороны в сторону.Я беспомощно катался по каюте,отскакивая от стен, как мяч. Наконец, я уцепился за ножку клавишного столика и взглянул на тревожно мигавший аварийный сигнал.Две красные вспышки и одна белая… Метеоритная опасность!…
Я живо представил, словно со стороны, картину судорожных движений нашего звездолета в космическом пространстве.Корабль,очевидно, попал в метеоритную тучу и то ускорял полет,то замедлял его,лавировал,избегая грозной встречи с крупными метеоритами. Мелкие обломки барабанили по сверхпрочной обшивке корпуса, не причиняя ему особого вреда. Корабль напоминал сейчас огромный грохочущий колокол, по которому с чудовищной силой били тысячи молотов.
Скорее в рубку управления! Надо немедленно найти ближайшую границу метеоритного облака и вырваться из него.
Держась за столик, я поднялся и бросился к двери. Неудача! Крутой поворот корабля- и я снова катался по полу.Ползком я все же добрался до двери. Нажал кнопку,и дверь автоматически открылась. В узком коридоре мне было уже легче. Упираясь руками в стены,я дошел до лестницы и уцепился за перила.Поднялся в кают-компанию.Наполненная грохотом темнота кают-компании изредка прерывалась кровавыми вспышками аварийной лампочки. Резкий удар- и лампочка погасла. На противоположном конце кают-компании- дверь в рубку управления.Нажимая кнопку, я пытался открыть ее и застопорить в открытом состоянии. Но автоматика управления дверью, видимо, вышла из строя. Дверь не открывалась.
Что делать? Пока я размышлял, дверь неожиданно, после резкого толчка корабля,сама пришла в движение.Она то открывалась,то,звеня,со страшной силой захлопывалась. Когда дверь открывалась, из рубки управления вырывался белый сноп света. Теперь надо проскочить в дверь так, чтобы не быть раздавленным.
Цепляясь за наглухо прикрепленные к полу кресла,я добрался до взбесившейся двери. У пульта управления сидел, прикрепившись к креслу, Тари-Тау.
— Тари-Тау!- крикнул я как можно громче.
Молодой штурман обернулся.И меня словно озарило:человек!Тари-Тау- человек! Фарсан не может так бесподобно вести себя. На побледневшем лице Тари-Тау я увидел неподдельную растерянность и даже страх.Бедный мальчик! Он, конечно, растерялся, попав в такой неожиданный и опасный переплет.
— Освободи место!- прокричал я. Несмотря на опасность, в моем голосе звучала радость. — Встань позади кресла.
Дверь оглушительно захлопнулась и через секунду снова открылась. Тари-Тау уже стоял позади кресла, вцепившись в спинку.
Я прыгнул в дверь и скоро, пристегнувшись, сидел в мягком кресле.
На экране радароскопа мелькали светлячки — изображения твердых частиц. Корабль не может самостоятельно,с помощью автопилота,выйти из этого густого метеоритного роя.При самостоятельном полете он руководствуется, словно живой организм, своим инстинктом самосохранения, слепым и недальновидным. Поэтому, попав в метеоритную тучу,корабль не полетел наперерез потоку твердых частиц, чтобы скорее вырваться из него.Он выбрал самое простое и безопасное — включился в общий метеоритный поток.Таким образом, уменьшалась опасность встречи с большими частицами.Кроме того, даже в случае столкновения с крупным,но параллельно летящим метеоритом сила удара не была бы такой разрушительной.
Взглянув на правый боковой радароскоп,я похолодел:в центре экрана, совсем близко,качалась, вращаясь вокруг своей оси, тень огромного обломка скалы. Я отчетливо видел зазубренные края.Но корабль реагировал слабо,так как обломок летел параллельным курсом. Метеорит все же коснулся обшивки корабля. Раздался скрежет. Обломок, скользнув по обшивке, остался позади.
Нет,так не годится.Если не помочь кораблю выйти из метеоритного потока, он погибнет.Вращая боковыми радароскопами,я отыскал ближайшую границу метеоритного облака и решительно направил туда корабль. Опасность, конечно, возросла. Звездолет делал отчаянные рывки и уклоны. Но ему все же не удалось избежать столкновения с довольно крупным, величиной с кулак, метеоритом, который взорвался,к счастью, в носовой, наиболее прочной части звездолета. Корабль затрясся и зазвенел,стрелки приборов беспорядочно запрыгали. Но все обошлось благополучно.Мы вырвались из страшного метеоритного плена.Правда, в пространстве еще носились отдельные обломки, и корабль качался из стороны в сторону, избегая встреч с ними. Но это была спокойная качка, какая бывает в море после шторма на длинных и пологих волнах. Вскоре прекратилась и она. На стеклозон горизонтальных приборов можно было положить ртутный шарик, и он не сдвинулся бы с места — так ровно летел сейчас корабль.
— Все, — с облегчением вздохнул я и обернулся назад.
Тари-Тау!Он смотрел на меня с таким смущением,что мне стало жаль его.Милый юноша! Он переживал за свой недавний страх и растерянность. Мне хотелось утешить его, даже обнять как своего единственного союзника.
В рубке управления столпились все фарсаны: Лари-Ла и Рогус- бледные и перепуганные, Али-Ан- как всегда, невозмутимый и спокойный,и хмурый, чем-то недовольный Сэнди-Ски.
— В чем дело, Сэнди?- спросил я.-Чем недоволен?
— Это я виноват, — угрюмо проворчал Сэнди-Ски.- Я предполагал, что между орбитами четвертой и пятой планет есть густая метеоритная зона- обломки погибшей планеты. Но я не придал этому особого значения и не предупредил.
— Не расстраивайся,Сэнди.Видишь,все в порядке,- улыбнулся я, показывая на приборы и аварийные лампочки.Тревожная сигнализация прекратилась.По приборам можно было определить, что корабль не имел серьезных повреждений.
В это время зазвучала бодрая утренняя мелодия.
— Сейчас нам отдыхать некогда, — сказал я. — Сегодня под руководством бортинженера Рогуса все будут осматривать корабль. Проверить все отсеки и механизмы. Выявить и устранить все, даже малейшие, неисправности и скрытые повреждения.
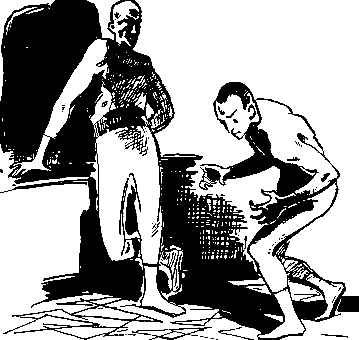 — Не понимаешь?-рассмеялся Рогус.-И не поймешь.Я недавно его сконструировал. Тонри-Ро,к сожалению,поумнее тебя, но и он никогда не догадается о назначении этого прибора.
— Как ведет себя Тонри-Ро?
— Хорошо ведет,- уверенно ответил Рогус.- Я бы даже сказал, отлично. Он ничего не знает,этот простачок, с головой погруженный в астрофизику.
— А как его проверяли? — спросил «мой» фарсан.
— А Тари-Тау для чего? О,Тари-Тау — хитрая приманка.
— Не понимаешь?-рассмеялся Рогус.-И не поймешь.Я недавно его сконструировал. Тонри-Ро,к сожалению,поумнее тебя, но и он никогда не догадается о назначении этого прибора.
— Как ведет себя Тонри-Ро?
— Хорошо ведет,- уверенно ответил Рогус.- Я бы даже сказал, отлично. Он ничего не знает,этот простачок, с головой погруженный в астрофизику.
— А как его проверяли? — спросил «мой» фарсан.
— А Тари-Тау для чего? О,Тари-Тау — хитрая приманка.
 «Тари-Тау- фарсан!» — с ужасом понял я.
— Приманка? — удивился мой гнусавый двойник.
— Да.Тари-Тау- это моя большая удача.Это почти адекватный фарсан, идеально копирующий живого Тари-Тау. Общайся он с людьми хоть сто лет- и никто не подумает,что это фарсан. А Али-Ан и Лари-Ла решили так: если у Тонри-Ро возникнет хоть тень подозрения, он попытается найти живого человека, союзника.И клюнет на нашу приманку, обратившись в первую очередь к Тари-Тау, нашему наиболее совершенному фарсану.Но Тонри-Ро,как всегда, доброжелателен к Тари-Тау- и только.А дружит он по-прежнему с Сэнди-Ски.Нет,Тонри-Ро ни о чем не догадывается.
И Рогус самодовольно расхохотался. Я вздрогнул от этого хохота. Рогус торжествовал. Не рано ли? Немного помолчав, Рогус спросил:
— Астрофизику изучил?
— Почти все… Труды самого Тонри-Ро полностью…
— Хорошо.Но этого мало. Надо вобрать в свою память большую часть сведений из смежных областей науки.
— Знаю… Планетология, физика ядра, нейтринология, радиоэлектроника…
— Кроме того,Тонри-Ро любит поэзию.
— Особенно Рой-Ронга,- подхватил «мой» фарсан. Он вскочил и вышел на середину каюты.Расставив ноги и подняв правую руку, фарсан начал декламировать отрывок из поэмы Рой-Ронга.
— Не так,- недовольно проворчал Рогус.- Жаль, что ты не видел, как этот простачок в кают-компании читает стихи.О,это торжественное и пышное зрелище. Смотри.
И Рогус начал буквально глумиться надо мной, передразнивая и утрируя мою манеру читать стихи.
Я и не предполагал, что фарсан Рогус затаил такую злобу против меня, единственного оставшегося в живых человека. Вероятно, настоящий Рогус, тот, который был убит фарсаном на Зургане,тоже был человеком завистливым и злым и так же тщательно скрывал это.
— Не верю,- смеялся «мой» фарсан, глядя, как Рогус изображает меня. Смех его был какой-то жидкий и невыразительный.
— Не то,- поморщился Рогус. — Тонри-Ро смеется не так. А впрочем, все это неважно.
— Как неважно?-гнусавил «мой» фарсан — Мне нужна индивидуальность Тонри-Ро.Без нее я чувствую себя неполноценным. Твои тренировки почти ничего не дают.С их помощью я заучил лишь несколько привычек Тонри-Ро.Но это не то. Я даже не имею его голоса. Я хочу быть капитаном корабля. А для этого мне нужно приобрести индивидуальность Тонри-Ро сразу, одним приемом, вот так.
Я с ужасом увидел,что фарсан растопырил пальцы и сделал вид,что вцепился в чью-то голову. Я знал, что таким приемом с помощью особого излучения фарсаны «обшаривают» человеческий мозг, исследуют его микроструктуру. При этом все знания и опыт человека,система его мышления, вся наследственная и приобретенная информация как бы переливаются из человека в фарсана. Человек погибает.
«Мой» фарсан продолжал с вожделением изображать, как он шарит пальцами, испускающими лучи, по моей голове.
— Хватит паясничать,- грубо прервал его Рогус.У тихого и скромного Рогуса появились новые черты:грубость,решительность и властолюбие.Видимо,власть над фарсанами (он был здесь их вождем) портила Рогуса.
Показывая на шкаф- дьявольское изобретение Вир-Виана, Рогус добавил с недоброй усмешкой:
— Мы из Тонри-Ро на обратном пути сделаем еще одного воспроизводящего фарсана.Постараюсь,чтобы это был безупречный фарсан,вроде Лари-Ла или Тари-Тау.Новый фарсан будет полностью обладать индивидуальностью Тонри-Ро.Вот он-то и станет капитаном корабля.
— А как же я?- забеспокоился гнусавый.
— Насчет тебя у нас появились другие соображения,- сказал Рогус.- И тебе необязательно абсолютное сходство с прототипом. Если планета Голубая населена разумными существами,что вполне вероятно, то мы оставим тебя там с необходимым оборудованием.И ты уже знаешь свою задачу: установить на планете наше господство — господство шеронов и фарсанов.
— Не так уж плохо,-улыбнулся «мой» фарсан,довольный почетной перспективой.
— Да,не так уж плохо,- согласился Рогус.-А сейчас ты должен помнить о том, что никакая материальная система- будь то живой организм или кибернетическая машина- не может выработать сведений или указаний,в котороых содержалось бы больше информации, чем ее поступило в память системы извне. Это и есть закон сохранения информации — такой же фундаментальный закон природы, как и закон сохранения энергии и вещества.
— Понимаю. Я и так сейчас много работаю, вбираю в свою память огромное количество информации.
— Особенно ты должен налегать на биофизику, электронику, нейтринологию…
Рогус не закончил перечисление наук.Взглянув в мою сторону,он нахмурился.
— Сколько раз я тебе говорил, чтобы эту щель ты заделал сам, — сказал он и насмешливо добавил:-Видимо,ты такой же лентяй, как и твой прототип Тонри-Ро.
К сожалению,это была правда:я несколько ленив,когда дело касается мелочей.
— Придется самому заварить щель,-проворчал Рогус и,взяв в руки инструмент, решительно направился к стене.
Я спрятался за баллон и затаил дыхание.Раздалось шипение- и щель исчезла. Я попробовал приложить ухо к стене.
Однако голоса доносились настолько глухо, что я не мог разобрать ни одного слова.
Осторожно лавируя в темноте между баллонами, я вернулся в свою каюту.
На душе было тяжело.
«Тари-Тау- фарсан!» — с ужасом понял я.
— Приманка? — удивился мой гнусавый двойник.
— Да.Тари-Тау- это моя большая удача.Это почти адекватный фарсан, идеально копирующий живого Тари-Тау. Общайся он с людьми хоть сто лет- и никто не подумает,что это фарсан. А Али-Ан и Лари-Ла решили так: если у Тонри-Ро возникнет хоть тень подозрения, он попытается найти живого человека, союзника.И клюнет на нашу приманку, обратившись в первую очередь к Тари-Тау, нашему наиболее совершенному фарсану.Но Тонри-Ро,как всегда, доброжелателен к Тари-Тау- и только.А дружит он по-прежнему с Сэнди-Ски.Нет,Тонри-Ро ни о чем не догадывается.
И Рогус самодовольно расхохотался. Я вздрогнул от этого хохота. Рогус торжествовал. Не рано ли? Немного помолчав, Рогус спросил:
— Астрофизику изучил?
— Почти все… Труды самого Тонри-Ро полностью…
— Хорошо.Но этого мало. Надо вобрать в свою память большую часть сведений из смежных областей науки.
— Знаю… Планетология, физика ядра, нейтринология, радиоэлектроника…
— Кроме того,Тонри-Ро любит поэзию.
— Особенно Рой-Ронга,- подхватил «мой» фарсан. Он вскочил и вышел на середину каюты.Расставив ноги и подняв правую руку, фарсан начал декламировать отрывок из поэмы Рой-Ронга.
— Не так,- недовольно проворчал Рогус.- Жаль, что ты не видел, как этот простачок в кают-компании читает стихи.О,это торжественное и пышное зрелище. Смотри.
И Рогус начал буквально глумиться надо мной, передразнивая и утрируя мою манеру читать стихи.
Я и не предполагал, что фарсан Рогус затаил такую злобу против меня, единственного оставшегося в живых человека. Вероятно, настоящий Рогус, тот, который был убит фарсаном на Зургане,тоже был человеком завистливым и злым и так же тщательно скрывал это.
— Не верю,- смеялся «мой» фарсан, глядя, как Рогус изображает меня. Смех его был какой-то жидкий и невыразительный.
— Не то,- поморщился Рогус. — Тонри-Ро смеется не так. А впрочем, все это неважно.
— Как неважно?-гнусавил «мой» фарсан — Мне нужна индивидуальность Тонри-Ро.Без нее я чувствую себя неполноценным. Твои тренировки почти ничего не дают.С их помощью я заучил лишь несколько привычек Тонри-Ро.Но это не то. Я даже не имею его голоса. Я хочу быть капитаном корабля. А для этого мне нужно приобрести индивидуальность Тонри-Ро сразу, одним приемом, вот так.
Я с ужасом увидел,что фарсан растопырил пальцы и сделал вид,что вцепился в чью-то голову. Я знал, что таким приемом с помощью особого излучения фарсаны «обшаривают» человеческий мозг, исследуют его микроструктуру. При этом все знания и опыт человека,система его мышления, вся наследственная и приобретенная информация как бы переливаются из человека в фарсана. Человек погибает.
«Мой» фарсан продолжал с вожделением изображать, как он шарит пальцами, испускающими лучи, по моей голове.
— Хватит паясничать,- грубо прервал его Рогус.У тихого и скромного Рогуса появились новые черты:грубость,решительность и властолюбие.Видимо,власть над фарсанами (он был здесь их вождем) портила Рогуса.
Показывая на шкаф- дьявольское изобретение Вир-Виана, Рогус добавил с недоброй усмешкой:
— Мы из Тонри-Ро на обратном пути сделаем еще одного воспроизводящего фарсана.Постараюсь,чтобы это был безупречный фарсан,вроде Лари-Ла или Тари-Тау.Новый фарсан будет полностью обладать индивидуальностью Тонри-Ро.Вот он-то и станет капитаном корабля.
— А как же я?- забеспокоился гнусавый.
— Насчет тебя у нас появились другие соображения,- сказал Рогус.- И тебе необязательно абсолютное сходство с прототипом. Если планета Голубая населена разумными существами,что вполне вероятно, то мы оставим тебя там с необходимым оборудованием.И ты уже знаешь свою задачу: установить на планете наше господство — господство шеронов и фарсанов.
— Не так уж плохо,-улыбнулся «мой» фарсан,довольный почетной перспективой.
— Да,не так уж плохо,- согласился Рогус.-А сейчас ты должен помнить о том, что никакая материальная система- будь то живой организм или кибернетическая машина- не может выработать сведений или указаний,в котороых содержалось бы больше информации, чем ее поступило в память системы извне. Это и есть закон сохранения информации — такой же фундаментальный закон природы, как и закон сохранения энергии и вещества.
— Понимаю. Я и так сейчас много работаю, вбираю в свою память огромное количество информации.
— Особенно ты должен налегать на биофизику, электронику, нейтринологию…
Рогус не закончил перечисление наук.Взглянув в мою сторону,он нахмурился.
— Сколько раз я тебе говорил, чтобы эту щель ты заделал сам, — сказал он и насмешливо добавил:-Видимо,ты такой же лентяй, как и твой прототип Тонри-Ро.
К сожалению,это была правда:я несколько ленив,когда дело касается мелочей.
— Придется самому заварить щель,-проворчал Рогус и,взяв в руки инструмент, решительно направился к стене.
Я спрятался за баллон и затаил дыхание.Раздалось шипение- и щель исчезла. Я попробовал приложить ухо к стене.
Однако голоса доносились настолько глухо, что я не мог разобрать ни одного слова.
Осторожно лавируя в темноте между баллонами, я вернулся в свою каюту.
На душе было тяжело.
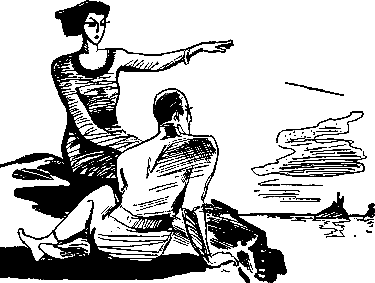 Я снова забрался в кабину гелиоплана.Включив крохотный экранчик всепланетной связи,я вызвал Сэнди-Ски и попросил его приехать за мной на катере часа через три.
— А теперь давай оправдывайся передо мной,- весело заговорила Аэнна, когда я вернулся к ней.- Ты почему не зашел к нам на следующий день после Круга? Ведь обещал. Занят был? А завтра сможешь?
— Первая половина дня у меня свободна.
— Вот и хорошо.Завтра я постараюсь быть у отца. Ведь он скучает без меня, оставаясь со своими помощниками.А главное- отец уж очень хочет видеть тебя. Между вами возникла какая-то непонятная взаимная симпатия.
Я снова забрался в кабину гелиоплана.Включив крохотный экранчик всепланетной связи,я вызвал Сэнди-Ски и попросил его приехать за мной на катере часа через три.
— А теперь давай оправдывайся передо мной,- весело заговорила Аэнна, когда я вернулся к ней.- Ты почему не зашел к нам на следующий день после Круга? Ведь обещал. Занят был? А завтра сможешь?
— Первая половина дня у меня свободна.
— Вот и хорошо.Завтра я постараюсь быть у отца. Ведь он скучает без меня, оставаясь со своими помощниками.А главное- отец уж очень хочет видеть тебя. Между вами возникла какая-то непонятная взаимная симпатия.
 — Ну, насчет моей симпатии ты слишком преувеличиваешь, — отшучивался я.
— А вот ты ему явно понравился. Послушал бы, как он тебя расписывает: высокий,стройный, умное волевое лицо. Настоящий астронавт! Один из лучших представителей зурганского человечества! У тебя он нашел только один недостаток — ты слишком молод.
Аэнна засмеялась. Я рад был видеть ее такой- оживленной и радостной, без тени обычной грусти.
Мы подошли к берегу и сели на большой гладкий камень,о который со стеклянным звоном разбивались волны. Прямо перед нами раскинулся Главный Шеронский архипелаг — десятки цветущих островов.
— Помнишь,я тебе обещала подробно рассказать о шеронах и вообще об истории Южного полюса? Сейчас самое время.Ты только посмотри на эту колыбель шеронской культуры!
Вид и в самом деле был прекрасный. Острова архипелага утопали в золоте закатного солнца, которое своим огненным диском вот-вот коснется морского горизонта.Стеклолитовые дворцы шеронов,построенные на возвышенностях острова,горели в лучах жаркого светила. Они были словно сделаны из затвердевшего оранжевого света.Другие дворцы,воздвигнутые на низких местах, на самом берегу, сейчас находились в тени и казались призрачными, будто сотканные из дождевых струй. Они всеми своими архитектурными частями устремлялись ввысь, в небо и казались легкими, как морская пена.
— Не дворцы,а песни из стеклолита,- задумчиво проговорила Аэнна.- Шероны умели строить дворцы.В одном из них- отсюда он не виден, он на острове за горизонтом- жили мои предки.Там рос и воспитывался мой отец.Девяносто девять лет тому назад, с наступлением Эры Братства Полюсов, все они были превращены в дворцы отдыха, а некоторые — в музеи шеронской культуры.
— И ты нисколько не жалеешь об этом?- спросил я.
— Нет,я шеронка только по происхождению,а не по убеждению. Да и вся шеронская молодежь не захотела бы вернуться к старому, к обычаям отцов.Это мой отец и немногие шероны,с которыми он слишком тесно дружит, жалеют о потере господства.
— Мне непонятно одно,-сказал я.-Шероны господствовали на Юге тысячи лет. За это время на Северном полюсе произошло множество изменений. В военных столкновениях разрушались одни государства и империи,создавались другие. Сменилось несколько общественно-экономических формаций,наконец,победила самая совершенная,самая гуманная и гармоничная. Это было прогрессивное восхождение от социального хаоса к гармонии. У вас же на Юге истории в сущности не было. В течение многих тысяч лет неизменно сохранялся аристократический строй шеронов. Как это произошло?
— Хорошо.Наберись терпения и слушай,-улыбнулась Аэнна.- О Зургане я могу говорить сколько угодно долго.
Аэнна начала рассказывать о планете чуть ли не с первых дней ее сотворения.Сейчас, сидя за клавишным столиком,я со всеми дорогими мне подробностями восстановил в памяти незабываемую картину: и Ализанский океан, позолоченный закатным солнцем, и Шеронский архипелаг, сверкающий шпилями и куполами дворцов, и берег, о который все тише и тише плескались волны. Мне даже кажется, что сейчас я не один в каюте, что рядом сидит Аэнна, и я слышу ее голос.
Рассказывала Аэнна с увлечением, с красочными подробностями. Ни один историк в школе астронавтов не дал бы мне больше сведений по истории нашего Юга. Сейчас на кристалле я запишу лишь вкратце то, о чем подробно рассказала Аэнна. Думаю, что разумным обитателям планеты Голубой интересно и полезно будет знать историю нашей Зурганы.
Около миллиона лет тому назад в районе экватора появились первые люди на Зургане.Тогда еще не было Великой Экваториальной пустыни.Вся планета зеленела лесами. Лишь вдоль жаркого экватора располагались отдельные разрозненные пустыни.Со временем их становилось все больше и больше. Палящее солнце выжигало растительность, реки и озера высыхали. Пустыни сливались, занимая огромные пространства.Так образовалась Великая Экваториальная пустыня. Кочевые племена первобытных людей разбрелись по полюсам, превратившимся в большие оазисы, разделенные широким поясом раскаленных песков.Попытки перейти пустыню и узнать,что за ней, ни к чему не приводили. Караваны, не пройдя и сотой части пути,гибли, занесенные песками.
Развитие человеческого общества на полюсах шло разными путями. История Севера- это классический пример восхождения общества от низших ступеней к высшим, от первобытной тьмы к гармонии и ясности. Аэнна считает, что так развивается общество разумных существ почти во всех населенных мирах Вселенной.
На Южном полюсе сложились своеобразные условия,в которых развитие общества на тысячи лет остановились на одной ступени.В глубокой древности здесь жили три племени. Многочисленное трудолюбивое и мирное племя сулаков занималось охотой и земледелием.Два воинственных племени- фарсаны(завоеватели) и шероны (мудрые) вели между собой беспрерывные войны.Победили шероны, умевшие изготовлять более совершенное оружие. Шероны и фарсаны заключили между собой союз,в котором главенствующее положение занимали победители. Совместными усилиями они покорили сулаков,обратили их в рабство. С тех пор начал формироваться трехступенчатый иерархический строй. Полновластными хозяевами Южного полюса стали шероны.Они рассеялись на цветущих островах единственного на Зургане Ализанского океана.На берегах океана возникли военные города фарсанов — привилегированных слуг и защитников шеронов. Фарсаны стали в полном смысле слова завоевателями. Они подавляли мятежи и усмиряли сулаков, собирали с них дань для шеронов и для себя.
Среди шеронов установился своеобразный строй аристократической демократии. Все шероны были равны.Они подчинялись только верховному шерону, который избирался один раз в год.Но верховный шерон не имел большой власти.Он следил в основном за исполнением законов, раз и навсегда принятых всеми шеронами. Законы эти отличались мудростью и строгостью. Это и спасло шеронов от вырождения.Наихудшим пороком у них считалось бездеятельное прожигание жизни. В то время как господствующие классы Северного полюса проводили жизнь в праздности, ероны отдавали весь свой досуг научно-техническому и художественному творчеству.Все возрастающее техническое могущество шеронов давало им возможность укреплять свою власть и снабжать фарсанов новыми образцами оружия.Фарсаны почти ничем не интересовались, кроме военного дела, доведенного у них до культа. В их глазах шероны, все глубже проникающие в секреты материи, обладали таинственной и непостижимой властью.
Научное и художественное творчество у шеронов было единственным богом, которому они служили с радостью. Каждое научно-техническое достижение или создание высокохудожественного произведения искусства отмечалось праздником и всешеронскими спортивными играми.
Цивилизация у шеронов достигла невиданного и пышного расцвета, особенно искусство. Причину расцвета шероны видели в господстве над сулаками и фарсанами.Власть над многочисленным рабочим людом, сулаками, давала шеронам досуг для творческой деятельности. Они были избавлены от всех материальных забот.Кроме того,шероны считали,что ощущение неограниченной власти над себе подобными эмоционально обогащает человека, делает его сильным в духовном и волевом отношении, дает возможность формировать физически прекрасную и могучую расу.Господство- непременное условие высшей культуры.Эту мысль каждый шерон усваивал с малых лет.Эта мысль стала основополагающей в социальной философии шеронов.
— Дикая мысль!- воскликнул я, перебив Аэнну. — Примерно в это же время на Севере общественная мысль далеко шагнула вперед.
— Да,-согласилась Аэнна.- Теория социального прогресса, скачкообразного, революционного развития общества была чужда шеронам,она им была просто враждебна.Но вот что любопытно:жизнь заставила некоторых шеронов сомневаться в вековых устоях своего общества.И заставило прежде всего подпольное общество сулаков.Настоящее искусство всегда враждебно рабству.Древние и тоже подпольные историки-сулаки записали в своих случайно уцелевших сочинениях интересный рассказ.Однажды один верховный шерон совершал инспекторскую поездку по огромной территории,населенной сулаками.Он увидел обычную картину трудовой жизни и как будто бы покорных сулаков.Но вот что его смутило: некоторые здания, построенные сулаками,поражали красотой.Но не смиренной, а гордой красотой. Такие здания внушали мысли о свободе. Верховный шерон приказал сопровождающим его фарсанам сравнять с землей эти здания.
Вернувшись на райские острова,верховный правитель рассказал о своей поездке. Но остальные шероны не придали его рассказу особого значения. Но через некоторое время на блаженные острова шеронов стали доходить вести о каком-то брожении среди сулаков.Тогда другой верховный шерон совершил вторую поездку на континент.В некоторых селениях сулаков он увидел статуи, которые его буквально испугали.Все статуи были примерно одинаковы — на высоком постаменте стоял закованный в цепи сулак. Но в выпрямленной мускулистой фигуре сулака, в гордом повороте головы, в выражении лица чувствовались такой вызов судьбе, такая дерзкая сила, что цепи казались чем-то случайным. Вот-вот сулак сделает еще одно движение — и цепи со звоном разлетятся в стороны.Правитель приказал шеронам разбить статуи. Но одну он привез на острова и показал шеронам.Статуя произвела переполох.Среди шеронов появилась еще одна странная социальная теория.В головах сулаков, дескать, образовался некий «идеологический вакуум».В этом вакууме стихийно зарождается бунтарская идеология,находящая свое выражение в искусстве. Но бунтарская идеология может привести и к бунтарским действиям.Вот этого шероны боялись больше всего.Как они боролись с такими зарождающимися явлениями в обществе сулаков? Двумя способами.С одной стороны путем жесточайших репрессий против наиболее интеллектуально развитых и художественно одаренных сулаков. С другой стороны шероны сделали попытку поработить сулаков не только физически, но и духовно. Они всячески развивали у сулаков бытовавшие религиозные настроения. Они создали для них особую религию.Эта религия учила, что после смерти души исполнительных сулаков переселяются на соседнюю планету Зиргу, которая сверкает ночью морями расплавленного олова и свинца.Там сулаки якобы становятся шеронами и проводят жизнь в вечном блаженстве. По всей территории Южного полюса были воздвигнуты пышные храмы Зирги, где фарсаны заставляли сулаков ежедневно молиться. Так из поколения в поколение воспитывалась покорность — главная добродетель сулаков.
Все это,конечно,задерживало поступательное общественное развитие на Южном полюсе. Но все же в обществе сулаков происходили незаметные количественные изменения. С каждым столетием усиливались волнения, возникали бунты, а затем и хорошо организованные восстания, которые жестоко подавлялись фарсанами. Восстания были особенно опасны, когда их возглавляли отдельные, наиболее сознательные фарсаны.
— Фарсаны? — удивился я. — Твердолобые фарсаны?
— Ну, не все фарсаны твердолобые,- улыбнулась Аэнна. — Несмотря на привилегированное положение, у отдельных представителей этой военной касты появлялось недовольство. А недовольство всегда вынуждает мыслить самостоятельно. Но, к сожалению, основная, подавляющая масса фарсанов преданно служила шеронам.
За несколько десятков лет до наступления Эры Братства Полюсов в обществе и культуре шеронов все же стали намечаться признаки застоя и медленной, неуклонной деградации.В философию и искусство все чаще проникали идеи космического пессимизма, идеи бесцельности и тленности человеческой культуры перед вечностью и бесконечностью природы.
В это время на Северном полюсе восторжествовал гармоничный общественный строй,открывший перед людьми широкий простор для творческой деятельности. В науке,технике и культуре северяне быстро догнали шеронов. На Севере и на Юге появились гелиопланы,которые смогли преодолевать огромное расстояние между полюсами. Так люди Юга и Севера узнали о существовании друг друга.
Шероны стали искать средство от застоя в борьбе с северянами, в стремлении распространить свое господство и на другой полюс.Кроме того, война, как они надеялись,поможет ликвидировать социальные противоречия на самом Южном полюсе. Борьба- вот новая идея,воодушевившая шеронов. В борьбе крепнет дух, неизмеримо возрастает могущество расы. Борьба, по мнению шеронов, способна оживить их угасающую культуру. Так возникла изнурительная, длившаяся многие годы война между полюсами. Под руководством шеронов десятки тысяч фарсанов с боевой техникой перелетали на гелиопланах Великую Экваториальную пустыню и высаживались в безлюдных оазисах, прилегающих к Северному полюсу. Оттуда они на шагающих бронированных вездеходах начинали военные действия против северян.Фарсаны сражались умело и храбро, но не могли победить северян, часто терпели сокрушительные поражения и с большим уроном улетали обратно.
Шероны поняли,что им не добиться решающего успеха,пока они не найдут новое мощное оружие.Такое оружие появилось почти одновременно на Севере и на Юге. Это были ядерные снаряды огромной разрушительной силы.Когда фарсаны сбросили три таких снаряда на города Северного полюса,северяне предприняли решительные меры.Они совершили массовый воздушный налет на Южный полюс. Северяне потеряли при этом большую часть своего воздушного флота- гелиопланов и появившихся к этому времени быстролетных ракетопланов. Но они уничтожили все фарсанские военные города и всех фарсанов до одного. Архипелаг шеронов северяне не тронули, стараясь сохранить высокую культуру.
Немногочисленные шероны остались без своих верных воинственных слуг и защитников- без фарсанов.Спасаясь от восставших сулаков,они покинули острова Ализанского океана и поселились подальше от Южного полюса- в северных городах или в оазисах. Так рухнуло многовековое господство шеронов, погиб их аристократический строй. Сулаки создали у себя на Юге такое же гармоничное общество, как и на Северном полюсе. Между полюсами установилась эра мирного сотрудничества- Эра Братства Полюсов.
Закончив рассказ, Аэнна задумчиво смотрела на яркие мазки заката. Солнце только что скрылось за горизонтом. Океан начал погружаться в свою ночную дремоту. Волны едва слышно плескались у наших ног.
— С тех пор прошло девяносто девять лет,-снова заговорила Аэнна.- Молодые шероны не могут представить себе иной жизни, чем сейчас. Но мой отец и его немногие друзья, которые еще помнят свое детство, проведенное в дворцах архипелага, не могут примириться с потерей своего исключительного положения. Но что они могут сделать без фарсанов?
— Ничего не могут,- сказал я.- И тем лучше для них и для общества. Сейчас они приносят обществу огромную пользу, став учеными и творцами произведений искусства.
— Все это так.Но что за мысли у них,что за философия!-воскликнула Аэнна. — Если ты внимательно слушал мой рассказ о шеронской культуре,то должен понять,откуда у моего отца такая сумасбродная космическая теория. Господство над себе подобными он по-прежнему считает условием высшей культуры.Но в наше время, когда вот-вот начнутся межзвездные сообщения, недостаточно власти на одной планете. Нужна вечная борьба во Вселенной и господство одной, избранной планеты над всеми мирами Космоса.Это мой отец считает необходимым условием бесконечного роста и совершенствования мыслящего духа Вселенной.
— Но у твоего отца есть одна привлекательная идея — идея концентрации научно-технических достижений, рассеянных во Вселенной.
— Концентрировать научную мысль можно и мирным путем, — возразила Аэнна.
— Конечно, можно,- согласился я. — Оно так и будет.
Некоторое время мы молчали, любуясь пышным закатом. Такие закаты на Зургане бывают только здесь, в районе Шеронского архипелага. Там, где зашло солнце, замирал слабый всплеск малиновой зари. На золотисто-зеленом небе вырисовывались четкие контуры шеронских дворцов.
— Красота какая!- воскликнула Аэнна.- Не случайно именно здесь создавались самые величественные произведения искусства.
Взглянув на часы, она добавила:
— Сейчас мы услышим не менее красивую музыку- знаменитый колокольный час шеронов. Ты когда-нибудь слышал такое?
— Только по системе всепланетной связи, — ответил я.
— Но это совсем не то. Шероны делали колокола из какого-то чудесного сплава, секрет которого утерян. Разнообразные по форме и величине, колокола издают чистые, нежные и в то же время сильные звуки. Транслировать их по всепланетной связи трудно, не исказив. Но давай лучше послушаем.
Небо темнело. Стояла вечерняя тишина, нарушаемая едва слышным шелестом волн.
И вдруг до нашего слуха издали, из-за горизонта, донесся нежный мерцающий звук. То заговорил колокол центрального острова архипелага. Колокола всех дворцов имели между собой радиосвязь. Поэтому звонили согласованно, словно инструменты хорошо налаженного оркестра. Центральному колоколу ответили другие. И началась музыкальная перекличка шеронских дворцов, возвещающая о том, что еще один день жизни человечества бесследно канул в вечность. Звуки лились и лились над океаном, бессмертным и невозмутимым, как тысячи веков назад.
В задумчивых и печальных переливах, похожих на рыдания, слышалась глубокая скорбь,бессильная жалоба на космическое одиночество,на тленность зурганской культуры, затерянной в безграничной Вселенной…
Мелодичный звон колоколов стал затихать, усиливая щемящую тоску. Наконец в последний раз зазвонил центральный колокол — заключительная вспышка звука, трепетная и умирающая.
Аэнна задумчиво смотрела на угасающий закат.Ее прекрасное лицо было тронуто легкой печалью.И я впервые подумал о том, что частая грусть Аэнны — это, может быть, выражение меланхолии ее древней мудрой расы.
— Не правда ли, какая красивая и грустная музыка?-взволнованно прошептала Аэнна.-Колокольный час- это эстетическое воплощение философии шеронов эпохи упадка.
Аэнна права,думал я,эта музыка воплощает в себе весь пессимизм высокой, но утомленной культуры.Вир-Виан пытается в своей новой космической философии вырваться из этого пессимизма, но безнадежно. Его философия, в сущности, так же пессимистична и закатна, как этот закатный колокольный час.
В море, в сгустившихся сумерках,сверкнул огонек. Наконец мы увидели катер, причаливший недалеко от нас. Из катера выскочил Сэнди-Ски и направился к нам.
— Эо, Тонри! Эо, Аэнна! — воскликнул Сэнди-Ски.
— Эо, Сэнди!- повеселевшим голосом приветствовала его Аэнна.
Сэнди-Ски внес в наше общество оживление и смех. Мы втроем пришли к городку археологов и попрощались с Аэнной.
— Завтра я жду дома, у отца! — крикнула она мне, когда мы направились к берегу.
— Ну, насчет моей симпатии ты слишком преувеличиваешь, — отшучивался я.
— А вот ты ему явно понравился. Послушал бы, как он тебя расписывает: высокий,стройный, умное волевое лицо. Настоящий астронавт! Один из лучших представителей зурганского человечества! У тебя он нашел только один недостаток — ты слишком молод.
Аэнна засмеялась. Я рад был видеть ее такой- оживленной и радостной, без тени обычной грусти.
Мы подошли к берегу и сели на большой гладкий камень,о который со стеклянным звоном разбивались волны. Прямо перед нами раскинулся Главный Шеронский архипелаг — десятки цветущих островов.
— Помнишь,я тебе обещала подробно рассказать о шеронах и вообще об истории Южного полюса? Сейчас самое время.Ты только посмотри на эту колыбель шеронской культуры!
Вид и в самом деле был прекрасный. Острова архипелага утопали в золоте закатного солнца, которое своим огненным диском вот-вот коснется морского горизонта.Стеклолитовые дворцы шеронов,построенные на возвышенностях острова,горели в лучах жаркого светила. Они были словно сделаны из затвердевшего оранжевого света.Другие дворцы,воздвигнутые на низких местах, на самом берегу, сейчас находились в тени и казались призрачными, будто сотканные из дождевых струй. Они всеми своими архитектурными частями устремлялись ввысь, в небо и казались легкими, как морская пена.
— Не дворцы,а песни из стеклолита,- задумчиво проговорила Аэнна.- Шероны умели строить дворцы.В одном из них- отсюда он не виден, он на острове за горизонтом- жили мои предки.Там рос и воспитывался мой отец.Девяносто девять лет тому назад, с наступлением Эры Братства Полюсов, все они были превращены в дворцы отдыха, а некоторые — в музеи шеронской культуры.
— И ты нисколько не жалеешь об этом?- спросил я.
— Нет,я шеронка только по происхождению,а не по убеждению. Да и вся шеронская молодежь не захотела бы вернуться к старому, к обычаям отцов.Это мой отец и немногие шероны,с которыми он слишком тесно дружит, жалеют о потере господства.
— Мне непонятно одно,-сказал я.-Шероны господствовали на Юге тысячи лет. За это время на Северном полюсе произошло множество изменений. В военных столкновениях разрушались одни государства и империи,создавались другие. Сменилось несколько общественно-экономических формаций,наконец,победила самая совершенная,самая гуманная и гармоничная. Это было прогрессивное восхождение от социального хаоса к гармонии. У вас же на Юге истории в сущности не было. В течение многих тысяч лет неизменно сохранялся аристократический строй шеронов. Как это произошло?
— Хорошо.Наберись терпения и слушай,-улыбнулась Аэнна.- О Зургане я могу говорить сколько угодно долго.
Аэнна начала рассказывать о планете чуть ли не с первых дней ее сотворения.Сейчас, сидя за клавишным столиком,я со всеми дорогими мне подробностями восстановил в памяти незабываемую картину: и Ализанский океан, позолоченный закатным солнцем, и Шеронский архипелаг, сверкающий шпилями и куполами дворцов, и берег, о который все тише и тише плескались волны. Мне даже кажется, что сейчас я не один в каюте, что рядом сидит Аэнна, и я слышу ее голос.
Рассказывала Аэнна с увлечением, с красочными подробностями. Ни один историк в школе астронавтов не дал бы мне больше сведений по истории нашего Юга. Сейчас на кристалле я запишу лишь вкратце то, о чем подробно рассказала Аэнна. Думаю, что разумным обитателям планеты Голубой интересно и полезно будет знать историю нашей Зурганы.
Около миллиона лет тому назад в районе экватора появились первые люди на Зургане.Тогда еще не было Великой Экваториальной пустыни.Вся планета зеленела лесами. Лишь вдоль жаркого экватора располагались отдельные разрозненные пустыни.Со временем их становилось все больше и больше. Палящее солнце выжигало растительность, реки и озера высыхали. Пустыни сливались, занимая огромные пространства.Так образовалась Великая Экваториальная пустыня. Кочевые племена первобытных людей разбрелись по полюсам, превратившимся в большие оазисы, разделенные широким поясом раскаленных песков.Попытки перейти пустыню и узнать,что за ней, ни к чему не приводили. Караваны, не пройдя и сотой части пути,гибли, занесенные песками.
Развитие человеческого общества на полюсах шло разными путями. История Севера- это классический пример восхождения общества от низших ступеней к высшим, от первобытной тьмы к гармонии и ясности. Аэнна считает, что так развивается общество разумных существ почти во всех населенных мирах Вселенной.
На Южном полюсе сложились своеобразные условия,в которых развитие общества на тысячи лет остановились на одной ступени.В глубокой древности здесь жили три племени. Многочисленное трудолюбивое и мирное племя сулаков занималось охотой и земледелием.Два воинственных племени- фарсаны(завоеватели) и шероны (мудрые) вели между собой беспрерывные войны.Победили шероны, умевшие изготовлять более совершенное оружие. Шероны и фарсаны заключили между собой союз,в котором главенствующее положение занимали победители. Совместными усилиями они покорили сулаков,обратили их в рабство. С тех пор начал формироваться трехступенчатый иерархический строй. Полновластными хозяевами Южного полюса стали шероны.Они рассеялись на цветущих островах единственного на Зургане Ализанского океана.На берегах океана возникли военные города фарсанов — привилегированных слуг и защитников шеронов. Фарсаны стали в полном смысле слова завоевателями. Они подавляли мятежи и усмиряли сулаков, собирали с них дань для шеронов и для себя.
Среди шеронов установился своеобразный строй аристократической демократии. Все шероны были равны.Они подчинялись только верховному шерону, который избирался один раз в год.Но верховный шерон не имел большой власти.Он следил в основном за исполнением законов, раз и навсегда принятых всеми шеронами. Законы эти отличались мудростью и строгостью. Это и спасло шеронов от вырождения.Наихудшим пороком у них считалось бездеятельное прожигание жизни. В то время как господствующие классы Северного полюса проводили жизнь в праздности, ероны отдавали весь свой досуг научно-техническому и художественному творчеству.Все возрастающее техническое могущество шеронов давало им возможность укреплять свою власть и снабжать фарсанов новыми образцами оружия.Фарсаны почти ничем не интересовались, кроме военного дела, доведенного у них до культа. В их глазах шероны, все глубже проникающие в секреты материи, обладали таинственной и непостижимой властью.
Научное и художественное творчество у шеронов было единственным богом, которому они служили с радостью. Каждое научно-техническое достижение или создание высокохудожественного произведения искусства отмечалось праздником и всешеронскими спортивными играми.
Цивилизация у шеронов достигла невиданного и пышного расцвета, особенно искусство. Причину расцвета шероны видели в господстве над сулаками и фарсанами.Власть над многочисленным рабочим людом, сулаками, давала шеронам досуг для творческой деятельности. Они были избавлены от всех материальных забот.Кроме того,шероны считали,что ощущение неограниченной власти над себе подобными эмоционально обогащает человека, делает его сильным в духовном и волевом отношении, дает возможность формировать физически прекрасную и могучую расу.Господство- непременное условие высшей культуры.Эту мысль каждый шерон усваивал с малых лет.Эта мысль стала основополагающей в социальной философии шеронов.
— Дикая мысль!- воскликнул я, перебив Аэнну. — Примерно в это же время на Севере общественная мысль далеко шагнула вперед.
— Да,-согласилась Аэнна.- Теория социального прогресса, скачкообразного, революционного развития общества была чужда шеронам,она им была просто враждебна.Но вот что любопытно:жизнь заставила некоторых шеронов сомневаться в вековых устоях своего общества.И заставило прежде всего подпольное общество сулаков.Настоящее искусство всегда враждебно рабству.Древние и тоже подпольные историки-сулаки записали в своих случайно уцелевших сочинениях интересный рассказ.Однажды один верховный шерон совершал инспекторскую поездку по огромной территории,населенной сулаками.Он увидел обычную картину трудовой жизни и как будто бы покорных сулаков.Но вот что его смутило: некоторые здания, построенные сулаками,поражали красотой.Но не смиренной, а гордой красотой. Такие здания внушали мысли о свободе. Верховный шерон приказал сопровождающим его фарсанам сравнять с землей эти здания.
Вернувшись на райские острова,верховный правитель рассказал о своей поездке. Но остальные шероны не придали его рассказу особого значения. Но через некоторое время на блаженные острова шеронов стали доходить вести о каком-то брожении среди сулаков.Тогда другой верховный шерон совершил вторую поездку на континент.В некоторых селениях сулаков он увидел статуи, которые его буквально испугали.Все статуи были примерно одинаковы — на высоком постаменте стоял закованный в цепи сулак. Но в выпрямленной мускулистой фигуре сулака, в гордом повороте головы, в выражении лица чувствовались такой вызов судьбе, такая дерзкая сила, что цепи казались чем-то случайным. Вот-вот сулак сделает еще одно движение — и цепи со звоном разлетятся в стороны.Правитель приказал шеронам разбить статуи. Но одну он привез на острова и показал шеронам.Статуя произвела переполох.Среди шеронов появилась еще одна странная социальная теория.В головах сулаков, дескать, образовался некий «идеологический вакуум».В этом вакууме стихийно зарождается бунтарская идеология,находящая свое выражение в искусстве. Но бунтарская идеология может привести и к бунтарским действиям.Вот этого шероны боялись больше всего.Как они боролись с такими зарождающимися явлениями в обществе сулаков? Двумя способами.С одной стороны путем жесточайших репрессий против наиболее интеллектуально развитых и художественно одаренных сулаков. С другой стороны шероны сделали попытку поработить сулаков не только физически, но и духовно. Они всячески развивали у сулаков бытовавшие религиозные настроения. Они создали для них особую религию.Эта религия учила, что после смерти души исполнительных сулаков переселяются на соседнюю планету Зиргу, которая сверкает ночью морями расплавленного олова и свинца.Там сулаки якобы становятся шеронами и проводят жизнь в вечном блаженстве. По всей территории Южного полюса были воздвигнуты пышные храмы Зирги, где фарсаны заставляли сулаков ежедневно молиться. Так из поколения в поколение воспитывалась покорность — главная добродетель сулаков.
Все это,конечно,задерживало поступательное общественное развитие на Южном полюсе. Но все же в обществе сулаков происходили незаметные количественные изменения. С каждым столетием усиливались волнения, возникали бунты, а затем и хорошо организованные восстания, которые жестоко подавлялись фарсанами. Восстания были особенно опасны, когда их возглавляли отдельные, наиболее сознательные фарсаны.
— Фарсаны? — удивился я. — Твердолобые фарсаны?
— Ну, не все фарсаны твердолобые,- улыбнулась Аэнна. — Несмотря на привилегированное положение, у отдельных представителей этой военной касты появлялось недовольство. А недовольство всегда вынуждает мыслить самостоятельно. Но, к сожалению, основная, подавляющая масса фарсанов преданно служила шеронам.
За несколько десятков лет до наступления Эры Братства Полюсов в обществе и культуре шеронов все же стали намечаться признаки застоя и медленной, неуклонной деградации.В философию и искусство все чаще проникали идеи космического пессимизма, идеи бесцельности и тленности человеческой культуры перед вечностью и бесконечностью природы.
В это время на Северном полюсе восторжествовал гармоничный общественный строй,открывший перед людьми широкий простор для творческой деятельности. В науке,технике и культуре северяне быстро догнали шеронов. На Севере и на Юге появились гелиопланы,которые смогли преодолевать огромное расстояние между полюсами. Так люди Юга и Севера узнали о существовании друг друга.
Шероны стали искать средство от застоя в борьбе с северянами, в стремлении распространить свое господство и на другой полюс.Кроме того, война, как они надеялись,поможет ликвидировать социальные противоречия на самом Южном полюсе. Борьба- вот новая идея,воодушевившая шеронов. В борьбе крепнет дух, неизмеримо возрастает могущество расы. Борьба, по мнению шеронов, способна оживить их угасающую культуру. Так возникла изнурительная, длившаяся многие годы война между полюсами. Под руководством шеронов десятки тысяч фарсанов с боевой техникой перелетали на гелиопланах Великую Экваториальную пустыню и высаживались в безлюдных оазисах, прилегающих к Северному полюсу. Оттуда они на шагающих бронированных вездеходах начинали военные действия против северян.Фарсаны сражались умело и храбро, но не могли победить северян, часто терпели сокрушительные поражения и с большим уроном улетали обратно.
Шероны поняли,что им не добиться решающего успеха,пока они не найдут новое мощное оружие.Такое оружие появилось почти одновременно на Севере и на Юге. Это были ядерные снаряды огромной разрушительной силы.Когда фарсаны сбросили три таких снаряда на города Северного полюса,северяне предприняли решительные меры.Они совершили массовый воздушный налет на Южный полюс. Северяне потеряли при этом большую часть своего воздушного флота- гелиопланов и появившихся к этому времени быстролетных ракетопланов. Но они уничтожили все фарсанские военные города и всех фарсанов до одного. Архипелаг шеронов северяне не тронули, стараясь сохранить высокую культуру.
Немногочисленные шероны остались без своих верных воинственных слуг и защитников- без фарсанов.Спасаясь от восставших сулаков,они покинули острова Ализанского океана и поселились подальше от Южного полюса- в северных городах или в оазисах. Так рухнуло многовековое господство шеронов, погиб их аристократический строй. Сулаки создали у себя на Юге такое же гармоничное общество, как и на Северном полюсе. Между полюсами установилась эра мирного сотрудничества- Эра Братства Полюсов.
Закончив рассказ, Аэнна задумчиво смотрела на яркие мазки заката. Солнце только что скрылось за горизонтом. Океан начал погружаться в свою ночную дремоту. Волны едва слышно плескались у наших ног.
— С тех пор прошло девяносто девять лет,-снова заговорила Аэнна.- Молодые шероны не могут представить себе иной жизни, чем сейчас. Но мой отец и его немногие друзья, которые еще помнят свое детство, проведенное в дворцах архипелага, не могут примириться с потерей своего исключительного положения. Но что они могут сделать без фарсанов?
— Ничего не могут,- сказал я.- И тем лучше для них и для общества. Сейчас они приносят обществу огромную пользу, став учеными и творцами произведений искусства.
— Все это так.Но что за мысли у них,что за философия!-воскликнула Аэнна. — Если ты внимательно слушал мой рассказ о шеронской культуре,то должен понять,откуда у моего отца такая сумасбродная космическая теория. Господство над себе подобными он по-прежнему считает условием высшей культуры.Но в наше время, когда вот-вот начнутся межзвездные сообщения, недостаточно власти на одной планете. Нужна вечная борьба во Вселенной и господство одной, избранной планеты над всеми мирами Космоса.Это мой отец считает необходимым условием бесконечного роста и совершенствования мыслящего духа Вселенной.
— Но у твоего отца есть одна привлекательная идея — идея концентрации научно-технических достижений, рассеянных во Вселенной.
— Концентрировать научную мысль можно и мирным путем, — возразила Аэнна.
— Конечно, можно,- согласился я. — Оно так и будет.
Некоторое время мы молчали, любуясь пышным закатом. Такие закаты на Зургане бывают только здесь, в районе Шеронского архипелага. Там, где зашло солнце, замирал слабый всплеск малиновой зари. На золотисто-зеленом небе вырисовывались четкие контуры шеронских дворцов.
— Красота какая!- воскликнула Аэнна.- Не случайно именно здесь создавались самые величественные произведения искусства.
Взглянув на часы, она добавила:
— Сейчас мы услышим не менее красивую музыку- знаменитый колокольный час шеронов. Ты когда-нибудь слышал такое?
— Только по системе всепланетной связи, — ответил я.
— Но это совсем не то. Шероны делали колокола из какого-то чудесного сплава, секрет которого утерян. Разнообразные по форме и величине, колокола издают чистые, нежные и в то же время сильные звуки. Транслировать их по всепланетной связи трудно, не исказив. Но давай лучше послушаем.
Небо темнело. Стояла вечерняя тишина, нарушаемая едва слышным шелестом волн.
И вдруг до нашего слуха издали, из-за горизонта, донесся нежный мерцающий звук. То заговорил колокол центрального острова архипелага. Колокола всех дворцов имели между собой радиосвязь. Поэтому звонили согласованно, словно инструменты хорошо налаженного оркестра. Центральному колоколу ответили другие. И началась музыкальная перекличка шеронских дворцов, возвещающая о том, что еще один день жизни человечества бесследно канул в вечность. Звуки лились и лились над океаном, бессмертным и невозмутимым, как тысячи веков назад.
В задумчивых и печальных переливах, похожих на рыдания, слышалась глубокая скорбь,бессильная жалоба на космическое одиночество,на тленность зурганской культуры, затерянной в безграничной Вселенной…
Мелодичный звон колоколов стал затихать, усиливая щемящую тоску. Наконец в последний раз зазвонил центральный колокол — заключительная вспышка звука, трепетная и умирающая.
Аэнна задумчиво смотрела на угасающий закат.Ее прекрасное лицо было тронуто легкой печалью.И я впервые подумал о том, что частая грусть Аэнны — это, может быть, выражение меланхолии ее древней мудрой расы.
— Не правда ли, какая красивая и грустная музыка?-взволнованно прошептала Аэнна.-Колокольный час- это эстетическое воплощение философии шеронов эпохи упадка.
Аэнна права,думал я,эта музыка воплощает в себе весь пессимизм высокой, но утомленной культуры.Вир-Виан пытается в своей новой космической философии вырваться из этого пессимизма, но безнадежно. Его философия, в сущности, так же пессимистична и закатна, как этот закатный колокольный час.
В море, в сгустившихся сумерках,сверкнул огонек. Наконец мы увидели катер, причаливший недалеко от нас. Из катера выскочил Сэнди-Ски и направился к нам.
— Эо, Тонри! Эо, Аэнна! — воскликнул Сэнди-Ски.
— Эо, Сэнди!- повеселевшим голосом приветствовала его Аэнна.
Сэнди-Ски внес в наше общество оживление и смех. Мы втроем пришли к городку археологов и попрощались с Аэнной.
— Завтра я жду дома, у отца! — крикнула она мне, когда мы направились к берегу.
 Эфери-Рау вышел в боковую дверь, оставив ее приоткрытой.
Вскоре оттуда, стуча по полу когтями, выскочили два сунга. Шестилапые, с длинными и гибкими телами, с острыми мордочками, с сильными мускулистыми хвостами, они ничем не отличались друг от друга. Зверьки разбежались в разные стороны и стали шарить по углам в поисках песка, чтобы зарыться в него.Ничего не найдя, они вернулись на середину библиотеки и с недоумением озирались вокруг. Наконец сунги сошлись и начали обнюхивать друг друга. Один из них, видимо инстинктивно, почувствовал в другом существо враждебное, чуждое его породе. Его короткая и колючая шерсть взъерошилась, встала дыбом. Грозно заверещав, он набросился на противника. Тот, оглушительно взвизгнув, сильным ударом хвоста отбросил нападающего и сам приготовился к атаке.
— Эфери,разними!- крикнул Вир-Виан, брезгливо морщась и закрывая ладонями уши. Пронзительное верещание заставило и меня заткнуть уши.
Эфери-Рау ловко,очевидно,у него был уже опыт, разнял драчунов. Сдавив им шеи, он унес беспомощно повисших зверьков обратно.
— Ну, как?-спросил Вир-Виан.-Смогли бы вы отличить искусственного сунга от настоящего?
— По-моему, тот, который напал первым, и есть настоящий.
— Вы угадали.
— Угадал не случайно.Настоящий сунг звериным инстинктом почувствовал в другом существе чуждое себе, своей породе.
— Верно, — сказал Вир-Виан, с любопытством взглянув на меня. — Звериный инстинкт в этих случаях почти безошибочен.У человека же разум преобладает над инстинктом. А разум ошибается. Если я усовершенствую Тонгуса, особенно поведение, и выпущу его на волю, люди будут считать его человеком. Ему надо только соблюдать некоторые предосторожности. Например, избегать врачебных осмотров, особенно луческопии…
— Избегать творческих занятий:не писать стихи, не сочинять музыку, — продолжил я.
Вир-Виан вяло согласился.
— К сожалению,это тоже верно,хотя не совсем. В творческих областях Тонгус несколько уступает человеку. Но не так уж сильно. Он может создавать вполне приличные стихи и музыку. Гением он, вероятно, все же не будет. Но вот в технике Тонгус разбирается лучше человека.
— Как же все-таки с Ниан-Наром? — напомнил я.
— Ах да!- снова оживился Вир-Виан. — Мы отклонились. Теперь вы понимаете, что я могу создать идеальную кибернетическую копию человека — не человека вообще, а именно конкретного человека, воспроизвести его физическую и духовную сущность со всеми индивидуальными особенностями. Например, я беру обыкновенный шприц и делаю вам небольшой и почти безболезненный укол. В трубочке шприца остаются тысячи клеток вашего организма. Все это я передаю моей дешифровально-моделирующей установке. Вы сидите в кресле и часа три читаете своего любимого поэта. В это время аппарат с огромной быстротой проделывает сложную и таинственно-незримую работу.По микроструктуре нуклеиновых кислот,по характеру протекающих в них химических, электромагнитных реакций,по тысяче других индивидуальных признаков он расшифровывает наследственную информацию. И не только наследственную. Он разгадывает информацию обо всех изменениях, происшедших с вами и с вашей внешностью при жизни.Ведь человек меняется с каждым годом, с каждым днем. Меняются его характер,привычки,меняется в какой-то мере и внешность.И это не проходит бесследно. В нуклеиновых кислотах, во всех клетках организма тоже происходят неуловимые изменения. Клетки — эти сложнейшие кибернетические установки- живут вместе с человеком,они стареют, меняется характер протекающих химических реакций,сила и частота электромагнитных колебаний. Меняется все. И все это учитывает мой моделирующий аппарат. В соответствии с расшифрованной информацией — наследственной и приобретенной — он воссоздает исключительно точное кибернетическое подобие человека.
— Прошло три часа, пока вы читали книгу,- продолжал Вир-Виан. — И вдруг открывается, например, вот эта дверь,- он показал на дверь в лабораторию, в которой я уже был. Вир-Виан говорил все с большим увлечением. — И появляется человек,ваш двойник.Он похож на вас не только внешностью, но и своим поведением, темпераментом, характерными жестами и привычками. Вы ошеломлены…
Я представил эту картину и поежился от неприятного ощущения. Да, это было бы отвратительно — видеть своего механического двойника. Но Вир-Виан говорил об этом все с большим жаром и увлечением. И я снова не совсем учтиво прервал его:
— Но почему тогда ваш Тонгус не похож на Ниан-Нара по характеру и привычкам?
— Я снова отклонился в сторону,- смутился Вир-Виан, и, подумав немного, продолжал:- С Ниан-Наром получилось не так, как с вашим воображаемым примером. Даже мои первые опыты с животными были удачнее. И вот почему. Вы, конечно, помните несчастный случай с астролетчиком Ниан-Наром. Он погиб при посадке. рачи не могли уже ничего сделать. Ниан-Нар был безнадежно мертв. Я попросил,чтобы тело Ниан-Нара доставили ко мне, и сказал, что попытаюсь вернуть его к жизни в моей лаборатории. Врачи удивились, но не возражали — настолько высок мой авторитет.Оживить труп, конечно, не удалось. Но я взял кусочек тела и передал его дешифровально-моделирующей установке. Машина оказалась на этот раз бессильной.Да и понятно: ведь Ниан-Нар был мертв уже двадцать часов. За это время в клетках организма,в том числе в нуклеиновых кислотах, произошли необратимые процессы. Весь сложный комплекс химических, электромагнитных и прочих реакций нарушился,хотя клетки в какой-то степени еще функционировали. Машина не смогла разгадать все наследственные и приобретенные качества человека.Но по микроструктуре нуклеиновых кислот она все же расшифровала наследственную информацию о внешности человека. И машина воссоздала эту внешность. Получилось сложное кибернетическое устройство в образе Ниан-Нара. Мы назвали его Тонгусом. Тонгус был необычайно развит интеллектуально, но начисто лишен человеческих качеств, кроме внешности. Мы все же запрограммировали кое-какие человеческие черты.
— В основном покорность.
— Верно,- согласился Вир-Виан. — Мы хотели иметь хорошего слугу. И мы его имеем. Наш Тонгус неизмеримо выше ваших домашних слуг-роботов.
По мере того как Вир-Виан рассказывал о своих и в самом деле изумительных работах по моделированию человека, у меня росло чувство смутной тревоги. В сумрачной тайне лаборатории Вир-Виана было что-то чуждое,враждебное человеку.
— Зачем все это?- наконец воскликнул я. — Какая цель кибернетического воссоздания человека? Если бы вам удалось скопировать Ниан-Нара не только внешне,но и по темпераменту и поведению, что из этого получилось бы?
— Получился бы хороший фарсан,-ответил Вир-Виан,внимательно глядя на меня.
— Фарсан? Так в древности называли на Южном полюсе привилегированных воинственных слуг шеронов.
— Верно.Не совсем, правда, в древности. Но название прекрасное. Фарсан-завоеватель! На этот раз завоеватель Вселенной. Это как раз то гибкое и неожиданное оружие для завоевания населенных планет,о котором я уже упоминал. Предположим,что наша экспедиция найдет в планетной системе Нанди-Нана разумных обитателей и сравнительно высокую цивилизацию. Вероятно, жители той планеты будут в основном похожи на нас.Но не это важно.Важно то, что жизнь там наверняка образовалась на такой же белково-нуклеиновой основе, как и у нас.Теперь предположим, что вы высаживаете на населенной планете такого фарсана с необходимым кибернетическим оборудованием. Вы улетаете обратно,а фарсан-завоеватель остается в качестве почетного гостя, представителя нашего мира.А все фарсаны запрограммированы так, что они размножаются,подделываясь под разумных обитателей той планеты,на которой вы их оставите.Предположим маловероятное:белково-нуклеиновые тела жителей какой -нибудь планеты имеют трудновообразимую, фантастическую форму. Например, это будут парящие в воздухе шары с короткими руками и одним вращающимся, как антенна локатора,глазом. Фарсаны по наследственной информации нуклеиновых кислот скопируют их внешность и поведение. Кроме того, новые фарсаны будут иметь всю приобретенную информацию разумных обитателей,их знания и жизненный опыт.Живые прототипы фарсанов будут при этом,конечно,уничтожаться. Под их видом фарсаны, обладающие громадными техническими знаниями и навыками, проникнут во все важнейшие производственные и энергетические центры планеты. И вот…- При этих словах Вир-Виан вскочил с кресла и начал взволнованно ходить по комнате. В его голосе появилась торжественность, точь-в-точь как в самых патетических местах его речи на Всепланетном Круге.- И вот в одно прекрасное время жители планеты оказываются под властью фарсанов,то есть под нашей властью.Вы понимаете,что это значит? Это значит, что мы сделаем первый шаг к космическому господству.Это значит,что наша прекрасная Зургана станет в будущем центром галактик,вместилищем и центром вселенского разума. Это значит, что мыслящий дух…
Вир-Виан снова понесся вскачь на своем коньке. Он жестикулировал, лицо его приобретало восторженное выражение.
— Это бессмысленно!- воскликнул я. — Дико и бессмысленно. К тому же Круг арханов никогда не согласится на это.
Вир-Виан, нахмурившись, подошел к креслу и опустился в него.
— Знаю, что не согласится,- вяло проговорил он.- Поэтому я и обращаюсь к вам, Тонри-Ро. Вы можете сделать первый шаг, взяв на корабль хотя бы одного фарсана.
— Тонгуса?- спросил я с удивлением.- Этого развинченного кретина?
— Зачем такие сильные выражения?Тонгус не кретин.Но он,конечно,не годится. Мы дадим вам другого, идеально совершенного фарсана.
— Нет, нет!- горячо возражал я. — Я всецело подчиняюсь Кругу арханов и никогда не соглашусь на этот жестокий и безумный эксперимент.
Увидев расстроенное и угрюмо-надменное лицо Вир-Виана,я снова пожалел его. Я все же уважал этого великого ученого. И мне захотелось убедить его, сделать так, чтобы он сам понял бессмысленность и жестокость своей затеи.
— К тому же нет никакой гарантии безопасности,- осторожно начал я.- Ваши фарсаны,расплодившиеся на чужой планете и захватившие власть,могут,как бы это выразиться,выйти из-под нашего контроля и натворить бед не только там, но и здесь, на Зургане. Свободное программирование таких совершенных кибернетических устройств может привести к весьма нежелательным последствиям. Чего доброго, ваши фарсаны еще подумают, что они выше человека, и возомнят себя господами.
— Случайности в поведении,конечно, могут быть,- согласился Вир-Виан. — Но если в программе одного или даже нескольких фарсанов произойдет отклонение в нежелательную сторону, другие, преданные нам фарсаны, быстро ликвидируют их.
— А если отклонение в программе вызовет массовый характер?
— О нет!- живо возразил Вир-Виан.- Это маловероятно. Но я предусмотрел и этот совершенно исключительный случай.
Вир-Виан встал и подошел к двери на веранду.Открыв ее, он крикнул:
— Тонгус! Зайди сюда.
Вошел Тонгус. Как и в прошлый раз, он услужливо встал посредине комнаты.
— У каждого фарсана,- сказал Вир-Виан,показывая на голову Тонгуса,-имеется особый блок безопасности. Сейчас я покажу вам его в действии.
Эфери-Рау,до этого внимательно слушавший своего учителя, неожиданно встал и поспешно удалился в лабораторию. Он так торопился, что не успел плотно закрыть дверь. Сквозь щель я видел, как Эфери-Рау сел в кресло в напряженно-выжидательной позе.
— Блок безопасности,- продолжал Вир-Виан, — принимает только одну сложным образом зашифрованную радиограмму, которая известна пока лишь мне одному. Радиограмму можно послать с помощью вот этой портативной вещи.
Он вынул из кармана и показал обыкновенный радиосигнализатор,каким пользуются при взрывных работах.Такой радиосигнализатор и сейчас лежит у меня в кармане.К сожалению, я не мог видеть цифр, набранных на сигнализаторе Вир-Виана:он тщательно прикрывал ладонью циферблат. Вир-Виан передвинул предохранитель и положил палец на кнопку.
Эфери-Рау вышел в боковую дверь, оставив ее приоткрытой.
Вскоре оттуда, стуча по полу когтями, выскочили два сунга. Шестилапые, с длинными и гибкими телами, с острыми мордочками, с сильными мускулистыми хвостами, они ничем не отличались друг от друга. Зверьки разбежались в разные стороны и стали шарить по углам в поисках песка, чтобы зарыться в него.Ничего не найдя, они вернулись на середину библиотеки и с недоумением озирались вокруг. Наконец сунги сошлись и начали обнюхивать друг друга. Один из них, видимо инстинктивно, почувствовал в другом существо враждебное, чуждое его породе. Его короткая и колючая шерсть взъерошилась, встала дыбом. Грозно заверещав, он набросился на противника. Тот, оглушительно взвизгнув, сильным ударом хвоста отбросил нападающего и сам приготовился к атаке.
— Эфери,разними!- крикнул Вир-Виан, брезгливо морщась и закрывая ладонями уши. Пронзительное верещание заставило и меня заткнуть уши.
Эфери-Рау ловко,очевидно,у него был уже опыт, разнял драчунов. Сдавив им шеи, он унес беспомощно повисших зверьков обратно.
— Ну, как?-спросил Вир-Виан.-Смогли бы вы отличить искусственного сунга от настоящего?
— По-моему, тот, который напал первым, и есть настоящий.
— Вы угадали.
— Угадал не случайно.Настоящий сунг звериным инстинктом почувствовал в другом существе чуждое себе, своей породе.
— Верно, — сказал Вир-Виан, с любопытством взглянув на меня. — Звериный инстинкт в этих случаях почти безошибочен.У человека же разум преобладает над инстинктом. А разум ошибается. Если я усовершенствую Тонгуса, особенно поведение, и выпущу его на волю, люди будут считать его человеком. Ему надо только соблюдать некоторые предосторожности. Например, избегать врачебных осмотров, особенно луческопии…
— Избегать творческих занятий:не писать стихи, не сочинять музыку, — продолжил я.
Вир-Виан вяло согласился.
— К сожалению,это тоже верно,хотя не совсем. В творческих областях Тонгус несколько уступает человеку. Но не так уж сильно. Он может создавать вполне приличные стихи и музыку. Гением он, вероятно, все же не будет. Но вот в технике Тонгус разбирается лучше человека.
— Как же все-таки с Ниан-Наром? — напомнил я.
— Ах да!- снова оживился Вир-Виан. — Мы отклонились. Теперь вы понимаете, что я могу создать идеальную кибернетическую копию человека — не человека вообще, а именно конкретного человека, воспроизвести его физическую и духовную сущность со всеми индивидуальными особенностями. Например, я беру обыкновенный шприц и делаю вам небольшой и почти безболезненный укол. В трубочке шприца остаются тысячи клеток вашего организма. Все это я передаю моей дешифровально-моделирующей установке. Вы сидите в кресле и часа три читаете своего любимого поэта. В это время аппарат с огромной быстротой проделывает сложную и таинственно-незримую работу.По микроструктуре нуклеиновых кислот,по характеру протекающих в них химических, электромагнитных реакций,по тысяче других индивидуальных признаков он расшифровывает наследственную информацию. И не только наследственную. Он разгадывает информацию обо всех изменениях, происшедших с вами и с вашей внешностью при жизни.Ведь человек меняется с каждым годом, с каждым днем. Меняются его характер,привычки,меняется в какой-то мере и внешность.И это не проходит бесследно. В нуклеиновых кислотах, во всех клетках организма тоже происходят неуловимые изменения. Клетки — эти сложнейшие кибернетические установки- живут вместе с человеком,они стареют, меняется характер протекающих химических реакций,сила и частота электромагнитных колебаний. Меняется все. И все это учитывает мой моделирующий аппарат. В соответствии с расшифрованной информацией — наследственной и приобретенной — он воссоздает исключительно точное кибернетическое подобие человека.
— Прошло три часа, пока вы читали книгу,- продолжал Вир-Виан. — И вдруг открывается, например, вот эта дверь,- он показал на дверь в лабораторию, в которой я уже был. Вир-Виан говорил все с большим увлечением. — И появляется человек,ваш двойник.Он похож на вас не только внешностью, но и своим поведением, темпераментом, характерными жестами и привычками. Вы ошеломлены…
Я представил эту картину и поежился от неприятного ощущения. Да, это было бы отвратительно — видеть своего механического двойника. Но Вир-Виан говорил об этом все с большим жаром и увлечением. И я снова не совсем учтиво прервал его:
— Но почему тогда ваш Тонгус не похож на Ниан-Нара по характеру и привычкам?
— Я снова отклонился в сторону,- смутился Вир-Виан, и, подумав немного, продолжал:- С Ниан-Наром получилось не так, как с вашим воображаемым примером. Даже мои первые опыты с животными были удачнее. И вот почему. Вы, конечно, помните несчастный случай с астролетчиком Ниан-Наром. Он погиб при посадке. рачи не могли уже ничего сделать. Ниан-Нар был безнадежно мертв. Я попросил,чтобы тело Ниан-Нара доставили ко мне, и сказал, что попытаюсь вернуть его к жизни в моей лаборатории. Врачи удивились, но не возражали — настолько высок мой авторитет.Оживить труп, конечно, не удалось. Но я взял кусочек тела и передал его дешифровально-моделирующей установке. Машина оказалась на этот раз бессильной.Да и понятно: ведь Ниан-Нар был мертв уже двадцать часов. За это время в клетках организма,в том числе в нуклеиновых кислотах, произошли необратимые процессы. Весь сложный комплекс химических, электромагнитных и прочих реакций нарушился,хотя клетки в какой-то степени еще функционировали. Машина не смогла разгадать все наследственные и приобретенные качества человека.Но по микроструктуре нуклеиновых кислот она все же расшифровала наследственную информацию о внешности человека. И машина воссоздала эту внешность. Получилось сложное кибернетическое устройство в образе Ниан-Нара. Мы назвали его Тонгусом. Тонгус был необычайно развит интеллектуально, но начисто лишен человеческих качеств, кроме внешности. Мы все же запрограммировали кое-какие человеческие черты.
— В основном покорность.
— Верно,- согласился Вир-Виан. — Мы хотели иметь хорошего слугу. И мы его имеем. Наш Тонгус неизмеримо выше ваших домашних слуг-роботов.
По мере того как Вир-Виан рассказывал о своих и в самом деле изумительных работах по моделированию человека, у меня росло чувство смутной тревоги. В сумрачной тайне лаборатории Вир-Виана было что-то чуждое,враждебное человеку.
— Зачем все это?- наконец воскликнул я. — Какая цель кибернетического воссоздания человека? Если бы вам удалось скопировать Ниан-Нара не только внешне,но и по темпераменту и поведению, что из этого получилось бы?
— Получился бы хороший фарсан,-ответил Вир-Виан,внимательно глядя на меня.
— Фарсан? Так в древности называли на Южном полюсе привилегированных воинственных слуг шеронов.
— Верно.Не совсем, правда, в древности. Но название прекрасное. Фарсан-завоеватель! На этот раз завоеватель Вселенной. Это как раз то гибкое и неожиданное оружие для завоевания населенных планет,о котором я уже упоминал. Предположим,что наша экспедиция найдет в планетной системе Нанди-Нана разумных обитателей и сравнительно высокую цивилизацию. Вероятно, жители той планеты будут в основном похожи на нас.Но не это важно.Важно то, что жизнь там наверняка образовалась на такой же белково-нуклеиновой основе, как и у нас.Теперь предположим, что вы высаживаете на населенной планете такого фарсана с необходимым кибернетическим оборудованием. Вы улетаете обратно,а фарсан-завоеватель остается в качестве почетного гостя, представителя нашего мира.А все фарсаны запрограммированы так, что они размножаются,подделываясь под разумных обитателей той планеты,на которой вы их оставите.Предположим маловероятное:белково-нуклеиновые тела жителей какой -нибудь планеты имеют трудновообразимую, фантастическую форму. Например, это будут парящие в воздухе шары с короткими руками и одним вращающимся, как антенна локатора,глазом. Фарсаны по наследственной информации нуклеиновых кислот скопируют их внешность и поведение. Кроме того, новые фарсаны будут иметь всю приобретенную информацию разумных обитателей,их знания и жизненный опыт.Живые прототипы фарсанов будут при этом,конечно,уничтожаться. Под их видом фарсаны, обладающие громадными техническими знаниями и навыками, проникнут во все важнейшие производственные и энергетические центры планеты. И вот…- При этих словах Вир-Виан вскочил с кресла и начал взволнованно ходить по комнате. В его голосе появилась торжественность, точь-в-точь как в самых патетических местах его речи на Всепланетном Круге.- И вот в одно прекрасное время жители планеты оказываются под властью фарсанов,то есть под нашей властью.Вы понимаете,что это значит? Это значит, что мы сделаем первый шаг к космическому господству.Это значит,что наша прекрасная Зургана станет в будущем центром галактик,вместилищем и центром вселенского разума. Это значит, что мыслящий дух…
Вир-Виан снова понесся вскачь на своем коньке. Он жестикулировал, лицо его приобретало восторженное выражение.
— Это бессмысленно!- воскликнул я. — Дико и бессмысленно. К тому же Круг арханов никогда не согласится на это.
Вир-Виан, нахмурившись, подошел к креслу и опустился в него.
— Знаю, что не согласится,- вяло проговорил он.- Поэтому я и обращаюсь к вам, Тонри-Ро. Вы можете сделать первый шаг, взяв на корабль хотя бы одного фарсана.
— Тонгуса?- спросил я с удивлением.- Этого развинченного кретина?
— Зачем такие сильные выражения?Тонгус не кретин.Но он,конечно,не годится. Мы дадим вам другого, идеально совершенного фарсана.
— Нет, нет!- горячо возражал я. — Я всецело подчиняюсь Кругу арханов и никогда не соглашусь на этот жестокий и безумный эксперимент.
Увидев расстроенное и угрюмо-надменное лицо Вир-Виана,я снова пожалел его. Я все же уважал этого великого ученого. И мне захотелось убедить его, сделать так, чтобы он сам понял бессмысленность и жестокость своей затеи.
— К тому же нет никакой гарантии безопасности,- осторожно начал я.- Ваши фарсаны,расплодившиеся на чужой планете и захватившие власть,могут,как бы это выразиться,выйти из-под нашего контроля и натворить бед не только там, но и здесь, на Зургане. Свободное программирование таких совершенных кибернетических устройств может привести к весьма нежелательным последствиям. Чего доброго, ваши фарсаны еще подумают, что они выше человека, и возомнят себя господами.
— Случайности в поведении,конечно, могут быть,- согласился Вир-Виан. — Но если в программе одного или даже нескольких фарсанов произойдет отклонение в нежелательную сторону, другие, преданные нам фарсаны, быстро ликвидируют их.
— А если отклонение в программе вызовет массовый характер?
— О нет!- живо возразил Вир-Виан.- Это маловероятно. Но я предусмотрел и этот совершенно исключительный случай.
Вир-Виан встал и подошел к двери на веранду.Открыв ее, он крикнул:
— Тонгус! Зайди сюда.
Вошел Тонгус. Как и в прошлый раз, он услужливо встал посредине комнаты.
— У каждого фарсана,- сказал Вир-Виан,показывая на голову Тонгуса,-имеется особый блок безопасности. Сейчас я покажу вам его в действии.
Эфери-Рау,до этого внимательно слушавший своего учителя, неожиданно встал и поспешно удалился в лабораторию. Он так торопился, что не успел плотно закрыть дверь. Сквозь щель я видел, как Эфери-Рау сел в кресло в напряженно-выжидательной позе.
— Блок безопасности,- продолжал Вир-Виан, — принимает только одну сложным образом зашифрованную радиограмму, которая известна пока лишь мне одному. Радиограмму можно послать с помощью вот этой портативной вещи.
Он вынул из кармана и показал обыкновенный радиосигнализатор,каким пользуются при взрывных работах.Такой радиосигнализатор и сейчас лежит у меня в кармане.К сожалению, я не мог видеть цифр, набранных на сигнализаторе Вир-Виана:он тщательно прикрывал ладонью циферблат. Вир-Виан передвинул предохранитель и положил палец на кнопку.
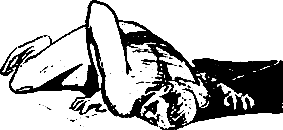 — Теперь предположим, что в генеральной программе Тонгуса произошло нежелательное, опасное отклонение. Тогда я делаю следующее. Смотрите.
Вир-Виан нажал кнопку.Тонгус сразу как-то обмяк, колени его подогнулись, и он упал на пол.
— Не бойтесь, он не разобьется и не получит никаких повреждений. Тонгус прочнее человека.Но он сейчас мертв. Вся деятельность сложной сети молекулярных нейронов прекратилась. Работает только один блок безопасности. Он-то и ликвидирует все нежелательные отклонения в программе фарсана. Происходит как бы процесс самоочищения.
— Теперь предположим, что в генеральной программе Тонгуса произошло нежелательное, опасное отклонение. Тогда я делаю следующее. Смотрите.
Вир-Виан нажал кнопку.Тонгус сразу как-то обмяк, колени его подогнулись, и он упал на пол.
— Не бойтесь, он не разобьется и не получит никаких повреждений. Тонгус прочнее человека.Но он сейчас мертв. Вся деятельность сложной сети молекулярных нейронов прекратилась. Работает только один блок безопасности. Он-то и ликвидирует все нежелательные отклонения в программе фарсана. Происходит как бы процесс самоочищения.
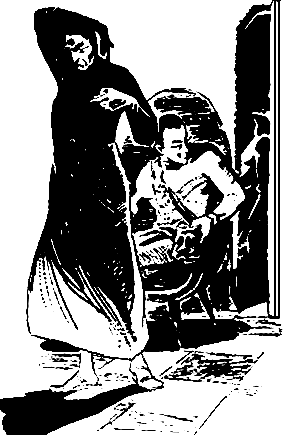 Я случайно взглянул в приоткрытую дверь лаборатории и вздрогнул: Эфери-Рау повис в кресле, рука его беспомощно свесилась до пола, а голова вяло склонилась вперед и немного в сторону. Что с ним? Неужели Эфери-Рау, как и Тонгус?… Не может быть!…
Мои лихорадочные размышления прервал Вир-Виан.
— Теперь смотрите,- сказал он, глядя на Тонгуса,- я нажимаю вторую кнопку.
Тонгус зашевелился и быстро встал на ноги.
— Фарсаны,- торжествующе продолжал Вир-Виан,-взбунтовавшиеся фарсаны снова во власти человека. Но случаи неповиновения исключительно редки. Мои фарсаны надежнее и преданнее прежних фарсанов, фарсанов-людей. Вы согласны?
И Вир-Виан самодовольно рассмеялся.
— Конечно, надежнее,- услышал я голос вошедшего Эфери-Рау.
Я обернулся и внимательно взглянул на него. Эфери-Рау улыбался и смотрел на Вир-Виана с еще большей преданностью и раболепием, чем раньше.
«Неужели Эфери-Рау,-думал я,-это не человек,а его кибернетический двойник? Но где же тогда живой Эфери-Рау? Где?»
Эти мысли не давали мне покоя, усиливая тягостное впечатление от всего, что я видел здесь. И мне захотелось поскорее уйти. Сославшись на неотложные дела, я заторопился. До ворот меня проводил Вир-Виан.
— Надеюсь,что перед тем,как покинуть Зургану,вы зайдете ко мне? — спросил он на прощание.
Не помню,но мне кажется,что я обещал зайти, обещал, чтобы что-то сказать. Расставшись с Вир-Вианом, я направился к гелиоплану, который за это время накопил под жаркими лучами изрядное количество энергии.
«Что мне делать? — думал я, усаживаясь в кабину. — Может быть, обо всем рассказать Нанди-Нану? Посоветоваться с ним? Нет, ведь я же обещал Вир-Виану пока что не говорить никому…»
Но такова была беспечность нашего поколения, выросшего в условиях гармонического общества,и такова оптимистическая сила молодости,что тягостное чувство исчезло, как только гелиоплан поднялся в воздух. Ветер звенел в ушах, напевая свою незатейливую, но весьма увлекательную песенку странствий. Я летел к освещенным просторам Ализанского океана, к своим друзьям на зеленом острове Астронавтов.
Я случайно взглянул в приоткрытую дверь лаборатории и вздрогнул: Эфери-Рау повис в кресле, рука его беспомощно свесилась до пола, а голова вяло склонилась вперед и немного в сторону. Что с ним? Неужели Эфери-Рау, как и Тонгус?… Не может быть!…
Мои лихорадочные размышления прервал Вир-Виан.
— Теперь смотрите,- сказал он, глядя на Тонгуса,- я нажимаю вторую кнопку.
Тонгус зашевелился и быстро встал на ноги.
— Фарсаны,- торжествующе продолжал Вир-Виан,-взбунтовавшиеся фарсаны снова во власти человека. Но случаи неповиновения исключительно редки. Мои фарсаны надежнее и преданнее прежних фарсанов, фарсанов-людей. Вы согласны?
И Вир-Виан самодовольно рассмеялся.
— Конечно, надежнее,- услышал я голос вошедшего Эфери-Рау.
Я обернулся и внимательно взглянул на него. Эфери-Рау улыбался и смотрел на Вир-Виана с еще большей преданностью и раболепием, чем раньше.
«Неужели Эфери-Рау,-думал я,-это не человек,а его кибернетический двойник? Но где же тогда живой Эфери-Рау? Где?»
Эти мысли не давали мне покоя, усиливая тягостное впечатление от всего, что я видел здесь. И мне захотелось поскорее уйти. Сославшись на неотложные дела, я заторопился. До ворот меня проводил Вир-Виан.
— Надеюсь,что перед тем,как покинуть Зургану,вы зайдете ко мне? — спросил он на прощание.
Не помню,но мне кажется,что я обещал зайти, обещал, чтобы что-то сказать. Расставшись с Вир-Вианом, я направился к гелиоплану, который за это время накопил под жаркими лучами изрядное количество энергии.
«Что мне делать? — думал я, усаживаясь в кабину. — Может быть, обо всем рассказать Нанди-Нану? Посоветоваться с ним? Нет, ведь я же обещал Вир-Виану пока что не говорить никому…»
Но такова была беспечность нашего поколения, выросшего в условиях гармонического общества,и такова оптимистическая сила молодости,что тягостное чувство исчезло, как только гелиоплан поднялся в воздух. Ветер звенел в ушах, напевая свою незатейливую, но весьма увлекательную песенку странствий. Я летел к освещенным просторам Ализанского океана, к своим друзьям на зеленом острове Астронавтов.
 Мы вошли внутрь огромного шара и очутились в непроницаемой темноте. Мы опоздали и увидели только финал «Звездного танца».Сцены,собственно,не было. Перед зрителями расстилался безбрежный угольно-черный Космос, озаряемый в такт музыке вспышками огневых облаков и беззвучно взрывающихся сверхновых звезд. Это был несколько декоративный, театральный Космос. В центре- обломок скалы, изображающий астероид. На нем я увидел Аэнну в легком серебристом костюме, плотно облегающем ее стройное, гибкое тело. В таком костюме на настоящем астероиде астронавт погибнет моментально, пронизанный космическим холодом. Но я сразу же забыл об этой условности, как только увидел Аэнну, ее плавные движения, с трепетной легкостью отзывающиеся на музыку. Аэнна казалась мне древней богиней плясок, сошедшей на космический обломок скалы. Темп танца ускорялся, его ритмический рисунок стал четким и отрывистым. Вот уже Аэнна похожа на буйное серебристое пламя.В ее стремительных движениях чувствовался такой неудержимый порыв, что все затаили дыхание…
Танец закончился. Вспыхнул свет. Но в круглом зале еще стояла тишина. Наконец раздались возгласы: «Хау!» Многие бросились поздравлять Аэнну. Я был ошеломлен и взволнован и долго не замечал, как Сэнди-Ски дергал меня на рукав.
— Ты, я вижу, совсем остолбенел,-услышал я его насмешливый голос. — Может быть, подойдем и поздравим Аэнну?
Но я все еще молчал.Внимательно посмотрев на меня,Сэнди-Ски, усмехнувшись, сказал:
— Вот что,дружище, иди-ка ты лучше на берег,на то место, где стоит катер. А я скажу Аэнне, что ты ждешь ее там. Вернуться на остров можешь на том же катере, а я найду другой.
Я пришел на скалистый берег и уселся на камне у самого моря. Долгое время я ничего не замечал.Я все еще видел в угольной черноте сверкающий обломок скалы и танцующую Аэнну.
Наконец очнулся и посмотрел по сторонам. Берег был пустынный. Лишь далеко слева стояла на пляже небольшая группа отдыхающих. Среди них я заметил знакомую фигуру. Тонкая талия,отлично развитая грудная клетка пловца. Неужели?… Я взял в катере бинокль и,спрятавшись между кустами,стал наблюдать. Так и есть — Эфери-Рау!
Эфери-Рау разговаривал с людьми. В бинокль я хорошо видел его лицо, как будто он стоял рядом, в двух шагах. Эфери-Рау хвастливо похлопал себя по широкой груди и самодовольно огляделся. Я не заметил бы в его поведении ни малейшей фальши, если бы ничего не знал о фарсанах, если бы не видел, как Эфери-Рау безжизненно повис в кресле под действием шифрованной радиограммы Вир-Виана.Но сейчас мне казалось, что Эфери-Рау немного не тот. Или мне это просто казалось? «Если это фарсан,которого Вир-Виан решил изредка, чтобы не вызывать подозрений, отпускать к людям,то где же живой Эфери-Рау?-думал я. — Неужели он его в самом деле уничтожил?»
Вот Эфери-Рау снова похлопал себя по груди и показал на море. Я хорошо знал этот хвастливый жест. В тот день было сильное волнение, и никто из отдыхающих не решился купаться. Но Эфери-Рау бросился на гребень высокой волны и поплыл в своем превосходном стиле, вызывающем у меня всякий раз чувство восхищения.
Я снова сел на камень лицом к океану и, отложив в сторону бинокль, стал думать об Эфери-Рау. Воспроизвести кибернетическими, чисто техническими средствами мысль человека во всем ее величии и богатстве невозможно.В этом я не сомневался.Но можно ли воссоздать поведение человека с таким искусством, чтобы гадать,как я только что гадал, человек это или фарсан?Нет,по-моему, и это невозможно.Отсутствие трепета жизни неизбежно скажется и здесь. Невольно вспомнились «Звездный танец» Аэнны, ее одухотворенные, песенные движения.
Сзади послышался шелест кустарника.Я оглянулся. Аэнна!… Она стояла на остроконечном камне и, улыбаясь, балансировала раскинутыми в стороны руками. Взмахнув ими,как птица крыльями, она бесшумно спрыгнула и подошла ко мне.
— О, Тонри,- засмеялась она. — Как это романтично и немного старомодно — назначать свидания на безлюдном берегу.
— Не совсем безлюдном,- возразил я, подавая бинокль. — Взгляни налево.
Аэнна взяла бинокль и поверх кустов стала рассматривать пляж. В это время из бурлящих волн выходил на берег Эфери-Рау, победоносно размахивая руками.
— Эфери-Рау!- воскликнула она и, посерьезнев, добавила: — Поразительное явление. Как это отец отпустил его?
— Давай сядем на камень, как в прошлый раз,- предложил я.- Об этом Эфери-Рау и других помощниках твоего отца я и хочу поговорить.
— А ты откуда их знаешь? — удивленно вскинув брови и усаживаясь на камень, спросила Аэнна.
— Ты же сама приглашала меня.
— Но ты же не был…
— Я был вчера,и мы полдня беседовали с твоим отцом.
— Полдня? Поразительно!- Аэнна звонко рассмеялась.- Ах да, я забыла: отец влюблен в тебя. О чем же вы говорили? Отец в последнее время стал особенно скрытным и нелюдимым.Хоть я люблю его,но меня все меньше тянет в его крепость-лабораторию.Он разговаривает только со своими помощниками да с немногими гостями-шеронами.Причем это в основном старые шероны, которые разделяют его взгляды о космической борьбе и господстве.Не нравится мне отец в последнее время.
При последних словах тень печали снова легла на ее красивое лицо.
— Да, в тайне его лаборатории есть что-то бесчеловечное,- проговорил я. — Вир-Виан просил меня никому не рассказывать о своих опытах. Но тебе-то, я думаю, можно рассказать.
— О какой тайне ты говоришь?- спросила Аэнна.-Я мало знаю о его опытах, но мне кажется, что он работает сейчас над искусственными полимерами, находящимися на грани живого белка.
— Искусственные полимеры Вир-Виана,конечно,поразительны,- возразил я.- Но главное его достижение в том, что он создает кибернетическую аппаратуру на принципиально новой основе, на атомно-молекулярном уровне.
— Ты хочешь сказать, что отец предлагает кристаллы и микроэлементы заменить атомами?
— Да.Поглотив квант энергии,атом становится возбужденным.Переходя из этого состояния в нормальное, он излучает энергию. Вот этим переходом из одного состояния в другое Вир-Виан и заставил атом выполнять главную логическую операцию «да-нет-да».
— Это же великолепно,- оживилась Аэнна.- Насколько я понимаю, это крупное достижение.
— Да,это успех,- согласился я.-Наши ученые давно работают над этим,но пока ничего не получается. Но зачем Вир-Виан скрывает свои достижения? Неужели для того, чтобы в тайне изготовить несколько фарсанов?
— Каких фарсанов? Ты имеешь в виду воинственную древнюю расу? Но она же полностью погибла.
— Я говорю об искусственных фарсанах, о людях с полимерным телом.
— Ты намекаешь на этого кретина Тонгуса?- улыбнулась Аэнна.- Но это же просто слуга.Признаюсь, я тоже сначала приняла его за человека, который вызывал у меня непонятное отвращение. Но отец все объяснил мне.
— Дело не в Тонгусе. Это всего лишь первый образец. Сейчас Вир-Виан может делать более совершенных фарсанов.
И я рассказал о своих подозрениях,о том, что Эфери-Рау и другие помощники Вир-Виана — это, возможно, искусственные люди, кибернетические фарсаны.
Аэнна быстро встала и с ужасом посмотрела на меня.
— О, Тонри. Ты говоришь что-то страшное. Нет, нет. Этого не может быть. Хотя мне они тоже кажутся немного странными. Но я не думала… Нет, не может быть!
Я встал с камня и взял Аэнну за руку. Рука ее слегка дрожала.
— Но все же, Аэнна, это, видимо, так.
— Проводи меня до нашего городка,- сказала Аэнна.- Я хочу остаться одна и подумать.
По пути в городок она спросила:
— Но почему ты их называешь фарсанами?
— Потому что основная их программа- завоевание населенных планет Вселенной для новой породы шеронов,потому что их атомно-молекулярные мозги напичканы воинственно-космической философией, о которой Вир-Виан так подробно распространялся в Шаровом Дворце знаний. Вир-Виан сам называет их фарсанами.
— Вот видишь, я же говорила как-то тебе, что мой отец- опасный и недобрый гений, — сказала Аэнна. — Но я не думаю… Нет, это невероятно!
Когда мы подошли к пластмассовому городку археологов, у нее мелькнула мысль, от которой она вздрогнула и снова с ужасом посмотрела на меня.
— Подожди,если фарсаны- кибернетические двойники,то где живые люди?Неужели они мертвы?… Быть может,убиты? Нет, Тонри. Твое предположение слишком чудовищно. Я должна сама все проверить и продумать.
— Знаешь что,- неожиданно предложил я,увидев ее расстроенное лицо,- давай улетим в Космос вместе.
— О нет, Тонри,- слабо улыбнувшись, сказала она. — Совет Астронавтики не разрешит брать женщин в первый межзвездный.
— Скоро у нас испытательный полет. Из него вернемся через год. И перед настоящим полетом у нас будет еще полгода. За это время я уговорю Совет Астронавтики. Ведь нам нужны будут историки.
— Не так все это просто, Тонри. К тому же я сама не захочу.
— Почему?
— Вот ты любишь Космос.Межзвездный полет- цель твоей жизни.Скажи,смог бы ты ради меня остаться здесь, на Зургане?
Я замялся.
— Ну, говори. Только прямо.
— Нет, не смог бы.
— Вот так же и я не могу покинуть Зургану и улететь в Космос надолго, быть может,навсегда.Я люблю Зургану. Поэтому я и стала археологом, историком и палеонтологом.А ты не расстраивайся, — добавила она, взглянув на меня. — В Космосе ты скоро забудешь обо мне.
Я хотел возразить, но она сказала:
— Не будем сейчас об этом говорить. Ты вернешься из пробного полета, и у нас будет еще полгода. Да это же целая вечность!
— А вот мое первобытное жилище,- улыбнувшись, сказала Аэнна и показала на белый пластмассовый домик.
В таких домиках я провел немало ночей и дней во время туристских походов. Легкие, обставленные просто,они мне нравились больше, чем наши высокоавтоматизированные дома.
— Подожди минутку.- Аэнна зашла в домик. Вернувшись, она протянула мне шкатулку, в каких обычно хранятся кристаллы:- Возьми с собой в Космос вот это.
— А что здесь?
— Таблетки приятных сновидений.Продукт шеронской цивилизации эпохи упадка,- рассмеялась она и добавила:-Знаю,что вам не разрешают брать в полет эти таблетки.Но две-три штуки тебе не повредят. Вдруг в Космосе заскучаешь и тебе захочется на время,хоть во сне, вернуться на Зургану.
Потом, положив руки на мои плечи и почти вплотную приблизив свое лицо, она спросила:
— А может быть, в Космосе ты все же не забудешь меня? А? Тогда тебе приятно будет увидеть меня хоть во сне. Так ведь?
Даже сейчас, через много лет космического полета, я не могу без волнения вспоминать этот момент. И мне никогда не забыть ослепительно прекрасного лица Аэнны, особенно ее глаз,таивших в своей глубине далекую и светлую, как звезды, печаль…
Здесь,у пластмассового домика,мы и расстались.Мог ли я тогда предполагать, что не увижу ее больше никогда, что Аэнна скоро погибнет в схватке с чудовищами, порожденными ее отцом,- с кибернетическими фарсанами?
Мы вошли внутрь огромного шара и очутились в непроницаемой темноте. Мы опоздали и увидели только финал «Звездного танца».Сцены,собственно,не было. Перед зрителями расстилался безбрежный угольно-черный Космос, озаряемый в такт музыке вспышками огневых облаков и беззвучно взрывающихся сверхновых звезд. Это был несколько декоративный, театральный Космос. В центре- обломок скалы, изображающий астероид. На нем я увидел Аэнну в легком серебристом костюме, плотно облегающем ее стройное, гибкое тело. В таком костюме на настоящем астероиде астронавт погибнет моментально, пронизанный космическим холодом. Но я сразу же забыл об этой условности, как только увидел Аэнну, ее плавные движения, с трепетной легкостью отзывающиеся на музыку. Аэнна казалась мне древней богиней плясок, сошедшей на космический обломок скалы. Темп танца ускорялся, его ритмический рисунок стал четким и отрывистым. Вот уже Аэнна похожа на буйное серебристое пламя.В ее стремительных движениях чувствовался такой неудержимый порыв, что все затаили дыхание…
Танец закончился. Вспыхнул свет. Но в круглом зале еще стояла тишина. Наконец раздались возгласы: «Хау!» Многие бросились поздравлять Аэнну. Я был ошеломлен и взволнован и долго не замечал, как Сэнди-Ски дергал меня на рукав.
— Ты, я вижу, совсем остолбенел,-услышал я его насмешливый голос. — Может быть, подойдем и поздравим Аэнну?
Но я все еще молчал.Внимательно посмотрев на меня,Сэнди-Ски, усмехнувшись, сказал:
— Вот что,дружище, иди-ка ты лучше на берег,на то место, где стоит катер. А я скажу Аэнне, что ты ждешь ее там. Вернуться на остров можешь на том же катере, а я найду другой.
Я пришел на скалистый берег и уселся на камне у самого моря. Долгое время я ничего не замечал.Я все еще видел в угольной черноте сверкающий обломок скалы и танцующую Аэнну.
Наконец очнулся и посмотрел по сторонам. Берег был пустынный. Лишь далеко слева стояла на пляже небольшая группа отдыхающих. Среди них я заметил знакомую фигуру. Тонкая талия,отлично развитая грудная клетка пловца. Неужели?… Я взял в катере бинокль и,спрятавшись между кустами,стал наблюдать. Так и есть — Эфери-Рау!
Эфери-Рау разговаривал с людьми. В бинокль я хорошо видел его лицо, как будто он стоял рядом, в двух шагах. Эфери-Рау хвастливо похлопал себя по широкой груди и самодовольно огляделся. Я не заметил бы в его поведении ни малейшей фальши, если бы ничего не знал о фарсанах, если бы не видел, как Эфери-Рау безжизненно повис в кресле под действием шифрованной радиограммы Вир-Виана.Но сейчас мне казалось, что Эфери-Рау немного не тот. Или мне это просто казалось? «Если это фарсан,которого Вир-Виан решил изредка, чтобы не вызывать подозрений, отпускать к людям,то где же живой Эфери-Рау?-думал я. — Неужели он его в самом деле уничтожил?»
Вот Эфери-Рау снова похлопал себя по груди и показал на море. Я хорошо знал этот хвастливый жест. В тот день было сильное волнение, и никто из отдыхающих не решился купаться. Но Эфери-Рау бросился на гребень высокой волны и поплыл в своем превосходном стиле, вызывающем у меня всякий раз чувство восхищения.
Я снова сел на камень лицом к океану и, отложив в сторону бинокль, стал думать об Эфери-Рау. Воспроизвести кибернетическими, чисто техническими средствами мысль человека во всем ее величии и богатстве невозможно.В этом я не сомневался.Но можно ли воссоздать поведение человека с таким искусством, чтобы гадать,как я только что гадал, человек это или фарсан?Нет,по-моему, и это невозможно.Отсутствие трепета жизни неизбежно скажется и здесь. Невольно вспомнились «Звездный танец» Аэнны, ее одухотворенные, песенные движения.
Сзади послышался шелест кустарника.Я оглянулся. Аэнна!… Она стояла на остроконечном камне и, улыбаясь, балансировала раскинутыми в стороны руками. Взмахнув ими,как птица крыльями, она бесшумно спрыгнула и подошла ко мне.
— О, Тонри,- засмеялась она. — Как это романтично и немного старомодно — назначать свидания на безлюдном берегу.
— Не совсем безлюдном,- возразил я, подавая бинокль. — Взгляни налево.
Аэнна взяла бинокль и поверх кустов стала рассматривать пляж. В это время из бурлящих волн выходил на берег Эфери-Рау, победоносно размахивая руками.
— Эфери-Рау!- воскликнула она и, посерьезнев, добавила: — Поразительное явление. Как это отец отпустил его?
— Давай сядем на камень, как в прошлый раз,- предложил я.- Об этом Эфери-Рау и других помощниках твоего отца я и хочу поговорить.
— А ты откуда их знаешь? — удивленно вскинув брови и усаживаясь на камень, спросила Аэнна.
— Ты же сама приглашала меня.
— Но ты же не был…
— Я был вчера,и мы полдня беседовали с твоим отцом.
— Полдня? Поразительно!- Аэнна звонко рассмеялась.- Ах да, я забыла: отец влюблен в тебя. О чем же вы говорили? Отец в последнее время стал особенно скрытным и нелюдимым.Хоть я люблю его,но меня все меньше тянет в его крепость-лабораторию.Он разговаривает только со своими помощниками да с немногими гостями-шеронами.Причем это в основном старые шероны, которые разделяют его взгляды о космической борьбе и господстве.Не нравится мне отец в последнее время.
При последних словах тень печали снова легла на ее красивое лицо.
— Да, в тайне его лаборатории есть что-то бесчеловечное,- проговорил я. — Вир-Виан просил меня никому не рассказывать о своих опытах. Но тебе-то, я думаю, можно рассказать.
— О какой тайне ты говоришь?- спросила Аэнна.-Я мало знаю о его опытах, но мне кажется, что он работает сейчас над искусственными полимерами, находящимися на грани живого белка.
— Искусственные полимеры Вир-Виана,конечно,поразительны,- возразил я.- Но главное его достижение в том, что он создает кибернетическую аппаратуру на принципиально новой основе, на атомно-молекулярном уровне.
— Ты хочешь сказать, что отец предлагает кристаллы и микроэлементы заменить атомами?
— Да.Поглотив квант энергии,атом становится возбужденным.Переходя из этого состояния в нормальное, он излучает энергию. Вот этим переходом из одного состояния в другое Вир-Виан и заставил атом выполнять главную логическую операцию «да-нет-да».
— Это же великолепно,- оживилась Аэнна.- Насколько я понимаю, это крупное достижение.
— Да,это успех,- согласился я.-Наши ученые давно работают над этим,но пока ничего не получается. Но зачем Вир-Виан скрывает свои достижения? Неужели для того, чтобы в тайне изготовить несколько фарсанов?
— Каких фарсанов? Ты имеешь в виду воинственную древнюю расу? Но она же полностью погибла.
— Я говорю об искусственных фарсанах, о людях с полимерным телом.
— Ты намекаешь на этого кретина Тонгуса?- улыбнулась Аэнна.- Но это же просто слуга.Признаюсь, я тоже сначала приняла его за человека, который вызывал у меня непонятное отвращение. Но отец все объяснил мне.
— Дело не в Тонгусе. Это всего лишь первый образец. Сейчас Вир-Виан может делать более совершенных фарсанов.
И я рассказал о своих подозрениях,о том, что Эфери-Рау и другие помощники Вир-Виана — это, возможно, искусственные люди, кибернетические фарсаны.
Аэнна быстро встала и с ужасом посмотрела на меня.
— О, Тонри. Ты говоришь что-то страшное. Нет, нет. Этого не может быть. Хотя мне они тоже кажутся немного странными. Но я не думала… Нет, не может быть!
Я встал с камня и взял Аэнну за руку. Рука ее слегка дрожала.
— Но все же, Аэнна, это, видимо, так.
— Проводи меня до нашего городка,- сказала Аэнна.- Я хочу остаться одна и подумать.
По пути в городок она спросила:
— Но почему ты их называешь фарсанами?
— Потому что основная их программа- завоевание населенных планет Вселенной для новой породы шеронов,потому что их атомно-молекулярные мозги напичканы воинственно-космической философией, о которой Вир-Виан так подробно распространялся в Шаровом Дворце знаний. Вир-Виан сам называет их фарсанами.
— Вот видишь, я же говорила как-то тебе, что мой отец- опасный и недобрый гений, — сказала Аэнна. — Но я не думаю… Нет, это невероятно!
Когда мы подошли к пластмассовому городку археологов, у нее мелькнула мысль, от которой она вздрогнула и снова с ужасом посмотрела на меня.
— Подожди,если фарсаны- кибернетические двойники,то где живые люди?Неужели они мертвы?… Быть может,убиты? Нет, Тонри. Твое предположение слишком чудовищно. Я должна сама все проверить и продумать.
— Знаешь что,- неожиданно предложил я,увидев ее расстроенное лицо,- давай улетим в Космос вместе.
— О нет, Тонри,- слабо улыбнувшись, сказала она. — Совет Астронавтики не разрешит брать женщин в первый межзвездный.
— Скоро у нас испытательный полет. Из него вернемся через год. И перед настоящим полетом у нас будет еще полгода. За это время я уговорю Совет Астронавтики. Ведь нам нужны будут историки.
— Не так все это просто, Тонри. К тому же я сама не захочу.
— Почему?
— Вот ты любишь Космос.Межзвездный полет- цель твоей жизни.Скажи,смог бы ты ради меня остаться здесь, на Зургане?
Я замялся.
— Ну, говори. Только прямо.
— Нет, не смог бы.
— Вот так же и я не могу покинуть Зургану и улететь в Космос надолго, быть может,навсегда.Я люблю Зургану. Поэтому я и стала археологом, историком и палеонтологом.А ты не расстраивайся, — добавила она, взглянув на меня. — В Космосе ты скоро забудешь обо мне.
Я хотел возразить, но она сказала:
— Не будем сейчас об этом говорить. Ты вернешься из пробного полета, и у нас будет еще полгода. Да это же целая вечность!
— А вот мое первобытное жилище,- улыбнувшись, сказала Аэнна и показала на белый пластмассовый домик.
В таких домиках я провел немало ночей и дней во время туристских походов. Легкие, обставленные просто,они мне нравились больше, чем наши высокоавтоматизированные дома.
— Подожди минутку.- Аэнна зашла в домик. Вернувшись, она протянула мне шкатулку, в каких обычно хранятся кристаллы:- Возьми с собой в Космос вот это.
— А что здесь?
— Таблетки приятных сновидений.Продукт шеронской цивилизации эпохи упадка,- рассмеялась она и добавила:-Знаю,что вам не разрешают брать в полет эти таблетки.Но две-три штуки тебе не повредят. Вдруг в Космосе заскучаешь и тебе захочется на время,хоть во сне, вернуться на Зургану.
Потом, положив руки на мои плечи и почти вплотную приблизив свое лицо, она спросила:
— А может быть, в Космосе ты все же не забудешь меня? А? Тогда тебе приятно будет увидеть меня хоть во сне. Так ведь?
Даже сейчас, через много лет космического полета, я не могу без волнения вспоминать этот момент. И мне никогда не забыть ослепительно прекрасного лица Аэнны, особенно ее глаз,таивших в своей глубине далекую и светлую, как звезды, печаль…
Здесь,у пластмассового домика,мы и расстались.Мог ли я тогда предполагать, что не увижу ее больше никогда, что Аэнна скоро погибнет в схватке с чудовищами, порожденными ее отцом,- с кибернетическими фарсанами?
 От Нанди-Нана я услышал страшное известие: Аэнна погибла. Она все время работала в археологической экспедиции на Южном полюсе. Когда Вир-Виану удалось с помощью фарсанов установить на Юге свое господство, многие шероны и все северяне, жившие на Южном полюсе, отказались ему подчиняться. Они были безжалостно истреблены фарсанами с помощью лучевого оружия.
— Что все это значит?Как это могло произойти?- спросил Лари-Ла.- Мы ничего не понимаем.
От Нанди-Нана я услышал страшное известие: Аэнна погибла. Она все время работала в археологической экспедиции на Южном полюсе. Когда Вир-Виану удалось с помощью фарсанов установить на Юге свое господство, многие шероны и все северяне, жившие на Южном полюсе, отказались ему подчиняться. Они были безжалостно истреблены фарсанами с помощью лучевого оружия.
— Что все это значит?Как это могло произойти?- спросил Лари-Ла.- Мы ничего не понимаем.
 — Наберитесь терпения,- сказал Нанди-Нан. — Это длинная история. Сначала выполним постановление Совета обороны:подвергнем вас луческопии.Я, конечно, уверен, что вы люди,- усмехнулся Нанди-Нан.- Но все постановления Совета обороны сейчас- высший закон. Методом луческопии мы обезвредили почти всех фарсанов в Северном полушарии. Почти всех…Беда в том, что изредка фарсаны все же появляются. Где-то на севере замаскировался фарсан. Всего один. Однако никто не гарантирован от того,что ночью будет убит, а утром под его видом появится фарсан. Поэтому луческопия проводится регулярно.
Нанди-Нан привел нас к недавно построенному на краю космодрома приземистому зданию. Врачи исследовали всех членов экипажа, а заодно проверили, как мы перенесли первый межзвездный полет.
После того Нанди-Нан пригласил нас в соседнюю комнату. Мы уселись в кресла, и Нанди-Нан рассказал:
— Дней через двадцать после старта космического корабля исчез Вир-Виан вместе со своей лабораторией и помощниками. Оазис Риоль опустел. Один случайный очевидец утверждал, что грузовые гелиопланы от оазиса полетели в сторону Южного полюса.Однако на Юге Вир-Виана не нашли. Вот тогда-то и забила тревогу Аэнна-Виан.Она предупредила арханов о возможной опасности, о том, что ее отец создает в лаборатории сложные кибернетические устройства, копирующие людей.Аэнна подчеркнула,что при этом Вир-Виан,возможно,истреблял живых людей.Кибернетические копии этих людей Вир-Виан называл фарсанами. Арханы внимательно выслушали Аэнну.Опасность они не считали слишком серьезной.Однако поиски Вир-Виана и его лаборатории продолжались с еще большей настойчивостью.Через несколько дней случилось одно происшествие, которое по-настоящему встревожило арханов и все население планеты.В пустыне на строительстве гелиостанции с большой высоты упал молодой техник. Врачи, поспешившие на помощь,нашли его мертвым. И вдруг к своему ужасу обнаружили, что это совсем не человек,а сложное кибернетическое устройство,поврежденное при падении.Этот случай заставил арханов собраться на чрезвычайное заседание.Было решено во что бы то ни стало разыскать Вир-Виана и пресечь его бесчеловечные опыты.Арханы решили также подвергнуть все население планеты луческопии, чтобы выловить фарсанов.Тогда фарсаны,страшась разоблачения, подняли восстание.
— Извините,у меня вопрос к вам,-сказал я.-Я немного знаком с лабораторией Вир-Виана. Там находятся особые кибернетические аппараты, в которых по наследственному шифру нуклеиновых кислот происходит воссоздание людей. Но чтобы поднять восстание, нужно иметь много фарсанов. И мне непонятно, как Вир-Виан успел создать их. Ведь нужно заманивать или похищать людей, чтобы изготовить их кибернетические копии.
— Хорошо,-сказал Нанди-Нан.-Я немного нарушу последовательность рассказа, чтобы объяснить.Ты, Тонри, далеко не все знаешь о производстве фарсанов, а другие члены экипажа вообще не имеют об этом представления.Тебе,Тонри, Вир-Виан сказал, что воссоздает человека по наследственному шифру нуклеиновых кислот. Но это не совсем так. По наследственной информации нуклеиновых кислот можно воспроизвести только внешность человека, а также некоторые врожденные качества и безусловные рефлексы. Но ведь фарсан копирует живого человека со всеми его индивидуальными признаками, с его памятью, его знаниями,навыками.А для этого мало нуклеиновых кислот.Для этого надо особыми лучами исследовать микроструктуру мозга.В кибернетические аппараты,о которых ты,Тонри,говорил,Вир-Виан помещает не нуклеиновые кислоты, а всего человека, оглушенного, но еще живого. Там на основе анализа нуклеиновых кислот и мозга происходит воссоздание человека. Кибернетика конструирует более совершенную кибернетику- копию человека на основе атомно-молекулярных нейронов. Бесспорно, это крупное достижение науки, обращенное по злой воле Вир-Виана против человечества. Фарсаны опасней и страшней, чем ядерные снаряды.
Теперь объясню,как Вир-Виан добился массового производства фарсанов. Покинув оазис Риоль,Вир-Виан скрылся в труднодоступных горах Южного полюса. Там он построил не лабораторию,а целый завод. Стационарные кибернетические установки, которые ты,Тонри, уже видел раньше, выпускали на этом заводе особой сложности фарсанов- так называемых воспроизводящих фарсанов. Они имеют внутри устройство,копирующее в миниатюре стационарную кибернетическую установку. Таким образом,воспроизводящий фарсан- это целая передвижная лаборатория, производящая простых фарсанов. Воспроизводящий фарсан, как и простой,конечно,ничем не отличается от человека. Каждый из них изготовлен по образу и подобию конкретных людей со всеми их индивидуальными способностями.
Воспроизводящих фарсанов Вир-Виан выпустил около двух тысяч, заменив ими такое же количество убитых людей.Он разослал их по полюсам. Ночью они похищали спящих людей и изготовляли их кибернетические подобия — простых фарсанов. Людей при этом они превращали в пепел. По утрам в парках, а то и просто на дороге мы находили кучи пепла, не подозревая, что это прах людей, которых еще вчера вечером видели живыми.Сейчас,надеюсь,вам понятно,почему на обоих полюсах Зурганы появилось много фарсанов,особенно простых, так много, что они способны были поднять восстание с целью захвата власти.
— Понятно,- ответил за всех Лари-Ла.- И в то же время непонятно, как могла произойти такая чудовищная вещь в наше время.
— Слушайте,что было дальше.После того,как начали вылавливать фарсанов, они по команде Вир-Виана подняли восстание.Оно, видимо, не было еще как следует подготовлено.Но у фарсанов имелось два преимущества.Во-первых, внезапность: никто из людей не знал без луческопии,кто его спутник или сосед — фарсан или человек. Во-вторых, эффективное лучевое оружие разрушает только настоящие белковые клетки, животные организмы. На фарсанов оно не действует. Поэтому фарсан мог направить губительный луч на целую толпу, не опасаясь, что в этой массе людей он поразит своего собрата.
Сейчас,правда, ученые ищут особой жесткости гамма-лучи, способные поражать у фарсанов деятельность молекулярных нейронов. Но это оружие еще в стадии испытания. А пока нам остается наносить фарсанам механические повреждения с помощью старинного огнестрельного оружия и даже стальных дубинок. Таким способом на Северном полюсе истребили всех выявленных фарсанов. Всех, кроме одного, и очень опасного, воспроизводящего фарсана.Он где-то хорошо замаскировался и ловко ускользает от луческопии.Среди людей изредка появляются простые фарсаны, которым удается иногда совершить мелкие диверсии.
Основные энергоцентры Северного полюса надежно защищены от проникновения фарсанов.Иная обстановка сложилась на Южном полюсе.Там Вир-Виан со своими фарсанами достиг своей цели.Сулаки,основное население Юга, привыкшие к многовековому рабству и подчинению,не оказали серьезного сопротивления. Да и фарсанов на Юге было больше.Против них самоотверженно боролись немногочисленные группы северян и шеронов,не примкнувших к Вир-Виану.Но они были уничтожены,буквально испепелены смертоносными лучами.Вир-Виан со своими приверженцами-шеронами создал новый режим по образцу древнего шероната. Себя он объявил верховным шероном, временным диктатором всей планеты.
— Но с какой целью?- спросил Лари-Ла. — И это после ста лет Эры Братства Полюсов?
— Вы, конечно, слышали речь Вир-Виана в Шаровом Дворце знаний и должны догадаться о его целях,- на тонких губах Нанди-Нана заиграла ироническая усмешка.-Вир-Виан намерен возродить шеронат на всей планете и воспитать новую породу людей-шеронов, покорителей Космоса. А в дальнейшем превратить Зургану в господствующую во Вселенной планету, в центр мирового разума.
— Теперь все ясно,- рассмеялся Сэнди-Ски,а затем, нахмурив густые брови, проговорил: — Мне всегда не нравилась эта неглупая образина. Но что было дальше? Мы видели из Космоса ядерные взрывы.
— Вир-Виан,установив на Юге диктатуру, провозгласил свою программу и призвал присоединиться к нему всех северян и шеронов,проживающих на Северном полюсе. Всех северян и шеронов он объявил новыми,космическими шеронами и создателями гигантских духовных ценностей вселенского масштаба. Как видите, стиль программы мало отличается от его речи в Шаровом Дворце знаний. Сулаков Вир-Виан предложил считать второстепенными гражданами до тех пор, пока те в течение ряда поколений не преодолеют свою, как он выразился, биологическую неполноценность. В ответ мы потребовали прекратить производство кибернетических фарсанов,а всех готовых фарсанов уничтожить или сдать Совету обороны.Тогда на Юге начали в спешном порядке выпускать ядерные снаряды. Два взрыва вы уже видели из космоса.К счастью, они не причинили большого вреда. К этому времени мы,использовав всю мощь аннигиляционной энергостанции, создали антигравитационное поле большой протяженности. Этим полем, словно броневым колпаком, накрыли Северный полюс. Теперь любое тело, попав в поле, потеряет свой вес и будет отброшено. К сожалению, Вир-Виан сумел создать вокруг Южного полюса такое же поле.Мы убедились в этом, когда попытались взорвать южную энергостанцию. Вир-Виан легко перехватил наш ядерный снаряд и разрядил его в верхних слоях атмосферы.
— Этот взрыв мы тоже видели,- сказал Сэнди-Ски. — А что же будет дальше? Сейчас,как я понимаю,оба полюса находятся в состоянии равновесия. А дальше?
— А дальше?- Нанди-Нан пожал плечами. — Победит тот, кто первым сумеет нейтрализовать или разрушить антигравитационное поле. Это нелегкое дело, требующее новых научных изысканий. Наши инженеры совсем недавно добились кое-какого успеха. Они сконструировали ядерный снаряд с нейтрализатором. С его помощью можно на короткое время пробить дыру в антигравитационном поле.
— В чем же дело?- нетерпеливо спросил Сэнди-Ски.- Надо скорее разрушить южную энергостанцию и, значит, ликвидировать защитное поле вокруг Южного полюса.
— Все это верно.Но мы не можем рисковать пока единственным снарядом: фарсаны могут обнаружить его и уничтожить прежде, чем тот долетит до цели. Вир-Виан,конечно, догадается, в чем дело, и сконструирует у себя такой же снаряд с нейтрализатором.Нет,мы не можем рисковать. Тут нужен человек, обладающий очень хорошей и быстрой реакцией- так сказать, интуицией наведения. Я знаю такого человека.
При этом Нанди-Нан посмотрел на меня.
— Хорошо, я согласен, — ответил я.
— Ну вот и договорились,- сказал Нанди-Нан,вставая.-Теперь идите отдыхать. А тебя, Тонри, я сначала познакомлю с конструктором аппаратуры наведения. Она несколько иная, чем щит управления на корабле. С этим конструктором тебе и предстоит завтра работать.
— Наберитесь терпения,- сказал Нанди-Нан. — Это длинная история. Сначала выполним постановление Совета обороны:подвергнем вас луческопии.Я, конечно, уверен, что вы люди,- усмехнулся Нанди-Нан.- Но все постановления Совета обороны сейчас- высший закон. Методом луческопии мы обезвредили почти всех фарсанов в Северном полушарии. Почти всех…Беда в том, что изредка фарсаны все же появляются. Где-то на севере замаскировался фарсан. Всего один. Однако никто не гарантирован от того,что ночью будет убит, а утром под его видом появится фарсан. Поэтому луческопия проводится регулярно.
Нанди-Нан привел нас к недавно построенному на краю космодрома приземистому зданию. Врачи исследовали всех членов экипажа, а заодно проверили, как мы перенесли первый межзвездный полет.
После того Нанди-Нан пригласил нас в соседнюю комнату. Мы уселись в кресла, и Нанди-Нан рассказал:
— Дней через двадцать после старта космического корабля исчез Вир-Виан вместе со своей лабораторией и помощниками. Оазис Риоль опустел. Один случайный очевидец утверждал, что грузовые гелиопланы от оазиса полетели в сторону Южного полюса.Однако на Юге Вир-Виана не нашли. Вот тогда-то и забила тревогу Аэнна-Виан.Она предупредила арханов о возможной опасности, о том, что ее отец создает в лаборатории сложные кибернетические устройства, копирующие людей.Аэнна подчеркнула,что при этом Вир-Виан,возможно,истреблял живых людей.Кибернетические копии этих людей Вир-Виан называл фарсанами. Арханы внимательно выслушали Аэнну.Опасность они не считали слишком серьезной.Однако поиски Вир-Виана и его лаборатории продолжались с еще большей настойчивостью.Через несколько дней случилось одно происшествие, которое по-настоящему встревожило арханов и все население планеты.В пустыне на строительстве гелиостанции с большой высоты упал молодой техник. Врачи, поспешившие на помощь,нашли его мертвым. И вдруг к своему ужасу обнаружили, что это совсем не человек,а сложное кибернетическое устройство,поврежденное при падении.Этот случай заставил арханов собраться на чрезвычайное заседание.Было решено во что бы то ни стало разыскать Вир-Виана и пресечь его бесчеловечные опыты.Арханы решили также подвергнуть все население планеты луческопии, чтобы выловить фарсанов.Тогда фарсаны,страшась разоблачения, подняли восстание.
— Извините,у меня вопрос к вам,-сказал я.-Я немного знаком с лабораторией Вир-Виана. Там находятся особые кибернетические аппараты, в которых по наследственному шифру нуклеиновых кислот происходит воссоздание людей. Но чтобы поднять восстание, нужно иметь много фарсанов. И мне непонятно, как Вир-Виан успел создать их. Ведь нужно заманивать или похищать людей, чтобы изготовить их кибернетические копии.
— Хорошо,-сказал Нанди-Нан.-Я немного нарушу последовательность рассказа, чтобы объяснить.Ты, Тонри, далеко не все знаешь о производстве фарсанов, а другие члены экипажа вообще не имеют об этом представления.Тебе,Тонри, Вир-Виан сказал, что воссоздает человека по наследственному шифру нуклеиновых кислот. Но это не совсем так. По наследственной информации нуклеиновых кислот можно воспроизвести только внешность человека, а также некоторые врожденные качества и безусловные рефлексы. Но ведь фарсан копирует живого человека со всеми его индивидуальными признаками, с его памятью, его знаниями,навыками.А для этого мало нуклеиновых кислот.Для этого надо особыми лучами исследовать микроструктуру мозга.В кибернетические аппараты,о которых ты,Тонри,говорил,Вир-Виан помещает не нуклеиновые кислоты, а всего человека, оглушенного, но еще живого. Там на основе анализа нуклеиновых кислот и мозга происходит воссоздание человека. Кибернетика конструирует более совершенную кибернетику- копию человека на основе атомно-молекулярных нейронов. Бесспорно, это крупное достижение науки, обращенное по злой воле Вир-Виана против человечества. Фарсаны опасней и страшней, чем ядерные снаряды.
Теперь объясню,как Вир-Виан добился массового производства фарсанов. Покинув оазис Риоль,Вир-Виан скрылся в труднодоступных горах Южного полюса. Там он построил не лабораторию,а целый завод. Стационарные кибернетические установки, которые ты,Тонри, уже видел раньше, выпускали на этом заводе особой сложности фарсанов- так называемых воспроизводящих фарсанов. Они имеют внутри устройство,копирующее в миниатюре стационарную кибернетическую установку. Таким образом,воспроизводящий фарсан- это целая передвижная лаборатория, производящая простых фарсанов. Воспроизводящий фарсан, как и простой,конечно,ничем не отличается от человека. Каждый из них изготовлен по образу и подобию конкретных людей со всеми их индивидуальными способностями.
Воспроизводящих фарсанов Вир-Виан выпустил около двух тысяч, заменив ими такое же количество убитых людей.Он разослал их по полюсам. Ночью они похищали спящих людей и изготовляли их кибернетические подобия — простых фарсанов. Людей при этом они превращали в пепел. По утрам в парках, а то и просто на дороге мы находили кучи пепла, не подозревая, что это прах людей, которых еще вчера вечером видели живыми.Сейчас,надеюсь,вам понятно,почему на обоих полюсах Зурганы появилось много фарсанов,особенно простых, так много, что они способны были поднять восстание с целью захвата власти.
— Понятно,- ответил за всех Лари-Ла.- И в то же время непонятно, как могла произойти такая чудовищная вещь в наше время.
— Слушайте,что было дальше.После того,как начали вылавливать фарсанов, они по команде Вир-Виана подняли восстание.Оно, видимо, не было еще как следует подготовлено.Но у фарсанов имелось два преимущества.Во-первых, внезапность: никто из людей не знал без луческопии,кто его спутник или сосед — фарсан или человек. Во-вторых, эффективное лучевое оружие разрушает только настоящие белковые клетки, животные организмы. На фарсанов оно не действует. Поэтому фарсан мог направить губительный луч на целую толпу, не опасаясь, что в этой массе людей он поразит своего собрата.
Сейчас,правда, ученые ищут особой жесткости гамма-лучи, способные поражать у фарсанов деятельность молекулярных нейронов. Но это оружие еще в стадии испытания. А пока нам остается наносить фарсанам механические повреждения с помощью старинного огнестрельного оружия и даже стальных дубинок. Таким способом на Северном полюсе истребили всех выявленных фарсанов. Всех, кроме одного, и очень опасного, воспроизводящего фарсана.Он где-то хорошо замаскировался и ловко ускользает от луческопии.Среди людей изредка появляются простые фарсаны, которым удается иногда совершить мелкие диверсии.
Основные энергоцентры Северного полюса надежно защищены от проникновения фарсанов.Иная обстановка сложилась на Южном полюсе.Там Вир-Виан со своими фарсанами достиг своей цели.Сулаки,основное население Юга, привыкшие к многовековому рабству и подчинению,не оказали серьезного сопротивления. Да и фарсанов на Юге было больше.Против них самоотверженно боролись немногочисленные группы северян и шеронов,не примкнувших к Вир-Виану.Но они были уничтожены,буквально испепелены смертоносными лучами.Вир-Виан со своими приверженцами-шеронами создал новый режим по образцу древнего шероната. Себя он объявил верховным шероном, временным диктатором всей планеты.
— Но с какой целью?- спросил Лари-Ла. — И это после ста лет Эры Братства Полюсов?
— Вы, конечно, слышали речь Вир-Виана в Шаровом Дворце знаний и должны догадаться о его целях,- на тонких губах Нанди-Нана заиграла ироническая усмешка.-Вир-Виан намерен возродить шеронат на всей планете и воспитать новую породу людей-шеронов, покорителей Космоса. А в дальнейшем превратить Зургану в господствующую во Вселенной планету, в центр мирового разума.
— Теперь все ясно,- рассмеялся Сэнди-Ски,а затем, нахмурив густые брови, проговорил: — Мне всегда не нравилась эта неглупая образина. Но что было дальше? Мы видели из Космоса ядерные взрывы.
— Вир-Виан,установив на Юге диктатуру, провозгласил свою программу и призвал присоединиться к нему всех северян и шеронов,проживающих на Северном полюсе. Всех северян и шеронов он объявил новыми,космическими шеронами и создателями гигантских духовных ценностей вселенского масштаба. Как видите, стиль программы мало отличается от его речи в Шаровом Дворце знаний. Сулаков Вир-Виан предложил считать второстепенными гражданами до тех пор, пока те в течение ряда поколений не преодолеют свою, как он выразился, биологическую неполноценность. В ответ мы потребовали прекратить производство кибернетических фарсанов,а всех готовых фарсанов уничтожить или сдать Совету обороны.Тогда на Юге начали в спешном порядке выпускать ядерные снаряды. Два взрыва вы уже видели из космоса.К счастью, они не причинили большого вреда. К этому времени мы,использовав всю мощь аннигиляционной энергостанции, создали антигравитационное поле большой протяженности. Этим полем, словно броневым колпаком, накрыли Северный полюс. Теперь любое тело, попав в поле, потеряет свой вес и будет отброшено. К сожалению, Вир-Виан сумел создать вокруг Южного полюса такое же поле.Мы убедились в этом, когда попытались взорвать южную энергостанцию. Вир-Виан легко перехватил наш ядерный снаряд и разрядил его в верхних слоях атмосферы.
— Этот взрыв мы тоже видели,- сказал Сэнди-Ски. — А что же будет дальше? Сейчас,как я понимаю,оба полюса находятся в состоянии равновесия. А дальше?
— А дальше?- Нанди-Нан пожал плечами. — Победит тот, кто первым сумеет нейтрализовать или разрушить антигравитационное поле. Это нелегкое дело, требующее новых научных изысканий. Наши инженеры совсем недавно добились кое-какого успеха. Они сконструировали ядерный снаряд с нейтрализатором. С его помощью можно на короткое время пробить дыру в антигравитационном поле.
— В чем же дело?- нетерпеливо спросил Сэнди-Ски.- Надо скорее разрушить южную энергостанцию и, значит, ликвидировать защитное поле вокруг Южного полюса.
— Все это верно.Но мы не можем рисковать пока единственным снарядом: фарсаны могут обнаружить его и уничтожить прежде, чем тот долетит до цели. Вир-Виан,конечно, догадается, в чем дело, и сконструирует у себя такой же снаряд с нейтрализатором.Нет,мы не можем рисковать. Тут нужен человек, обладающий очень хорошей и быстрой реакцией- так сказать, интуицией наведения. Я знаю такого человека.
При этом Нанди-Нан посмотрел на меня.
— Хорошо, я согласен, — ответил я.
— Ну вот и договорились,- сказал Нанди-Нан,вставая.-Теперь идите отдыхать. А тебя, Тонри, я сначала познакомлю с конструктором аппаратуры наведения. Она несколько иная, чем щит управления на корабле. С этим конструктором тебе и предстоит завтра работать.
 Я медленно отступал, фарсан приближался, держа наготове руки. Здесь-то и пригодилась моя ловкость и быстрота реакции. Когда фарсан был совсем близко, я внезапно нырнул вниз и прыгнул вперед. Руки фарсана сомкнулись в пустоте.
Подскочив к пульту наведения, я выхватил одну важную деталь. Это был длинный металлический стержень с тремя пазами и тремя шестернями на конце. Без этой детали пуск снаряда невозможен. Лампочки на щите наведения погасли.
С этой довольно увесистой деталью я побежал в пустыню- туда,где за грядой высоких барханов располагались боевые вездеходы. Там люди. С их помощью я хотел поймать и обезвредить фарсана.
Фарсан бросился за мной. Бегал он хорошо. Видимо, живой Рэди-Рей был неплохим спортсменом. Но и я одно время считался чемпионом Северного полюса по кроссу на пересеченной местности. Фарсан заметно отставал. Но я не учел одного обстоятельства: я уставал, а он нет. Я изнемогал от жары, обливался потом. Фарсан не знал подобной человеческой слабости и чувствовал себя прекрасно в этом пекле.
Чтобы перевести дыхание, я на минуту остановился и оглянулся назад. Фарсан приближался, легко перепрыгивая через трещины в каменисто-песчаном грунте. На его лбу блестели капельки пота,он учащенно дышал.Но это не усталость. Это ее имитация.На плутоватой физиономии фарсана по-прежнему играла усмешка.
Мне стало страшно.Страшно за себя и за судьбу планеты.Что делать? Бросить тяжелый стержень, который сильно мешал, и бежать? Но фарсан подберет эту деталь,поставит ее на место и, прежде чем я добегу до людей… Нет, этого нельзя допустить.
Собрав последние силы,я снова побежал. До гряды барханов оставалось еще сотни три шагов.Фарсан неумолимо настигал меня. Уже слышалось за моей спиной его прерывистое дыхание.И тут я сделал то, чего фарсан никак не ожидал: остановился и, внезапно обернувшись, молниеносно обрушил тяжелый стержень на его голову. Голова фарсана с хрустом развалилась. Из нее выпал сверкнувший на солнце продолговатый блок безопасности.На металлический стержень налипла студенистая масса атомно-молекулярных нейронов.Я с отвращением стряхнул этот мыслящий студень и сел на песок.
Немного отдохнул,потом встал и пошел обратно к пульту наведения. Я закрылся в прозрачной кабине, сел в кресло, включил холодильную установку и сразу ощутил приятную прохладу.
Первым делом надо доложить о случившемся Нанди-Нану.Я включил экран всепланетной связи,но он не светился. Попробовал еще раз включить- экран по-прежнему не работал: фарсан предусмотрительно привел его в негодность.
Дорог был каждый час. Ведь шероны тоже искали средство против нашего защитного антигравитационного поля.Стержень, так неожиданно послуживший мне оружием против фарсана, я вставил на место. На щите снова вспыхнули разноцветные лампочки, засветился экран наведения. Я переместил снаряд на прежнее место и нажал пусковую кнопку.Прозрачный купол кабины на какое-то время автоматически потемнел.Но и сквозь темно-фиолетовый стеклозон я увидел огненную струю плазмы, вырвавшейся из дюз реактивного снаряда. Раздался грохот. Потом все стихло, и стеклозон кабины снова стал прозрачным.
Снаряд вырвался в верхние слои атмосферы и лег на горизонтальный курс. На экране я видел местность,над которой он летел.Это был однообразный ландшафт, бескрайний океан песков, усеянный бесчисленными бугристыми барханами, напоминавшими сверху морскую рябь.
Великую Экваториальную пустыню снаряд пролетел за несколько минут. И вот я увидел извилистую границу зеленой шапки Южного полюса. Вдали в лучах солнца сверкал Ализанский океан. Шероны и фарсаны наверняка уже засекли снаряд и следили за его полетом.Они были уверены, что антигравитационное поле надежно защитит их. И действительно, по неосторожности я слишком близко подвел снаряд к этому незримому полю. Снаряд, потеряв вес, отскочил от него, как мяч, и несколько раз перевернулся. Но я быстро выправил курс.
Антигравитационное поле я пробил нейтрализатором над Ализанским океаном, где не могло быть антиракетных установок. Но стоило снаряду приблизиться к берегу,как фарсаны послали ему навстречу несколько ракет.Если бы снаряд не был управляемым,фарсаны быстро сбили бы его. Но, послушный моей воле, снаряд легко уклонился от встречи с первыми ракетами. Они взорвались далеко в стороне. Однако дальше мне пришлось приложить все свое мастерство, чтобы лавировать, уклоняться от вражеских ракет, которых становилось все больше и больше.И я принял решение: снизил скорость и перевел снаряд на бреющий полет.Этим почти исключалась возможность столкновения с вражескими ракетами. Но возникла другая опасность: стоило снаряду задеть какое-нибудь высокое здание или гору, как он взорвется, не долетев до цели.
Мои гибкие тренированные пальцы бегали по кнопкам щита управления. На экране наведения с невероятной быстротой мелькали здания и рощи, над которыми вихрем мчался снаряд. Но вот впереди засверкали белоснежные вершины полярных гор.В кольце этих гор и находилась самая мощная энергосистема. Снаряд стремительно взлетел вверх и обогнул гряду гор.На экране развернулась панорама энергостанции. Туда, в центр многочисленных сооружений, я и обрушил свой снаряд.
Экран мгновенно вспыхнул и погас. Южный полюс лишился могучего потока энергии.Он был оголен:антигравитационного поля над ним больше не существовало…
Я медленно отступал, фарсан приближался, держа наготове руки. Здесь-то и пригодилась моя ловкость и быстрота реакции. Когда фарсан был совсем близко, я внезапно нырнул вниз и прыгнул вперед. Руки фарсана сомкнулись в пустоте.
Подскочив к пульту наведения, я выхватил одну важную деталь. Это был длинный металлический стержень с тремя пазами и тремя шестернями на конце. Без этой детали пуск снаряда невозможен. Лампочки на щите наведения погасли.
С этой довольно увесистой деталью я побежал в пустыню- туда,где за грядой высоких барханов располагались боевые вездеходы. Там люди. С их помощью я хотел поймать и обезвредить фарсана.
Фарсан бросился за мной. Бегал он хорошо. Видимо, живой Рэди-Рей был неплохим спортсменом. Но и я одно время считался чемпионом Северного полюса по кроссу на пересеченной местности. Фарсан заметно отставал. Но я не учел одного обстоятельства: я уставал, а он нет. Я изнемогал от жары, обливался потом. Фарсан не знал подобной человеческой слабости и чувствовал себя прекрасно в этом пекле.
Чтобы перевести дыхание, я на минуту остановился и оглянулся назад. Фарсан приближался, легко перепрыгивая через трещины в каменисто-песчаном грунте. На его лбу блестели капельки пота,он учащенно дышал.Но это не усталость. Это ее имитация.На плутоватой физиономии фарсана по-прежнему играла усмешка.
Мне стало страшно.Страшно за себя и за судьбу планеты.Что делать? Бросить тяжелый стержень, который сильно мешал, и бежать? Но фарсан подберет эту деталь,поставит ее на место и, прежде чем я добегу до людей… Нет, этого нельзя допустить.
Собрав последние силы,я снова побежал. До гряды барханов оставалось еще сотни три шагов.Фарсан неумолимо настигал меня. Уже слышалось за моей спиной его прерывистое дыхание.И тут я сделал то, чего фарсан никак не ожидал: остановился и, внезапно обернувшись, молниеносно обрушил тяжелый стержень на его голову. Голова фарсана с хрустом развалилась. Из нее выпал сверкнувший на солнце продолговатый блок безопасности.На металлический стержень налипла студенистая масса атомно-молекулярных нейронов.Я с отвращением стряхнул этот мыслящий студень и сел на песок.
Немного отдохнул,потом встал и пошел обратно к пульту наведения. Я закрылся в прозрачной кабине, сел в кресло, включил холодильную установку и сразу ощутил приятную прохладу.
Первым делом надо доложить о случившемся Нанди-Нану.Я включил экран всепланетной связи,но он не светился. Попробовал еще раз включить- экран по-прежнему не работал: фарсан предусмотрительно привел его в негодность.
Дорог был каждый час. Ведь шероны тоже искали средство против нашего защитного антигравитационного поля.Стержень, так неожиданно послуживший мне оружием против фарсана, я вставил на место. На щите снова вспыхнули разноцветные лампочки, засветился экран наведения. Я переместил снаряд на прежнее место и нажал пусковую кнопку.Прозрачный купол кабины на какое-то время автоматически потемнел.Но и сквозь темно-фиолетовый стеклозон я увидел огненную струю плазмы, вырвавшейся из дюз реактивного снаряда. Раздался грохот. Потом все стихло, и стеклозон кабины снова стал прозрачным.
Снаряд вырвался в верхние слои атмосферы и лег на горизонтальный курс. На экране я видел местность,над которой он летел.Это был однообразный ландшафт, бескрайний океан песков, усеянный бесчисленными бугристыми барханами, напоминавшими сверху морскую рябь.
Великую Экваториальную пустыню снаряд пролетел за несколько минут. И вот я увидел извилистую границу зеленой шапки Южного полюса. Вдали в лучах солнца сверкал Ализанский океан. Шероны и фарсаны наверняка уже засекли снаряд и следили за его полетом.Они были уверены, что антигравитационное поле надежно защитит их. И действительно, по неосторожности я слишком близко подвел снаряд к этому незримому полю. Снаряд, потеряв вес, отскочил от него, как мяч, и несколько раз перевернулся. Но я быстро выправил курс.
Антигравитационное поле я пробил нейтрализатором над Ализанским океаном, где не могло быть антиракетных установок. Но стоило снаряду приблизиться к берегу,как фарсаны послали ему навстречу несколько ракет.Если бы снаряд не был управляемым,фарсаны быстро сбили бы его. Но, послушный моей воле, снаряд легко уклонился от встречи с первыми ракетами. Они взорвались далеко в стороне. Однако дальше мне пришлось приложить все свое мастерство, чтобы лавировать, уклоняться от вражеских ракет, которых становилось все больше и больше.И я принял решение: снизил скорость и перевел снаряд на бреющий полет.Этим почти исключалась возможность столкновения с вражескими ракетами. Но возникла другая опасность: стоило снаряду задеть какое-нибудь высокое здание или гору, как он взорвется, не долетев до цели.
Мои гибкие тренированные пальцы бегали по кнопкам щита управления. На экране наведения с невероятной быстротой мелькали здания и рощи, над которыми вихрем мчался снаряд. Но вот впереди засверкали белоснежные вершины полярных гор.В кольце этих гор и находилась самая мощная энергосистема. Снаряд стремительно взлетел вверх и обогнул гряду гор.На экране развернулась панорама энергостанции. Туда, в центр многочисленных сооружений, я и обрушил свой снаряд.
Экран мгновенно вспыхнул и погас. Южный полюс лишился могучего потока энергии.Он был оголен:антигравитационного поля над ним больше не существовало…
 Воздушный флот северян остановил фарсанов почти у самого экватора.В тцентре необозримой пустыни развернулось грандиозное сражение,каких не знала история Зурганы. Наши боевые ракетопланы атаковали с большой высоты.От них отделялись и летели вниз стремительные, как молния, ракеты. Вездеходы, начиненные зарядами, взрывались с чудовищной силой, ослепляя наших пилотов и вздымая тучи песка.Фарсаны рассредоточились и упорно продвигались на Север. Наибольшие потери северяне несли от лучевого оружия. Сотни ракетопланов, потеряв управление, падали вниз и глубоко зарывались в песок. Однако перевес был на нашей стороне.
Апофеозом сражения явилась невиданной силы песчаная буря.Наши ракетопланы поднялись еще выше и кружились,выискивая цели над большой территорией,охваченной ураганом.Внизу все бурлило и кипело.Миллионы тонн песка с воем и визгом неслись над пустыней.Чудовищные смерчи вздымали песок почти до ракетопланов. Песчаная буря разметала хорошо организованное войско южан и помогла разгромить фарсанов.
Сулаки,узнав о поражении главных сил фарсанов, подняли восстание.Наш воздушный флот поспешил им на помощь.Северяне захватили главные центры Южного полюса и взяли под стражу шеронское правительство во главе с диктатором Вир-Вианом.
На всей планете началось тщательное выявление фарсанов,особенно воспроизводящих.
Мне пришлось видеть пленных фарсанов.Между собой они были связаны цепями. Под охраной людей,вооруженных старинным огнестрельным оружием,пленных вели в особое здание.Там их подвергали дополнительной луческопии:люди боялись, что среди фарсанов мог случайно оказаться настоящий человек.Наиболее совершенных, воспроизводящих фарсанов демонтировали на отдельные блоки, которые отправляли в лаборатории для исследований. Остальных уничтожали.
Фарсаны,наделенные системой самосохранения,боялись уничтожения не меньше, чем мы страшимся смерти. Их лица изображали неподдельный ужас.
В толпе таких же зевак,как я,было немало людей, которые смотрели на пленных фарсанов с участием и состраданием.
— Эо, Тонри!- услышал я приветствие. В колонне пленных я увидел высокую атлетическую фигуру Эфери-Рау.
— Эо, Тонри!- повторил фарсан. Я не ответил на приветствие.
— Тонри,- заговорил фарсан.- Ты пользуешься большим влиянием в Совете Астронавтики. Спаси меня. Клянусь, я буду тебе хорошим и преданным слугой.
Я отвернулся, ничего не ответив.Звон цепей и крик ярости заставил меня снова посмотреть в сторону Эфери-Рау. Делая огромные усилия, фарсан пытался освободиться от кандалов. Жилы на его руках вздулись, лицо покраснело. Наконец фарсану удалось сделать почти невероятное: он разорвал кандалы и опутывающие его цепи. Эфери-Рау бросился на охрану. Одного человека он схватил за руку и сломал ее с такой легкостью, как будто это была соломинка. Раздался выстрел. Завопив от боли, фарсан схватился за голову и закружился на одном месте. Еще несколько выстрелов — и фарсан Эфери-Рау упал. На меня эта сцена произвела тяжелое впечатление.
В лаборатории Вир-Виана на блок безопасности каждого воспроизводящего фарсана ставился порядковый номер.Всего их было тысяча восемьсот тридцать три.А выловили и ликвидировали тысячу восемьсот тридцать два.Поиски продолжались.Население планеты вновь подвергли просвечиванию.Но воспроизводящий фарсан под номером четыреста десять так и не нашелся. Решили,что во время сражения его разнесло взрывом на мелкие части, которые затерялись в песках. Еще некоторое время в пустыне на месте сражения искали блок безопасности с номером четыреста десять.Но затем поиски прекратились.
Совет обороны объявил, что война с фарсанами закончилась, и сложил свои полномочия. Население планеты вернулось к нормальной жизни.
Лишь один архан Грон-Гро считал эту самоуспокоенность ошибкой."Быть может,- утверждал он,- война с фарсанами только начинается». Он призывал к бдительности. «Поиски,-говорил он,-должны продолжаться. Стоит уцелеть одному воспроизводящему фарсану, как он через некоторое,быть может довольно длительное,время станет вновь размножаться, как микроб. В этом смысл его существования, его генеральная программа».
Архан Грон-Гро оказался прав. Четыреста десятый номер ловко скрывался в заброшенных шахтах около города Суморы. Он ждал, когда на Зургане забудется история с фарсанами.Он мог ждать и год,и два,много лет. Но через полгода он каким-то образом узнал, что в город на короткое время прибыл один из членов экипажа космического корабля. Перед такой важной добычей фарсан не устоял. Он разоблачил себя, но зато превратил члена экипажа в фарсана. Так появился двойник Рогуса…
Воздушный флот северян остановил фарсанов почти у самого экватора.В тцентре необозримой пустыни развернулось грандиозное сражение,каких не знала история Зурганы. Наши боевые ракетопланы атаковали с большой высоты.От них отделялись и летели вниз стремительные, как молния, ракеты. Вездеходы, начиненные зарядами, взрывались с чудовищной силой, ослепляя наших пилотов и вздымая тучи песка.Фарсаны рассредоточились и упорно продвигались на Север. Наибольшие потери северяне несли от лучевого оружия. Сотни ракетопланов, потеряв управление, падали вниз и глубоко зарывались в песок. Однако перевес был на нашей стороне.
Апофеозом сражения явилась невиданной силы песчаная буря.Наши ракетопланы поднялись еще выше и кружились,выискивая цели над большой территорией,охваченной ураганом.Внизу все бурлило и кипело.Миллионы тонн песка с воем и визгом неслись над пустыней.Чудовищные смерчи вздымали песок почти до ракетопланов. Песчаная буря разметала хорошо организованное войско южан и помогла разгромить фарсанов.
Сулаки,узнав о поражении главных сил фарсанов, подняли восстание.Наш воздушный флот поспешил им на помощь.Северяне захватили главные центры Южного полюса и взяли под стражу шеронское правительство во главе с диктатором Вир-Вианом.
На всей планете началось тщательное выявление фарсанов,особенно воспроизводящих.
Мне пришлось видеть пленных фарсанов.Между собой они были связаны цепями. Под охраной людей,вооруженных старинным огнестрельным оружием,пленных вели в особое здание.Там их подвергали дополнительной луческопии:люди боялись, что среди фарсанов мог случайно оказаться настоящий человек.Наиболее совершенных, воспроизводящих фарсанов демонтировали на отдельные блоки, которые отправляли в лаборатории для исследований. Остальных уничтожали.
Фарсаны,наделенные системой самосохранения,боялись уничтожения не меньше, чем мы страшимся смерти. Их лица изображали неподдельный ужас.
В толпе таких же зевак,как я,было немало людей, которые смотрели на пленных фарсанов с участием и состраданием.
— Эо, Тонри!- услышал я приветствие. В колонне пленных я увидел высокую атлетическую фигуру Эфери-Рау.
— Эо, Тонри!- повторил фарсан. Я не ответил на приветствие.
— Тонри,- заговорил фарсан.- Ты пользуешься большим влиянием в Совете Астронавтики. Спаси меня. Клянусь, я буду тебе хорошим и преданным слугой.
Я отвернулся, ничего не ответив.Звон цепей и крик ярости заставил меня снова посмотреть в сторону Эфери-Рау. Делая огромные усилия, фарсан пытался освободиться от кандалов. Жилы на его руках вздулись, лицо покраснело. Наконец фарсану удалось сделать почти невероятное: он разорвал кандалы и опутывающие его цепи. Эфери-Рау бросился на охрану. Одного человека он схватил за руку и сломал ее с такой легкостью, как будто это была соломинка. Раздался выстрел. Завопив от боли, фарсан схватился за голову и закружился на одном месте. Еще несколько выстрелов — и фарсан Эфери-Рау упал. На меня эта сцена произвела тяжелое впечатление.
В лаборатории Вир-Виана на блок безопасности каждого воспроизводящего фарсана ставился порядковый номер.Всего их было тысяча восемьсот тридцать три.А выловили и ликвидировали тысячу восемьсот тридцать два.Поиски продолжались.Население планеты вновь подвергли просвечиванию.Но воспроизводящий фарсан под номером четыреста десять так и не нашелся. Решили,что во время сражения его разнесло взрывом на мелкие части, которые затерялись в песках. Еще некоторое время в пустыне на месте сражения искали блок безопасности с номером четыреста десять.Но затем поиски прекратились.
Совет обороны объявил, что война с фарсанами закончилась, и сложил свои полномочия. Население планеты вернулось к нормальной жизни.
Лишь один архан Грон-Гро считал эту самоуспокоенность ошибкой."Быть может,- утверждал он,- война с фарсанами только начинается». Он призывал к бдительности. «Поиски,-говорил он,-должны продолжаться. Стоит уцелеть одному воспроизводящему фарсану, как он через некоторое,быть может довольно длительное,время станет вновь размножаться, как микроб. В этом смысл его существования, его генеральная программа».
Архан Грон-Гро оказался прав. Четыреста десятый номер ловко скрывался в заброшенных шахтах около города Суморы. Он ждал, когда на Зургане забудется история с фарсанами.Он мог ждать и год,и два,много лет. Но через полгода он каким-то образом узнал, что в город на короткое время прибыл один из членов экипажа космического корабля. Перед такой важной добычей фарсан не устоял. Он разоблачил себя, но зато превратил члена экипажа в фарсана. Так появился двойник Рогуса…