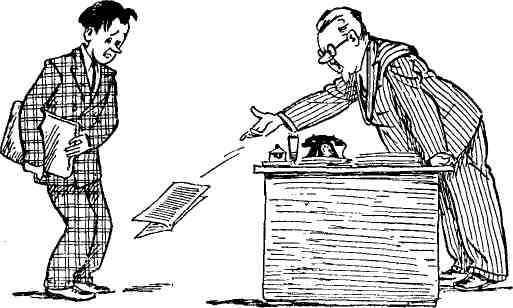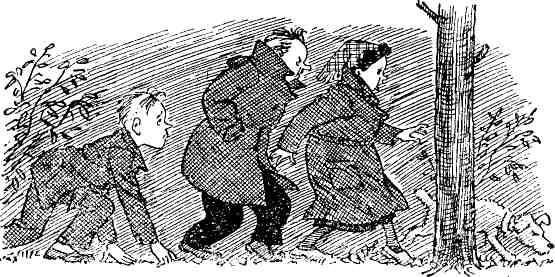С точки зрения реализма

I

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАЛИЗМА

На днях иду по улице Горького пешочком, обдумываю сюжет нового рассказа (на ходу думается хорошо, только не надо очень уж углубляться: можно наскочить на столб и заработать шишку на лбу, а то и упрек в надуманности содержания, — это уже от критика!), как вдруг над самым ухом:
— Сколько лет, сколько зим!
Оглядываюсь, а это Иван Петрович Сливкин, старый знакомый.
— Иван Петрович! Здравствуйте, дорогой! Откуда? Какими судьбами?!
— Проездом! Я уже давно иду за вами следом, думаю: вы или не вы?
Гляжу я на Ивана Петровича и замечаю, что он как-то поблек, пожух. Был не человек — орел, а сейчас в голосе ласковое дребезжание, в глазах какая-то кислота.
— Иван Петрович, да здоровы ли вы, голубчик?
— Здоров-то здоров, но… неприятности!
— И крупные?
— В общем нет! Хотя, пожалуй, да!.. В общем устраиваюсь!..
— Как?! Разве вы?..
— Да, свободная птица. Федор Павлович-то… загремел! А я оказался… под обломками. Логика вещей!
— Знаете что, Иван Петрович, давайте зайдем хотя бы в это кафе, посидим в тепле, и вы мне все расскажете. Пошли?
— Сюжетик хотите из меня выжать? Ну, да бог с вами, пошли!
С Иваном Петровичем Сливкиным познакомился я в одном областном городе, куда приезжал по литературным делам. Он работал помощником у тамошнего начальства и слыл всемогущим человеком. Про него так и говорили: «Сливкин все может!» И действительно, снимет бывало Иван Петрович трубку одного из своих многочисленных телефонов, скажет приятным баском: «Сливкин говорит!» — и в пять минут уладит любое дело, откроет любую дверь, заручится любым покровительством. Мне он тоже оказывал кое-какие услуги по части добывания машин и железнодорожных билетов.
Посидели, выпили кофе (от более мужественных напитков Иван Петрович категорически отказался: «Иду в один тут… отдел кадров, дохнешь — подумают: «Злоупотребляет!»), закурили, и я осторожно спросил:
— Как же это все у вас… Иван Петрович?
Он ответил не сразу. Подумал, выпустил изо рта густой клуб дыма. Потом сказал задумчиво:
— Помните картину «Последний день Помпеи»? Вот и у нас примерно так же… Только там город рухнул, а у нас человек. Но какой?! Колосс! Махина! И, главное, из-за пустяка! В общем-то, конечно, не из-за пустяка. Но сначала казалось: именно из-за пустяка.
Я попросил Ивана Петровича уточнить свою мысль.
— Он рухнул из-за любви к искусству! — сказал Сливкин и вздохнул.
Мы помолчали. На высокое — от пролысины — чело Ивана Петровича легла легкая тень грусти.
— Все было так у него хорошо, так звонко! — продолжал Сливкин свой рассказ. — И вот захотелось ему себя отметить. Пока там, наверху, соберутся… Да и соберутся ли? Вот он и решил, так сказать, проявить здоровую инициативу снизу. Встал вопрос: как отметить? Федор Павлович решил: отметить средствами искусства. Тогда встал новый вопрос: какого искусства? У нас в городе имеется всякое искусство, и на всякое отпущены соответствующие ассигнования. Можно было, например, привлечь местных наших драматургов, чтобы они написали про Федора Павловича пьесу на тему борьбы за городское благоустройство и затем поставить ее в областном театре. Однако по зрелом размышлении этот вид искусства был отвергнут.
— Это почему же так, Иван Петрович?
— Во-первых, долго пишут. Во-вторых, пропускают пьесы тоже долго. А в-третьих, очень уж часто они ошибаются, театры и драматурги. Не одно, так другое! То пошлятину подпустят, то с конфликтом у них заест, а то переделками доконают: на репетициях начнешь свою сценическую жизнь положительным Федором Павловичем, а на сцену выскочишь отрицательной старухой Федорой Петровной, шестидесяти пяти лет, с бородавкой на носу… Короче говоря, подумали и отвергли! Тогда стали размышлять о музыке. А что, если сочинить этакую торжественную кантату без слов, одни сплошные аккорды? Композиторы в городе имеются, музыканты-исполнители тоже. Но Федор Павлович музыку категорически отверг. Он ее не любил: у него слуха не было. Он бывало ходит по кабинету, напевает себе под нос «Летят перелетные птицы», а получается «Чижик, чижик, где ты был?..» Все мотивы на «Чижика» переводил… Остановились в конце концов на изобразительном… И, конечно, кому поручено было обеспечить?
— Вам! «Сливкин все может!» — вставил я, не удержавшись.
— Совершенно верно! — серьезно сказал Иван Петрович. — Однако слушайте, как дальше-то обернулось!.. Позвонил я в местную художественную студию, вызвал людей, объяснил задачу. Трое отказались, двое выразили согласие получить авансы. С руководителем я провел отдельную беседу, попросил бдительно проследить. А то ведь среди художников попадается, знаете ли, разный народ. Иной возьмет аванс, и сразу же у него начинается творческая пауза, которая иногда длится годами. У него пауза, а у распорядителя кредитов неприятности в Госконтроле…
Иван Петрович снова замолчал. Тучка на его челе сгустилась и как бы потемнела. Он помешал ложечкой остывший кофе в стакане, сделал глоток.
— Неужели художники подвели? — спросил я Ивана Петровича с искренним — уверяю вас! — сочувствием.
— Подвели-то, подвели, — ответил Сливкин, — но не в том смысле, в каком вы думаете. Все картины были написаны точно в срок. И приемочная комиссия дала им отличную оценку. Одним словом, полный порядок! Решено было устроить выставку с обсуждением. Я дал команду в отдел искусств, оповестили общественность — и грохнули! Сначала все шло просто замечательно. Паркет натерт до блеска, везде живые цветы… Приглашенные товарищи чинно гуляют по залам, рассматривают картины, гудят, как шмели: жу-жу, жу-жу!.. Федор Павлович тут же стоит под своим роскошным поясным портретом в золоченой раме, щурится, извините, как сытый кот, от удовольствия. А напротив, на стене, висит картина, которую художник назвал «Большое событие». Событие вот какое: год назад открывали мы в рабочем районе города новую баню (красивое такое здание в мавританском стиле). И художник отобразил на полотне этот волнующий момент, поместив на первом плане представительную фигуру Федора Павловича. Рядом с этой картиной другая, под названием «Зеленый шум», на тему озеленения нашего города: Федор Павлович собственноручно сажает какой-то там прутик. Чуть подальше большое полотно «Выходной день». На полотне наша речка, закат, березки, трава (места у нас изумительные, сами знаете), а на травке на бережку сидит Федор Павлович в белой рубашонке, удит окуней… Ну, и так далее, в том же духе.
Погуляла публика по залам, полюбовалась, погудела, приглашаем на обсуждение.
Для затравки мы выпустили критика из отдела искусств. Держался молодцом, все сказал, как надо. И про реализм упомянул, и традиции передвижников не забыл, похвалил гамму красок и разнообразие тематики, а на десерт очень удачно ввернул словцо про заслуги Федора Павловича. Ему даже похлопали. Потом высказался руководитель студии — тоже ничего, проскочило. Тут бы и закруглиться, прекратить прения, — нет, дернул меня бес за язык (я председательствовал) обратиться к публике: дескать, не желает ли кто-нибудь из товарищей посетителей высказаться?
Смотрю, тянет руку некто Ратников, депутат райсовета, токарь с завода «Восток». Ехида, критикан — второго такого в нашем городе не сыщешь! Ну как ему слова не дашь? Пришлось дать! Выходит он из публики. Поправил очки, усишками своими тараканьими пошевелил и… пошел резать скоростным методом!
«Я, говорит, хоть и не критик, как первый оратор, но тоже хочу коснуться с точки зрения реализма. Начну с бани. Баня, говорит, очень красивая, художник ее правильно нарисовал. Но видно, что сам он в баню не ходит (тут в публике смешок), а то он бы знал, что эта красивая баня в неделю только два дня работает, а пять дней стоит. Баня, говорит, была принята в эксплуатацию с большими недоделками, несмотря на наши сигналы самому Федору Павловичу, и теперь мы, жители рабочего района, не купаемся, а мучаемся. Так что, с точки зрения реализма, картину надо иначе нарисовать: люди пришли мыться, а на дверях картонка: «Сегодня баня не работает». И пускай, говорит, тут же, среди народа, стоит Федор Павлович с веником подмышкой и с огорчением на лице. А назвать эту картину можно так: «Небольшое, но малоприятное событие». (В публике смех, аплодисменты, а токарь, знай себе, режет и режет!) Теперь, говорит, коснусь, с точки зрения реализма, картины «Зеленый шум». Шуму, говорит, по поводу озеленения в нашем районе действительно было много, а вот ухода за деревьями маловато. Федор Павлович, говорит, тоже приезжал в наш район, поддал шуму и даже этот карандаш свой сажал, — тут художник не соврал, все так и было, как нарисовано, — но что толку-то? Вы бы, говорит, Федор Павлович (а тот стоит туча тучей, из глаз молнии, и все в меня!), хоть бы еще разок без шума, просто, скромно, по-большевистски заехали в наш рабочий район, полюбопытствовали бы, что получилось из ваших посадок. Ведь из десяти саженцев только три зазеленели, а семь так и торчат карандашами… В заключение, говорит, скажу о картине «Выходной день». Эта картина хорошая, а с точки зрения реализма — даже очень полезная. Спасибо товарищу художнику! Теперь мы будем знать, где можно хотя бы в выходной день найти Федора Павловича, чтобы поговорить с ним о наших нуждах и бедах. А то в обычные, говорит, дни попасть к нему на прием почти невозможно: Сливкин не пропускает!» И для пущего реализма на меня пальцем! (В публике общий смех и аплодисменты, переходящие в овацию.) Короче говоря, полный скандал!.. За Ратниковым другие ораторы потянулись. Художники выступили… не взявшие авансов. Посыпались разные нехорошие слова: «подхалимство», «зажим самокритики» и так далее и тому подобное. Ну, сами понимаете! Попало в печать, на бюро горкома партии, и… пошла писать губерния! Федор Павлович рухнул как подкошенный, за ним еще кое-кто. Мне тоже крепенько влепили. Да-а-а! Вот какие у нас дела!
Я попытался ободрить и успокоить Ивана Петровича, но посудите сами — что я мог ему сказать?!
Разговор наш не клеился. Я расплатился, и мы вышли на улицу.
Молча дошли мы до угла. Иван Петрович остановился и сказал:
— Мне сюда, в переулок.
Мы попрощались. Сливкин задержал мою руку в своей и, заглянув мне в глаза, прибавил:
— Знаете, что я сейчас подумал?.. Надо нам было все-таки обратиться к композиторам! Ведь попробуй разберись в стихии звуков: кого они возвеличивают и прославляют? Может быть, древнегреческого героя, его подвиги и сражения. А может быть, и ответственного административного работника… и его заслуги в области городского благоустройства. Пожалуй, даже такие ехиды, как наш Ратников, не разберутся. Хотя нет, разберутся… с точки зрения реализма… Да-а-а!.. Вот какие у нас дела. Ну-с, счастливо оставаться, пойду устраиваться.
И он пошел вниз по переулку, опустив плечи и громко шаркая тяжелыми калошами. Уже не орел, но еще и не чучело орла, а так… где-то посередине.
1952
КАТАСТРОФА

Когда Матвея Лукича Близнюкова полгода тому назад сняли с поста директора областной конторы «Лесотара» с плохой формулировкой — «как несправившегося», — он не очень огорчился.
Мужчина дородный, представительный, не дурак выпить и закусить, большой любитель субботнего банного ритуала и яростный преферансист, Матвей Лукич по натуре был оптимистом и на жизнь смотрел философски. Благословен, мол, и день забот, благословен и тьмы приход. В глубине души Близнюков был даже доволен, что его убрали из «Лесотары».
— Тоже мне… учреждение!.. Кабинетишко — дрянь, с фанерной перегородкой… Ездишь на каком-то облезлом «Москвиче»… Секретарша и та стара и страшна как смертный грех, никакой ласкающей глаз эстетической представительности!.. Бог с ней, с «Лесотарой». Уйду в другое ведомство — и не вспомню. С глаз долой, из сердца вон!
Прошло некоторое время, и Матвея Лукича вызвали в городской партийный комитет. Пошел он туда пешочком, не торопясь, прикидывая в уме всевозможные должностные комбинации.
«Интересно, что предложат? В Аптекоуправлении, говорят, зашатался Петиков. Может быть, туда?.. Или к Сушкину в замы?.. Ну, это, положим, дудки, в замы не пойду. Категорически!.. А может, в Спортснаб, поскольку там кресло пустует?»
Принимавший Близнюкова работник горкома предложил, однако, совсем другое. И это другое возмутило, поразило и обескуражило Матвея Лукича до такой степени, что в первые минуты он ничего сказать не мог в ответ.
Матвею Лукичу предложено было перейти на рядовую техническую работу! С руководящей он, видите ли, не справляется. Он!.. Как вам это понравится?..
— Вы, кажется, удивлены, Матвей Лукич? — спросил инструктор, когда затянувшаяся пауза стала невыносимой.
Матвей Лукич взял себя в руки и, как человек многоопытный и бывалый, ответил дипломатически:
— Я не удивлен, то есть удивлен, но не в том смысле… Но, конечно, все это… довольно странно!
— Отказываетесь?
— Нет, я, конечно, не отказываюсь и готов… так сказать, куда пошлют. Но, конечно, согласитесь сами… Позвольте подумать, однако!
— Хорошо! — сказал инструктор. — Думайте. Приходите послезавтра — поговорим.
Домой Матвей Лукич шел уже не вразвалку, а бежал тревожной, мелкой рысцой. Он всего ожидал, но только не этого. Ну, сказали бы: «Вам, Матвей Лукич, поучиться надо, отстали вы от жизни», — он бы охотно и вполне самокритично согласился. Даже поехал бы куда-нибудь на учебу. А там… Пошел бы к начальству, сыграл бы на обаянии, на душевной простоте. «Куда уж мне учиться с моим животом!» В общем выкрутился бы! А там с помощью дружков… опять на тихое руководящее местечко!
И вдруг такая категоричность, непреклонность, безоговорочность! Рядовая работа! Легко сказать — рядовая! Техническую рядовую работу надо уметь делать. А что умеет делать Матвей Лукич?
В тот же день, вечером, на дом к Близнюкову был вызван врач из поликлиники — пожилой доктор Аметистов Сергей Сергеевич, старый приятель и партнер Матвея Лукича по преферансу. Близнюков заперся с ним у себя в комнате и, ничего не утаив, поведал ему все.
— Надежда только на тебя, Сергей Сергеевич! — сказал он в заключение с чувством. — Сам видишь, сижу без трех при «птичке». Выручай!
Сергей Сергеевич стал жаться, гмыкать, говорил, что «сейчас на этот счет строго», даже попытался удрать, но Матвей Лукич загородил собой дверь и произнес совсем уже патетически:
— У тебя друг в беде, а ты жмешься?! Где же твоя врачебная этика?
Вспомнив про свою врачебную этику, доктор Аметистов дрогнул, присел к столу, достал автоматическую ручку и накатал для Близнюкова «справку о состоянии здоровья» — такую, от которой до некролога рукой подать!
Даже жена Матвея Лукича — Варвара Васильевна, ответственный работник из Собеса — и та поверила, что с мужем из-за служебных неприятностей на почве нервного потрясения случилась беда. Большой мастер был доктор Аметистов по части липовых медицинских справок и к тому же умел держать язык за зубами!
Выждав три дня, Матвей Лукич направил справку с соответствующим заявленьицем в горком. Его оставили в покое. Потом снова вызвали. Близнюков купил в Универмаге трость и пошел прихрамывая. Его принял тот же инструктор, посочувствовал, спросил, не нужна ли ему путевка в санаторий. Близнюков сказал, что путевка не нужна, но отдохнуть, конечно, необходимо.
— Отдыхайте, — согласился инструктор, — а потом решим вопрос о вас.
А потом о Близнюкове забыли. Или, может быть, просто махнули на него рукой? Во всяком случае Матвей Лукич получил возможность «пересидеть» и незаметно для себя самого перешел на руководящую работу… в собственное домашнее хозяйство.
Вот он только что вернулся домой с базара, разложил на кухонном столе продукты — ощипанную курицу, жалостно топырящую синевато-бледные обрубленные ножки, картофель, два тугих кочанчика цветной капусты, горшочек со сметаной, пучок луку, зеленые кудри укропа и другую снедь, — сидит и мучительно решает проблему сегодняшнего обеда, который ему предстоит сготовить. Посоветоваться не с кем, а Близнюков любит советоваться. Можно было бы, конечно, позвонить жене на работу, но у нее сегодня какое-то совещание, секретарша, не узнав по голосу Матвея Лукича, сухо отрезала: «Варвара Васильевна очень занята, просила ни с кем не соединять!» Домработница уволена по мотиву разумной экономии. Дочь Настенька в консультанты не годится по возрасту: спросишь ее, а она посоветует на первое купить мороженого, а на второе сварить компот. Окно в кухне открыто (Близнюковы живут в уютном одноэтажном флигеле), и со двора в комнату доносится заливчатый Настенькин смех и ошалелый баритонистый лай Тарзана — ее приятеля, дворового восторженно-глуповатого щенка непонятной породы.
Близнюков смотрит на курицу, соображает и так, и этак, и наконец принимает решение: на первое — куриный бульон с цветной капустой, на второе — вареная курица с картофельным пюре.
Он надевает фартук, зажигает газ в плите, ставит на огонь большую кастрюльку с водой, чистит картошку. Делает все это он умело, ловко (в молодости приходилось готовить) и даже с увлечением.
Наконец обед готов. Сейчас приедет Варвара Васильевна — она обедает дома.
— Настенька! — высунувшись в окно, зовет дочь Матвей Лукич. — Обедать пора, сейчас мама приедет. Иди скорей домой!
— Папа, я занята! — капризным голоском отзывается Настенька. — У нас с Тарзаном заседание!
— Кончай свое заседание!
— Не могу! Тарзан все лает, лает и не может остановиться!
— Регламент надо было для него установить!.. Иди, Анастасия, а то попадет нам с тобой от мамы.
Бульон с цветной капустой хорош, а вареная курица под белым соусом просто объедение! Настенька уплетает за обе щеки, Варвара Васильевна — румяная, крепкая женщина — тоже ест с аппетитом. Только сам Матвей Лукич лениво и томно болтает ложкой в тарелке. Кушать ему очень хочется, но ведь он болен, у него — депрессия, спазмы сосудов, упадок сил, черт в ступе. Приходится пока глотать слюну и терпеть.
— Ты, Мотя, просто талант! — простодушно восхищается Варвара Васильевна, обгладывая нежное куриное крылышко. — Можешь быть поваром в любом ресторане, честное слово!
— Ты не задерживайся сегодня в конторе, — просит Матвей Лукич жену, и в голосе у него появляются просительно-умильные, бабьи нотки, — приезжай пораньше! В киношку бы сходили, а то я совсем… мохом оброс!
— Сегодня не могу, Мотя, в горсовет вызвали на совещание.
— Плюй, не ходи!
— Нельзя! Совещание важное. И как раз наш вопрос в повестке.
— Совещания! Вопросы!.. — негодует Матвей Лукич. — Ты им скажи, что у тебя больной муж дома сидит. Один, как сыч. Слышала, что Аметистов говорил? Мне развлекаться надо!
— Ну, возьми и пойди сам в кино!
— Спасибо за совет! Все туда идут как люди… с мужьями… — тьфу! — с женами. А я — один, как дурак!
— Преферансик устрой!
— Аметистов не может сегодня. У него какая-то там научная конференция.
— Потерпи, Мотя!.. Завтра в кино пойдем, я выкрою вечерок, а сегодня отдохни. Ты лежи больше, набирайся сил!
Пообедав, Варвара Васильевна уезжает на работу, а Настенька отправляется в гости к соседской девочке.
Матвей Лукич достает из холодильника начатую бутылку водки, выпивает подряд три рюмки и отдает должное и бульону с цветной капустой, и вареной курице. Потом он снова надевает фартук и моет посуду. Но вот и посуда вымыта. Что теперь делать? Разве почитать?
Матвей Лукич берет принесенную Варварой Васильевной библиотечную книжку, садится тут же в кухне у окна и принимается за чтение. Одолев с трудом десять страниц, он кладет книжку на подоконник. Скучно!
Ленивый, затянувшийся жирком мозг Близнюкова требует иной, легкой, диэтической духовной пищи. Почитать бы что-нибудь такое… вроде этих… как это?.. «Два гренадера»?.. Нет! «Три мушкетера»! Сходить разве в библиотеку, выбрать себе книжку по вкусу?
Неожиданно раздается телефонный звонок. Матвей Лукич спешит в переднюю, где стоит аппарат. Сердце у него тревожно екает. Вдруг это… «оттуда». Поняли, что без Матвея Лукича, без опытного руководителя, знающего все пружинки, не обойтись. Поняли, осознали и теперь зовут!..
Но, оказывается, звонит Настигаев Федор Федорович, старый дружок, из треста ресторанов; он спрашивает про здоровье и дела, сочувствует и дает лечебные советы, в которых Матвей Лукич нуждается не больше, чем дворовый Тарзан. Они долго болтают о том, о сем, вкусно сплетничают, перемывая косточки знакомым и сослуживцам. Потом Близнюков, хохотнув, говорит:
— Я, брат, тут на отдыхе готовкой занялся. Такие бульоны варю — мечта! Наладят меня окончательно с руководящей — возьмешь в повара?
— Ишь, чего захотел! — смеется в трубку Настигаев. — У меня повара — специалисты, инженеры от кулинарии, можно сказать. Года три-четыре поучись — тогда приходи!
— Значит, в официанты дружка сунешь?
— Официант — это, голубок, сложная и тонкая профессия. Не годишься, голубок, не годишься! Ты мне всю посуду переколотишь и грубить будешь клиентам, я тебя знаю!.. Судомойкой, хочешь, устрою!
— Спасибо и на этом! — сухо отвечает Близнюков, не принимая шутки.
Разговор окончен, и снова сонная, тяжелая скука овладевает всем существом Близнюкова. Но теперь к скуке примешано ощущение злой, грызущей тоски. Черт бы задрал этого дурня Настигаева! Сам судомойка!
Однако что же все-таки делать? Пойти с Настенькой погулять? Не хочется! Еще встретишь знакомых, начнутся неделикатные расспросы, намеки… Придется готовить ужин! Рано, конечно, но ведь ничем другим, кроме как приготовлением пищи для себя и домашних, Близнюков занять себя не может… Что бы такое приготовить? Разве удивить Варвару и соорудить роскошный салат из огурцов, редиски и остатков курицы? Кажется, уксусу дома нет. Придется сходить в «Бакалею» купить.
Он берет на всякий случай кошелку, надевает соломенную шляпу, запирает на ключ дверь квартиры и выходит через парадный ход на улицу. Ступает он медленно, дородный свой корпус несет важно, с достоинством и большим самоуважением. И вдруг происходит непонятное: конопатый, в батькиной кепке, голопузый мальчишка, выскочивший из подворотни, смотрит на Матвея Лукича остановившимися глазенками, показывает на него пальцем и с наслаждением визжит:
— Мужебаба!
И сразу улица становится раскаленной дорогой в ад. Другие огольцы — о, это бесовское племя! — появляются как из-под земли, скачут, кривляются и тоже с восторгом, отчаянно, на всю улицу вопят:
— Мужебаба! Мужебаба!
Матвей Лукич беспомощно озирается. Ладони у него покрываются неприятно липким потом, кончики ушей и затылок багровеют. Почему они это кричат?! Кто их научил?!
А мальчишки, окружив Матвея Лукича плотным кольцом, надрываются еще громче, еще нахальнее.
— Мужебаба! Глядите, мужебаба!
— Гражданин, вы бы фартучек сняли! — наконец слышит Близнюков сочувственный голос прохожей старушки и, опустив глаза, с ужасом замечает, что вышел на улицу, как был дома, в кокетливом, с оборками, фартуке жены.
Вот это промашка!
1955
ТАКАЯ СТАРУХА!

В тесной комнатке партийного комитета на третьем этаже здания заводоуправления сидят секретарь парткома Сергей Аркадьевич Пучков — коренастый, очень светлый блондин, почти альбинос, и токарь Бабкин — высокий, сутулый, с озабоченным, угрюмым лицом.
Сидит Бабкин в парткоме уже минут пятнадцать, курит, вздыхает, произносит невпопад малозначащие фразы, томится — никак не может начать разговор, ради которого пришел!
Пучков, недовольный тем, что его оторвали от тезисов праздничного доклада, в конце концов не выдерживает:
— Ну, что ты, Бабкин, как… девица на сватанье. Пришел — говори! Что у тебя там стряслось?
Токарь поднимает на секретаря парткома голубые, простодушно-ясные глаза, странно не вяжущиеся с суровыми чертами его тяжелого лица, и Пучков видит в них укор и душевную боль. Густо краснея, он спешит смягчить свой резкий тон.
— Говори, Бабкин, не стесняйся… Личное что-нибудь?
Бабкин шумно вздыхает.
— Личное!
«Что он мог натворить? — тревожно думает секретарь. — Человек тихий, непьющий… в партию собирается, производственник хороший. Ничего такого за ним вроде не замечалось?!»
Пучков не любит разбираться в бытовых делах. Эти дела всегда так запутанны, так сложны! Психология, будь она неладна! Да и тяжело бывает разочаровываться в человеке, когда вдруг оказывается, что в быту он совсем не такой молодец, каким знаешь его на работе. А Бабкин как будто нарочно сообщает:
— Придется тебе, Сергей Аркадьевич, персональное дело на меня заводить… хоть я еще и не кандидат даже!
Пучков хмурит белые пушистые брови.
— Давай говори все. Только покороче… по возможности.
— Коротко-то оно навряд ли получится. И ты уж лучше меня не сбивай вопросами, товарищ Пучков, я сам как-нибудь собьюсь!.. Д-а-а!.. Так вот, дело мое — в жене! Вернее, даже не в жене, а в матери ее, в теще. Это, товарищ Пучков, такая старуха!.. Из-за нее и получилось у нас нескладно это все! Женился я три с лишним года назад. Поехал в отпуск в деревню, под Саратов — я сам саратовский, — ну и… там все у меня и произошло с Дуней. Влюбился я в нее без памяти!.. Сам знаешь, как это бывает!
— Забыл уже! — усмехается Пучков.
— Целые ночи на лавочке вдвоем просиживали, любовались луной… Песни ей пел под баян: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», «Страдания» наши, саратовские, и старинную одну, мою любимую — «Скажи, зачем тебя я встретил?!»
— Я лично своей Наталье Петровне «Средь шумного бала» напевал, — задумчиво говорит секретарь парткома.
— А говоришь — забыл!.. Д-а-а!.. Короче говоря — решился на женитьбу. Дуня без отца жила — помер! С матерью, с Анфисой Поликарповной, вот с этой самой… Такая старуха — ни в сказке сказать, ни пером описать! И не то чтобы замухрышка какая-нибудь, опенка червивая, дунь на нее — повалится, а рослая старуха, гвардейского телосложения, — хоть бери ее к нам на завод, в кузнечный цех! И с характером соответственным. В колхозе работала на животноводческой ферме. Хорошо работала — даже трудовую медаль получила. Колхозники ее очень даже уважали. Так посмотришь — вполне положительная старуха, на уровне эпохи. Но вот беда — до невозможности привержена к религиозному дурману.
— Религиозные предрассудки — это самый цепкий пережиток прошлого! — наставительно подтверждает Пучков.
— Факт! Но ты послушай, как дело обернулось. В избе у нее весь угол завешан богами. Полный пленум святых и угодников! Настанет воскресенье — она в церковь за пятнадцать километров. То на попутной, то лошадку схлопочет, а то и пешком. И Дуню с собой тащит. Та, чтобы мать не огорчать, идет или едет, хоть и не признает божественное. Да-а-а!.. Не понравилась мне ихняя политическая отсталость — прямо с души воротит. Как к ним ни приеду, у меня со старухой диспут. Но ведь это я сейчас и книжки почитываю, и текущую политику изучаю в кружке, и поговорить могу на разные темы, а тогда… не хватало у меня этого самого пороху, товарищ Пучков, откровенно тебе скажу! Била меня проклятая старуха, как хотела! Я ей внушаю, что, дескать, мир произошел из материи. А она — с ехидцей: «Из какой такой материи? Из ситца?» Объясняю ей своими словами про материю. Такое плету — у самого уши вянут! Запутаюсь, плюну и скажу: «Короче говоря, Анфиса Поликарповна, бог ваш тут ни при чем». Обижается: «Без бога травинка не вырастет. И в писании сказано: «В начале бе слово». Слово, а не материя». Я стою на своем: «Материя!» Она — на своем: «Бе слово». Слово за слово, разругаемся в дым — и ни бе ни ме!.. Ну ладно! Подходит дело у нас к главному разговору. Набрался я духу, говорю ей, что так, мол, и так, решили мы с Дуней пожениться. Отвечает: «Возражений не имею, — но венчаться церковным браком». Я — на дыбки: «Категорически — нет!» — «Тогда и моего согласия нет!» Дуня — в рев: «Так уйду без вашего согласия!» Она: «Прокляну!» Такая старуха, товарищ Пучков!.. Что же ты думаешь, пришлось…
— Венчаться?!
— Бежать пришлось нам с Дуней от нее — вот что! Прямо как в романе! Комсомольцы помогли, колхоз полуторку дал — поминай, как звали! Потом мы ей письмо послали. Три дня писали. Приходит ответ: проклясть — не прокляла, но сообщила, что даже и знать нас не хочет. Пока, дескать, не покаемся и в церкви не окрутимся, чтобы не смели ни с чем к ней обращаться. «Ах ты, думаю, старая перечница! Ладно, у тебя характер — и у меня характер!»
Категорически запретил Дуне писать ей. Решил измором взять, как сильно укрепленную долговременную точку. Год проходит — она молчит. И мы молчим! Дуня плачет по ночам, у меня у самого сердце кровью обливается, на нее глядя, но… выдерживаю характер! Так три года, поверишь ли, и промолчали. Стороной, через знакомых, узнавали про здоровье и прочее. И она тоже… стороной. Теперь происходит у нас прибавление семейства. Родила мне Дуня сына.
— Поздравляю! — улыбается секретарь парткома. — А я и не знал, что ты уже папаша. Что же в гости не позвал?
— Постеснялся. Думал — не придете! — переходит на «вы» Бабкин. — Тем более что событие не производственное… неудобно как-то звать… Да-а-а!.. А мальчишка у меня — первый сорт. Доктора даже удивлялись — до чего здоров. Орет басом. Гвардеец! В бабку!
И вот, товарищ секретарь, есть такая поговорочка: «Там, где бес сам не может навредить, он женщину подошлет!» Поговорочка правильная, между прочим, хоть бесы эти да черти тут, конечно, ни при чем, они тоже от суеверий произошли. Да-а-а!.. Стала Дуня моя ластиться ко мне невозможно как, плачет пуще прежнего, просит слезно: «Давай окрестим мальчика… хочу с мамой помириться, не могу больше. Мама только тогда меня простит, когда узнает, что внук у нее крещеный». Ну и… дрогнул я! Дал свое согласие. Сам в церковь не ходил, Дуня носила.
Бабкин видит, как мрачнеет лицо Пучкова, как словно льдистым туманом заволакиваются глаза секретаря партийного комитета, и поспешно добавляет:
— Ошибку свою признаю целиком и полностью. Да-а-а!.. Даем старухе телеграмму: «Дуня родила сына приезжайте поглядеть внука». Приходит ответ: «Выезжаю». Заявляется! Такая же здоровая, как и была. Вошла в комнату — как паровоз! В новом платье шерстяном, на груди — медаль. Поздоровались — ничего. Стала на внука глядеть — заплакала. И Дуня ревет. Только мы с Васюткой — Василием назвали сына — держимся, конечно, как мужчины. Дуня говорит: «Мы крестили его… только для вас». И вот ты подумай, товарищ Пучков, что она нам в ответ на наше сообщение преподносит! «Напрасно, говорит, вы это сделали, мне этого не нужно». — «Как так не нужно?» — «Так, говорит, не нужно, я, говорит, освободилась от своих заблуждений — считаю, что на восемьдесят пять процентов». Я смотрю на Дуню, Дуня — на меня! Трагическая пауза, как в книжках пишут. Васютка и тот не выдержал, заревел у себя в кроватке. А теща знай бомбит: «Вы, говорит, три года моей жизнью вовсе не интересовались. Жива мать — и пусть живет! А чем живет, да как живет — это вам все равно. Старухи, говорит, разные бывают. Одна — как камень лежачий, под который вода не течет, а другая растет и развивается, как любая живая организма». Смех!.. Такая старуха!.. Да-а-а! Потом я дознался, что к ним в колхоз приехал один молодой агроном, толковый парень, по всему видать. Ну, и стал лекции читать на эти темы, кружок сколотил. Она пошла послушать. А как же не пойти? С родной дочкой разошлась на религиозной почве. Так и… втянулась.
Сели обедать, а теша еще с подковыркой ко мне: «Если, говорит, ты, дорогой зятек, не пойдешь в свою партийную организацию и не расскажешь чистосердечно, как ты опростоволосился, я сама пойду». Я говорю: «Я же беспартийный». А она мне: «Собираешься в партию вступать — значит должен быть как стеклышко». Такая старуха!.. Да-а-а!.. Вот и все, товарищ Пучков. Ничего не скрыл. Теперь — разбирайте!..
Опустив голову, Бабкин ждет, что скажет секретарь.
Пучков смотрит на его спутанные с кудрявинкой черные волосы, на большие руки с узловатыми сильными пальцами, лежащие на столе, и не знает, что сказать. Ему и смешно, и немного досадно, и почему-то неловко. Смутное это чувство неловкости и мешает ему говорить.
Наконец он произносит:
— Это хорошо, что ты все начистоту рассказал, Бабкин. В партию ты еще не принят, а проступок непартийный уже совершил. Но, с другой стороны, дело у тебя сложное, с психологией, как говорится. Надо подумать, посоветоваться. Подай заявление. Обсудим на парткоме — вызову.
Бабкин поднимается. Лицо его разгладилось и кажется теперь не таким суровым и тяжелым. На душе легче стало!
— А почему не пришел раньше ко мне поговорить? — с упреком говорит Пучков.
Бабкин молчит.
Когда он выходит из комнаты, секретарь партийного комитета снова принимается за тезисы своего доклада. Но работа у него не клеится — мешает именно то чувство смутной неловкости, какое появилось у него после исповеди Бабкина.
Секретарь начинает ходить по комнате, курит, думает — анализирует по сложившейся привычке. Потом садится за стол и записывает в свой блокнот с тезисами: «Усилить внимание к людям. Ближе к ним стоять. Знать их душевный мир».
Последнюю фразу он подчеркнул двумя жирными чертами.
1955
РЕФЛЕКСЫ

Хуже нет для странствующего литератора, как очутиться в одном купе с неразговорчивым попутчиком!
Войдет в вагон этакий мрачноватый дядя, сядет на диван, посмотрит на тебя с подозрением, вынет из чемодана колбасу и вареную холодную курицу и так, в молчаливом общении с курятиной и колбасой, и проведет весь свой недолгий поездной век.
Пытаясь разговорить его, скажешь:
— Взгляните, какая рощица красивая!
Он выглянет в окно, буркнет:
— Ничего себе! — И снова давай трещать куриными костями.
Сойдет с поезда — и останутся от человека лишь обглоданные косточки да узкая ленточка колбасной кожуры в пепельнице на столике!..
То ли дело попутчик общительный: он и тебя разговорит и сам такого нарасскажет — только успевай сюжеты запоминать. (Именно — запоминать, в блокнот потом запишете. Ни в коем случае не вытаскивайте блокнот во время разговора — вспугнете чуткую птицу взаимного душевного расположения.)
Недавно ехал я из Москвы в командировку, и попутчиком моим оказался именно такой веселый, словоохотливый человек, да к тому же еще и умница. Звали его — Дмитрий Иванович С. Партийный работник, бывалый человек, много повидавший за свои сравнительно еще молодые годы. Ехали мы с ним в купе вдвоем, и Дмитрий Иванович рассказал мне тьму всяческих историй из жизни, и смешных, и печальных, из которых я — пока! — выбрал для огласки одну. Думаю, что Дмитрий Иванович не посетует на меня за это, тем более что, прощаясь, я назвал свою литературную фамилию и показал блокнот с записями, которые сделал уже ночью, когда мой попутчик, наговорившись, спал безгрешным сном. Дмитрий Иванович посмотрел на исписанный блокнот, потом на меня, покачал головой и усмехнулся.
— Та-ак! Значит, сидели, слушали да на ус мотали? Ну что же, пользуйтесь. Только… из арифметики переведите все в алгебру. Ни подлинного места действия, ни подлинных имен не называйте. Не надо! Так даже полезней. Идет?
— Идет! — сказал я, и мы расстались друзьями.
Вот эта история, услышанная мною от Дмитрия Ивановича С. в поезде на перегоне Курск — Харьков.
«Объезжал я как-то — года два-три тому назад — на «газике» колхозы района, где только недавно начал работать. Ехал один, с шофером Василием Ивановичем Городцовым, человеком примечательным до некоторой степени. Служил он в районном «Заготскоте» счетоводом, а в пятьдесят четыре года окончил автомобильные курсы и стал заправским шофером, да еще, как говорится, «с уклоном в лихачество». Внешность Василий Иванович имел при этом весьма интеллигентную, седые усы и бороду аккуратно подстригал, носил опрятный пиджачок с галстуком и изъяснялся вычурно и витиевато.
Получалось это у него примерно так:
— Я, Дмитрий Иванович, пошел в шоферы на закате, можно сказать, своего земного существования потому, что захотелось мне хоть напоследок побыть «с веком наравне».
— Это как же вас прикажете понимать, Василий Иванович?
— Так ведь век у нас технический, Дмитрий Иванович, атомный. Одним словом — интеграл-с! Только техника, Дмитрий Иванович, повышает жизненный тонус современного человека, не говоря уже о его зарплате. Возьмите меня. Сейчас я стою при автомобиле, то есть при технике, и, заметьте, переживаю вторую молодость, чтобы не сказать — третью. Конечно, я понимаю, счетоводы тоже нужны. Социализм — это учет! Но, с другой стороны… надоела мне лично цифирь, Дмитрий Иванович, пропади она пропадом! Заедала она меня, проклятого, как сварливая жена покорного мужа. И ведь что такое цифра? В конкретном смысле — абстрактная закорючка. А эта закорючка душу сушит, Дмитрий Иванович, и геморрой развивает в теле…
Все это — с руками на баранке и при скорости восемьдесят километров в час!
Водку Василий Иванович не пил («Врачи авторитетно вычислили, что свою жизненную норму по водке я еще к сорока годам перевыполнил на двести пятьдесят процентов!»), предпочитал молоко, но пил его в чайных и закусочных, куда мы заезжали, не стаканами, как все добрые люди, а стопками или рюмками. При этом морщился, крякал, охал, мотал головой, а выпив, крепко ставил стопку на стол и щелкал пальцами. Глядя на него, посетители смеялись, а он важно заявлял:
— Рефлекс! По Павлову! По Ивану Петровичу!.. — И многозначительно поднимал палец.
Большой был чудак!..
Вот с этим самым Василием Ивановичем Городцовым и заехали мы в колхоз «Спартак» на животноводческую ферму — поглядеть, как дела идут.
Колхоз «Спартак» был не из сильных колхозов, а в председателях ходил там Куличков Егор Егорович — тоже личность в своем роде примечательная.
Человек не деревенский, но в деревне живет давно и сельское хозяйство в общем знает.
Если взять Егора Егоровича и, так сказать, разобрать его на составные части, — все хорошо, даже прекрасно! Не пьяница. Семьянин. Честный. Исполнительный. Дисциплинированный.
А соберешь вместе — получается чепуха! Кисель какой-то клюквенный, а не человек!
Беда его была в том, что исполнительность — сама по себе черта неплохая — развилась у него до абсурдно гигантского размера в ущерб всему остальному. Всякое «начальство» Егор Егорович уважал несказанно, трепетно, богобоязненно — и притом совершенно искренне, без тени подхалимажа. А так как начальства было много и во всевозможных указаниях и директивах, как вы знаете, нехватки в то время не ощущалось, то Егорович полегоньку да потихоньку утратил, как хозяин, всякую способность к самостоятельному мышлению и действию. Впрочем, я отвлекся, извините!..
Итак, подъезжаем мы к ферме «Спартак» и еще издали слышим какие-то стуки, железный лязг, бой колокола, грохот, мычание и душераздирающий рев животных!.. Что за притча?.. Городцов оборачивается, говорит:
— Не то домового хоронят, не то ведьму замуж выдают. По Пушкину! По Александру Сергеевичу.
— А ну-ка, газаните, Василий Иванович, поглядим на эту ведьму.
Василий Иванович «газанул», и мы через пять минут были на месте.
Выходим из машины и видим такую картину. Под крышей коровника развешаны куски железа, обрубок рельса, медные тазы, старый церковный колокол небольшого размера. Хлопчики лет по пятнадцати — по четырнадцати изо всех сил лупят кто кочергой, кто какой-то железякой по всему этому хозяйству. Коровы стоят во дворе фермы и, конечно, ревут, «олицетворяя слуховое возмущение живого естества этой железной какофонией», как изысканно выразился потом мой чудаковатый шофер.
Егор Егорович Куличков стоит в сторонке с подвязанной щекой (у него всегда зубы болели), лицо страдальческое, смотрит на ручные часы.
Делаю ему знак (голоса не слышно!) подойти.
Мотает головой и, показывая на свои часы, демонстрирует два растопыренных довольно грязных пальца. Дескать, потерпите, пожалуйста, еще две минутки.
Терпим!
Наконец он поднимает руку, и хлопчики перестают лупить железяками. Наступает тишина. И, честное слово, мне показалось, что бедные буренки все разом облегченно вздохнули из глубины своей коровьей души.
Куличков подходит, узнает меня, и в глазах у него появляется восторг, какой обычно возбуждали в нем вышестоящие товарищи.
— Разрешите докладывать, товарищ секретарь?!
— Не надо никаких докладов! Просто объясните мне: что тут у вас происходит?
— Происходит научный опыт, товарищ секретарь. Приезжал к нам из области, из института, кандидат наук товарищ Сигаёв Викентий Викентьевич, привез бумагу — оказать содействие так и далее. Товарищ Сигаёв пишут диссертацию на тему… как это?.. «О влиянии слухового раздражения на повышение удойности у коров»… Вот мы и создаем, согласно полученным указаниям, соответствующую звуковую обстановку. По инструкции действуем, товарищ секретарь, точно: десять минут бьем, десять отдыхаем.
— Вот оно что!.. Ну, и как — повысились от этого удои?
— Пока нет!
— А с кормами как у вас дело обстоит?
— С кормами дело обстоит… неважно!
— Прошу извинить! — вмешивается в разговор мой Василий Иванович. — Поскольку я понимаю, данный научный опыт построен на рефлексах. Только не могу угадать — на каких?..
— Товарищ Сигаёв говорили, что вот, мол, в ресторанах первого разряда музыка для чего дается? Для повышения аппетита столующихся… А тут…
— Э, нет, почтенный! — перебивает Куличкова мой шофер. — Какое же может быть сравнение?! Там — в себя принимают, а тут — из себя отдают. Там — люди, тут — животные, там — музыка, тут — черт те что!.. Загибает Ваш Сигаёв!..
— Им виднее!.. Наука!..
А тут доярки к нам подошли, хлопчики с железяками, стоят, слушают.
Пожилая доярка уперла руки в бока, говорит:
— Прикажите ему, товарищ секретарь, прекратить это безобразие. Нас он не слушает, для него бумага — все. Ведь это же что такое?.. Слон и тот не выдержит, не то что корова!..
Я говорю Куличкову по возможности спокойно:
— Надо прекратить опыт, Егор Егорович. Наука разная бывает. Есть еще, к сожалению, и лженаука. С
областью я поговорю, мы этого вашего Сигаёва приведем в чувство. Перестаньте только коров и людей мучить!
Вижу — у него в глазах забегали радостные огоньки, но… мнется, топчется на месте.
— Ну, в чем дело, Егор Егорович?
— Пока вы, товарищ секретарь, поговорите с областью, пока то да се, а он завтра обещался приехать, Сигаёв. Будет требовать!
— Гоните вон!
— Бумага у него, товарищ секретарь.
— Сошлитесь на меня! И гоните!
— Не уйдет! Бумага у него!
Тогда я спрашиваю:
— А бык у вас как — серьезный?
Белобрысый хлопчик с железякой отвечает за Куличкова:
— Бык у нас подходящий. Дунаем зовут. Мы его на чепе держим.
— Вот вы Дуная вашего и спустите с «чепи» на Сигаёва, товарищ Куличков, если он не захочет сам добром уйти!
Доярки засмеялись на мою шутку, но Куличков даже не улыбнулся, только вздохнул да поправил повязку на щеке.
Я простился с народом и уехал.
К себе в район я попал только через два дня, сейчас же позвонил в обком и рассказал первому секретарю про безобразия кандидата наук Сигаёва.
Прошла неделя, и снова я заехал в «Спартак» и тут узнал то, что меня буквально потрясло: исполнительный Егор Егорович выполнил мое «указание» точно, то есть сначала предложил Сигаёву удалиться, а когда тот отказался и стал разговаривать басом, спустил на него быка, заявив при этом, что действуй «по директиве районных организаций».
Рассказал нам с Василием Ивановичем об этом знакомый белобрысый хлопчик.
— Да что он у вас, в уме, ваш Куличков?! — вырвалось у меня. — Разве можно на человека быка спускать. Я же пошутил тогда! Ведь Дунай мог этого кандидата наук насмерть забодать!
— Но! — сказал хлопчик. — Не мог. Кандидат дюже резвый попался. Как чесанул — так только на станции остановился. Полкилометра бежал, как… этот… спринтер!
Мы с Городцовым переглянулись, и старик произнес с обычной своей важностью:
— Рефлекс! По Павлову, по Ивану Петровичу!
При новом председателе дела у колхоза пошли в гору».
1955
ЧУТКИЙ ТОВАРИЩ

Раздался резкий, требовательный звонок. Секретарша Фелицата Анатольевна нервно вздрогнула, строго посмотрела на граждан, ожидавших приема, как бы приглашая их подтянуться, и скрылась за массивной дверью кабинета с лаконичной надписью «Н. П. Хромаев».
Н. П. Хромаев сидел за письменным столом. На его высоком — от преждевременной и весьма удачно расположенной лысины — челе опытная Фелицата сразу заметила печать глубокой озабоченности.
— Можно начинать прием, Николай Павлович? — вкрадчиво спросила секретарша.
— Обождите немного, — сказал Н. П. Хромаев, — у меня только что родилась одна идея, мне нужны кое-какие сведения… Скажите: как у нас обстоит дело… с чуткостью?
— С чуткостью? — испугалась Фелицата. — У нас ничего такого нет, Николай Павлович!
— Очень плохо, если в нашем учреждении нет чуткости. В печати каждый день пишут про чуткость, а у нас ее, оказывается, нет!
— Я не в том смысле, Николай Павлович! По-моему, у нас нету… нарушений и искривлений!..
— Вы уверены в этом?
— За себя лично я отвечаю, Николай Павлович, — поправилась осторожная Фелицата, — я лично чуткая. Но, конечно, в других звеньях… Там могут быть… всякие такие… отклонения…
— Вот видите! А если завтра к нам придут и спросят: «Как у вас обстоит дело с чуткостью?» Что мы с вами будем… лепетать? Необходимо этот вопрос уточнить. Мне нужны соответствующие материалы. Ну-ка, давайте сюда список сотрудников!
— А как быть с приемом, Николай Павлович?
— Много их там?
— Не очень. Но все-таки есть.
— Ничего, пусть обождут! Несите скорей список!
Фелицата скрылась и через пять минут появилась снова со списком сотрудников в руках.
— Так-с! — сказал Н. П. Хромаев. — Ну что же, начнем, пожалуй. Садитесь, берите карандаш и пишите, кого мы с вами будем считать чуткими товарищами. Ну-с, значит, напишите Карасева и Бутина, как моих заместителей… Записали?
— Записала! — откликнулась Фелицата и догадливо прибавила: — Теперь начальников отделов писать, Николай Павлович?
— Правильно! Пишите начальников отделов.
Усердно скрипя пером, секретарша стала вносить в список чутких фамилии начальников отделов.
За дверью раздался какой-то стук и грозный шум голосов.
— Что там такое? — спросил Н. П. Хромаев.
— Посетитель, наверно, волнуется… который все на часы смотрел.
— Какой нетерпеливый! Теперь заведующих секторами пишите… Тут же и себя можете поместить…
— Спасибо! — вспыхнув, сказала Фелицата. — Я, Николай Павлович, Зиночку тоже сюда вставлю.
— Какую Зиночку?
— Помните, она меня как-то заменяла? Бывшая карасевская секретарша, а сейчас она в отделе рам и дверей. Хорошенькая такая. Она недавно замуж вышла, ей будет приятно, что ее отметили.
— Хорошо, вставьте сюда и вашу Зиночку!
— Предместкома я тоже в список чутких внесу, Николай Павлович?
— Обязательно. А то он очень обидчивый. Ну-ка, дайте сюда список. Посмотрим, что получилось.
Н. П. Хромаев взял из рук Фелицаты список чутких товарищей и стал сличать его со списком сотрудников.
— Так! — сказал он недовольно. — Получается, что у нас, так сказать, почти все чуткие. Хотя… вот тут какой-то Барабанов у вас числится. Кто он такой, Барабанов?
— Это наш гардеробщик, Николай Павлович.
— А он чуткий?
Фелицата задумалась.
— Как вам сказать, Николай Павлович. Ко мне поступили сигналы, что он не справляется с калошами. Третьего дня, например, правую калошу Левковича он подал Бутину, а левую Бутина — Карасеву…
— Пишите его в нечуткие! Надо, надо подтянуть Барабанова…
Фелицата с удовольствием внесла гардеробщика Барабанова в список нечутких.
— Еще кто у нас нечуткий? — спросил Н. П. Хромаев.
— Давайте сюда Пальчикова запишем, — вдруг хищно сказала секретарша.
— Какого Пальчикова?
— Счетовода из бухгалтерии. Он, Николай Павлович, ужасный критикан. Такая язва!.. В стенгазету пишет и… вообще… проявляет нечуткость.
— Можете записать Пальчикова, — милостиво согласился Н. П. Хромаев. — Еще кого запишем в нечуткие?
Начальник и секретарша устремили взгляды в потолок и стали думать. Но тут дверь распахнулась и в кабинет вошел человек в ватнике.
— Будет, в конце концов, прием или не будет? — надрывно спросил человек в ватнике. — Два часа с лишним люди ждут за дверью, а вы тут бумагу портите?!
— Прошу вас оставить кабинет! — металлическим голосом сказал Н. П. Хромаев. — Прием переносится на завтра!
— Позвольте, товарищ Хромаев! — завопил человек в ватнике. — У меня же срочное дело!.. Я из-за города приехал! Надо же быть чутким!
— Надо! — твердо сказал Н. П. Хромаев. — Для этого мы и «портим здесь бумагу», как вы изволили выразиться. Потрудитесь оставить мой кабинет!
Человек в ватнике поднял крик, но Фелицата, храбро наступая на него бюстом, быстро вытеснила его за дверь, назад в приемную.
Затем она вернулась в кабинет, чтобы окончательно уточнить с Н. П. Хромаевым вопрос о чуткости и отшлифовать список чутких и нечутких сотрудников. Ведь действительно, могут же прийти и… спросить?
1948
ТЕТЯ НАДЯ

В хорошо обставленной комнате перед большим — во весь рост — зеркалом стоит невысокая полная женщина, с круглым румяным лицом и коротко остриженными седыми волосами, одетая в черное строгое платье, и, приветливо улыбаясь, говорит своему отражению:
— Милые вы наши подписчики! Редакция бесконечно рада видеть вас у себя. Мы хотим, ребята, чтобы вы… чтобы вы… Нет, получается слишком официально!.. Начну сначала.
Полная женщина делает широкий жест, разводя короткие толстые ручки, и повторяет теплым, ласковым голосом:
— Милые вы наши подписчики!..
Полную женщину зовут Надеждой Георгиевной, или тетей Надей. Она член редакционной коллегии детского журнала и в настоящий момент репетирует свою речь на вечере журнального актива, который состоится через полтора часа.
— Милые вы наши подписчики! Редакция бесконечно рада видеть вас у себя… у себя… Давайте, ребята, дружно, все как один, скажем…
— Чучело-мучело! — вдруг раздается за дверью громкий детский голос, и сейчас же тетя Надя слышит смех и топот ног. Кто-то стремглав удирает по длинному коммунальному коридору.
Надежда Георгиевна с исказившимся от негодования и злости лицом выскакивает из комнаты, но врагов уже нет. Они таятся где-то в джунглях коридора, укрывшись за чемоданами и шкафами.
— Предупреждаю, — зловеще и звонко говорит тетя Надя в пыльную и темную тишину, — предупреждаю, что если поймаю, будет плохо!
Она уходит к себе и становится в прежнюю позицию перед зеркалом. Щеки ее горят, в глазах мерцают злые огоньки.
— Милые вы наши подписчики, — свирепо начинает она, не замечая своего тона, — редакция бесконечно рада видеть вас у себя. Ребята! Давайте дружно, все как один, скажем…
— Чучело-мучело! — снова слышится за дверью отчаянный, дерзкий крик, и снова, выскочив за дверь, Надежда Георгиевна никого не застает.
Лезть за шкафы, где пыль и паутина, ей не хочется. Взрослых в квартире никого нет, так что и пожаловаться некому.
Тогда тетя Надя решается на маневр. Война так война!
Надежда Георгиевна проходит к себе и тихо становится у двери. Через пять минут терпеливого ожидания она слышит крадущиеся шаги детей. Тогда член редколлегии детского журнала стремительно распахивает дверь и ястребом бросается на своих врагов.
В плен попадается вожак банды Димка Коников — лобастый мальчик с пустой револьверной кобурой на боку, у пояса.
— Ах ты, дрянной подписчик, тьфу, мальчишка! — кричит Надежда Георгиевна, с вожделением глядя на соблазнительно розовое Димкино ухо. — Как ты смеешь мне мешать?
Пленный вырывается и молча сопит. А тетя Надя теперь уже не кричит, а шипит, как молоко, разлитое на горячей плите:
— Зачем ты мне мешаешь, зачем?!
В этом шипе столько ненависти и угрозы, что пленному Димке Коникову становится не по себе. Ему даже хочется зареветь, тем более что он все равно не сумеет объяснить толком, за что все квартирные дети не любят члена редколлегии детского журнала. Так! За все сразу! За то, что она их не замечает, и когда глядит на Димку, то кажется, будто глядит в пустоту, — такие у нее холодные, безразличные глаза. За то, что если она и говорит с квартирными ребятами, то лишь для того, чтобы сделать им замечание или побранить. За то, что вечно жалуется на детей родителям. За то, наконец, что никогда ничего не принесет из своей редакции, про которую ребята слышали много интересного. И вообще она — чучело-мучело. Ясно, кажется?
— Пусти! — шепчет Димка Коников. — А то я тебя из пистолета.
— Ах, вот ты как!..
Надежда Георгиевна решительно отстегивает Димкину пустую кобуру и быстро прячет ее к себе в зеркальный шкаф.
— Придет твой отец, я ему отдам эту гадость. И про хулиганство твое расскажу. А теперь марш, голубчик!..
Она выставляет мальчика за дверь и, поправив волосы, начинает, глядя в зеркало на свое раскрасневшееся лицо:
— Милые вы наши подписчики!..
— Отдай пистолет! — стонет за дверью Димка Коников. — Отдай жа!..
— Ни за что не отдам! Милые вы наши подписчики! Редакция бесконечно рада…
— Отдай пистолет! У-у, чучело-мучело!..
— Ты опять? Вот я тебя сейчас!..
Через час Надежда Георгиевна — тетя Надя — сидит за длинным столом, уставленным вазами с печеньем и фруктами. Десятки детских глаз — голубых, карих, черных, синих — обращены на нее. Улыбаясь бесконечно милой, ласковой улыбкой, разводя обнимающим жестом короткие толстые руки, она говорит:
— Милые вы наши подписчики! Редакция бесконечно рада видеть вас у себя. Давайте, ребята…
А в это время в коридоре ее квартиры, за шкафом с книгами, где пахнет плесенью и живут пауки-одиночки, идет другое совещание. Председательствует Димка Коников.
— Давайте поймаем большого-пребольшого таракана и бросим ей в кровать, — предлагает девочка Женя с голубыми добрыми глазами и первая аплодирует своему предложению.
— Одного таракана мало, — деловито говорит Димка Коников, — давайте бросим двух!..
1937
НАКАЧКА

Максим Кондратьевич Боровков, областной работник, возвращался в город из поездки по колхозам, куда он был направлен, как говорится, «вправлять мозги» и «делать накачку».
Ехал Максим Кондратьевич на «Победе», но не на своей, а на той, какую ему дали, с незнакомым шофером.
Шофер этот сразу, еще при выезде из города, не понравился Боровкову. Неразговорчивый, необщительный, даже угрюмый! И лицо какое-то странное: скуластое, с пышными «чапаевскими» усами, а на крупном хрящеватом носу — очки в великолепной черепаховой оправе. При всем этом на голове — старая военная фуражка с побуревшим танкистским околышем. От такого не дождешься соленого шоферского анекдотца, который так скрашивает дорожную скуку!
Когда Максим Кондратьевич спросил своего водителя, как его зовут, тот неохотно ответил:
— Пологаев.
Машину, впрочем, он вел отлично. Поездкой Боровков был вполне доволен.
За день — шутка сказать! — побывал в шести колхозах, в одном хорошо позавтракал, в другом неплохо пообедал, водчонки выпил в меру, все цифры — главным образом по выполнению хлебопоставок — тщательно проверил и аккуратно записал. «Вправлять мозги никому не пришлось — цифры были вполне удовлетворительными. Они приятно украсят докладец, который завтра утром он, Боровков, представит начальству. Ведь хорошая цифра в докладе — это все равно, что… стерлядь в ухе! Как бы красиво ни был написан доклад (хоть напиши его слогом самого Льва Николаевича Толстого!), но если он не будет начинен хорошей цифрой — ни за что не вызовет такой доклад благожелательной улыбки на румяных устах вышестоящего товарища! А Максим Кондратьевич всю свою сознательную жизнь глубоко ценил, понимал и чувствовал великое значение благожелательной начальственной улыбки!
Удобно развалившись на заднем сиденье, Боровков с наслаждением представлял себе, как он приедет домой, умоется, переоденет белье, выпьет горячего чаю и завалится спать в чистую постель. Уж кто-кто, а Максим Кондратьевич Боровков заслужил покой и отдых.
«Скорей, скорей домой!..»
Внезапно Пологаев затормозил и, обернувшись, сказал смущенно:
— Беда! Бензина не хватит! Не рассчитал маленько!..
Максим Кондратьевич хотел было «вправить» шоферу «мозги» и сделать ему соответствующую «накачку», но сдержался.
— Что предлагаете?
— Придется свернуть на проселок. Заедем в Пешкино, там раньше был колхоз «Первенец Октября», а теперь, после объединения, вторая бригада «Маяка революции», у них и заправимся.
— Поезжайте, только, пожалуйста, поскорее.
Не прошло и двадцати минут, как «Победа» въехала на широкую безлюдную улицу Пешкина. Было уже совсем темно. Посвежевший к ночи ветерок донес до ноздрей Максима Кондратьевича дразнящий запах свежеиспеченного хлеба и парного молока.
Где-то далеко, на краю деревни, надсадисто и хрипло, словно распекая кого-то, брехала собака.
Пологаев остановил машину и пошел искать знакомого кладовщика. Вскоре он вернулся и сообщил, что надо ехать к избе-читальне, все колхозники там, на собрании.
Подъехали к избе-читальне. Пологаев опять ушел и вернулся с бригадиром. Это был худощавый, жердистый длиннорукий парень лет двадцати семи, с большим толстым носом и маленькими умными глазами, в пиджаке, накинутом на плечи.
— Максим Носков, — назвал он себя и пригласил «товарища из области» побеседовать с колхозниками, пока шофер будет управляться со своим делом.
— Ну что ж, охотно! — бодро отозвался Максим Кондратьевич. — Кстати, и я тоже Максим. Тезка тезку всегда выручит! Пошли!
Приветливо улыбаясь, бригадир рывком открыл дверцу машины, Максим Кондратьевич, согнувшись, вынес свой тучный стан из кабины и с удовольствием потоптался в остывшей, мягкой, как мука, дорожной пыли, разминая затекшие ноги.
О чем он будет беседовать с пешкинскими колхозниками, Максим Кондратьевич, топчась, еще не знал, но это обстоятельство его ничуть не смущало, ибо Боровков принадлежал к тому довольно распространенному у нас типу людей, которых называют «водопроводными ораторами». Такому оратору трудно только начать, а начнет, откроет кран — и потечет, журча и слегка пенясь, словесная водичка, не горячая, но и не холодная, а так… комнатной температуры. Все правильно, все гладко, придраться не к чему, но почему-то от этого поучающего, правильного журчанья у слушателей свинцом наливаются веки, деревенеют и тупеют лица и в глазах появляется выражение тоски.
Боровков и бригадир прошли к столу президиума. Зал читальни был битком набит народом. В рядах зашушукались:
— Кто такой? Вроде не из райкома!
— Похоже — из области. Наши, районные, поподжаристей!
— Тише вы… гадальщики!..
Бригадир поднялся и по праву председателя собрания предоставил слово Максиму Кондратьевичу, сообщив, что «товарищ из области мимоездом заскочил в Пешкино, но желает побеседовать с народом, так что давайте послушаем».
— Отдельная просьба — к женщинам с грудными! — закончил бригадир. — Будьте сознательны, товарищи матери: как заревет — выносите на воздух.
Пока бригадир представлял его пешкинцам, Максим Кондратьевич успел обдумать тему своего выступления и решил, что будет говорить о передовом опыте в колхозной агротехнике.
Он встал, проникновенно поглядел на свежепобеленный потолок, потом на лица пешкинцев, смотревших на заезжего гостя с откровенным, простодушным любопытством, кашлянул и… открыл кран. О чем говорил Боровков пешкинским колхозникам, какие мысли проповедовал?
Мысль, собственно, была одна: для того чтобы колхоз имел хорошие урожаи, надо изучать агротехнический опыт передовиков.
Казалось бы, доказывать эту мысль незачем — настолько она ясна и бесспорна. А Боровков доказывал! Он даже спорил с другим, воображаемым, Боровковым, усомнившимся, повидимому, в том, что дважды два — четыре, выдвигал доводы «за» и контрдоводы «против», цитировал классиков и перевирал поэтов. Его широкий бледный лоб покрылся испариной, в горле першило, но… кран был открыт, и вода лилась.
— Надо изучать опыт передовых колхозов! — убеждал пешкинских колхозников Боровков. — Надо изучать, товарищи!..
Сделав многозначительную паузу, он повторил:
— Нужно раз и навсегда запомнить, что изучать опыт передовых колхозов просто необходимо. Не-об-хо-ди-мо, товарищи!..
Снова пауза, еще более многозначительная. И опять:
— Мы обязаны знать наших передовиков. Обязаны, товарищи! Не следует забывать, что если мы будем их забывать, то изучить опыт передовых как следует мы не сможем. Не сможем, товарищи!..
Первым не выдержал старик колхозник, сидевший на передней лавке.
Сначала он слушал Боровкова внимательно, ловя каждое его слово, потом стал исподтишка зевать, деликатно прикрывая рот темной сморщенной ладонью, потом несколько раз зевнул открыто, громко, с жалобным причмокиванием, потом его голубые, выцветшие глазки потускнели и покрылись белесой дымкой, как у только что зарезанного петуха. Бедный дед уронил на пол свою клюшку, опустил голову на грудь и тонко засвистел носом. Его растолкали. Он выпрямился, поерзал на лавке, громко сказал:
— Извиняйте, проштрафился! — и снова устремил на Боровкова напряженный, кроткий, мученический взгляд.
Потом заплакал, закричал ребенок на руках у матери, сидевшей в заднем ряду. Мать заторопилась с ним к выходу, и кто-то не без ехидцы произнес на весь читальный зал:
— Иди, Дарья, правильно! Разве может дите выдержать!..
Боровков чутьем понял, что ему пора «закрывать кран». Он сделал грациозный словесный пируэт, еще раз напомнил пешкинским колхозникам, что они должны не забывать про «необходимость изучения», и сел.
Бригадир-председатель предложил задавать вопросы.
Сейчас же поднялся здоровенный парень в клетчатой рубахе с копной золотистых волос на давно не стриженной голове.
— Кто это? — шепотом спросил Максим Кондратьевич у бригадира.
— Еремкин, тракторист, комсомолец! — тоже шепотом ответил бригадир и громко произнес: — Давай вопрос, Еремкин!
— У меня вопрос такой, — сказал Еремкин. — В Зауралье, я слыхал, есть колхозник Мальцев, ученый полевод. У него выработана своя агротехника, проверена на полях. Не можете ли вы, товарищ Боровков, рассказать, в чем там у Мальцева «собака зарыта»? Разъясните по силе возможности…
Максим Кондратьевич о зауральском Мальцеве мельком слышал где-то что-то, когда-то читал, однако толком ничего не знал. Но нельзя же так прямо и выложить: «Не знаю, извините!» Авторитет областного работника не позволяет!
Нахмурив брови, Боровков сказал:
— Вопрос товарища Еремкина лишний раз убеждает меня в том, как необходимо изучать нам опыт передовых, товарищи! Ведь о работах Мальцева писали… Значит — надо читать, товарищи! Нужно раз и навсегда запомнить, что без чтения сельскохозяйственной литературы мы не сможем изучать опыт передовых… Не сможем, товарищи!..
Кран был снова открыт…
— Есть еще вопросы? — устало спросил бригадир-председатель, когда Максим Кондратьевич кончил отвечать Еремкину.
— Есть вопрос! — раздался в заднем ряду звонкий женский голос. — Почему в «Волне революции» у Баранникова урожаи вдвое выше наших? Земли-то одинаковые, что у них, что у нас! Пусть товарищ из области объяснит!
Бригадир посмотрел на Боровкова, глаза у «товарища из области» беспокойно бегали, лоб перерезала глубокая морщина. Авторитет областного работника снова оказался на краю пропасти. Не ответить было нельзя: Баранников — видный передовик в области, о нем даже секретарь обкома говорил на пленуме. Но что он там делает у себя в «Волне революции»?!
Максим Кондратьевич поднялся, медленно, тяжело, чтобы выиграть время. Все надежды теперь были на то, что открытие крана произойдет автоматически, рефлекторно. Но, увы, кран открылся, а вода не полилась. Изо рта Боровкова вылетали неопределенные мычащие звуки, напоминавшие именно то странное бормотание, какое издает водопроводный кран, когда в трубах нет воды. По рядам прошел смешок. И в этот страшный миг Максим Кондратьевич увидел своего шофера. Пологаев стоял в дверях и делал рукой какие-то знаки. Чувство благодарности к деликатному, находчивому Полетаеву теплой волной залило грудь Максима Кондратьевича. Выход был найден!..
— Я бы, товарищи, с удовольствием ответил на вопрос гражданки, — сказал Боровков уже с обычной своей грацией. — Но вон шофер не разрешает! Время позднее, надо ехать, товарищи! Вопрос о Баранникове большой, ответить на него надо подробненько, не наспех… Так что… в следующий раз, товарищи!..
Максим Кондратьевич хотел было пожать на прощанье руку бригадиру-председателю и уже протянул ему свою пухлую ладошку, как вдруг произошло необъяснимое: Пологаев попросил слова! Оторопев, Боровков опустился на стул. Бригадир спросил у шофера его фамилию и спокойно объявил:
— Слово имеет товарищ Пологаев.
Пологаев вышел к столу президиума, снял фуражку, расправил усы и сказал:
— Правильно, что время позднее. Но дорога тут мне хорошо знакома, так что — ничего, довезу быстро. Пусть товарищ не беспокоится. А на вопрос гражданки надо ответить…
И, вытащив из кармана тужурки пухлый блокнот, шофер стал рассказывать пешкинцам про славные деда Баранникова из «Волны революции».
Говорил Пологаев просто, легко, со знанием дела, что называется — «по существу».
Зал одобрительно гудел.
Горохом посыпались вопросы. Пологаев отвечал. Даже дед с клюшкой приободрился и попросил рассказать про «баранниковский сад», в нем, говорят, на «белом наливе» яблочки висят с детскую голову, не яблоко — арбуз! Пологаев, заглянув в блокнот, рассказал и про сад.
Максим Кондратьевич, синий от злости, толкнул коленкой под столом бригадира-председателя. Тот встал и сказал, что время действительно позднее, так что, к сожалению, пора кончить. Комсомолец Еремкин с места дерзко выкрикнул:
— Предлагаю объявить благодарность товарищу областному руководителю… (тут Еремкин сделал паузу) автомашины за интересное сообщение.
Грохнули аплодисменты.
…По проселку Максим Кондратьевич и Пологаев ехали молча, и лишь когда машина выскочила на шоссе, Боровков, сердито сопя, сказал:
— Послушайте, где это вы так… насобачились?
— Много приходится возить разных товарищей уполномоченных по колхозам, — не оборачиваясь, ответил шофер, — а я имею интерес к сельскому хозяйству. И с народом люблю поговорить. Так вот и набрался!..
…На следующий день Максим Кондратьевич принес в учреждение, посылавшее его в поездку по колхозам, свой аккуратно перепечатанный на машинке доклад.
Сотрудник взял пухлую рукопись и вежливо осведомился:
— Как съездили, Максим Кондратьевич?
— Ничего… в общем!
— Пришлось мозги вправлять?
— Пришлось! — вздохнув, сказал Максим Кондратьевич. — Была накачка! Крепенько досталось… кое-кому… Ох, крепенько!..
1953
СВИСТУН

У Кати Петровой, студентки исторического факультета, жившей вместе с родителями в новом доме в отдаленном от центра города районе, собрались гости, все больше молодежь.
Выпили вина, попели, потанцевали, поспорили, пошумели.
Больше всего пил и танцевал, громче всех пел, спорил и шумел новый Катин знакомый — начинающий художник-оформитель Митя Часовников. Это был толстощекий, очень румяный юноша, высокий, широкоплечий — ни дать ни взять молодой Геракл!
О чем бы ни говорили Катины гости, получалось так, что Митин хрипловатый басок заглушал другие голоса. Художник-оформитель обо всем высказывался веско и подавляюще авторитетно.
Заговорили о французской драматургии, коснулись Мольера, и Митя, вмешавшись в беседу, рассказал известный каждому сюжет «Тартюфа» так, словно сам великий Жан Батист лишь вчера делился с ним, с Митей Часовниковым, своими творческими планами.
Заговорили о лыжном спорте — Митя и по поводу лыж высказался в таком духе, что у всех возникло ощущение, будто лавровый венок чемпиона мира принадлежит ему, Мите Часовникову, и висит вот тут, в прихожей, на вешалке под его, Мити, велюровой шляпой.
Потом, как это часто бывает, прихотливая стежка разговора свернула совсем в другую сторону. Катины гости заговорили о хулиганах и уличных озорниках, о том, что еще случается иногда в темных переулках и глухих дворах, куда не часто заглядывают осторожные милиционеры.
Каждый хотел рассказать «потрясающий случай из жизни», и в комнате возник общий галдеж — шла напряженная борьба за право «занять площадку», напоминавшая острую схватку у футбольных ворот.
Наконец маленькому белобрысому студентику удалось овладеть вниманием, и он — со счастливым лицом! — начал:
— Ребята, послушайте, как меня недавно чуть было не отлупили…
— А меня бы никогда не отлупили, — безжалостно прервал его Митя Часовников и при этом так строго, по-соколиному взглянул на рассказчика, что тот сразу осекся и замолчал. — Меня бы не отлупили, потому что я лично очень сильный человек, — продолжал Митя, — к тому же я знаю приемы бокса и джиу-джитсу. Я лично могу превратить в кусок кровавой говядины любого хулигана вот этим рычагом первого рода, — Митя картинно сжал кулак и показал всем свою, повидимому, действительно могучую руку. — Но я лично редко пользуюсь этим отпущенным мне щедрой природой оружием. У меня есть другое, более эффективное средство. Но это уж мой секрет!
— Скажите — какой?! — попросила Митю Катина подруга, миловидная Леля Солонкина, весь вечер не спускавшая с художника-оформителя наивно-восторженных глаз.
— Я лично свищу! — сказал Митя Часовников.
— То есть как свистите?!
Митя выдержал долгую паузу и ответил:
— Я свищу так, что люди, заткнув уши, в ужасе разбегаются. Это особый свист. Так свистят атаманы шаек. Меня лично этому свисту научил один приятель — работник уголовного розыска.
Катя Петрова, хозяйка дома, серьезная девушка в больших очках на вздернутом розовом носике — будущий историк! — сказала:
— Если заглянуть в седую даль веков, то первое упоминание о специфическом разбойничьем посвисте мы найдем в наших былинах. Достаточно назвать Соловья-разбойника, который…
— Милая Катя, — снисходительно остановил ее Митя Часовников, — ваш Соловей-разбойник — мальчишка и щенок. Послушайте лучше, что со мной случилось на днях. Возвращаюсь поздно ночью домой. На улице — ни души. Вдруг появляются двое. И сразу — ко мне. «Дай закурить!» Даю сигарету. «Папиросу давай, а не эту слюнявку!» — и хлоп меня по руке! «Папирос нет». — «Тогда давай часы!» Конечно, я бы мог в одну минуту превратить негодяев в два куска кровяной говядины, но у меня было хорошее настроение, и я решил пошутить. Говорю: «Вы что, очумели, не видите, с кем разговариваете? Мои ребята в этом квартале работают!» Да ка-ак засвищу! Их как ветром сдуло. А вы говорите — Соловей-разбойник!..
Митин рассказ произвел впечатление, и все стали наперебой просить рассказчика продемонстрировать искусство современного разбойничьего посвиста. Явно кокетничая, он долго не соглашался, но когда хорошенькая Леля Солонкина присоединилась к общему хору, сдался:
— Я, пожалуй, свистну разок, но предупреждаю, что за последствия не отвечаю. Нервных прошу выйти, как говорится.
— Здесь нервных нет! — ответила за всех Катя Петрова.
Художник-оформитель покосился на толстого черного кота, дремавшего на коленях Катиной бабушки — Аделаиды Герасимовны, и сурово, как хирург, приступающий к операции, заметил:
— Животное все-таки лучше убрать!
— Животное — старенькое, оно не проснется, не беспокойтесь, — сказала Аделаида Герасимовна, — а я с удовольствием послушаю. Свистите, молодой человек, ничего!
Митя Часовников сделал страшное лицо, растянул рот до ушей, и… отчаянный, раскатистый, сверлящий свист мгновенно пронзил барабанные перепонки Катиных гостей. Целый ансамбль соловьев-разбойников не мог бы свистнуть громче и омерзительней!
В квартире поднялся переполох. Бабушка Аделаида Герасимовна тонко взвизгнула, вскочила с кресла, замахала сухонькими ручками. Кот с резвостью, несвойственной для старенького животного, сиганул с бабушкиных колен прямо на стол, а оттуда на абажур висячей лампы, на котором и повис, вцепившись когтями в материю и раскачиваясь, как звонарь на веревке колокола. На кухне что-то упало и разбилось вдребезги.
— Боже мой, Паша раскокала сервиз! — вскрикнула Катя и выбежала из комнаты.
— Я предупреждал, что за последствия не отвечаю, — сказал Митя, наслаждаясь произведенным эффектом. С этой минуты он окончательно стал героем вечера.
Было около двух часов ночи, когда Митя Часовников и Леля Солонкина вышли из подъезда Катиного дома на пустынную улицу, освещенную в большей степени луной и в меньшей фонарями.
Нежный апрельский холодок ласкал щеки и будоражил кровь, большая симпатичная луна поощряюще подмигивала. Митя болтал без умолку и сыпал остротами. Леля звонко смеялась. Хорошо, товарищи, быть молодым и идти весенней ночью по уснувшему городу рядом с красивой девушкой, зная, что ты ей нравишься. Хорошо!
Но старуха жизнь всегда норовит именно в эти приятные минуты преподнести тебе этакий кислый финик, напомнить, что, кроме симпатичной луны, милых девушек и трогательных зябнувших липок, в мире существуют и другие, более прозаические вещи, от которых болтовней и остротами не отделаешься!
Митя и Леля услышали крик: женский голос звал на помощь. Кричали в переулке за углом. Молодые люди остановились, переглянулись.
Тот же женский голос — очень юный, дрожащий, умоляющий — сказал кому-то:
— Оставьте меня! Пустите!
В ответ раздался смех — откровенно бесстыжий, похожий на ржанье. Смеялись двое.
— На нее напали! — шепотом сказала Леля. — Скорей, Митя!
— Что скорей? — тоже шепотом спросил художник-оформитель.
— Бежим скорее!
— Бежать хуже. Лучше так постоять.
— К ней бежим!
Женский голос с плачем сказал за углом:
— Что вам нужно от меня в самом деле?
Хриплый хулиганский тенорок издевательски ответил:
— Поговорить с тобой, милая, надо по-хорошему!
— Слышите? — сказал Митя попрежнему шепотом. — Ведь он же хочет по-хорошему с ней поговорить! Пусть поговорит!
Леля посмотрела на Митю Часовникова, на его обмякшие плечи, на вздрагивающие губы и сказала, не скрывая своего презрения:
— Ну, хоть засвистите!
— З… з… зачем?! Услышат же!
Леля вырвала свою руку из Митиной руки, и не успел художник-оформитель опомниться, как студентка с воинственным криком скрылась за углом.
Вам, наверно, приходилось видеть, как маленький, но храбрый котенок, распушив хвост, шипя и фыркая, бросается на большого свирепого пса и тот — больше от удивления, чем от страха, — убегает, не принимая боя? Примерно то же самое произошло и тут. Появление Лели в переулке было настолько внезапным, а крик таким отчаянным, что хулиганы — двое парней в традиционных кепочках с недоразвитыми козырьками — оставили свою жертву и кинулись наутек.
Когда подошел Митя, спасенная девушка — лет семнадцати, с полудетским личиком, в красном беретике на макушке — и ее спасительница стояли рядом и плакали.
— Не плачьте, девушка! — всхлипывая, говорила Леля. — Не надо! Все же кон… кончилось хо… хорошо!
— Спаси-и-бо, девушка! И вы не плачьте, а то я не… могу оста… оста… нови-иться.
— Вы где жи… живете, девушка?
— Пятый дом отсю-юда!
— Идемте, я вас провожу-у, нам по дороге! — сказала Леля и, повернувшись к Мите, бросила ему в лицо: — А вы… не смейте за мной идти! И по телефону мне не звоните! И вообще… забудьте мое имя. Свистун!
— Леленька, я лично… — начал Митя, но девушки уже быстро шагали по мостовой.
Художник-оформитель посмотрел на стройную удалявшуюся Лелину фигурку, потом перевел растерянный взгляд на симпатичную луну и… свистнул! Тонко, жалобно, безнадежно. Пробегавшая мимо тощая рыжая кошка с нахально задранным хвостом даже не оглянулась.
1955
СОЛИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Экономист-консультант Бляхин спал, и ему снилось, будто он сидит на заседании у себя в учреждении и просит слова. А председательствует почему-то уборщица тетя Настя. Она слова экономисту не дает и при этом непрерывно потрясает колокольчиком.
«Какой неприятный звон у ее колокольчика!» — подумал Бляхин и проснулся.
Луна светила в комнату. За дверью тревожно и резко трещал звонок. Чертыхаясь, экономист натянул на себя пижаму и подошел к двери.
— Кого надо? — сурово спросил он.
— Телеграмма Бляхину.
Бляхин не любил получать телеграмм. Он испытывал свойственный многим суеверный страх перед этими небрежно склеенными клочками бумаги, таившими, как правило, неприятности, изложенные лаконично и без знаков препинания. Жена Бляхина Люля была на курорте. Телеграмма могла прийти только от нее, от Люли.
Когда почтальон ушел, Бляхин трясущимися руками вскрыл телеграмму и прочел ее вслух, чтобы не так было страшно.
— «Окружена невеждами срочно телеграфь соли жирных кислот четыре буквы целую Люля».
Экономист провел рукой по сразу вспотевшему лбу. Зловещая загадочность текста поразила его.
— Ничего не понимаю! — жалобно сказал Бляхин, обращаясь к портрету Льва Толстого. Он сел за стол и, зажав голову руками, стал изучать непонятную телеграмму.
«Окружена невеждами», — размышлял Бляхин. — Ну, это ясно. Это она имеет в виду местных врачей. А дальше? А дальше идет «срочно телеграфь». Позвольте, что я должен «срочно телеграфь»? Потом эти проклятые «соли жирных кислот». Наверно, анализ у нее плохой. Надо звонить тестю».
Экономист-консультант набрал нужный номер и терпеливо стал слушать длинные, протяжные гудки. После десятого гудка в трубке раздался испуганный хриплый голос отца Люли — Сергея Карловича:
— Слушаю. Кто это?
— Это я, Володя.
— Какой Володя? Какие могут быть ночью Володи? Положите трубку!
— Это Люлин муж Володя.
— Здесь Люлины мужи не живут. Положите трубку!
— Проснитесь, Сергей Карлович! — завопил Бляхин. — Говорит Володя, муж вашей дочери Люли. У нее неприятность. Я только что получил телеграмму.
— Ах, это вы, Володя, — растерянно сказала трубка. — Обождите, я только штаны надену, а то холодно… Что там у нее такое? — после короткой паузы спросил Сергей Карлович.
— У нее соли жирных кислот. Слушайте, я вам сейчас прочту телеграмму. «Окружена невеждами срочно телеграфь соли жирных кислот четыре буквы целую Люля».
— Н-да, — сказал Сергей Карлович. — Телеграмма неприятная. Но я не могу понять — в чем ее соль?
— В жирных кислотах. Там же сказано ясно про соли.
— Я не про Люлину соль, а вообще… В смысле — где смысл? Слушайте, Володя, при каких болезнях выступают на поверхность соли жирных кислот?
— Я вас как раз об этом хотел спросить.
— Обождите, я посоветуюсь с Зинаидой Валерьяновной.
Совещание с Зинаидой Валерьяновной продолжалось минут пятнадцать.
— Володя! — вдруг заговорила трубка. — Зинаида Валерьяновна советует сейчас же позвонить какому-нибудь знакомому доктору, узнать, насколько опасна эта самая жирная соль. А Люлечке дайте успокаивающую телеграмму. Позвоните нам завтра утром. Спокойной ночи!
Бляхин стал вспоминать знакомых врачей: «Орлов на даче. Петросьян в отпуску. Позвоню-ка я Рыжакову. Он все-таки наш учрежденческий врач». На этот раз трубку сняли сравнительно быстро.
— Слушаю вас, — услышал Бляхин деликатный голос.
— Извините меня, доктор, что я так поздно. Говорит Бляхин, экономист. Ради бога, скажите мне: что такое соли жирных кислот? Моя жена, понимаете…
— Это же форменное хулиганство! — вдруг закричал деликатный доктор Рыжиков. — Третий раз за ночь меня будят всякие… и спрашивают про эти дурацкие соли жирных кислот. Стыдитесь, товарищ Бляхин!
Ночь экономист-консультант провел без сна. Только на рассвете он смежил усталые вежды и опять увидел во сне заседание.
За председательским столом попрежнему восседала уборщица тетя Настя и трясла колокольчик.
Экономист проснулся. В прихожей надрывался телефон.
— Слушайте, Володя, — сказала трубка, — это говорит Сергей Карлович. Мы с Зинаидой Валерьяновной откопали тут один химический справочник. Вы знаете, что такое соли жирных кислот? Это — мыло!
— Почему же она прямо не написала: дескать, у меня нашли мыло.
— Постеснялась! Вы бы тоже не написали. Думаете, это приятно, когда у вас находят мыло? Бедная Люлечка. Она, наверно, заболела чем-то ужасным. Вы звонили доктору?
— Да. Он сказал, что это — хулиганство.
— Ну, знаете, этот ваш доктор, Володя, видимо, такой же невежда, как те, которые окружают бедную Люлю в санатории. Надо обратиться к профессору. Слышите?
— Слышу. Обращусь. Спокойной ночи, Сергей Карлович.
— С добрым утром, Володя. Не забудьте дать Люле успокаивающую телеграмму.
На работу Бляхин пришел с головной болью, желтый и несчастный. Сослуживцы оглядывали его с состраданием.
— Что с тобой, Володя? — сказал весельчак Парасин. — У тебя такой вид, как будто тебя всю ночь жевала корова и выплюнула только на рассвете!
— У меня жена заболела, — мрачно ответил Бляхин, — у нее нашли соли жирных кислот. А эта свинья Рыжаков меня же обругал хулиганом, когда я ему позвонил ночью.
— Чем заболела жена?
— У нее нашли мыло. Одним словом, соли жирных кислот. Вот телеграмма.
Парасин прочел Люлину телеграмму и стал смеяться. Смеялся он долго, а потом сказал:
— Она же решала кроссворд! Мы с Гришухиным тоже не могли разгадать эти проклятые соли жирных… мыло! Четыре буквы!.. Боже мой, как просто! Побегу обрадую Гришухина. Между прочим, это мы с ним вчера звонили доктору Рыжакову. Пока, Володя.
Через полчаса телеграфистка на центральном телеграфе, возвращая Бляхину заполненный им телеграфный бланк, вежливо говорила:
— Мы не можем принять вашу телеграмму. Мы не передаем ругательства.
— Это не ругательство!
— Позвольте, гражданин. У вас же совершенно ясно написано: «Мыло дура Володя».
— Это особый сорт мыла, — сказал экономист-консультант, — французское название: дура. Ударение на последнем слоге.
— Ах, так! Тогда за ударение я возьму с вас лишних двадцать копеек.
— Хоть рубль, только передайте! — обрадовался Бляхин и протянул в окошечко деньги.
1938
АВРАЛ
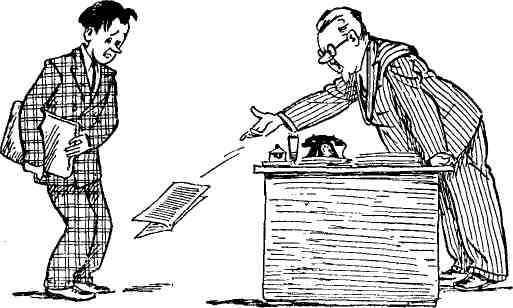
Выслушав редактора, Коля Приданников, энергичный молодой человек с самоуверенным лицом, сказал с присущей ему кокетливой небрежностью:
— Будет сделано, Нестор Максимович, не беспокойтесь. Но… трудненько!
Редактор виновато вздохнул:
— Времени, к сожалению, у нас мало, товарищ Приданников, я это знаю, но без статей профессора Шаликова и доярки Карпухиной газета выйти не может. Никак не может! — повторил он, подумав. — Так что… придется поднажать, товарищ Приданников!
— Считайте, что Шаликов и Карпухина уже у вас на столе, Нестор Максимович! — отчеканил Коля Приданников.
— Что нам нужно для выполнения задания? Говорите — обеспечим!
— Немного, Нестор Максимович. Отдельная комната — раз, машина на час — два. И пусть Василий Васильевич категорически прикажет буфетчице, чтобы мне давали черный кофе.
Редактор кивнул седой головой и сделал пометки в настольном блокноте. Ему не понравилась развязность литературного сотрудника, он даже поморщился, но что поделаешь, этот пронырливый юнец умеет, как из-под земли, выцарапывать нужные для газеты материалы. Приходится терпеть!
— Особенно попрошу насчет черного кофе, Нестор Максимович! — уже в дверях капризным голосом баловня судьбы прибавил Коля Приданников. — Без особого приказа наша буфетчица кофе не дает. Прошлый раз — помните? — тоже был аврал, попросил кофе, прислала теплого нарзана.
— Все будет, голубчик, ступайте действуйте!
И Коля Приданников начал действовать. Прежде всего он
позвонил по телефону в гостиницу, где остановились делегаты областного совещания по сельскому хозяйству — столичный профессор Шаликов и местная знатная доярка Карпухина. Ему повезло: профессор оказался дома, у себя в номере, и сам снял трубку.
— Здравствуйте, профессор! — вкрадчиво начал обрадованный Коля. — Говорит Приданников, из редакции… Дело в том, профессор, что нам нужна ваша статья!.. Тема?.. О развитии животноводства в нашей области… Я понимаю, профессор, но… есть указания… Что вы, профессор?! Статья нужна через… три часа!.. Ничего нет невозможного, профессор, в наш атомный век!.. Если позволите, мы тут набросаем черновичок… в общих чертах, конечно!.. А у нас есть ваша брошюрка, профессор, основные положения возьмем оттуда, добавим местный аспект, политически оснастим, и я лично завезу к вам ваше произведение на визу… Привет и благодарность!.. Не беспокойтесь, профессор, не впервой!
С дояркой Карпухиной разговор был еще короче:
— Агафья Даниловна, здравствуйте!.. Говорит Приданников, из редакции… Агафья Даниловна, надо рассказать областному читателю, как вы доите… Что?.. Я понимаю, что за соски, а не за рога, но мы, Агафья Даниловна, ставим вопрос шире… В общем мы тут набросаем… в основных чертах, чтобы вам не мучиться… Нет, я лично не доил, но… в общем вы не беспокойтесь, мы вам покажем, и вы завизируете… Через три часа!.. Благодарю, привет, пока!..
Вскоре Приданников уже сидел один в комнате рядом с библиотекой (редакционные остряки называли эту тихую комнату «творилкой») и пил черный кофе, принесенный ему туда по приказу секретаря редакции, Василия Васильевича, ворчливой буфетчицей. Выпив целый стакан и выкурив подряд две папиросы, Коля потянулся к перу. С профессором Шаликовым он расправился довольно легко и быстро. Брошюра профессора лежала перед ним на столе, а «местный аспект» и «политическую оснастку» Коля взял из старых передовиц, которые изложил своими словами.
Тут было все: и «надо решить наконец вопрос о повышении роли нашей области в области животноводства», и «надо сдвинуть с мертвой точки вопрос в отношении повышения удоев», и «надо поставить вопрос о кормах на должную высоту», и «надо снять рогатки с пути разрешения вопроса о пастбищах для рогатого скота». Но все же главная беда заключалась не в том, что Коля Приданников «ставил вопросы», «двигал их», решал и «снимал рогатки с пути их разрешения», изъясняясь от имени профессора Шаликова убогим языком канцелярского ярыги. Главная беда заключалась в другом: в Колиной статье не было буквально ни одной свежей мысли, она представляла собой сплошное общее место, гладкое и ровное, как то пространство на лице гоголевского майора Ковалева, которое образовалось после таинственного исчезновения майорского носа.
Закончив статью, Коля поставил подпись: «Профессор Шаликов» — и перечитал свое произведение. Оно ему очень понравилось: звучит солидно, по-профессорски, и написано со вкусом!
Теперь можно было браться за доярку. Коля взял чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и — сходу! — написал: «Я дою…» Тут он запнулся, зачеркнул, подумав, слова «Я дою» и написал: «Я занимаюсь доением»… Но снова запнулся и снова зачеркнул. Подумав еще, он написал: «Мои коровы — мои друзья. Доя их…» И тут опять остановился. Он решительно ничего не мог больше выдоить из своего бедного мозга!
Тогда он подумал, что надо отдохнуть, закурил и стал рисовать на бумаге задумчивую коровью морду в профиль и в анфас. Потом на коровьей морде появились усы, бородка и очки, и корова на Колином рисунке стала до того похожа на редактора Нестора Максимовича, что литературный работник громко рассмеялся.
«Отдохнул — хватит!» — решил Коля и снова взялся за работу. И снова у него ничего не получалось.
«Надо бы как-то по-народному написать, поярче, посвежее!» — подумал Коля Приданников. В голову ему сейчас же полезли всякие «буренушки-кормилицы», «травушки-муравушки» и другая явная чепуха. Мысль о народности пришлось оставить. Выручил все тот же испытанный способ. Коля перелистал старые комплекты газет, нашел статьи и беседы других знатных доярок и на этой шаткой основе кое-как смастерил статейку.
…Редакционная «Победа» подкатила к подъезду гостиницы. Из нее вышел Коля Приданников с нарядной бежевой папкой подмышкой и, солидно горбя плечи, поднялся на второй этаж, в номер к профессору Шаликову.
Профессор — пожилой, приземистый, с румяным лицом — встретил Колю приветливо, но сказал, что очень торопится на важное совещание в обком. Коля ответил, что, дескать, и у редакции времени в обрез и что из типографии уже звонили, справлялись, когда пришлют статью Шаликова.
Польщенный профессор сказал:
— Давайте ваш черновичок, молодой человек, посмотрим!
Коля вытащил из бежевой папки свое сочинение и, наступая на профессора Шаликова грудью, стал теснить его к письменному столу, приговаривая:
— Собственно говоря, тут ведь все взято из вашей брошюры, профессор!.. Потом мы дадим вам посмотреть гранки. А сейчас нужно только поставить вашу подпись, профессор!.. Типография не может ждать, профессор!
Отступая под бешеным натиском Коли Приданникова, ошеломленный профессор сам не заметил, как уселся за письменный стол.
— Вы не беспокойтесь, профессор! — с мефистофельской нежностью ворковал Коля Приданников над самым его ухом. — Спросите генерал-директора Рябинина, режиссера Мудрецова, заслуженного деятеля токаря-скоростника Ряскина — они вам скажут, кто такой Приданников!.. Я их статьи делал. И никогда никаких недоразумений, профессор!
На лбу профессора Шаликова выступили крупные капли пота. Беспомощно озираясь по сторонам, он сказал слабым голосом:
— Здесь нет чернил…
— Возьмите мою ручку, профессор!.. Вот тут надо поставить вашу подпись… Да вы не беспокойтесь, профессор, мы вам потом… граночки… Благодарю, привет, пока!
Карпухиной в гостинице не оказалось. Дежурная по этажу сказала Коле, что доярка уехала на совещание в обком — не дождалась.
Коля посмотрел на часы, подумал и махнул рукой:
— Черт с ней, проскочит!
Через десять минут он уже был у себя в редакции. Там все бушевало. Сила аврала достигла двенадцати баллов. Пишущие машинки били длинными очередями, надрываясь, неистовствовали телефоны, по коридорам непрерывно сновали курьерши — от них ввалил пар. Очкастые сотрудники колдовали над рукописями. Они «резали», «чистили», «сжимали», «шлифовали», «наводили блеск» и «отжимали воду»!
Коля прошел прямо в кабинет к редактору. Глаза у Нестора Максимовича были шалые, отсутствующие.
— Все в порядке, Нестор Максимович! — небрежно сказал Коля Приданников и царственным жестом положил на редакторский стол вторые экземпляры статей.
— А они… завизированы, товарищ Приданников?
— Профессор подписал, не пикнул. А Карпухину я, к сожалению, не поймал, Нестор Максимович. Она в обком уехала.
Редактор снял очки и сейчас же снова надел их на свой толстый, бледный нос.
— Как же быть? Материал надо сдавать в набор немедленно!
— Сдавайте, Нестор, Максимович, не бойтесь! — небрежно сказал Коля Приданников. — Карпухину я беру свою ответственность.
— Смотрите, товарищ Приданников!
На лице баловня судьбы появилась пренебрежительная гримаска.
— Нестор Максимович, это даже обидно. Я за генерал-директора Рябинина писал, с режиссером Мудрецовым справился, с застуженным деятелем… Токарь-скоростник Ряскин также ничего против не имел. А тут — подумаешь! — доярка! Сдавайте смело, Нестор Максимович. Завтра я вам все оформлю.
…Газета вышла во-время. Статьи профессора Шаликова и доярки Карпухиной были напечатаны рядышком, на второй полосе, на самом видном месте.
Коля Приданников, чувствуя себя героем газетного дня, явился в редакцию с опозданием и сейчас же прошел в буфет. Не успел он приняться за яичницу с колбасой, как от редактора прибежала запыхавшаяся курьерша:
— Товарищ Приданников, Нестор Максимович велели вам немедленно к нему идти!
Коля оставил недоеденную яичницу, пожал плечами и, недоумевая, пошел со своей бежевой папочкой подмышкой следом за курьершей.
В кабинете Нестора Максимовича сидела молодая женщина. Она мельком взглянула на вошедшего Колю, и литературный работник заметил, что лицо у нее красное, возбужденное, а глаза темные, довольно красивые и очень сердитые. У редактора вид был плачевный, даже его рыжеватая бородка и та казалась вспотевшей.
— Безобразие, товарищ редактор! — громко говорила женщина. — Мне проходу не дают, говорят: «Так ты, Карпухина, интересно на совещании выступала, а в газете написала какую-то чепуху». Я говорю: «Я не писала». А они мне: «А подпись чья?» А я им: «Подпись моя, а слова не мои…»
Нестор Максимович жалобно сморщился и промямлил:
— Я понимаю, товарищ Карпухина… Тут произошла ошибка… Виноват, конечно, наш сотрудник товарищ Приданников…
— Вот, вот!.. Без меня меня женили, спасибо!.. Как хотите теперь делайте, но народу объясните, что статья не моя!
Когда доярка наконец ушла, Нестор. Максимович поднялся из-за стола грозный, как сама Немезида.
— Ну-с, товарищ Приданников! — начал он, выговаривая каждое слово с неприятной отчетливостью. — Что вы скажете?
Коля Приданников молчал, опустив голову.
— Но это еще не все, — продолжал редактор с тем же зловещим спокойствием. — Сейчас я еду в обком, а там уже сидит профессор Шаликов. Он тоже… протестует!..
Коля Приданников поднял голову.
— Нестор Максимович, Шаликов завизировал статью. У нас есть оправдательный документ. Вы там покажите. Вот, пожалуйста!
Коля извлек из бежевой папки статью с подписью профессора и подал редактору. Тот посмотрел и… бросил статью на пол, к Колиным ногам.
— Черта лысого покажу я этот «оправдательный документ»! Вы ему статью Карпухиной подсунули, а он на ней, видимо, расписался! Халтурщик вы, а не журналист!
Губы у Коли Приданникова побледнели и затряслись.
— Я ошибся, Нестор Максимович!.. Горячка, Нестор Максимович!.. Я надеюсь, что мои прошлая работа… Я прошу… хотя бы по собственному желанию, Нестор Максимович!
— Не знаю, не знаю! — сухо сказал редактор. — Приеду из обкома, будем решать. Может быть, меня самого… не по собственному желанию! Идите.
Коля уныло поплелся к секретарю редакции Василию Васильевичу — своему покровителю. Там собрались журналисты. О печальном происшествии уже все знали.
Коля Приданников сел, закурил папиросу, обвел каменно-холодные лица товарищей ищущим сочувствия взглядом и сказал:
— Подумать только: генерал-директора Рябинина сделал, с режиссером Мудрецовым, с заслуженным деятелем, справился, токаря-скоростника Ряскина одолел!.. А тут… обыкновенная доярка и… сгорел, как свечка! Что же это такое, братцы?..
«Братцы» угрюмо молчали.
1954
ВСТРЕЧА НА СТАНЦИИ

Жалобно взвизгнув, отворилась входная дверь, и в клубах морозного пара на пороге грязноватой станционной комнаты, именуемой на высокопарном железнодорожном языке «залом ожидания», появился молодой парень с багровым от мороза лицом, одетый в крепкий овчинный полушубок и в старые, аккуратно подшитые валенки.
Парень бегло взглянул на немногочисленных пассажиров, сидевших на лавках, подошел к буфетной стойке и, поставив на пол между ногами свой фанерный чемодан, солидно поздоровался за руку с толстощеким и усатым буфетчиком, похожим на пожилого важного кота.
— Куда это ты собрался, Тимофей? — спросил буфетчик, глядя на парня сонными, темными, как вода в торфяном болотце, глазками.
— В область! — ответил тот хриплым тенором. — Застыл, пока доехал. Мороз — жуть! Налей-ка на дорожку — согреться, Василий Степаныч!..
Буфетчик нацедил в чайный стакан водки, положил на тарелку ломоть хлеба и кусок копченой селедки и подал парню.
Тимофей одним большим, жадным глотком выпил водку, аппетитно крякнул и стал медленно разжевывать жесткую селедочную плоть.
— В область еду! — повторил он, и в голосе его прозвучала вызывающая хмельная нотка. — К дядюшке своему, к Макару Ивановичу.
— Передавай привет. На побывку, что ли?
— Нет, насовсем! Прости-прощай, родная мама, пишите открытки. Вот так! И все убито!..
— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше! — сказал буфетчик таким глубокомысленно-назидательным тоном, как будто только что сам придумал эту старую пословицу.
— Вот именно — где лучше! — подтвердил Тимофей многозначительно. — Плесни еще, Василий Степанович, — на половину нормы.
Он выпил еще водки и, блаженно щурясь, засмеялся, показывая крупные, ровные, очень белые зубы.
— Хлопот было, пока оформился, жуть! Но зато теперь полный порядок. Ни один жук не придерется. Все убито!..
— Что же мамаша не приехала тебя проводить?
— Зачем? Только нюни распускать!
— Дальние проводы — лишние слезы! — сказал буфетчик с той же глубокомысленной назидательностью.
— А чего мне тут сидеть, Василий Степанович? — наваливаясь на стойку грудью, заговорил Тимофей с таким жаром, будто спорил с кем-то. — Толк какой, смысл? Нахлебался деревенской грязи, будет! В городе-то — чистота, культура, «Пиво-воды» на каждом шагу, в кино картинки новые показывают, не то что у нас: привезут ленту, а она рвется, как ситец гнилой.
— Жить где будешь?
— Пока у дяди, все-таки он дворником работает, имеет жилплощадь. Может, и сам пока в дворники устроюсь на первое время, а там… видно будет! Хорошо бы, конечно, в милицию, да, боюсь, не возьмут: у меня стопа плоская.
— Плоскостопие нападает под параграф, — заметил буфетчик, делая ударение на последнем слоге в слове «параграф».
— Ничего, с работой наладится! — продолжал горячиться Тимофей. — Мне дядя поможет. У него повсюду дружки! Главное — площадь имеется, есть за что зацепиться. Я как подумаю, Василий Степанович, что уезжаю в город, во мне каждая жилочка играет и поет. Третьего дня, представьте себе, чуть было у меня все не сорвалось. Так оборачивалось! Иду я из правления домой, думаю: «Ну, конец. Все убито!» И попадись мне навстречу Федьки Антонова мать. Идет с почты, несет письмо. Остановила меня, говорят: «Федюшка карточку прислал. На, посмотри на своего дружочка». Я смотрю: Федька таким козырем снят — не узнать! «Бобочка» на нем, галстучек, прическа по-городскому, чубчик махонький сбоку из-под кепки выглядывает. Такая меня досада взяла — аж зубами заскрипел. Разве у нас так приоденешься, как в городе?!
— Вчера приезжал на станцию ваш Егор Дмитрич, говорил, что сельпо ужасно много всяких промтоваров получит в текущем квартале, — сказал буфетчик, делая ударение на первом слоге в слове «квартал».
— Врет, поди! Да и аппетиту нет форсить в деревне, Василий Степанович. В городе — и туда пойдешь, и сюда! Тут тебе — танцплощадка, там — зверинец. Я когда ездил прошлым летом к дяде — ходил, смотрел. Обезьяну видел — папиросы, тварь, курит, честное слово!
— Да, там уж всякую созданию увидишь в Зоопарке, — подтвердил буфетчик, — и проказницу мартышку, и осла, и козла, и косолапого мишку. А на кого же ты свою Елену прекрасную оставляешь? Девица интересная, на выданьи. Смотри, уедешь — уведут! Ведь что с возу упало — то пропало!
— Ну и пускай! В городе таких, как Ленка, — пруд пруди. Сяду в вагон — и все убито!
— С глаз долой, из сердца вон! — сказал буфетчик.
— Вот именно! Плесни еще, Василий Степанович!
— Не много ли будет?
— Ничего. На морозе не возьмет!
Буфетчик стал наливать водку, но тут снова завизжала промерзшая входная дверь, и в «зал ожидания» вошли пожилая женщина в длинном пальто с барашковым воротником, в теплом шерстяном платке и девушка в черном кавалерийском полушубке и в серой шапке-кубанке набекрень. Худенькая и очень стройная, она была похожа на румяного, хорошенького хлопчика.
Женщин сопровождал высокий худой юноша с узким нервным лицом, в военной шинели без погон и в сапогах.
— А вот и краля твоя. Ленка на помине! — тихо сказал буфетчик.
Тимофей оглянулся, смутился и отставил стакан с водкой.
— Это учительница Мария Романовна с ней! — шепнул он своему собеседнику. — И Юрка Анисимов притащился, язва! Уж не по мою ли голову?..
Ему страшно хотелось, чтобы земляки его не заметили, не узнали, но, конечно, они увидели Тимофея сразу же, как только вошли.
— Не отворачивайся, Тимоша, не бойся, мы не за тобой! — сказала Лена.
Голос девушки звучал насмешливо, но тайную горечь насмешки Тимофей почувствовал, и она уколола его в самое сердце.
— Мне бояться нечего! — ответил он с вызовом. — Да я и не из пугливых, Елена Николаевна!.. Здравствуйте, Мария Романовна!
С Анисимовым он не поздоровался совсем: пусть знает, черт длинный, что он для него, для Тимофея, ноль без палочки.
— Что же ты даже попрощаться не зашел, Тимоша? — тем же ровным, чуть насмешливым голосом продолжала говорить Лена.
Тимофей подумал: «Уж лучше бы она обругала меня!» — и ответил, глядя себе под ноги:
— Не успел! Матери наказал, чтобы зашла, сказала, что уехал.
— И на том спасибо, Тимофей Сергеевич!
— Мог бы и меня предупредить, что уезжаешь! — вмешался Анисимов. — Сегодня вечером репетиция, надо кого-то вместо тебя вводить. А спектакль на носу! Совесть надо иметь, дорогой товарищ!
— Не до спектаклей ваших мне! — пробормотал Тимофей. — Говорят тебе — спешка у меня. Ну и… все убито!..
— Правильно, спешка у него! — усмехнулся Анисимов, обращаясь к Лене и Марии Романовне, присевшим на лавку у самой буфетной стойки, и, обернувшись к Тимофею, прибавил с той же усмешкой: — Торопись, Тимоха, торопись, а то еще перехватят в городе дворницкую вакансию, останешься тогда как рак на мели.
Тимофей хотел было обругать обидчика, но выручил буфетчик Василий Степанович, сказавший назидательно:
— Не место красит человека, а человек — место.
Мария Романовна, учительница, посмотрела на него долгим, изучающим взглядом и сказала:
— А вы знаете — не всегда! Вообще-то говоря, любой труд достоин уважения, в том числе и труд дворника. Но зачем же Тимофею, здоровому, молодому человеку, идти в дворники? Подумайте! Пусть уж с метлой дружат старички, вроде нас с вами.
— Оно, конечно, так. Всякому овощу свое время! — поспешно согласился буфетчик.
Тимофей расплатился, взял свой чемодан и хотел уйти, но учительница его остановила.
— А я думала, ты учиться едешь, Тимофей, — сказала она, и Тимофей понял, что вот сейчас-то как раз и начнется тот самый главный неприятный разговор, от которого ему хотелось увильнуть.
— Там видно будет! — сказал он как мог беспечнее.
— Нехорошо ты поступаешь, Тимофей! — помолчав, сказала Мария Романовна. — Так нужны сейчас силы в деревне, молодые, свежие, а ты… бежишь! Конечно, жизнь еще у нас здесь трудная, в городе — полегче, но ведь молодые туда и должны идти, где потруднее. Так уж у нас, у советских людей, издавна повелось!
— Вы меня только не агитируйте, Мария Романовна, только не агитируйте! — злобно сказал Тимофей.
— А я тебя не агитирую. Ты был моим учеником, и я значительно старше тебя. Поэтому я вправе сказать тебе эти неприятные слова. Нехорошо, Тимофей… только о себе думать! Надо и о родине подумать!
— Моя родина — Эс-эс-эс-эр! — сказал Тимофей, отчетливо выговаривая каждую букву.
— Да, ты прав! Но здесь твои родные места, Тимофей. Здесь ты родился, вырос. Неужели тебе все равно, какая здесь будет жизнь?! Разве тебе не хочется, чтобы она стада лучше, радостней, обильней?
Три пары глаз глядели на Тимофея, ожидая его ответа: презрительно-насмешливые, желтые, круглые, как у степного сокола, — Юры Анисимова, усталые, голубые, добрые — старой учительницы и укоряющие, красивые карие глаза Лены. В глубине ее зрачков — так показалось Тимофею — вспыхивали и тотчас же потухали искорки былой нежности.
— Как будто без меня не справятся! — сказал Тимофей, криво улыбаясь.
И от этих его слов и от его нелепой кривой улыбки всем стало не по себе. Лена отвернулась, Мария Романовна опустила голову, а Юра Анисимов, вспыхнув, сказал горячо:
— Правильно, Тимоха! Дуй в город, чего там! — И речитативом тихо, но так, что все сидевшие в зале услышали и засмеялись, проговорил нараспев: — «В Красной Армии штыки, чай, найдутся, без тебя большевики обойдутся!»
За окном, причудливо разузоренным серебряными цветами мороза, раздался хриплый, басовитый гудок: поезд дальнего следования приближался к станции. Резко ударил звонок. В зале произошло движение. Мария Романовна и Анисимов направились к выходу на перрон. Тимофей пошел рядом с Леной следом за ними. Это был не его поезд, но ему хотелось что-то сказать девушке, а что — он и сам не знал.
— Лена! — наконец выдавил из себя Тимофей. — Ты вот что… Ты — того… я поговорить с тобой хочу!
— О чем? — горько сказала Лена. — Говорить нам с тобой, Тимоша, не о чем!
Молча они вышли на перрон. Громадина пассажирского паровоза, вся седая от инея, устало ворочая шатунами, проплыла перед ними. Вагоны, тоже все заиндевевшие, лязгая буферами, медленно катились по первому пути, готовые замереть на пять минут, чтобы затем побежать, отсчитывая колесами стальные километры, дальше на восток, в неведомую даль.
— Кого встречаете? — спросил Лену Тимофей только для того, чтобы прервать тягостное, невыносимое молчание.
— Люду, дочь Марии Романовны, помнишь? Окончила в Москве институт, оставляли на научной работе, а она сама попросилась в деревню. Будет работать в МТС.
С вагонной площадки уже опускалась девушка в коричневой цигейковой шубке, с чемоданами в рутах. У нее были такие же, как у Марии Романовны, голубые, но не устало-спокойные, а жаркие и очень радостные глаза.
— Мамочка! — воскликнула она. — Как я рада, что ты меня встречаешь! И Юра Анисимов здесь?! Здравствуй, Юра!
Лена побежала к вагону. Тимофей машинально двинулся за ней.
Стоя в сторонке, он слушал, о чем говорили Юра и Лена с Людой. И, должно быть, очень забавной была его напряженная фигура с чемоданом в руке, с полуоткрытым ртом и вытянутой шеей, потому что, заметив Тимофея, Люда засмеялась и сказала:
— Не узнаете меня, Тимофей?
— Узнаю! — неловко вымолвил Тимофей и, подойдя, пожал протянутую руку девушки. — С приездом вас… — он запнулся и закончил: — в родные Палестины!
— Вы что, с этим поездом уезжаете? — спросила Люда, глядя на чемодан Тимофея.
— Нет, с другим!
— Тимофей в город уезжает от нас! — сказала Мария Романовна. — Насовсем!
— Для срочного занятия открывшейся вакансии дворника! — дерзко вставил Юра Анисимов. — Будущий король метлы — позвольте представить!
Глаза у Люды сразу стали холодными, скучными. Она повернулась к Тимофею спиной с таким обидным безразличием, что у него скулы заболели от напряжения, будто выпил ледяной воды из ведра на морозе.
— Пошли, товарищи! — сказала Люда.
— Ты, Люда, садись к Юре в кабину! — хлопотливо заговорила Мария Романовна. — Поди, отвыкла от наших деревенских морозов. А мы с Леночкой поедем в кузове. Колхоз нам полушубки дал, брезенты, мы не замерзнем. Слышишь, Люда?!
— Нет уж, мамочка, я поеду в кузове, а ты в кабинке. И, пожалуйста, не спорь. Пошли!
Юра Анисимов нагнулся и взял с платформы Людин чемодан, Тимофей хотел взять другой, но Анисимов отвел его руку и сказал тихо, сквозь зубы с той же презрительно-насмешливой, резанувшей Тимофея по сердцу усмешкой:
— Оставь! Без тебя управимся. Дезертир!..
…А через час Тимофей уже сидел у окна в жестком вагоне скорого поезда и смотрел на убегающие назад елочки в снеговых пуховых уборах, на голые березки, такие печальные сейчас на беспощадном январском ветру. В вагоне было душно, прокуренный воздух густо синел в сумерках. Во рту у Тимофея горело от выпитой водки, но хмель не туманил голову спасительным бездумьем. На сердце у него было так же холодно, скучно и пусто, как и за окном.
1954
СОСНЫ ШУМЯТ
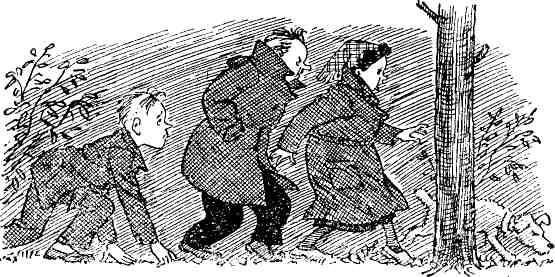
Лето в этом году было похоже на засидевшегося гостя. Уже поговорили обо всем, допили водку, доели осетрину в томате и надоели друг другу смертельно. Уже хозяйка несколько раз откровенно зевнула и хозяин не очень кстати сказал, что знаменитый абхазский старик, проживший сто пятьдесят три года, всегда спать ложился в десять часов. А гость все сидит, все смотрит свинцовым взглядам на пустой графинчик и, видимо, вовсе не собирается следовать хорошему примеру славного абхазского Мафусаила.
Так было и с летом. Пересидев все сроки, оно и в сентябре продолжало палить дачные крыши томным июльским жаром. А когда к нему привыкли, вдруг поднялось и ушло.
И сразу стало немножко грустно. Дунул холодный ветер, понес по широким улицам поселка первые желтые листья. Ворчливо и громко стали шуметь дачные сосны.
Дачники тоже уехали как-то все сразу — одной моторизованной колонной. До будущего лета смолк на уютных спортивных площадках собачий лай волейболистов: «Аут! Аут!» По вечерам не голосили патефоны на верандах, и в поселке стало пустынно и тихо.
Борзихины Григорий Иванович и Мария Николаевна, муж и жена, не уехали имеете со всеми из благословенной Клязьмы; они оставались на даче потому, что московское домоуправление подвергло их городскую квартиру затяжному ремонту.
Поздним вечером Борзихины — оба в пальто с поднятыми воротниками — сидели у себя на веранде и ужинали. Вместе с ними ужинал Кока Ленский, начинающий фоторепортер, молодой человек с решительным подбородком, непобедимый волейболист. Он был, привезен яз Москвы Борзихиным по настоянию Марии Николаевны, чтобы было не так страшно ночевать одним на опустевшей даче.
— Вот так и дрейфуем здесь, как папанинцы, — сказал Борзихин, наливая фоторепортеру водки. — Во всем квартале мы, кажется, одни остались. Выпейте еще рюмочку, Кока.
Кока лихо выпил водку и закусил холодной котлетой.
— Как жутко шумят сосны! — сказала Мария Николаевна и зябко передернула плечами.
— Осень! — определил наблюдательный фоторепортер. — Осенью сосны всегда шумят по-осеннему, а летам — по-летнему.
— А зимой — по-зимнему? — серьезно спросил Борзихин.
— Зимой — по-зимнему.
— А весной — по-весеннему?
— А весной — по-весеннему.
— Жутко, жутко здесь сейчас, — повторила Мария Николаевна и вдруг тонко взвизгнула: — Ай, кто это?
Борзихин уронил на пол вилку и тихо выругался:
— Черт, что там такое?
— Фу, как я испугалась! — сказала Мария Николаевна и, слабо улыбаясь, положила руку на сердце. — Протянула сейчас ноги — и вдруг уперлась под столом во что-то живое и теплое. У меня все так и оборвалось! С этими соснами я совсем забыла про Боба. Боб, иди сюда, негодник.
Из-под стола нехотя вылез ирландский сеттер Боб и, зевнув, положил рыжую голову на колени хозяйки. Мария Николаевна сердито шлепнула Боба по курчавому заду.
— Вот тебе! Чтобы не пугал! Марш в угол!
Обиженный Боб вздохнул и, уйдя в угол, стал громко чесаться.
— Одного моего приятеля тоже напугала собака, — сказал Кока, — так он вдруг стал икать. Икал три дня. Чуть не умер!
— Что вы говорите? — удивилась Мария Николаевна и икнула.
Борзихин громко засмеялся. От этого неделикатного смеха икота у Марии Николаевны прошла.
— А жуликам и бандитам здесь действительно раздолье! — сказал Борзихин. — Темно, милиции не слышно и не видно. Выбирай любую дачу и действуй с богом!
— Перестань, Гриша, — робко попросила Мария Николаевна.
— Чего ты боишься? С тобою же двое мужчин. Один Кока чего стоит!
— Минуточку! — вдруг сказал Кока. — Тише! Как будто кто-то кричит.
Дачники переглянулись и стали прислушиваться. Сквозь шум ветра и сосен издали до них донеслись сердитый мужской голос и умоляющий женский. Слов разобрать было нельзя.
— Наверно, Львовы опять поругались, — сказал Борзихин.
— Львовы уже третий день ругаются в Москве. Они уехали вместе с Кустиковыми.
— Тс-с-с! — повторил Кока. — Слышите? Она заплакала!
Борзихины насторожились и вдруг совершенно явственно услышали, как женский голос сказал с отчаянием:
— Боже! Ну, не убьешь же ты меня сейчас!
— На нее напали! — зашептала Мария Николаевна. — Надо бежать на помощь! Кош, бегите туда скорей!
— Почему я должен туда один бежать? — сказал Кока тоже шепотом.
— Бегите скорей! Ведь вы же мужчина!
— Григорий Николаевич тоже мужчина!
— Какой он там мужчина! Возьмите Боба и бегите. Нате вам нож!
Кока схватил консервный нож, взял за ошейник Боба и храбро нырнул в темноту. Впрочем, через минуту он снова появился на веранде.
— Я послал Боба, — сказал он попрежнему шепотом, — пусть он полает за калиткой. Может быть, он его напугает. Давайте еще послушаем.
Снова стали прислушиваться, боб почему-то не лаял. Дико шумели сосны, и опять сквозь этот неприятный шум донесся до Борзихиных клокочущий, хриплый мужской голос, такой страшный, что глаза у Марии Николаевны стали круглыми, как пуговицы на пиджаке у Григория Николаевича. Что говорил страшный мужской голос, было не слышно: ветер доносил лишь отдельные слова: «убийством», «жертвой», «месть страшную мою».
— Он задушит ее! — простонала Мария Николаевна. — Мужчины, бегите же туда! Гришка, не смей никуда ходить! А то я буду кричать!
— Пойдемте, Кока, — решительно поднимаясь, сказал Борзихин. — Куда вы дели нож?
— Я потерял его, когда выпускал Боба.
— Возьмите хоть вилку.
Шум сосен на мгновение стих, и далекий отчаянный женский голос с той же явственностью произнес:
— О, убей хоть завтра, но эту ночь дай мне прожить!
— Обождем, Григорий Николаевич, — сказал Кока, стуча зубами, — может быть, она… того… действительно уговорит его… отложить до завтра?
— Не думаю. Этот субъект, видно, не из таковских. Он ждать не будет. Мы сделаем так: я поползу по земле и схвачу его за ноги. А вы идите и прямо хватайте за руки.
— Лучше я поползу, а вы идите.
Снова зашумели сосны, снова неразборчиво заклокотал свирепый мужской голос. Это было так невыносимо, что Мария Николаевна, не помня, себя, одна выскочила за калитку. Мужчины бросились за ней.
Они следовали гуськом, друг за другом, по темной страшной улице: впереди Боб с беспечно поднятым хвостом, за мим Мария Николаевна, потом Борзихин. Сзади полз храбрый Кока.
Борзихины пробежали квартал и остановились, задохнувшись. Было тихо. Лишь сосны попрежнему шумели под осенним ветром.
— Кончено! — с плачем сказала Мария Николаевна. — Он ее задушил!
И вдруг знакомый по лету, до одури противный голос произнес прямо над их головами:
«Вы только что прослушали финальную сцену из трагедии Вильяма Шекспира «Отелло» в исполнении артистов Радиотеатра. Сейчас прослушайте вечернюю передачу для домашних хозяек — «Новое в штопке чулок».
Борзихины еще смеялись, когда к ним подполз Кока Ленский.
А через десять минут, стряхивая грязь с безнадежно испорченных брюк, фоторепортер говорил:
— А я, пожалуй, не останусь у вас ночевать. Я лучше сейчас поеду в Москву. Нет, нет, не упрашивайте меня!
Борзихины переглянулись и упрашивать его не стали.
1936
ЭКЗЕМПЛЯР

Голый, пухлый, темнорозовый — цвета пенок от вишневого варенья — мужчина, деликатно прикрываясь веником, опускался вниз с верхней полки парилки по скользкой, усеянной мокрым березовым листом лесенке.
Пожилые люди в бане вообще выглядят довольно глуповато. Пожилой человек — он как-то солидней и одухотворенней, когда он в штанах. По внешности своей опускавшийся с верхней полки мужчина не составлял исключения из общего правила.
Познакомились мы с ним так.
Он уронил обмылок, который держал в руке, а нагнувшись, ухитрился наступить на мыло ногой, поскользнулся, сделал бодательное движение головой и неминуемо нырнул бы в чью-то шайку с кипятком, стоявшую внизу на лавке, если бы, бросившись самоотверженно к нему навстречу, я не удержал его скользкую, горячую, распаренную тушу. Он рассыпался в благодарностях, и наше знакомство состоялось.
В бане люди сходятся быстро. Когда, вымывшись, мы вместе вошли о раздевалку, я уже знал, что его зовут Василием Петровичем Бешметовым и что он временно нигде не работает. Оказалось, что мы соседи но кабинке. Я послал гардеробщика за пивом, мы завернулись в простыни и, попивая холодное «жигулевское», завели неторопливую беседу.
Сначала были выяснены основные анкетные вопросы: где работаешь, какую должность занимаешь, какую зарплату получаешь и есть ли приработок? А если не работаешь, то за что снят и с какими последствиями?
Каюсь, я назвал себя работником торговой сети, еще не снятым «по независящим от меня обстоятельствам», но уже имеющим «неприятность». Он же сказал, что работал на одном большом заводе «по административно-хозяйственной части», снят недавно и что все неприятности у него, слава богу, позади.
— За что же тебя… наладили-то, Василий Петрович? — сказал я, переходя на «ты» и подливая в его стакан пива.
— Скажу — не поверишь! — ответил он с такой же фамильярностью, сделал глоток и, облизнув пену с верхней губы, закончил с явным удовольствием, даже как-то горделиво: — За глупость! Так и в справке написали!
Услыхав эти слова, я буквально задрожал от радости: ведь мы, сатирики и юмористы, любим дураков. Мы любим их «странной любовью», так же, как гончая собака любит зайца, как коршун — цыпленка, как газетный рецензент — плохую пьесу. А тут живой, официально зарегистрированный дурак находился у меня в руках!
Он внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Мне эту формулировку по моей просьбе дали, а то я бы «собственное желание» схватил. Это, брат, похуже!
Я попросил разъяснений.
Он охотно согласился.
— Тут, брат, надо начинать с этой… с пребам… с преам… как ее?..
— С преамбулы, Василий Петрович!
— Вот-вот, с нее. На заводе у нас, надо тебе сказать, довольно часто директора менялись. А у каждого начальника, сам понимаешь, свой норов, своя фанаберия, свой, как говорится, стилек работы. Вот и приходилось к каждому приноравливаться. Только к одному привыкнешь, изучишь его, как солдат затвор винтовки, досконально, можно сказать, — бац! — его снимают. Приходит другой, а у него все повадки другие. И пошла сказка про белого бычка сначала.
Он задумчиво пошевелил пальцами голой правой ноги и отхлебнул пива.
— Перед этим, кто меня снял, перед Буркиным, работал у нас директором Анисим Федорович Гремяшкин, работник видный и мужик хороший, но… характер! Его у нас «Я сам» звали! Во все дырки влезал, за всех все сам пытался делать. О любом пустяке, о любой мелочи обязательно лично ему доложи и получи санкцию. А то беда: загрызет! Грозен был — это ужас что такое! «У меня, говорит, символ веры такой: никому веры нет! Ответственный, говорит, руководитель имеет право надеяться только на самого себя, а то подведут… и загремишь с опубликованием в печати!»
Василий Петрович жалостливо вздохнул.
— Очень боялся загреметь с опубликованием, но не избежал, бедняжка: опубликовали. Да еще как! «Подавление инициативы, гнилой стиль руководства…» — и так далее, и тому подобное! Был Гремяшкин — и нет Гремяшкина. Пришел на его место этот… Буркин! Гремяшкин — грозный, брови завсегда нахмурены, в глазах молоньи, в голосе рык и гром, а Буркин — ласковый, тихий, все с улыбочкой да с шуточкой.
Василий Петрович помолчал, посопел — заново, видимо, переживал свою обиду, потом сказал с сердцем:
— Шуточки! Какие могут быть шуточки в служебное время! После работы — пожалуйста. После работы я и сам с тобой пошутю и в козла сыграю, а на работе — ни-ни! Из-за этих его шуточек я и пострадал, если хочешь знать.
Он опять стал обиженно сопеть и замолчал.
— Да как же дело-то все у тебя получилось? — спросил я его уже с нетерпением.
— Дело все получилось через собак. Территория у нас на заводе громадная и граничит с другим заводом — с машиностроительным. А у них заборы дырявые. Бродячие собаки с улицы проникают к соседу, а от соседа уже через проломы в нашем заборе или путем подкопа с помощью лап — к нам. Проникают, значит, к нам собаки, бегают, дьяволы, где ни попало, носами шарят, вынюхивают себе пропитание. Там слышишь девицу-разнорабочую облаяли, напугали, тут мальчишку-ремесленника схватили за спецовку — порвали. Рабочие мне стали жаловаться: «Прими меры, Василий Петрович!» Я и решил доложить директору о сложившейся собачьей ситуации для получения указаний и санкций, как у нас при Гремяшкине было заведено.
Прихожу к Буркину. Сидит ласковый со своей обычной улыбочкой на тубах. Доклад мой выслушал с большим вниманием. Потом говорит: «А почему, собственно, вы сами не можете распорядиться, как считаете нужным?» Отвечаю: «Вопрос деликатный, серьезный, поэтому хотелось бы получить директивное указание руководства!» Он мне с той же загадочной улыбочкой: «По-моему, поскольку собаки проникают к нам с территория соседа, надо их всех переловить и перебросить назад к соседу. А щели в заборе забить, конечно. Вот так, Василий Петрович!»
Я смотрю на него, он — на меня. А тут, бес его возьми, затарахтел телефон. Междугородная вызывает! Москва — на проводе, министерство! Он трубку схватил, а мне этак рукой: идите, мол! Как такой его жест надо было понимать? Только так: «Директива вам спущена, товарищ Бешметов, идите и выполняйте». Ну, я и того… выполнил! Послал рабочих щели забить в заборе, а потом взял охранников, машину-полуторку и пошел собак ловить.
Василий Петрович отвернул край простыни, показал мне свою голую волосатую икру со следами заживших собачьих укусов и прибавил плачущим голосом:
— Всего искусали, проклятые! Сучка там была одна, невидная такая шавочка, а свирепости — необыкновенной! Ну, переловили собак, погрузили в машину и, как приказано было, покидали всех до одной к соседу через забор в укромном месте. Укромное-то оно укромное, а кто-то все же подсмотрел, как мы собак швыряли… и накапал! Знаешь, люди у нас какие!.. В многотиражке фельетон закатили! — закончил Василий Петрович мрачно. — Срамили меня по всем линиям. А при чем тут я? Мне приказали, я и исполнил — точно, в полном соответствии с полученным указанием.
— Вот за это тебя и сняли, Василий Петрович?
— Ну да! Вызвал меня Буркин и с улыбочкой своей миленькой говорит: «После того, что произошло, сами понимаете, Василий Петрович, придется нам с вами расстаться. Хотел, говорит, я в приказе прямо написать, что снимаю вас за глупость, да уж ладно, говорит, напишу — по собственному желанию». Э, нет, — думаю я про себя. — Не пройдет твой номер, дураков нет!» И отвечаю: «Нет уж, товарищ Буркин, хотели «за глупость», так и пишите «за глупость». Пожалуйста!» И написал, дурак! — закончил Василий Петрович торжествующе.
Признаться, я был удивлен безмерно, услышав все это, и снова попросил разъяснений.
— Так ведь тут и младенчику ясно! — сказал Василий Петрович с тем же торжеством. — «По собственному желанию» — формулировочка ядовитая, многозначительная, затасканная, за ней все что угодно может скрываться. Она настораживает и внушает бдительность. А «за глупость» — это несерьезно, это анекдот. Кто же поверит, что лицо, состоящее на государственной службе, — и вдруг глупое?!
Он плотоядно ухмыльнулся и прибавил:
— Я еще этого дурака Буркина по судам затаскаю, я из него сок пущу, он у меня еще попляшет! Экспертизу потребую медицинскую — пусть врачи определят, какие у меня умственные способности. Добьюсь, что восстановят меня на прежней работе, сдеру с Буркина за вынужденный прогул, а тогда уж сам уйду «по семейным обстоятельствам».
Я посмотрел на глупое, самодовольное лицо Василия Петровича и подумал:
«Да-а-а, вот тебе и дурак!»
1956
ПИЯВОЧКА

В половине двенадцатого из спальни доносится кряхтение. Вслед за этим в столовую в японском цветном халате, надетом на ночную рубашку, входит Татьяна Львовна — жена Николая Петровича, очень красивая шатенка, несколько монументального телосложения — и твердой рукой снимает телефонную трубку.
Детей у Татьяны Львовны нет. Она против деторождения из соображений эстетического порядка: дети портят фигуру и вообще… пищат! Работать она не может по той простой причине, что ничего не умеет делать. Пробовала Татьяна Львовна заняться иностранными языками, но оказалось, что больше десяти слов не может запомнить. Поэтому ее познания по французскому языку ограничиваются фразой: «Дайте мне чаю», а но немецкому — «Мой брат стоит у окна».
Единственное, что Татьяна Львовна умеет делать великолепно, неподражаемо, классически, — это ревновать. Она ревнует Николая Петровича ко всем без исключения знакомым, малознакомым и вовсе незнакомым женщинам, а также и к его первой жене, которая с дочерью живет где-то в Сибири.
Сегодня ее рабочий день начитается с телефонного разговора:
— Можно Николая Петровича?.. Это ты? Это я.
Трубка голосом Николая Петровича робко говорит:
— С добрым утром, Танюша! Ты можешь позвонить через полчасика? У меня, понимаешь ли, срочный доклад. Надо просмотреть кое-какой материалец.
— Я знаю, как этот материалец зовут, знаю!
— Его зовут «Итоги выполнения строительной программы за четвертый квартал текущего операционного года».
— Никаким его кварталом не зовут. Его зовут — Ниночка. Твоя секретарша… Эта рыжая дура.
— Во-первых, Ниночка — брюнетка. А во-вторых, ее даже в тресте нет. Она больна.
— Все равно рыжая дура. Откуда ты знаешь, что она больна?
— Она прислала мне бюллетень.
— Николай, если ты немедленно не пришлешь мне с курьером этот бюллетень, я не знаю, что я с тобой сделаю!
Молчание.
— Николай, — томно вздыхает Татьяна Львовна, — Николай, оно же минуту скажи мне что-нибудь ласковое. У меня вся душа изныла.
Трубка молчит. Потом с легким стоном тупо сообщает:
— Пиявочка!
— Почему пиявочка?
— Потому что мешаешь мне работать.
Татьяна Львовна с силой бросает трубку и начинает бегать по комнате. Халатик ее раздувается, непричесанные волосы стоят дыбом.
«Все ясно, — лихорадочно размышляет Татьяна Львовна, — он меня разлюбил. Кончено! Но эта девчонка-секретарша тут ни при чем. Это не она. Это Вера Антоновна! Недаром она на него так смотрела тогда, у Периловых».
Страшные картины одна за другой проносятся в мозгу Татьяны Львовны. Вот Николай
Петрович бросает ее. Вот, даже не успев выкупить норковую шубку, она уезжает в Тулу, к матери. Вот Вера Антоновна, хищно хохоча, входит в столовую. В ее столовую!
Татьяна Львовна снова бросается к телефону:
— Можно Николая Петровича? Это Николай Петрович? Говорит Вера Антоновна!
Трубка удивляется:
— Здравствуйте… Вера Антоновна! Каким ветром вас ко мне надуло?
— Он еще спрашивает. Николай, говори свободно, не бойся, его нет дома.
— Кого нет дома? Ничего не понимаю.
— Мужа нет дома. Сию же минуту… это самое… скажи мне что-нибудь ласковое.
— Во-первых, Вера Антоновна, я не помню, чтобы мы с вами пили на брудершафт, во-вторых, из тебя, Танька, артистки все равно не выйдет, в-третьих, еще раз умоляю: не мешай мне работать.
Татьяна Львовна огорченно кладет трубку.
Через два часа Татьяна Львовна сидит у Веры Антоновны, худощавой брюнетки с выпуклыми глазами.
Она искусно плетет затейливое кружево разговора, единственная цель которого — узнать, что сказал Николай Петрович Вере Антоновне у Периловых, когда Татьяна Львовна неосторожно оставила их вдвоем, выйдя в ванную вымыть руки.
Ее дипломатические ухищрения прерывает визит поэта Кирасова. По тому, как здоровается поэт Кирасов с хозяйкой квартиры, опытная гостья сразу понимает, что сердце Веры Антоновны занято прочно. Торопливо попрощавшись, успокоенная, Татьяна Львовна едет домой.
Она поднимается по лестнице умиротворенная, с приятным чувством трудового удовлетворения: сегодня она хорошо поработала! Отпирает английским ключом дверь. И останавливается, как вкопанная. Из столовой доносятся незнакомый женский смех и баритон Николая Петровича.
Татьяна Львовна врывается в столовую и видит молодую девушку в синем вязаном костюме, которая целует Николая Петровича в лысеющее темя.
— Николай! — кричит Татьяна Львовна, роняя кулек с мандаринами. — Что это значит?
— Не волнуйся, Татьяна, это же Мурка, — смущенно говорит Николай Петрович. — Она сегодня приехала из Сибири погостить к нам. Смотри, какая большая выросла! Выше отца!
Татьяна Львовна, криво улыбаясь, целует девушку в тугую холодную щеку. «Ух, слава богу, пронесло!» Но страшная мысль тут же озаряет ее бедную голову: «У этой Мурки, наверно, есть подруга. Краснощекая! Молодая! Парашютистка! Она придет к ней в гости и соблазнит Николая Петровича».
Новая вспышка магния: Николай Петрович соблазнен; краснощекая парашютистка, хищно хохоча, входит в столовую, в ее столовую!
Татьяна Львовна быстро проходит в спальню и зовет Николая Петровича:
— Николай! Немедленно, сию же секунду, скажи мне что-нибудь ласковое. Иначе я не знаю, что я с тобой сделаю.
— Пиявочка, — тоскливым шепотом сообщает супруге Николай Петрович.
— Почему пиявочка?
— Потому что мешаешь мне жить!
1936
ПРОФЕССИЯ

Очень трудно выбрать себе правильно профессию. Правда? Сколько жизненных, ну, не трагедий, а так… драм происходит на этой почве! Возьмите любого плохого артиста или артистку. Из человека мог бы получиться прекрасный ветеринар, хороший педагог, отличный инженер, а он переоценил свое дарование, пошел на сцену, и вот вам драма — и для него и для публики.
У меня никаких сомнений при выборе профессии не было. Мой отец — врач, дед тоже был врачом, а я еще в детстве всех лечила: куклам вскрывала животы и вырезала аппендициты, а кошкам делала согревающие компрессы.
В институте только и мечтала о том, чтобы поскорее взяться за самостоятельную лечебную работу. Вы меня понимаете?.. Я люблю свою профессию — вот и все!
Когда я окончила институт, я сама попросилась в отдаленный район, где нужда во врачах большая и где можно развернуться!.. Папа меня понял и поддержал, а вот с мамой было хуже.
Мама есть мама. Ей не хотелось со мной расставаться. И потом она до сих пор считает меня «слабым ребенком». Это я-то «слабый ребенок»!
Боже мой, сколько мы с ней тогда спорили!
Я говорю:
— Мамочка, пойми: я врач. А молодым врачам в Москве нечего делать. Здесь и без нас много врачей.
— Как так «нечего делать» (Это она говорит.) Такой молодой врач, как ты, всегда может в Москве замуж выйти!
— Меня государство учило (это я говорю) не замуж сбухты-барахты выскакивать, а лечить людей.
— Может быть, тебе муж достанется такой… болезненный. (Это она говорит.) Вот и будешь лечить его — душа в душу — всю жизнь!
Мама есть мама!
Или сейчас вот. Я приехала в отпуск. Звоню. Мама отворила дверь, взглянула на меня — и в слезы:
— Леночка, бедная моя, как ты похудела! Отец, смотри, она же в щепку превратилась!
Папа не выдержал, расхохотался:
— Хороша щепка! Едва в дверь пролезла!
Работаю я на Волге, за Саратовом, в большом селе. Больничка у меня маленькая, но очень уютная и хорошо оборудованная. Природа дивная. Выйдешь в поле — такой простор, что дух захватывает!.. А главное — люди у нас хорошие.
Никогда не забуду, как я первую операцию делала.
Пришел ко мне Егор Иванович Потапов, бригадир. Абсцесс на правом предплечье величиной с куриное яйцо.
Сам такой симпатичный, пожилой, усы пшеничного цвета. В военной гимнастерке, и а груди пять медалей.
Говорит:
— Доктор, надо меня резануть.
Я предложила наркоз — отказался.
Волновалась я ужасно, пока готовила его к операции.
Он заметил, давай меня успокаивать. Как будто не я, а он собирается меня оперировать.
— Ты, говорит, дочка, не волнуйся, это операция пустая. Резанешь разик — и все!
Я говорю:
— А вы кричать не будете?
Улыбается.
— Главное — это чтобы ты, дочка, не закричала. А я-то не закричу. Я ведь резанный-перерезанный!..
Успокоил меня, заговорил. Я и… «резанула». И можете себе представить, даже не пикнула!
Или случай с тетей Глашей — есть у нас такая знаменитая доярка.
Лежала она у меня в больнице с крупозным воспалением легких. Температура под сорок, состояние неважное.
Утром я делаю обход. Она мне заявляет:
— Доктор, отпустите меня на часок, я сбегаю на ферму, посмотрю, как там наша Коломбина.
Температура сорок градусов, а она «сбегает»!..
Я говорю:
— Лежите спокойно, не волнуйтесь. У нас только вчера был ваш зоотехник и просил передать вам, что ваша Коломбина поправляется.
— Мало ли, доктор, что за ночь могло произойти в коровьем организме. Чистопородные коровы — они ведь как дети. Я быстро обернусь, вы не беспокойтесь…
Вот какие у меня там пациенты. С ними не соскучишься!
Но, конечно, я по Москве все-таки скучала. Разве можно не скучать по нашей Москве?!
Сидишь бывало вечером у себя в комнатке при больнице, слушаешь московское радио (вот когда я его оценила!) — и так ясно себе представляешь наши улицы, нашего Пушкина, наш дом, отца с газетой в руках, маму…. Сердце и защемит! Но потом вспомнишь, что утром у тебя операция, а днем надо в район поехать, поругаться, чтобы не задерживали медикаменты, а вечером лекцию читать в колхозном санитарном кружке, — грусть и пройдет. Там грустить некогда! Да и к людям нашим я очень привязалась.
Тетя Глаша, когда меня провожала, сказала на прощанье:
— Вы, Елена Викторовна, обязательно к нам возвращайтесь. Мы к вам привыкли. А я уж к вашему приезду для вас хорошего, интеллигентного женишка подготовлю.
Такая смешная!..
Приехала я в Москву и даже растерялась немножко. Дни летят, а мне все надо посмотреть, везде побывать… Новые постановки, выставки, лекции, интересные операции! Я, чтобы всюду поспеть, не хожу, а бегаю!
Как только приехала, первым делом побежала в наш институт.
Так меня все замечательно встретили: и профессора и сотрудники.
Директор наш Борис Дмитриевич меня спросил:
— Ну как, научилась докторским басом разговаривать? — Это его любимая шутка.
Придет бывало к нему этакая мамина дочка, чистенькая, тихонькая, чего-то там пищит. А он ей: «Почему вы со мной так робко разговариваете? Врач — это авторитетная личность. Вы должны басом изъясняться».
Из подруг никого не видела. Ну, это и понятно: мы же все разлетелись в разные стороны, кто куда. Встретила одну только Нину Хворостову. Но лучше бы ее я и не встречала. Идет вот такая! В два раза толще меня. Белое пальто, шикарные туфли, а лицо сонное и такое скучное, как будто она спит на ходу с открытыми глазами и какой-то очень неинтересный сон просматривает.
Спрашиваю ее:
— Почему ты в Москве, Нина?
Она говорит:
— Я вышла замуж. И мой муж отхлопотал, чтобы меня никуда не отсылали.
— Где же ты работаешь?
— Нигде. Дома.
— Дети есть?
— Да ну их! Еще успею.
— Что же ты целый день делаешь?
Смеется.
— Думаешь, мало дела у женщины, когда ей делать нечего? Кручусь!
— Наверно, много развлекаешься?
— А где в Москве развлекаться?
— Ну… в театры ходишь?
— Да ну их!
— Выставки, музеи… в Третьяковке была?
— Нет. А зачем мне тащиться в Третьяковку, когда я всегда могу туда пойти?
Говорю ей:
— Нина, ты же доктор! Неужели тебе не скучно без лечебной работы? Когда ты в последний раз видела больного?
Опять смеется.
— Две недели назад. Мой Степочка объелся варениками. Пришлось доктора вызвать!
— Неужели ты не могла сама прописать ему касторки?
— А он меня как врача совершенно не признает. «Ты, говорит, женка, можешь только уморить человека, а не вылечить».
Я посмотрела ей в глаза и спрашиваю:
— Скажи, Нина, и ты счастлива?
Она зевнула и ответила:
— Счастлива… в общем!..
Вот не верю я, что она счастлива. Почему тогда у нее такое сонное, скучное лицо? И разве творят о счастье, зевая?
Противно мне стало, кое-как мы попрощались, и я ушла.
И так мне захотелось скорее к себе на Волгу, в свою больницу, к своим больным!
Иду на междугородную телефонную станцию и думаю: «Сейчас скажу Васе, что выеду во вторник, на два дня раньше».
Какой Вася? Это уж мое личное дело, какой Вася. В общем… один агроном. И тетя Глаша тут абсолютно ни при чем!..
1951
ЭКСКУРСИЯ

На палубе речного пароходика, бойко бежавшего по московскому каналу, сидел и пил пиво литературный критик Сергей Акимович Глазкин — один из участников писательской экскурсии «на лоно природы».
Жара, невкусное, теплое пиво, удручающе безоблачное небо, злость на самого себя за то, что от скуки (жена и сын Глазкина были на юге, а он маялся в полуопустевшем городе один) ввязался в поездку, не сулившую ему ничего хорошего, действовали на критика угнетающе.
Он был раздражен, зол, измучен и утомлен до последней степени.
— Здравствуйте, Сергей Акимович! — произнес чей-то вежливый голос над ухом критика.
Глазкин обернулся и узнал молодого прозаика Геннадия Ловцова, с которым был шапочно знаком.
«Сейчас привяжется с каким-нибудь серьезным разговором, начнет выспрашивать «точку зрения», — неприязненно подумал критик, не любивший преждевременных высказываний даже в более прохладную погоду, и ответил Ловцову сухо и вместе с тем легкомысленно:
— Приветик-салютик!
— Жарковато! — сказал Ловцов.
— Н-да! — согласился с ним критик, всем своим видом показывая, что на этом хотел бы закончить обмен мнениями по вопросам, волнующим деятелей литературы.
Однако и сам Ловцов, видимо, не был расположен к длинным разговорам, потому что, смущенно потоптавшись, сказал:
— Сергей Акимович, недавно вышла книжка моих рассказов «Родные дали»… Разрешите вам вручить экземпляр… с автографом, выразить, так сказать, мое уважение к вашим критическим оценкам…
Покраснев, прозаик вручил Глазкину довольно толстенькую симпатичную книжку в голубом твердом переплете и закончил:
— В общем отдаю на ваш суд, Сергей Акимович!.. Хотел послать по почте, но случайно узнал в клубе, что вы едете на экскурсию, и решил захватить с собой, чтобы, так сказать, лично вручить!..
Глазкин милостиво взял книжку, раскрыл ее, мгновенно опытным глазом прочитал автограф: «Сергею Акимовичу Глазкину от уважающего его острое критическое перо Геннадия Ловцова», — и сказал снисходительно:
— Спасибо! Прочту! Но… не обижайтесь, если придется и поругать. Вам, молодым, это только полезно!
— Безусловно! — с неподдельным энтузиазмом подхватил Ловцов. — Браните, секите, но только не молчите.
— Да, да! — произнес Глазкин и в истоме закрыл глаза.
— Отдыхайте, Сергей Акимович, я вам не буду мешать! — сказал Ловцов почти благоговейно.
Прозаик удалился. Глазкин пробежал глазами оглавление его книжки, лениво подумал: «Надо будет как-нибудь проглядеть», — встал и пошел в салон.
Через два часа пароходик причалил к небольшой пристани. Смешанный лес подступал тут вплотную к каналу. Тонкие березки тянули к воде свои зеленые ветви, изнемогая от жары, так же как и люди.
Глазкин сошел вместе со всеми на берег и сразу же улегся на мху под ближайшей сосной, положив под голову томик рассказов Ловцова и прикрыв лицо соломенной шляпой.
Однако роскошествовал он недолго. К распростертому на мху критику подошел руководитель экскурсии — энергичный поэт-переводчик Вадим Морковин — и властно сказал:
— Вставайте, Сергей Акимович!
— В чем дело, собственно?
— Мы все идем на лесное озеро. Там будем купаться, закусывать, отдыхать. Тут недалеко — всего три километра.
Критик обозлился:
— А почему, собственно, я должен тащиться на ваше дурацкое озеро?!
— Воля народа, Сергей Акимович. Ведь поездка коллективная. Все решили: на озеро! Там замечательно, я бывал! Идемте! Вернемся сюда к вечернему пароходу.
— Меня лично вполне устраивает эта сосна! — сказал критик и снова опустился на мох.
Поэт-переводчик хотел было оставить разморенного жарой Глазкина в покое, но подошла Райская Елена Эдуардовна, литературовед, костистая, усатая дама, и сказала баритоном, поджав губы:
— Товарищ Глазкин, кажется, проявляет зоологический индивидуализм? Стыдно, стыдно, товарищ Глазкин!
В других атмосферных условиях Сергей Акимович, безусловно, принял бы вызов Райской и с удовольствием обменялся бы с ней пистолетными репликами, но сейчас воля его, ослабленная жарой, не выдержала напряжения. Он молча поднялся и покорно поплелся следом за Морковиным и Райской, шагавшей под своим красным шелковым зонтиком по лесу с такой уверенностью, будто она шла по редакционному коридору.
В лесу было еще жарче и душнее. Смола сочилась по розоватой коре сосен. Бабочки махали крылышками так лениво, будто делали кому-то великое одолжение. Разная насекомая живность жужжала, звенела и гудела глухо, томно, жалостливо.
Глазкин стал отставать от своих спутников. Он совсем изнемог от непривычной для него ходьбы пешком по июльскому зною. К тому же критика донимал томик рассказов Геннадия Ловцова, вдруг сделавшийся тяжелым, как гиря. Глазкин перекладывал книжку из одной потной руки в другую, попытался запихнуть ее в задний карман белых штанов, чтобы избавить от тяжести набухшие мокрые руки, но габариты кармана и книжки роковым образом не сошлись. Кто бы мог подумать, что такая маленькая вещь, как книжка рассказов, обладает дьявольской способностью превращаться в мучительную кладь!
«Черт бы побрал этого Ловцова! — с досадой думал критик. — Поднес пудовичок, нечего сказать! Да еще с автографом! Главное — выбрал время. Хоть бы рядом шел, скотина, можно было бы дать нести книжку ему. Сам писал, сам и неси!»
Вскоре сквозь картон переплета выступил клей, руки Глазкина теперь были не только потными, но и противно липкими.
«Положу книжку вот на этот пень, — решил отчаявшийся критик, — а на обратном пути возьму. Надо только запомнить место… Значит, так: четыре шага направо от тропинки, рядом с сосной с дуплом; если считать налево от тропинки — то… напротив сосны с дуплом стоят три березы, из них одна кривая. Найду!»
Воровато оглядевшись по сторонам, он положил книжку на пень, прикрыл ее сверху большим листом лопуха и быстро пошел прочь.
Сразу стало легче. С удовольствием размахивая свободными руками, критик пустился догонять Морковина и Райскую, ушедших далеко вперед.
«Если Ловцов спросит про книжку, — думал он на ходу, — скажу, что оставил у начальника пристани. В общем выкручусь как-нибудь!»
Все, однако, обошлось благополучно, и «выкручиваться» Глазкину не пришлось. Деликатный Ловцов держался в стороне и к нему не подходил.
На пристань возвращались, когда уже стало смеркаться, и тут произошло то, что и должно было произойти: критик не нашел пня с книжкой, прикрытой листом лопуха.
Он нарочно шел позади всех, чтобы незаметно для других взять оставленный в лесу томик рассказов с автографом, но сосен с дуплом, пней и кривых берез оказалось такое множество, что нечего было и надеяться закончить поиски книжки в этот день.
Глазкин махнул на все рукой и, испытывая некоторое угрызение совести, поспешил на пристань. Его уже искали. Рокочущий баритон Райской, издали взывал:
— Критик Глазкин, где вы? Не проявляйте отсталости!..
Когда подошел пароход, Сергей Акимович быстро юркнул в салон и не выходил оттуда до самой Москвы: ему не хотелось встречаться глазами с Ловцовым.
В суете текущей литературной жизни Глазкин быстро забыл про неприятное происшествие с книжкой Ловцова, тем более что он даже и не встречался больше с молодым прозаиком. Но как-то — это случилось месяца через полтора после поездки по каналу — критик столкнулся с Геннадием Ловцовьим в клубе писателей на какой-то дискуссии, что называется, носом к носу.
— Здравствуйте, Сергей Акимович! — сказал прозаик, загадочно улыбаясь. — Ну как, прочитали мою книжку?
Сергей Акимович имел полную возможность сказать: «Извините, нет. Текущая работа, юбилеи, нагрузки…» — но либо чувство вины перед Ловцовым сыграло здесь свою роковую роль, либо бес легкомыслия дернул за язык, только Сергей Акимович довольно бойко ответил:
— Как же, читал, читал! И даже с удовольствием!
Он сделал попытку улизнуть, но прозаик взял его за локоть и удержал на месте.
— Вот как? Что же вам в ней понравилось, Сергей Акимович?
— Ну, как вам сказать… Язык в общем приятный. И образы точно очерчены. Характеры даны интересные… Я спешу, голубчик. Давайте в другой раз!
— А какой рассказ вам больше всего понравился, Сергей Акимович? — спросил Ловцов, еще крепче сжимая локоть критика.
— Центральный! — быстро сказал Глазкин. — Ну, этот… Напомните! Всегда забываю названия!
— «Ее любовь»?
— Вот-вот, «Ее любовь».
— А что вам конкретно понравилось в этом рассказе, Сергей Акимович?
— Образы в нем очерчены интересно. И характеры в общем точно даны.
— Какие характеры точно очерчены, Сергей Акимович?
Критик вынул платок из кармана, вытер пот со лба и сказал уже с легкой хрипотцой:
— Ну, этой… главной героини. Как ее? Напомните! Всегда забываю имена!
— Клавдии Васильевны?
— Вот, вот! Клавдии Васильевны. Ее глубокое чувство к герою… Как его?.. Напомните!
— К Юрию?
— К Юрию, правильно. Оно показано вами интересно, но не умеете вы еще, товарищи молодежь, писать по-настоящему о любви, не умеете! Вам не хватает чеховской тонкости и тургеневского изящества. Возьмите вашу Клавдию. Она любит Юрия, но как она говорит о своем чувстве?.. Напомните хотя бы это место… Ну, когда происходит объяснение между Клавдией и Юрием!..
— Послушайте! — вдруг сказал прозаик, отпуская руку критика. — Как вам не стыдно? Клавдия Васильевна — бабушка Юрия. В рассказе идет речь совсем о другой любви. Вы же не читали мою книжку!
— Нет, я, так сказать, пробежал!..
— Не лгите! Вы потеряли мою книжку в лесу, когда мы ездили по каналу. Вот она, смотрите…
Ловцов достал из папки томик своих рассказов, раскрыл его и показал ошеломленному Глазкину автограф.
— Это… Откуда она у вас?
— Книжку нашел в лесу деревенский учитель Иван Иванович Петров, — сказал прозаик. — Он человек занятой, не критик, он рядовой читатель. Но он не просто вернул мне книжку, а написал подробное интересное письмо. Разобрал мои рассказы, что называется, по косточкам. За одни похвалил, за другие поругал. Из его письма видно, что человек любит современную литературу, глубоко ее чувствует и понимает. А вы, профессиональный критик…
— Послушайте, — перебил его Глазкин, беспомощно оглядываясь по сторонам, — я же спешу, давайте в другой раз!..
— Нет, обождите! Что вы мне сейчас лепетали? Это же общие фразы, стандартная чепуха! А ведь вы настоящий, умный критик! Я знаю, вы можете и сказать и написать по-настоящему. Почему же, когда речь заходит о молодых писателях, вы позволяете себе такое?.. Думаете, все съедят?
Глазкин молчал.
Ловцов положил книжку с автографом назад в папку и резко повернулся спиной к критику.
— Прощайте!
Глазкин бросился было следом за прозаиком, но потом остановился, пожал плечами и… пошел в буфет.
1954
НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Кооперативный ревизор-бухгалтер Ножиков Виктор Иванович, человек пожилой и тихий, приехал в районный городок Дубово к вечеру, когда уже начало темнеть, а ему надо было еще сегодня добраться до села Знаменского. В области его уверяли, что от Дубова до Знаменского — рукой подать. На месте же оказалось, что до Знаменского двенадцать километров лесом.
Дежурный райпотребсоюза, молодой, очень любезный и общительный, стал яростно звонить по учреждениям — искать для Виктора Ивановича машину, но выяснилось, что машины сейчас нет — одни в разгоне, другие на ремонте, — но есть оказия: в Знаменское возвращается сам заведующий местным сельпо Близнецов, лошадь у него хорошая и розвальни крепкие.
Не прошло и десяти минут, как Ножиков уже лежал в розвальнях на сене, а Близнецов, рослый мужчина с рыжеватой щетиной на румяных щеках, одетый в громадный овчинный тулуп, сидел на собственных пятках и грозным, идущим откуда-то из глубины желудка голосом — он был сильно под хмельком — покрикивал на свою мохнатую, пугливую и норовистую кобылку:
— А ну, давай, давай, шевелись!
Кобылка «шевелилась» быстро, передергивая на бегу ушами, как будто говорила: «Да не мешай ты мне, пожалуйста, я сама все отлично понимаю!» Было нехолодно, и Виктор Иванович с удовольствием отдавался приятным ощущениям быстрой езды.
Что касается Близнецова, то он чувствовал себя скверно. Ножиков показался ему строгим и малодоступным человеком, ревизором-докой, которого «на козе не объедешь».
«По обхождению-то он тихий, вежливый, — тревожно размышлял Близнецов, — но въедливый, видать! Такой как начнет копать — до всего докопается. Принесла его нелегкая! Бригадирша Звонкова, огородница, первая до него прибежит жаловаться!»
От этой мысли знаменскому кооператору стало совсем худо. Очень уж некстати приехал этот ревизор!
«И, главное, молчит! Другой начальник заговорил — ты и понял, с какого боку к нему можно подплывать! А этот — не человек, а… кроссворд: никак его не разгадаешь, ни по горизонтали, ни по вертикали!..»
Когда выехали в поля, белые и печально-тихие, какими бывают они в начале зимы под покровом раннего снега, стало совсем темно. Вдали зубчатой черной стеной стоял лес. Убаюканный быстрой ездой, оглушенный чистым, крепким, как спирт, воздухом, Ножиков задремал.
Проснулся он от толчка и громкого лошадиного фырканья уже в лесу. Кобылка пятилась, перебирая задними ногами, фыркала, изящные уши ее стояли торчком. Близнецов, натягивая вожжи, смотрел на дорогу.
— Что случилось? — спросил бухгалтер.
— Вроде волк сидит на дороге!
— То есть как… волк? Какой волк?!
— Обыкновенный волк. Животное! Сидит и смотрит. Вон, гляньте!
Бухгалтер приподнялся, поправил очки на носу и увидел темный силуэт зверя, сидящего на дороге. Ему стало не по себе.
— Вот ведь пакость какая! — сказал Близнецов. — И, главное, ружьишка я не захватил. У вас, извиняюсь, револьверчика нет с собой?
— Нет, конечно! Откуда у меня может быть револьверчик? — неприязненно ответил Ножиков. И прибавил раздраженно: — И вообще… странно как-то у вас волки ведут себя. Вылезают прямо на дорогу!
— Это союз охотников прошляпил! — быстро сказал Близнецов. — Председателем там товарищ Гаврилов, вы ему гайку подкрутите, плохо работает — вот они и расплодились, бродяги.
— При чем здесь «гайка»?! Вы лучше скажите: как же мы дальше поедем, если там… сидит волк?!
Близнецов посмотрел на расстроенное лицо Ножикова. В голове его, отуманенной сорокаградусными парами, закружился рой мыслей. Ему показалось, что он наконец понял, «с какого боку» надо «подплыть» к строгому ревизору, чтобы показать себя перед начальством с самой лучшей стороны. На его озябшей продувной физиономии появилось выражение суетливой готовности угодить и ублаготворить.
— А я его сейчас пугану, подлеца! — с фальшивой бодростью в голосе сказал Близнецов.
Он сунул в руки Ножикову концы вожжей и кнут.
Ножиков схватил возницу за рукав тулупа.
— Постойте!.. Куда вы?! Это же волк все-таки!
— Волков бояться — в лес не ходить! — выкрикнул Близнецов, еще больше хмелея от собственной неустрашимости. Его душой овладело чувство пьяного восторга. «Ай да Близнецов! Ну и голова!.. Попробуй-ка, товарищ ревизор, после такого дела прижми человека, который бесстрашно кинулся тебя спасать!..»
Ему уже было «море по колено». Что волк! Волки трусливы, это всякий знает. Крикнуть, топнуть как следует — и все, точка! Близнецов сейчас на льва пошел бы с голыми руками.
— Я ему дам! — бормотал Близнецов, оправляя тулуп и подтягивая валенки. — Я на него только посмотрю — и все, точка! Волки человеческого взгляда не выносят!..
— Я прошу вас… я требую, наконец, чтобы вы никуда не ходили!.. — умолял его бухгалтер.
— Да вы не беспокойтесь, товарищ начальник! Как это можно, ей-богу! Такой человек к нам приехал — и, на тебе, волк, тварь, можно сказать, становится поперек дороги!.. Кобыленку держите покрепче!
Он рванулся из рук Ножикова, буквально выхвалился из саней на снег и через минуту скрылся в придорожных кустах.
Все дальнейшее, произошло очень быстро. Стоя на коленях в розвальнях, успокаивая лошадь и мысленно проклиная волка, Близнецова, дежурного райпотребсоюза и самого себя, бухгалтер снова увидел силуэт зверя, попрежнему неподвижно сидевшего на дороге. Но вот волк повернул голову, и шерсть на его спине взъерошилась. Сейчас же в жидких кустах справа от дороги появилась неуклюжая черная фигура Близнецова. Сорвав с себя ушанку и размахивая ею, знаменский кооператор натужно и свирепо закричал на весь лес:
— Ату его, серого! Ату!
Кобыленка затанцевала в оглоблях, бухгалтер натянул вожжи и отчаянно шепотом сказал:
— Куда ты? Милая… тпру… тпру, тебе говорят!..
Продолжая кричать и размахивать шапкой, Близнецов вышел на дорогу и остановился на почтительном расстоянии от зверя. Волк не двинулся с места. Наступила неприятная пауза. Потом Ножиков снова услышал пьяный голос кооператора, но теперь Близнецов уже не кричал, а как бы журчал, ласково, льстиво, виновато:
— Ну что ты, что ты, дурачок?! Я же пошутил с тобой. Что ты зубки скалишь?! Это же шапочка у меня! Смотри!
Он надел на голову шапку (наверно, хотел убедить волка в том, что тут никакого подвоха нет и что шапка — это действительно шапка) и стал медленно пятиться. Но волк, надо полагать, в одинаковой степени не терпел ни грубости, ни подхалимства, — он сам не спеша пошел навстречу Близнецову. Близнецов остановился, волк тоже. Тогда кооператор отчаянно завопил:
— Товарищ начальник!.. Ревизор!.. Давай спасай!.. Он бросится сейчас, гад…
Бухгалтер, у которого по спине забегали ледяные струйки, подумал, что ему нельзя оставлять сани с лошадью и что единственная возможность поддержать, а может быть, и спасти Близнецова — это… наступать на волка «в конном строю»! И он, потрясая кнутом, дергая вожжами и чмокая губами (он старался все это делать так же, как Близнецов, но при этом ужасно боялся потерять очки), высоким интеллигентным фальцетом закричал на кобылку:
— Но!.. Вперед!.. Как тебя? Сивка-Машка!.. Но!.. Сивка-Машка!.. Но!..
Упрямая «Сивка-Машка», однако, только пятилась, стригла ушами, а вперед не шла. И тогда Ножиков вдруг вспомнил рассказ о том, как отбивались ночью от волчьей стаи два сообразительных мужичка.
— Огня нужно!.. Волки огня боятся!..
Как ему удалось, держа вожжи одной рукой, другой достать из кармана полушубка коробок спичек, а потом, выхватив клок сена из розвальней, поджечь его и бросить вверх, на воздух, Виктор Иванович впоследствии объяснить не смог.
— Убирайся к черту!.. — кричал Виктор Иванович волку. — Сейчас же уходи!.. Вот я тебя сейчас… из ружья!.. Пошел вон!.. Воя пошел!..
Скорее, повидимому, удивленный, чем испуганный мельканием огненных искр и криками, волк не спеша рысцой скрылся в лесу.
Счастливый Близнецов выскочил на дорогу, на тут из лесу вдруг вышел мужчина в коротком полушубке и заячьем треухе, с двустволкой за плечами и сказал густым, простуженным басом:
— По какому случаю балет?
— Вот вы ходите по лесу с двустволочкой, а у себя под носом ничего не замечаете, — язвительно ответил ему Близнецов, — а тут на дороге такой сейчас матерый волчище сидел!.. Это ужас что, такое!
— Ты что, очумел?! Овчарку от волка не можешь отличить?!
— Какая овчарка?! Это ты сам, брат, очумел!..
Человек в заячьем треухе ухмыльнулся, свистнул и громко позвал:
— Шельма, сюда!..
«Волк» — громадная серая широкогрудая овчарка — в два прыжка вымахнул из лесу, радостно виляя хвостом, подбежал к своему хозяину, встал на задние лапы и, положив передние ему на грудь, стал настойчиво пытаться лизнуть его длинным языком прямо в губы.
— Безобразие! — с чувством сказал Близнецов, оглядываясь на подъезжавшего Ножикова. — Ответственные товарищи из области проезжают по дороге, а вы собак выдаете за волков!.. Нехорошо, товарищ лесничий… или как вас там!.. Ежели он волк, он и должен быть волк. А ежели пес, то обязан брехать!
— А он у меня пес воспитанный, зря не лает!
— Провокатор он у тебя, а не пес!
Близнецов грузно плюхнулся в сани, вырвал у Ножикова кнут и от сердца стеганул кобылку по мохнатому крупу.
Они выехали из лесу. Обернувшись к ревизору, Близнецов, скрывая смущение, хохотнул и сказал:
— Вот ведь история!.. Расскажешь — не поверят!.. Слово даю, товарищ ревизор, даже и в мыслях не было, что они, извините, собака! С другой стороны, конечно, удивительно: иду, а они сидят. Но ведь у хищников у этих — у них разные бывают повадки!..
— Это вы верно! — ответил бухгалтер, загадочно улыбаясь. — Я двадцать пять лет езжу по ревизиям и тоже могу сказать, что у хищников бывают разные повадки!..
До самого Знаменского они ехали молча.
1953
ПОЕЗДКА К ЦЕЛИТЕЛЮ

— Евгений!.. Женька!..
Инженер Евгений Петрович Грошев обернулся на окрик и увидел на эскалаторе здоровенного детинушку в коричневом суконном полупальто, щегольских белых бурках, обшитых желтой кожей, и в круглой шапке из цыгейки, ухарски сдвинутой на затылок. Он кричал через головы людей:
— Слепой черт!.. Ну я же, я!..
— Столбунов? Сеня?!
— Собственной своей персоной!.. Давай вали скорей наверх.
Мягко рокоча, эскалатор делал свое дело, белые шары фонарей проплывали мимо Грошева, а он стоял и думал о неожиданной встрече.
Когда-то Евгений Грошев и Семен Столбунов учились в одном институте. Столбунов и в студенческие годы был вот такой же — шумный, напористый, неутомимый. Однако его неутомимость и крупные организаторские способности проявлялись не в академических делах и не в общественной жизни, а главным образом на веселых вечеринках в складчину, на которых Сеня Столбунов неизменно выбирался тамадой, виночерпием и запевалой одновременно. На предпоследнем курсе он вдруг решил, что с таким богатым баритоном, как у него, изучать дальше механику просто глупо. «То ли дело опара, пускай даже оперетта. Блеск, шик, слава, не говоря уже о заработках. Вышел на эстраду во фраке — представляешь меня во фраке? — спел «Когда бы жизнь семейным кругом» — и будьте любезны, товарищ Столбунов, распишитесь в ведомости! Картинка! А успех у девушек? Начнут аплодировать, кричать: «Стол-бу-нов! Стол-бу-нов!» Фейерверк! Э, да что там говорить!»
Товарищи пробовали его убеждать, ругали, прорабатывали, но он — упрямая, легкомысленная башка — настоял на своем и сумел-таки поступить в музыкальное училище. А через год выяснилось, что учиться в музыкальном училище очень трудно и нудно, да и баритон оказался не такой уж богатый. Из мечты о карьере певца ничего не вышло. В общем довольно обычная история! Музыкальное училище Столбунов оставил, в институт не вернулся и пошел нырять по жизни недоучкой…
Ожидавший на площадке Столбунов схватил Евгения Петровича за руку и поволок за собой к выходу из метро. Они вышли на звонкую московскую улицу и уже здесь у табачного киоска обнялись и поцеловались. Оказалось, что Семен Столбунов ныне благополучно живет и здравствует в дачном поселке по Энской дороге — рукой подать до Москвы. Где работает? В промысловой кооперации. Кем?
— Я, брат, теперь худрук тире техрук промысловой артели «Забавная игрушка»! — важно сказал Столбунов.
— Ну и как, придираются? — подмигнул ему Грошев.
— Будь спокоен! Разве у нас могут без этого! Уже был фельетончик в газете. Читал?
— Нет!
— Ядовитый фельетончик. Про меня. Я, понимаешь, наладил производство говорящих кукол и мычащих коровок. Куклы-девочки абсолютно четко говорят «ма-ма», а коровки абсолютно четко мычат «му-му». Черт его знает как, но при выпуске «первой партии пищики перепутались. Девочки абсолютно четко мычат «му-му», а коровки, бык их забодай, абсолютно четко говорят «ма-ма»… Ну, мне — строгача! А при чем я здесь, посуди сам!
Грошев рассмеялся. Красное, здоровое лицо Столбунова лоснилось, от него веяло несокрушимым оптимизмом.
— Теперь грызут меня по линии мячей: не прыгают! «Меняйте, говорят, технологию». Сам, брат, запрыгаешь, как мячик, от всех этих придирок! В общем скоро выгонят, наверно. Ну и наплевать! Устроюсь как-нибудь!.. Слушай, что же мы стоим, как неприкаянные?! Надо смочить радостную встречу!
— Нельзя мне, Сеня! — сказал Грошев, болезненно морщась. — Здоровье не позволяет!
Столбунов скептически взглянул на желтые щеки Евгения Петровича, на брюзгливую складку рта.
— А что у тебя, Женя?
— С желудком мучаюсь. Катар одолел.
— Бедный ты, Женька, бедный! — с состраданием сказал Столбунов. — Желудок — это, брат, основа основ. Все в нем, и все от него!.. Но тебе повезло, что ты меня сегодня встретил. Ты вот что: приезжай к нам в поселок, у нас — буквально напротив нашей артели — травник живет, Никанор Трофимович. Лечит травами. Кудесник, любимец богов! Не слыхал?
— Не слыхал. Жулик он, поди, твой кудесник?
— Что ты, Женя?! — обиделся Столбунов. — Во-первых, травы наука не отрицает. Тебе любой профессор скажет. А во-вторых, Никанор Трофимович — роскошный старикан. Бородища — вот, по пояс, глазки, как у щенка, добрые, подслеповатые. И вежливый такой, воспитанный. Я с ним знаком. Как встретимся на улице, сейчас же ведет меня в буфет или в ресторанчик… любит старичок посидеть, потолковать с хорошим человеком. Прошлый раз он дал мне свою рекламку, что ли, ну, в общем, обращение к болящим. «Раздайте, говорит, вашим страждущим знакомым, Семен Васильевич!» Приезжай — не раскаешься. Ты давно вообще лечишься?
— Давно. Только я вот диету не выдерживаю. Характера не хватает.
— А Никанор Трофимович тебя безо всякой диеты вылечит. Приезжай! В конце концов, ты же ничем не рискуешь! Не помогла травка — выбросил ее, дрянь, в форточку, и весь разговор!.. На, возьми его обращение, там есть адресок!
Грошев взял листок бумаги с отпечатанным на машинке текстом и, не читая, сунул в карман.
— Подумаю!
Через несколько дней Евгений Петрович, случайно сунув руку в боковой карман, обнаружил там обращение травника и быстро пробежал его глазами:
«Являясь новатором траволечения, лечу ото всех болезней… Сообщите письменно, что болит (голова, живот, мозжат ноги, руки и т. д.), и вам наложным платежом будет выслано лекарство… Не расхожусь с наукой… Опыт народной медицины… С товарищеским приветом…»
«А может быть, в самом деле поехать к травнику? — подумал Евгений Петрович. — Ведь лечебные травы существуют? Существуют, факт! Поеду! Чем черт не шутит! Семен прав. Я ничем не рискую!»
В первое же воскресенье, ничего дома не сказав, Евгений Петрович поехал в поселок к травнику. Узнав у мальчишки-лыжника дорогу, инженер быстро зашагал по тихой заснеженной улице. Вот и дачка, которую он ищет.
Евгений Петрович поднялся на веранду и постучал в дверь. Открыла старуха, типа «старушенция»: маленькое сморщенное личико фигой и из-под низко повязанного платка цепкие, красноватые, кроличьи глаза. Они внимательно обшарили Евгения Петровича с головы до ног и, видимо, ничего подозрительного в фигуре инженера не обнаружили.
— К Никанору Трофимовичу?
— Да.
— Проходите!
Грошев разделся в маленькой прихожей, повесил свое пальто и шапку на свободный гвоздь и прошел, сопровождаемый старушенцией, в опрятную, просто обставленную комнату. Здесь на стульях вдоль стен сидели пациенты Никанора Трофимовича.
Инженер взял свободный стул и огляделся. Интересно, что за публика? Вот сидит пожилой лысый человек в форме железнодорожника. Стрелочник или кондуктор. Какое у него грустное, больное лицо! Дальше две старухи в темных платьях. Одна громко икает, деликатно прикрывая рот сморщенной ладошкой. Еще один мужчина, похожий на канцелярского служащего. А вон, рядом с третьей старухой, молодая, цветущая женщина, здоровая, крепкая — кровь с молоком. Беспокойно заглядывает в окошко. Наверно, бабку привела к целителю.
До ушей инженера доносились обрывки фраз, шепот.
Из одного угла:
— А вы с чем к нему?
— С ногами. Очень гудёт в ногах, в особенности к погоде. А вы от чего лечитесь?
— Я от всего. У меня все!
— И давно лечитесь?
— Я, мать моя, всю жизнь лечусь! И никак не могу по своему вкусу отыскать лекаря… Посмотрю, что за травник такой!.. Не поможет — буду так жить, безо всякого леченья! Надоело!..
Краснощекая молодица шепчет, нервно посмеиваясь:
— Тетя Даша, узнает кто-нибудь из наших… Засмеют!
— Никто не узнает!
— Тетя Даша, пойдемте лучше домой… Если полюбит — и так полюбит. А не полюбит (вздох) — никакая трава тут не поможет.
— Третью очередь пропускаем из-за тебя! Раз я за твое дело взялась — значит я обязана довести его до счастливого конца!
Никанор Трофимович вел прием быстро, в энергичном, бодром темпе. Грошеву пришлось недолго ожидать своей очереди.
Травник сидел за маленьким дамским столиком красного дерева, белобородый, очень благостный. Одет в какой-то допотопный сюртучок. Он быстро взглянул на вошедшего и сейчас же нацепил на большой костистый нос роговые солидные очки. Евгений Петрович успел мысленно отметить: «Глаза, однако, у него далеко не щенячьи».
— Садитесь, пожалуйста! — сказал травник любезным тоном.
Инженер сел.
— Вас кто-нибудь направил ко мне? Или… сами?..
— Столбунов Семен Васильевич говорил мне о вас.
Травник закивал седой головой.
— Так, так! Достойная личность. Вы тоже по игрушечной части?
— Нет, я по этим… по горшкам… вообще по посуде. Но тоже промысловая кооперация! — соврал Евгений Петрович. (Ему было неловко сказать, что он — инженер и работник крупного главка.) — Я читал ваше обращение! — прибавил он поспешно. — Меня оно заинтересовало… Только вот — как же это вы лечите людей заочно?
Старичок ответил суховато:
— Если люди подробно описывают свой недуг, тогда все понятно.
— А если не подробно?
Травник прищурился.
— А вы лично разве собираетесь у меня по почте лечиться?
Инженер смутился.
— Нет… Я… так… Просто интересно!
— Вы лучше скажите: чем лично страдаете?
— Желудок у меня. Катар!.. Уже много лет.
Травник быстро задал Грошеву несколько обычных вопросов и, получив ответы, той же скороговоркой сказал:
— Дам вам травку, пейте ее три раза в день с убеждением душевным, что она поможет, — тогда поправитесь!
— Может быть, вы посмотрите мои анализы… рентген?
— Лишнее! Я не эскулап! Вот возьмите травку!
Он подал инженеру белый хрусткий пакет и еще раз повторил:
— Но… с душевным убеждением!
— Скажите: а в смысле диеты как?
— В смысле диеты?.. В смысле диеты, я думаю, эскулапы вам и без меня надоели. Кушайте что кушается! Только не наваливайтесь очень. Желаю доброго здоровья. Скажите там — пусть следующий идет.
Наступил неприятный момент вручения травнику денежного гонорара. Смущаясь и краснея, инженер спросил:
— Простите, сколько я вам должен за визит?
— По силе возможности, — сказал Никанор Трофимович и отвернулся.
Грошев достал из кармана заранее приготовленные три десятки и положил на стол. Но, заметив, что Никанор Трофимович краешком глаза неодобрительно следит за ним, подумал: «Мало», — и прибавил еще две. Травник ловко локтем смахнул деньги в полуоткрытый ящик стола и удовлетворенно сказал:
— До свиданьица!
На веранде дачи стояла тетя Даша, спутница краснощекой красавицы, без пальто, простоволосая, и кричала вслед быстро удаляющейся молодой женщине:
— Дуська, вернись!.. Вернись, тебе говорят!
Та махнула рукой, засмеялась.
— Не пойду! Стыдно!
— Ду-ра!..
«Нет, кажется, не дура!» — подумал Грошев, спускаясь со ступенек веранды.
А через неделю Евгений Петрович сидел в приемной одной из столичных клиник и ожидал приема у знаменитого профессора. Перелистывая журналы, лежавшие на столе, он пощупал пакетик с травой, который захватил показать профессору, и вдруг увидел, как из дверей профессорского кабинета вышел… сам травник Никанор Трофимович. Несомненно, это был он: его борода, сюртучок, щуплая фигурка. Вышел и, ни на кого не глядя, проследовал вниз по лестнице — в гардероб.
Евгений Петрович не мог усидеть на месте. Он вскочил и помчался следом за старичком. Травник, кряхтя, надавил шубу. Инженер подошел к нему, сказал с вызовом:
— Здравствуйте, Никанор Трофимович!
Хитрые подслеповатые глазки заюлили по сторонам.
— Обознались! — произнес Никанор
Трофимович ядовито и, не очень вежливо толкнув Евгения Петровича сухоньким плечиком, попросил: — Позвольте пройти, гражданин!
…Профессор, крупный мужчина со строгим бритым лицом и внимательными глазами, выслушав Евгения Петровича, сказал:
— Любопытная история! Он у меня в первый раз. — Профессор взял со стола карточку. — Между прочим, он ваш коллега: тоже застарелый катар желудка. Покажите, что он вам дал… Так!.. Эту травку, многоуважаемый, вы можете купить в любой аптеке, стоит полтинник!.. Вреда от нее не будет!
— А польза?
Профессор улыбнулся, но сразу же стал серьезным.
— Я траволечения не отрицаю, но и травы тоже надо с толком прописывать. Вообще давно пора под это дело подвести научную базу, чтобы всякие жулики не могли людям головы дурачить… Но это длинный разговор. Ну-с, рассказывайте про себя… Все, подробно, последовательно!..
Вечером Евгений Петрович вспомнил о встрече с травником и весь кипел от негодования. Каков гусь! Сидит, как паук, у себя в поселке и ловит в свои сети легковерных. Все приносит ему доход: и пережитки прошлого, и остатки суеверий. Но ведь в сети его попадают и серьезно больные люди, несут трудовые свои гроши — только спаси, вылечи! Ему верят, на него рассчитывают! И он дает им травку, от которой «вреда не будет»! А сам небось бегает лечиться к профессору!.. Нет, нет, таких пауков надо беспощадно выметать из всех темных уголков. Он, Грошев, завтра же поедет в поселок, явится в поселковый совет и разоблачит этого бородатого мошенника, добьется того, чтобы ему запретили заниматься лечением. Это его, Грошева, общественный, гражданский долг!
Но завтра в поселок поехать не удалось: помешало какое-то заседание. Грошев решил: «Поеду на той неделе». И… потекли одна неделя за другой…
Сначала Грошев мысленно говорил себе: «Надо, надо поехать разоблачить травника».
Потом повелительная форма сменилась вопросительной: «Когда же я поеду разоблачать травника?!»
А потом Евгений Петрович, тревожа свою совесть, мысленно стал говорить самому себе уже в прошедшем времени: «Так я и не поехал разоблачать травника!»
Потом он совсем забыл о своей поездке к целителю и о встрече с ним в клинике, как вдруг — когда уже пришла весна и липы на улицах города пышно зазеленели — он опять встретил на улице Семена Васильевича Столбунова.
Худрук «Забавной игрушки» сменил бурки и ватное полупальто на светлую шляпу и пижонский демисезон, но был такой же: шумный, крикливый и напористый. Сразу же сообщил Грошеву, что из артели изгнан, устраивается на новое место, а пока решил жениться. Вот ждет невесту на свидание. Она — кустарь, делает дамские шляпы. Влюблена в него, как кошка.
— Слушай, Семен, — сказал ему Грошев, — а ведь твой кудесник, любимец богов, травник этот, оказался жулик…
— Еще какой! — восторженно подхватил Столбунов. — Стопроцентный. Да достаточно было взглянуть на его рожу — разбойничья же рожа. Бородища — по пояс, глазки свинячьи. Тьфу!.. Он, брат, уже того, разоблачен и низринут.
— Кто же его разоблачил? — поразился Грошев.
— Народ разоблачил, пациенты. Ведь он что делал? Он не только прием дома вел, он еще, оказывается, скотина, подружился с одним болваном — заведующим почтой — и с его помощью списывал себе в книжечку обратные адреса людей, которые письма присылали в наш поселок.
Грошев удивился:
— Зачем он это делал?
— А он по этим адресам рассылал потом свои проспекты. И так вступал с людьми в переписку по всей страде. Ловко? По сто рублей брал за каждую посылку с травкой — наложным платежом. И всем ото всех болезней посылал одну и ту же травку. Чуешь?! Сейчас эти сотняжки назад рассылают… пострадавшим. Но, между прочим, эта переписка его как раз и погубила. Люди стали писать в министерство, в редакции, всюду. А больше всех его подсек один пастушок колхозный, откуда-то из Заволжья. Он получил обращение травника, да и бухнул письмо прямо в министерство здравоохранения. Так, мол, и так, травник просит с меня сто рублей за излечение сестры-девочки. «Я, пишет, готов ему заплатить, но напиши, товарищ министерство: научный ли это травник, можно ли ему верить?» Ну, и пошла писать комиссия!.. Меня тоже таскали… за то, что я его, подлеца, рекламу раздавал знакомым!.. Но установили, что корысти не было, и отпустили с миром… Прокурор сказал: «Общественное порицание вам объявляю, гражданин Столбунов». Вот, брат, какие дела!
— Общественное порицание ты действительно заработал, — сказал Грошев. — И я хочу с тобой серьезно поговорить, Семен!
— О чем?
— О тебе!
На красном лице Столбунова появилось удивленное выражение, которое вдруг сменилось широчайшей и сладчайшей улыбкой: у памятника Тимирязеву стояла, посматривая по сторонам, пышная блондинка.
— Пришла! — тихо сказал Столбунов. — Будь здоров, до следующего раза!
И поспешил навстречу влюбленной шляпнице.
Евгений Петрович медленно пошел вверх по бульвару, к Пушкинской площади. То, что он услышал от Столбунова про травника, радовало Грошева, но совесть его была уязвлена: ведь паука-то вымели без его помощи. А если бы он, Грошев, тогда еще, сразу же после встречи в клинике, поехал в поселок, жулик травник был бы разоблачен гораздо раньше, меньше было бы у кого-то огорчений, разбитых надежд, может быть, даже слез.
«Все моя общественная инертность, загораюсь и быстро остываю, не довожу начатого дела до конца», — ругал себя Евгений Петрович. Он был очень недоволен собой, и это неприятное чувство долго не покидало его.
1952
ДОЗРЕЛ!

Дом был деревянный, облезлый и очень густо заселенный. Стоял он на тихой окраинной улице. Жили в доме разные люди, но все как один считали, что Петр Крюков, бывший проводник жестких вагонов, уволенный за какие-то темные делишки (он занимал комнату на втором этаже), пьяница и дебошир, которому «не сносить головы».
Портной-брючник Иван Макарович, философ и моралист, говорил про Петра Крюкова так:
— Что такое Петр Крюков? Петр Крюков есть явление хулигана. Как таковой он не может долго удержаться в порах нашего социалистического организма. Дайте срок — и он, как бы это сказать, дозреет и перед всем обществом себя докажет. Тут его и… прекратят!
— Скорей бы уж его… прекратили, — вздыхали женщины. — А то ведь каждую ночь слушать его выражения — сил нет!
— Потерпите, товарищи женщины. Я так думаю, что уже недолго вам осталось страдать!
Дозревал Петр Крюков громко и очень беспокойно для окружающих.
Непонятно было, где он достает средства к жизни. Почти каждую ночь в маленькой комнате на втором этаже деревянного дома стоял дым коромыслом.
Раненым быком ревел баян, пол дрожал под каблуками плясунов, хриплыми тенорами гости Петра Крюкова орали лихие частушки.
Как-то после очередной такой попойки к портному заглянула Дуся Чижова, продавщица мороженого, многострадальная соседка Петра Крюкова, поздоровалась и сказала:
— Иван Макарович, я насчет Крюкова. Жить же невозможно. Давайте напишем куда следует про него. Вы человек образованный — помогите.
Иван Макарович отставил пышущий жаром утюг, посмотрел на Дусю из-под очков ироническим взглядом и едко заметил:
— Между прочим, поспешность нужна лишь для ловли блох.
— Он ведь целый год так выкаблучивает, Иван Макарович.
— Все равно рано! Заявление твое может играть роль лишь в домовом масштабе. А нужно, чтобы Петр Крюков доказал себя как явление хулигана для всего общества. По-моему, он вот-вот дозреет. Я каждый день, когда газету раскрываю, ищу про него заметку, а то и фельетон.
— У меня дети через него плачут, Иван Макарович.
— Потерпи, Дуся, немного осталось ждать. А заявление сейчас подадим — хлопот не оберешься. Поди доказывай! А тут он сам себя не сегодня-завтра разоблачит. Думаю я, что обязательно он кого-нибудь побьет на трамвайной остановке. Или там в пивной набуянит. Его и заберут. Вот увидишь.
— Обожду еще день, Иван Макарович, и тогда без вашей подписи сама подам заявление.
Вечером того же дня Иван Макарович сидел на скамеечке около дома и, покуривая, болтал с дворником Багровым. Вечер был тихий, пригожий. Вдруг из-за угла вышел Петр Крюков. Был он по обыкновению пьян. Кепка сдвинута на затылок, руки в карманах.
— Здорово, кривая игла! — кивнул он портному.
— Здравствуйте! — кротко сказал Иван Макарович.
— Дышишь?
— Дышу-с.
— А ну, подвинься.
Иван Макарович подвинулся. Петр Крюков тяжело плюхнулся на скамейку и подозрительно посмотрел на портного.
— Ты чего, кривая игла, про меня на дворе треплешь?
— Ничего я про вас не треплю, товарищ Крюков.
— Нет, треплешь. Ты зачем меня недозрелым называешь?
— Я не в том смысле, — сказал Иван Макарович, поднимаясь.
— Сиди! — Петр Крюков схватил портного за руку и потянул вниз. — Я тебе сейчас покажу, какой я недозрелый.
С этими словами он взял Ивана Макаровича одной рукой за грудь, а другой звонко ударил его по щеке. Дворник Багров тихо ахнул и схватил хулигана за плечи. Тот обернулся и пнул дворника ногой в живот. Началась свалка.
А через пять дней Иван Макарович стоял с перевязанной головой в камере народного судьи и, показывая на угрюмо молчавшего Петра Крюкова, говорил горячо и убежденно:
— Что такое Петр Крюков, граждане судьи? Скажу как потерпевший: Петр Крюков — есть окончательно созревшее явление хулигана.
1939
ВАСЬКИНА МАМАША

Недавно наш вагоноремонтный завод в течение нескольких дней трясло, словно в лихорадке.
Не самый завод, конечно, трясся — тряслись его работники. Даже директор завода Петр Петрович, мужчина солидный, выдержанный, спокойный, и тот разок щелканул зубами!
И главное — происходило все это не в конце месяца, когда на штурм программы поднимаются у нас, можно сказать, все, от мала до велика, и под воинственный грохот барабанов нашей многотиражки устремляются в атаку. В такие дни лихорадка становится нормальным состоянием заводских заправил и никого не удивляет. Нет, тут все произошло в середине месяца, при тихой и ясной погоде. При этом переполох и лихорадку вызвала не какая-нибудь комиссия из двенадцати обследователей-волкодавов, а невидная старушка, вдова кузнеца и мать нашего слесаря Васи Губкова.
Дело в том, что Вася Губков забаловался, стал выпивать. Один раз прогулял — простили, второй раз прогулял — замяли, а на третий раз парень устроил в пивнушке, где обмывал получку, небольшой «кордебалет» — и окончательно опозорил высокое звание рабочего человека.
Вася кому-то «заехал», Васе крепко «въехали» сдачи, а потом драчуны-гуляки все вместе поехали в милицию. Пришлось поставить о Васе Губкове вопрос в полный рост. Хотели мальчишку совсем прогнать с завода, однако пожалели — оставили. Но по предложению председателя завкома Сергея Васильевича (его у нас за душевную доброту зовут — дядя Сережа) решено было о Васином некрасивом поведении написать его матери — вот этой самой Прасковье Дмитриевне, — жившей на покое в маленьком городке километрах за сто от завода.
Когда Вася узнал, что напишут матери о его «пьянстве, буянстве и окаянстве», он побледнел и произнес с большим чувствам:
— Христом-богом прошу… не пишите матери!
Ему сказали:
— Эх, ты!.. Комсомолец, а божишься!
— Это я нечаянно… от расстройства!.. Комсомольское слово даю — больше это не повторится. Любое наказание давайте, только… не пишите матери. Ведь приедет!
— Вот и хорошо, что приедет! Пусть научит тебя уму-разуму!
Письмо было написано и отправлено.
Получив заводское письмо, Прасковья Дмитриевна действительно собралась и приехала. Остановилась у какой-то своей дальней родственницы. Сначала ничего не было, слышно про нее, а потом началось!
Первым пришел к директору Петру Петровичу наш добряк-председатель завкома дядя Сережа. Вид расстроенный, глаза мутные, весь взъерошенный, как голубок, побывавший в когтях у кота.
— Что с тобой, завком?
— Досталось мне вчера крепенько, директор! Так досталось… до сих пор не приду в себя. Пропесочили — будь здоров!
— Подумаешь, событие! Впервой тебе, что ли?
— Так — пожалуй, что и впервой. На собственной, можно сказать, шкуре убедился, что женщины — это, брат, великая сила, в особенности, когда они предварительно между собой договорятся.
— Да ты толком объясни, что с тобой случилось!
А случилось вот что! Прасковья Дмитриевна пришла домой к дяде Сереже, познакомилась с его женой и тещей, показала им заводское письмо и объявила, что «свое дите» она, конечно, «поучит» и «рога» ему «поломает», но, мол, нужно в дело «вникнуть поглубже». И она, дескать, уже вникла.
«Васька мой виноват, признаю. Он от меня получил и еще получит! Но и другие имеются виновники. С кем Васька по пивнушкам таскается? С мастером Крынкиным! Кто Ваську научил «ерша» пить — пиво с водкой пополам? Тот же Крынкин! Хорош учитель, а?! Теперь объясните: почему этот черт старый связался с младенцем? Не можете ответить? Я за вас отвечу! Потому что такой обычай имеется у вас на заводе: любят ваши старые черти погулять на младенцевые денежки! А завком на этот вредный обычай — ноль внимания. «Не нами это заведено, не нам и ломать». «Не нам»? А кому же?! Пока не поздно, берите вы, женщины, своего дядю Сережу в строгий переплет, а то вам же хуже будет, если его не по домашней, а по другой какой линии трепать начнут!»
И так эта старушка настрополила близких дяди Сережи, что, когда завком пришел с работы, от мужика только пух и перья полетели!
— Под всякую самокритику попадал, но такого не видывал! — признался дядя Сережа Петру Петровичу, директору. — Втроем они на меня наступали. Жена и теща с флангов брали в клещи, а с центра налетала Васькина мамаша, пропади он пропадом, прощалыга!.. Ой, кажется, на свою голову выписали мы эту пробивную старушку, директор!
Петр Петрович выслушал дядю Сережу, усмехнулся и сказал:
— Старушка, между прочим, правильные вещи говорит. Ну-ка, позовите ко мне Крынкина.
Зовут мастера Крынкина. Приходит. Мрачнее тучи! И еще с порога:
— Кругом виноват, все признаю, делайте со мной, что хотите, только скажите Васькиной мамаше, чтобы отвязалась!
— Ага! Допекла и тебя, старого черта?!
— Уж так допекла — дальше некуда! Стакнулась с моей замужней дочерью, каждый день приходят вдвоем и вынимают из меня душу по частям! И откуда у нее, у хилой старушки, берутся такие раскаленные слова, какими она меня стегает?! Сил моих нет больше терпеть.
И сам чуть не плачет.
На следующий день директор нашего клуба, — долговязый Петушенко прибежал к дяде Сереже.
— Караул! Старушка Губкова на меня жену с племянницей напустила. Они всю мою работу распушили. «У тебя, говорят, в клубе не то что мухи — моль и та от скуки дохнет! Поневоле, мол, Васька Губков стал по пивным шататься… Вот я план работы пересоставил, с учетом их критики. Посмотрите и утвердите!..
Ушел директор клуба, является комендант общежития, где Вася Губков живет, и тоже с повинной.
— Признаю! Во вверенном мне общежитии — грязь и бескультурье. По этой причине Васю Губкова тоже тянуло на гулянку. Меры приняты, положение будет выправлено.
Оказывается, на коменданта его родная бабка нажала, с которой Прасковья Дмитриевна Губкова тоже успела подружиться.
А потом очередь дошла и до директора Петра Петровича.
Приехал он с завода к себе на квартиру, слышит в соседней комнате разговор. Тихонько приоткрыл дверь. Видит — сидят жена его Наталья Ивановна, мать Надежда Павловна, а Васькина мамаша, сухонькая такая старушка, в темном платке и ситцевом платьишке, проникновенно, сладким голосочком говорит:
— Я своего дурака не оправдываю. Я его на прощанье высеку… если мне дирекция и партийная организация помогут, потому что мне одной с ним не совладать. Ведь вон он какой вымахал! Но и вы, женщины, вашего тоже… поучите! Он — директор, он — всему делу голова, он за все отвечает.
Мать Надежда Павловна ей:
— Нашего нельзя сечь. Ему за сорок. Как бы авторитет не подорвать!
— Сечь не надо. Вы его, матушка, словами…
Жена Наталья Ивановна с радостью:
— Словами — это можно!
И как это женщины умеют в таких делах быстро договариваться между собой — уму непостижимо.
Петр Петрович, зная характер и свойства языка своей Натальи Ивановны, на цыпочках за дверь! Уехал на завод и вернулся лишь ночью, когда жена и мать уже спали. А наутро вызвал к себе Васю Губкова.
— Когда мать собирается домой ехать?
— Сегодня хотела, да билета на поезд не достали!
— Достанем! Поможем! Давай, Губков, давай, надо хорошо отправить мамашу!
Уехала старушка. И, представьте себе, вроде лучше сейчас стал работать завод! Чуть что не так, наши друг дружку пугают:
— Смотри, вызову Васькину мамашу, она тебе покажет!
Шутка, конечно. Но в этой шутке есть большой смысл!
1955
ВИЗИТ

В выходной день Леночка Найденова пришла в гости к своему отцу, выпила чай с вареньем и, пристально глядя на Николая Петровича строгими черными глазами, стала рассказывать новости.
— У Люси Кулачковой папа орден получил. Люська теперь задается ужас как! Мама мне купила новый берет — красный, помнишь, как у балериновой Нинки из шестого номера… Она, брат, тебя часто вспоминает.
— Кто вспоминает? Балериновая Нинка?
— Не балериновая Нинка, а мама.
Черные, как у дочери, улыбающиеся глаза Николая Петровича сразу становятся узкими, холодными.
— Как же она вспоминает? Ругает, поди? Учит тебя всякие гадости про отца говорить?
Леночка краснеет и сердится.
— Ничего она тебя не ругает. Она, брат, тебя жалеет.
— Ты ей передай, что я в ее жалости не нуждаюсь.
— Хорошо, передам. Она говорит, что ты без заботливой женской руки пропадешь. Э-эх, трудно мне с вами!
Вздохнув, Леночка кладет на скатерть недоеденное пирожное, встает из-за стола и подходит к окну. За окном чернеет непрочный, ноздреватый снег. Задиристо и звонко дребезжат пролетающие мимо трамваи. Весна!
Николай Петрович долго глядит на стриженый Леночкин затылок, на ее тоненькие ножки в коричневых чулках, на стоптанные каблуки ботинок. Потом глухо говорит:
— Ты, Лена, еще маленькая. Вырастешь — все, брат, поймешь.
Леночка оборачивается и смеется ненатуральным, наигранным смехом.
— Нашел маленькую, за десять перевалило. Я, брат, все прекрасно понимаю. Я не виновата, что вы оба такие нервные и ревнючие.
Рот у Леночки начинает кривиться. Николай Петрович испуганно целует дочь в смуглую матовую щеку.
— Ленка… милая… не надо так говорить. Экая ты, право!
— Ты, брат, не экай. Меня вон девочки в классе прорабатывают за то, что я вас до сих пор помирить не могу. Если хочешь знать, так меня из-за тебя даже к комсоргу вызывали.
— К комсоргу? Из-за меня?
— Ну да, из-за тебя. Она спрашивала, в каких я условиях теперь живу, чего мне не хватает. Я сказала, что условия хорошие, только, конечно, тебя не хватает… Если хочешь знать, так это я из-за тебя по арифметике загремела. Решаю задачу, а сама про тебя думаю. «Пропадет он, — думаю я, — без заботливой женской руки!»
Наступает молчание. Николай Петрович курит, разглядывая знакомый до одури потолок, на котором трещины и подтеки образовали нечто напоминающее карту Африки. Леночка сидит нахохлившись на диване.
— Не убрано у тебя, — говорит она, морщась, — и сам ты какой-то запущенный, папа. Давай, я тебе хоть пуговицу к пиджаку пришью.
— У меня все пуговицы на месте, Леночка.
— А на сером?
— И на сером все целы.
— А на жилетке?
— И на жилетке целы. Хотя… обожди. На жилетке одной не хватает. Это ты здорово, Елена, увидела. Прямо сквозь пиджак.
— Уж будь спокоен, от меня ничего не укроется.
Чтобы доставить Леночке удовольствие, Николай Петрович незаметно обрывает на жилетке одну пуговицу. Затем снимает пиджак и жилет.
Вооружившись иголкой, Лена долго пришивает свежеоторванную пуговицу и при этом страшно сопит от усердия.
— Ну вот. Носи, брат, на здоровье.
Николай Петрович надевает жилет. Выясняется, что Леночкина пуговица пришита совсем не там, где ей природой предназначено сидеть. Но Николай Петрович поспешно застегивает пиджак и преувеличенно восторженно благодарит Леночку за работу.
— Ладно, ладно, — отстраняет его Леночка и вдруг говорит шепотом: — Папа, у меня к тебе большая просьба. Пожалуйста, не женись. Лучше я к тебе чаще буду приходить. Ты не стесняйся, сам говори, какие тебе надо пуговицы пришивать. Хорошо?
— Только для тебя, Елена. Не женюсь.
— Ну, смотри. Мне пора домой, папочка. Ты меня не провожай, я сама.
— Посидела бы еще, Ленушка.
— Посидела, посидела, — ворчит Леночка, застегивая ботики, — ведь ты у меня не один на руках. Мама к писателю печатать пошла, вернется скучная. С ней тоже поговорить нужно. Э-эх, трудно мне с вами! Ну, я пошла. Маме-то что передать?
— Передай, что деньги переведу шестнадцатого.
— Хорошо. До свиданья, папа!
Николай Петрович целует Леночку. У нее снова кривится рот.
— Папа, позвони маме по телефону. Я тебя прошу, папа.
— Оставь Елена… Она должна мне первая позвонить.
— А если она позвонит, ты с ней помиришься?
— Там видно будет.
Леночка уходит. Николай Петрович садится за письменный стол, придвигает к себе чернильный прибор. Но работа у него почему-то не клеится. Спокойный, матовый блеск настольного телефона раздражает Николая Петровича. Почему он молчит, этот проклятый телефон?!
Так проходит два часа. Синие сумеречные тени наполняют комнату. Она представляется сидящему за столом каютой затонувшего корабля. Соседка за стеной тихо играет осточертевший вальс Дюранда.
И вдруг резкий телефонный звонок! Холодными от волнения пальцами Николай Петрович поднимает трубку.
— Алло! Кто говорит?
— Это я говорю, — трепещет в трубке далекий Леночкин голос, — папа, слушай сюда скорее. Мама от писателя пришла веселая-превеселая. Мне кажется, что она определенно собирается за него замуж. Ты бы ей скорей позвонил, папа! Ты же знаешь, что она первая ни за что не позвонит. Ой, она кажется идет сюда! Позвони ей, папа!
В комнате Николая Петровича снова становится тихо. Большое вечернее небо глядит в окно. Соседка за стеной опять играет Дюранда.
Хмурый человек сидит за письменным столом и пристально смотрит на телефонный аппарат. Почему так трудно бывает иногда снять трубку?..
1935
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

Народный судья — пожилой, с усталым лицом — раскрыл синюю папку и сказал:
— Слушается дело о расторжении брака Лисюхина Николая Петровича с Лисюхиной Прасковьей Ивановной. Встаньте, гражданин Лисюхин!
Со скамьи поднялся тощий мужчина, одетый в новый, плохо сшитый пиджак, и хмуро уставился на судью.
— Сколько лет вы женаты на Прасковье Ивановне, Лисюхин?
Лисюхин откашлялся, покосился на сидевшую рядом Прасковью Ивановну — румяную, полную брюнетку с ямочками на щеках — и сказал сдавленным, ненатуральным голосом:
— Состою восемь лет в брачных отношениях, гражданин судья. А теперь прошу меня расторгнуть… с этой особой.
— Почему вы просите о расторжении брака?
— Не желаю состоять в брачных отношениях… с этой особой.
— По какой же причине не желаете?
Лисюхин вынул из кармана брюк громадный носовой платок, не спеша вытер покрытый испариной лоб и ответил тем же искусственным, петушиным голосом:
— Я могу суду все по порядку рассказать, если хотите…
— Говорите.
— Извольте! Я, гражданин судья, работаю на кирпичном заводе кладовщиком. И вот, значит, поехал я от завода в командировку на месяц. Приезжаю с вокзала к себе и застаю факт: жены дома нет! А телеграмма, между прочим, мною дана была, что приеду.
Теперь — иду ее искать и встречаю старуху Антипову, соседку.
Говорит: «Если вы ищете вашу супругу, Николай Петрович, то она стоит за углом с Максимовым. Он ее угощает газированной водой. С сиропом, между прочим».
Как она сказала про этот сироп, у меня, гражданин судья, все в глазах помутилось. А старуха еще говорит с насмешкой: «Ваша Прасковья Ивановна последнее (время очень полюбила газированную воду. Как ни пойду со двора, обязательно ее у будки встречу. И каждый раз ее Максимов угощает. И каждый раз с сиропом!..»
— Жарко же, дурак!.. Пить хочется! — сказала с места Прасковья Ивановна, у которой щеки и шея покрылись красными пятнами.
Николай Петрович Лисюхин затрясся мелкой, злобной дрожью и прошипел:
— Я тебе, дура, не дурак, а истец. Здесь — суд! А не кухня!..
— Обождите, Лисюхина, вы потом все скажете, — мягко сказал судья. — Продолжайте, Лисюхин!
— Что же продолжать, гражданин судья?.. Теперь все ясно! Которая жена любит своего мужа и соблюдает советский закон, та не станет сиропы распивать с определенной личностью. Я в тот же вечер, гражданин судья, вещички свои собрал и переехал к товарищу. Пускай она теперь попьет сиропу!
— Значит, — сказал судья, — я вас должен понимать так. Вы решили, что ваша жена вам изменила? На этом основании вы просите развести вас с Прасковьей Ивановной, так?
— Точно, гражданин судья!
— А доказательством измены считаете тот факт, что вашу жену видели пьющей газированную воду?
— С сиропом! — сказал Николай Петрович Лисюхин, многозначительно подняв палец.
— С сиропом, — кивнул головой судья, — в присутствии некоего Максимова. Так?
Лисюхин подумал и сказал:
— Так!
— Ну, а что вы скажете, Прасковья Ивановна? — обратился судья к Лисюхиной.
Прасковья Ивановна Лисюхина грузно встала и бурно заговорила низким, густым контральто:
— А я скажу, что замучил он меня своей проклятой ревностью, гражданин судья! Вон какой тощий через нее сам стал. Как глиста египетская!.. Я дома шитьем занимаюсь. И действительно, этому Максимову пошила рубашку апаш из его материала. И очень ему угодила, гражданин судья. И действительно, он меня два раза водой напоил…
— С сиропом! — опять сказал Николай Петрович Лисюхин.
— Пускай даже с сиропом, пускай! А какое он имеет право, гражданин судья, из-за этого сиропа несчастного меня на суде срамить, а?!.. Я ему была и есть верная жена!
— Значит, вы на развод не согласны?
— Не согласна! Потому, что я его, подлеца, люблю и ни в чем перед ним не виновата!..
Прасковья Ивановна помолчала и вдруг тихо прибавила:
— Пускай вернет мне швейную машинку — тогда дам развод.
В зале засмеялись, зашумели. Судья постучал карандашом по столу и сказал:
— Какую швейную машинку, Лисюхина?
— Мою машинку, гражданин судья. «Зингер», двойной челнок. Он как пять дней назад съехал от меня, так забрал ее и не отдает.
— Безобразие! — строго сказал судья. — Непременно верните ей машинку, Лисюхин.
— Не могу. Я ее уже проел!
— Как это проел?
— Проел в смысле — пропил… с горя.
— Врет он! — сказала Прасковья Ивановна Лисюхина. — Цела машинка! Мне люди говорили!
Николай Петрович Лисюхин посмотрел на потолок, поморщил лоб, что-то мучительно соображая, и сказал:
— А если верну машинку, дашь развод?
— Вернешь — дам!
— Бери! — с трудом сказал Николай Петрович Лисюхин. — Пользуйся! И скажи суду, что согласна на развод!
Пряча улыбку, судья снова обратился к супруге Лисюхиной:
— Он вам вернет вашу машинку. В этом случае вы согласны на развод?
Глаза у Прасковьи Ивановны вдруг налились слезами.
— Не согласна! — сказала она со страстью. — Не согласна — и все! Раз он решается мне машинку вернуть, значит и он меня любит, гражданин судья… Он же скаредный, как Кащей бессмертный… Не любил бы — ни за что не отдал! Это все характер его, фанаберия мужчинская!.. Ишь, что выдумал! По судам меня таскать! А ну, марш домой! Я с тобой дома поговорю. Велите ему, гражданин судья, домой идти!..
Она бушевала, размахивая руками, румяная, большая, из ее черных глаз, казалось, сыпались светлые искры. Тощий Николай Петрович Лисюхин, съежившись, глядел на нее с ужасом и обожанием.
В судебном зале откровенно хохотали. Судья, не поднимаясь из-за стола, посоветовался с народными заседателями и сказал:
— Я прекращаю ваше дело, Лисюхин. Ступайте домой. И вы тоже идите, Прасковья Ивановна! Надо все хорошо обдумать, Лисюхин, прежде чем в суд идти… Только время у нас отняли!
Суд начал слушать новое дело, а за дверью, в коридоре, все еще спорили и кричали супруги Лисюхины. Петушиным своим голосом муж кричал:
— А сироп?! А смысл сиропа?!
И жена отвечала ему грозным, густым контральто:
— Вот придем домой, я тебе покажу сироп!..
1946
КУТЕЖ

Они сидели на одной парте и были друзьями — Петя Горелкин и Митя Корюшкин, хотя, пожалуй, во всей школе нельзя было найти более непохожих по характеру и внешности одноклассников, чем наши герои.
Представьте себе маленького, юркого, подвижного подростка с лисьей розовой мордочкой — и вы получите почти точный портрет Пети Горелкина.
Создайте в своем воображении образ типичного ленивца и обжоры — пухлого, белого увальня, как бы сделанного целиком из сырого теста, — и вот вам Митя Корюшкин собственной своей персоной.
Они сошлись. Вода и камень,
Стихи и проза, лед и пламень…
В классе их так и прозвали — Онегин и Ленский.
Долгое время при этом шли споры, кого из друзей считать Онегиным, а кого — Ленским.
Спор решил случай.
Как-то на уроке алгебры Митю Корюшкина вызвали к доске решать пример.
Процедив сквозь зубы чуть слышно: «Скучновато получается!» — он вышел и, жалостливо пыхтя, трепетной рукой взял мел.
Записав продиктованные преподавателем условия, Митя Корюшкин глубоко и трагично задумался, потом оглянулся на счастливцев, оставшихся сидеть на своих партах, и выразительно пожал плечами. Его широко открытые глаза умоляли: «Тону! Спасите!» Петя Горелкин тут же откликнулся на этот смертный зов и шепотком подсказал Мите ход решения злосчастного примера, увы, неправильный! Опытное Митино ухо уловило подсказку. Благодарно просияв, он бодро застучал мелом по доске.
Через десять минут, получив честно заработанную единицу, Митя Корюшкин вернулся на свою парту. Вот тогда-то и решено было считать Онегиным именно Петю Горелкина — поскольку он тоже «убил наповал» своего друга.
Однажды друзья пешочком неторопливо шли вместе из школы домой. День был морозный, но безветренный и ясный. Снег весело поскрипывал под ногами, как бы советуя прохожим не терять золотого времени, а поскорее покончить со всеми делами, да и махнуть в Сокольники на лыжную базу или в Парк культуры на каток!
— А в общем, старик, мы с тобой живем скучновато! — сказал Митя Корюшкин. — Как-то, понимаешь, однообразно… Сегодня — каток, завтра — лыжи… ну, в кино сходишь — и все. Надоело!
— А что ты предлагаешь? — деловито спросил Петя Горелкин.
— Надо, понимаешь, как-то встряхнуться… освежиться! Я предлагаю пойти в ресторан и покутить там как следует. Чтобы небу жарко стало!
— Небу или нёбу?
— Глупо! Ну, говори… свое мнение!
— Я вообще не против, — уже серьезно сказал Петя Горелкин, — тем более что я лично давно не кутил… Последний раз мы кутили с папой летом, только мы не в ресторане кутили, а в «Кафе-мороженом». Я съел три порции шоколадного и выпил целых пятьдесят граммов портвейна. Мама нас потом ругала ужас как!
— Мальчишка! — сказал Митя Корюшкин. — Деньги у тебя есть?
— Наскребу!
— Наскреби побольше.
— Слушай, а нас пустят в ресторан?
— Меня-то пустят! — солидно заметил Митя Корюшкин. — Меня буквально везде и буквально все принимают за студента. А вот тебя… тут могут возникнуть трудности. Но я все продумал. Надо сразу, как только мы войдем в ресторан, дать минимум пятерку на чай швейцару. Понимаешь? Он открывает дверь, я в ту же секунду сую ему в лапу минимум пятерку и… будь здоров! Понимаешь? Главное — это произвести впечатление, проскочить через швейцара и проникнуть в зал. А потом уж мы найдем укромный уголок, где можно покутить спокойно.
— А вдруг… выведут?
— Не выведут! А выведут — уйдем, подумаешь, какая беда! И пойдем в другой ресторан.
— А если и из другого выведут?
— Ты что, трусишь? Говори прямо!
— Я не трушу, но надо все предусмотреть!
— Все предусмотрим, не беспокойся! — сказал Митя Корюшкин, охваченный своей идеей. — В частности, ты скажи дома, что пошел ко мне заниматься английским, а я скажу, что пошел к тебе заниматься по алгебре.
— А если мои позвонят твоим или твои моим и выяснится, что тебя нет у меня, а меня нет у тебя, тогда что?
— Не позвонят! А в общем что-нибудь придумаем. Значит, завтра кутим! Условились?
— Условились! — сказал Петя Горелкин, и друзья крепко пожали друг другу руки.
Все удалось как нельзя лучше. Могучий бородач швейцар в ливрее и фуражке с золотым галуном пятерку принял благосклонно и, распахнув перед юными кутилами массивную дверь ресторана, еще и козырнул им с элегантной небрежностью. Раздеться в гардеробе тоже удалось без приключений. И вот перед друзьями засиял долгожданный просторный и высокий ресторанный зал. За столиками, покрытыми белоснежными скатертями, сидели нарядные мужчины и женщины. Посетителей в этот час было немного, и в зале царила торжественная тишина, нарушаемая лишь звяканьем посуды. Официанты в черных костюмах, держа металлические подносы с тарелками, соусниками и блюдами на вывернутых ладонях, с цирковой ловкостью скользили по сверкающему паркету. Пахло чем-то очень вкусным.
— Давай не пойдем дальше! — прошептал Петя Горелкин, очарованный открывшимся перед ним зрелищем. — Давай здесь постоим.
— Иди за мной, трус! — прошипел Митя Корюшкин и храбро двинулся, вперед.
Блудливо озираясь, Петя Горелкин пошел следом за ним, стараясь ступать по паркету как можно тише.
Они сели за свободный стол у окна. Сейчас же перед ними возник пожилой официант с аккуратным седым «ежиком» на голове и молча положил на стол карту кушаний и напитков. Как было условлено заранее, опытный Митя раскрыл прейскурант и, лихорадочно складывал и вычитая в уме двухзначные цифры, стал составлять меню роскошного ужина.
— Митя! — вдруг шепотом сказал Петя Горелкин.
— Ну, что тебе еще?
— Пойдем за другой стол, я не могу за этим кутить!
— Почему?
— Он стоит и… смотрит!
— Кто «он»?
— Официант!
— А по-твоему, он должен лежать на полу лицом вниз, пока мы выбираем, да?
— Он… похож на папу. Понимаешь?!
— Глупости! Абсолютно не похож!
— Посмотри хорошенько. Если он наденет очки, он будет вылитый папа!
В эту минуту официант подошел к столику наших героев, достал из кармана пиджака роговые очки и, надев их на длинный тонкий нос, нагнулся к Мите Корюшкину. Петю Горелкина как ветром сдуло из-за стола. Ничего не сказав пораженному официанту, Митя Корюшкин бросился в погоню за сплоховавшим Онегиным. Догнав его, он крепко схватил Петю за, рукав и почти поволок в другой конец зала.
Здесь Мите Корюшкину приглянулся столик у стены. Они уселись. Подошел другой официант, молодой, с помятым лицом и красноватыми, невыспавшимися глазами. Подавая Мите прейскурант, он сказал с игривой фамильярностью:
— Выбирайте, молодые люди, что будем пить-кушать, в один момент вас обслужу!
На этот раз Митя справился со своей задачей довольно быстро. Все подсчитав и тщательно проверив в уме, он сказал важно:
— Закажите ним, пожалуйста, котлеты!
— Какие прикажете котлеты — киевские, де-воляй, морешель, отбивные из кур, телячьи?
— Обыкновенные человеческие котлеты.
— Человеческие? Понятно. Две порции?
— Нет. Одну!
— Одну порцию человеческих котлет? — переспросил официант, уже не скрывая насмешки.
— Да, одну! А на сладкое, если можно, дайте нам, пожалуйста, суфле-сюрприз!
— Одно?
— Одно… в общем.
— А ложек, понятно, две?
— Две… если можно!
— Понятно! — сказал официант. — Будут вам и ложки, будет и сюрприз! Пить что будем, молодые люди?
— Вино. Бутылку. Одну. Целую.
— Целую бутылку?! Понятно! Один момент!
Официант, посмеиваясь, ушел и действительно не заставил себя ждать. Он принес и поставил на стол металлическую тарелку, на которой сиротливо покоились две крохотные котлетки и горка мелко нарезанного жареного картофеля, откупорил бутылку армянской малаги и, налив вино в рюмки, деликатно исчез.
Друзья по-братски разделили картошку, взяли каждый по котлетке, подняли рюмки, лихо чокнулись и выпили вино, которое показалось им дьявольски вкусным.
— «Еще бокала жажда просит — залить горячий жир котлет», — напыщенно продекламировал Митя Корюшкин и налил по второй.
— Какое безобразие! — громко сказал усатый железнодорожник в сером форменном кителе с маленькими светлыми паровозиками на погонах. Он сидел за столиком с пожилой полной женщиной — по всей видимости с женой — вблизи от наших героев и теперь глядел на них страшными, мечущими молнии глазами.
— Коля, оставь! — робко сказала ему жена.
— Безобразие! — еще громче произнес железнодорожник. — Всяких молокососов пускают в ресторан!.. Сидят и выпивают, скажите пожалуйста!.. И ведь еще школьники, наверное!
— Коля, не надо!.. — повторила жена. — Вечно ты, ей-богу!..
Но усач ее не слушал и продолжал бушевать:
— Вот из таких потом и получаются разные там «стиляги». С таких лет по ресторанам шляются, как вам это понравится!.. Нет, я не могу! Я должен, я пойду к директору!
Усатый Коля решительно встал, сорвал салфетку, засунутую под воротник кителя, бросил ее на стол и куда-то пошел.
Друзья тревожно переглянулись.
Вдруг толстый красномордый мужчина, похожий на побрившегося деда-мороза (он сидел один через стол от железнодорожника), встал и, покачиваясь, подошел к их столику.
— Обижают?! — сказал он пьяным голосом и громко икнул. — Затирают молодежь?! На каком законном основании?! Молодым везде у нас дорога. Правильно я говорю?
Он тяжело плюхнулся на свободный стул и уставился на подростков бессмысленными, оловянными глазами.
— Правильно! — ответил он самому себе и прибавил: — Не унывайте, ребята! Я — ваш защитник!
С этими словами, придвинув к себе бутылку с малагой, он налил полный стакан и сказал:
— Ну, за ваше! — и залпом выпил.
Потрясенные Митя Корюшкин и Петя Горелкин молчали. А их защитник выпил второй стакан, потом бухнул кулаком по столу так, что тарелки подпрыгнули на воздух, а потом… неизвестно, как это случилось, но все, что было на столе, вместе со скатертью оказалось на полу уже в виде мелких осколков, перемешанных с жареной картошкой.
— Одним словом, не горюйте! — сказал красномордый окаменевшим друзьям, словно ничего и не произошло. — Положитесь на меня! Я сейчас вернусь!..
Он поднялся и вышел из зала, прежде чем Митя и Петя успели опомниться.
— Митька! — не сказал — прошелестел Петя Горелкин. — Вот теперь-то уж обязательно надо давать ходу!
Но «давать ходу» было поздно. К их столу подходили усатый железнодорожник, молодой официант, явно оконфуженный, и лысый мужчина с сердитым лицом восточного типа.
— Полюбуйтесь, товарищ директор! — сказал железнодорожник. — Видите, что у вас делается? Вы узнайте их фамилии, адреса и в школу сообщите!
— А мы не школьники! — все еще храбрясь, сказал Митя. — Мы студенты. И моя мать мне дает деньги. И вообще… она ничего не имеет против! И вообще… дайте жалобную книгу!
Но тут случилось то, чего Митя Корюшкин в глубине души опасался больше всего: Петя Горелкин вдруг расплакался, как маленький. Утирая накрахмаленной салфеткой слезы, бурно катившиеся по щекам, он забубнил:
— Товарищ директор… только не сообщайте моей маме… пожалуйста… потому что моя… она имеет против!..
— Орошу пройти ко мне в кабинет! — сказал директор нехорошим, зловеще-вежливым голосом.
…Через полчаса Митя Корюшкин и Петя Горелкин, понурые и несчастные, возвращались домой.
Говорить ни о чем не хотелось. Да и о чем они могли говорить?!
Вздохнув, Митя Корюшкин задумчиво произнес:
— Да-а, скучновато получилось!
А Петя Горелкин судорожно втянул носом морозный воздух и сказал убежденно:
— Чем так купить, так уж лучше совсем не кутить!
И он был, безусловно, прав.
1954
II

ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК

Война шла к концу. Солнце победы уже восходило.
Нашу фронтовую газету, в которой я служил, занимая штатную должность писателя, перебрасывали по железной дороге с одного фронта на другой, и это было отличное путешествие.
В самом лучезарном настроении мы с майором Тесленко вышли ночью из вашего классного вагона на пути большой узловой станции, разбитой «Юнкерсами» еще в начале войны. Между рельсами мутно белел снег, но ветер, насыщенный влагой, шумел уже по-весеннему.
Майор Тесленко, наш секретарь редакции, будучи по натуре человеком глубоко штатским, хотел казаться настоящей «военной косточкой». С этой целью низенький, худой и сутулый Тесленко затягивал пояс на шинели до того, что дышал с трудом, а вместо нормального пистолета в кожаной кобуре носил трофейный парабеллум в огромном деревянном футляре, который больно бил его по бедру при ходьбе.
Кроме того, Тесленко на все вопросы отвечал в категорической и определенной форме. Ведь «военная косточка», занимающая столь высокое положение в редакции, должна все знать! К черту всякие штатские неясности, неопределенные междометия и увиливания!
Слушая, как маленький Тесленко обсуждает военные проблемы, можно было подумать, что он, Тесленко, по своей осведомленности — первый (после маршала Жукова) человек в армии! При этом он был отличным газетчиком и добрым товарищем.
Вот он меня тогда и подвел — майор Тесленко, милая «военная косточка».
Бес дернул меня за язык, и я спросил его:
— Ты не знаешь, сколько мы будем здесь стоять?
— Сорок минут! — не моргнув глазом, ответил осведомленный Тесленко.
— Откуда ты знаешь, что именно сорок минут? А может быть, мы простоим сорок пять или тридцать восемь
минут!
— Мы будем здесь стоять сорок минут! — повторил Тесленко таким дьявольски многозначительным и авторитетным тоном, что я с невольным уважением поглядел на его тощую фигурку.
— Значит, я успею сходить на вокзал и посмотреть, что там и как?
— Ты не только успеешь посмотреть, что там и как, ты даже успеешь взять для нас пива. Здесь продают великолепное пиво!
— Откуда ты знаешь, что здесь продают великолепное пиво?
— Здесь продают великолепное пиво! — железным голосом повторил Тесленко. — Обожди, я вынесу тебе бидон.
Он сходил в вагон и торжественно вручил мне жестяной сосуд емкостью в пять литров — гордость редакционного завхоза.
Я взял бидон и пошел через пути на вокзал. Ныряя в кромешной тьме под вагоны и взбираясь на высокие площадки «пульманов», я не особенно торопился, зная, что в моем распоряжении имеется сорок минут.
Пива на вокзале, конечно, не оказалось, но зато в киоске продавали относительно свежие московские газеты и журналы. Я купил их целую охапку и, легкомысленно помахивая своим бидоном, не спеша покинул полуразрушенное, затемненное, гудящее, как гигантский орган, здание вокзала.
Эшелон наш стоял на пятом пути. Обратный путь я проделал быстрее и без особых происшествий, если не считать гибель бидона. Нырнув под товарный вагон, я услышал над головой лязг буферов — состав вдруг тронулся. Я успел выскочить из-под вагона, но уронил бидон, и он упал между рельсами. Я решил обождать, пока пройдет поезд, чтобы поднять «гордость редакционного завхоза». Но состав оказался ужасно длинным. Черные вагонные остовы все мелькали и мелькали передо мной. Казалось, что им не будет конца. На тридцатом вагоне я не выдержал, мысленно простился с красавцем бидоном и уже бегом устремился к пятому пути, где стоял наш эшелон.
Увы, пятый путь был пуст! Где-то далеко-далеко издевательски мигал зеленый глаз семафора.
Худо бывает военному человеку, отставшему от своего эшелона, дорогие товарищи, ох, худо! Бдительные коменданты станций читают ему нотации. Суровые начальники питательных пунктов дают еду с таким скрипом, что кусок не лезет в горло. А когда ты, окончательно изнемогший, догоняешь наконец со случайным поездом на тормозной площадке свой эшелон, твое же начальство встречает тебя нахлобучкой, а товарищи — смехом и нелестными шутками.
Я постоял на пустом пятом пути и бросился назад на вокзал, к коменданту, проклиная Тесленко. Чувства мои в этот момент напоминали эмоции щенка, потерявшего хозяина на шумном уличном перекрестке.
Комендант станции оказался типичным комендантом. Он сидел за столом, уставленным телефонными аппаратами всех видов и размеров, прозрачно-желтый от бессонницы, с красными набрякшими веками. Выслушав мой рапорт, он сказал ровным глухим голосом то, что, наверно, говорил уже не раз в день таким же растяпам, как я:
— Не надо отставать от своего эшелона!
Мне оставалось лишь пожать плечами и опустить грешную голову.
— Номер эшелона знаете?
— Не знаю!
— Надо знать номер своего эшелона! — тем же глухим, равнодушным голосом сказал комендант.
Он заглянул в тетрадь, лежащую на столе, и, назвав цифру, прибавил:
— Идите на десятый путь, там стоит эшелон, который отправляется через пятнадцать минут. Может быть, вы догоните своих через перегон. Советую торопиться!
И вот опять я ныряю под молчаливые зловещие товарные составы и перелезаю через площадки, пробираясь, на десятый путь, где стоит уже под парами спасительный эшелон.
Вот он — десятый путь! Где же эшелон? Эшелона нет!
Я стал вглядываться в темноту. Впереди мелькает красный огонек. Может быть, это сигнальный фонарь задней теплушки эшелона? Я быстро пошел по шпалам на огонек и вдруг услышал смех. Нет, это был даже не смех, а хохот. Дружный хохот многих здоровых мужских глоток. Мне он показался дивной музыкой. Я уже не шел, а бежал туда; где люди смеялись так весело, так дружно, так неудержимо.
Красный огонек действительно оказался сигнальным фонарем последней теплушки длинного товаро-пассажирского состава, а смех раздавался в соседней.
Я подошел, постучал в стенку вагона. Смех смолк, дверь с грохотом отодвинулась в сторону, и я увидел сидевших и лежавших на полу солдат. На табуретке стояла свеча. Молодой человек в общеармейской ушанке, но в шинели травянисто-зеленого цвета не нашего покроя, с узкими погонами, примостившийся у свечи, держал на коленях раскрытую книгу.
Коренастый старшина, открывший дверь, увидел мои офицерские погоны и, обратившись ко мне по форме, спросил, что мне нужно. Я сказал. Он проверил мой документ (на мое счастье мое редакционное удостоверение было со мной) и, подав мне руку, помог влезть в теплушку. В тот же миг состав дернулся, задребезжал и тронулся.
Я прошел в угол и опустился на солому. Старшина сел рядом со мной и шепнул, показав глазами на молодого человека в зеленой шинели с книжкой на коленях.
— Из чешского корпуса. Тоже своих догоняет!
— Что он вам читал?
— Про бравого солдата Швейка. Их писатель Гашек сочинил. Слыхали про такого?
— Слыхал!
— Мы тут животы надорвали, смеявшись! Вот это писатель! Фронтовичок!
И он громко сказал:
— Давай читай дальше, Водичка!
Солдаты подхватили:
— Читай! Читай!
Покосившись на меня, легионер улыбнулся, отчего его круглое здоровое лицо стало совсем мальчишеским, и начал читать.
Читал Водичка отлично. Легкий и очень милый акцент, с которым он произносил русские слова, усиливал неподражаемый юмор Гашека. Я знал «Швейка», что называется, «назубок», много раз слышал отрывки из романа в исполнении первоклассных чтецов, но этот молодой солдат читал «Швейка» по-своему и заставлял как бы заново воспринимать много раз читанное и слышанное. Наверно, тут главную роль играла обстановка… Воинская теплушка… ночь… предчувствие близкой победы… И этот чешский юноша, читающий по-русски русским братьям-солдатам любимого Гашека!
Через минуту я хохотал вместе со всеми, слушая чтение Водички.
В бешеном ритме стучали колеса, эшелон несся вперед, рассекая стальной грудью мощного паровоза сырую беззвездную ночную темень. А чешский солдат все читал нам «Швейка», и мы кричали ему, смеясь до слез:
— Еще! Давай еще, Водичка!..
Захваченные его чтением, мы даже не заметили, как состав стал сбавлять скорость и вскоре остановился. Водичка снова положил книжку на колени. Кто-то из солдат недовольно сказал:
— Черт эти станции выдумал!
Коренастый старшина поднялся и открыл дверь теплушки. Холодный ветер ворвался в наше убежище и колыхнул пламя свечи.
Старшина выглянул из теплушки и сказал мне:
— Посмотрите, товарищ майор, уж не ваших ли мы догнали!
Я подошел и увидел стоящий на соседнем пути эшелон с классным вагоном посреди состава. У вагона на путях кто-то стоял. Присмотревшись, я узнал маленькую фигурку Тесленко с его осиной талией.
Я простился со своими спутниками, пожал руку Водичке и побежал к своему эшелону.
Тесленко — это был он! — увидев меня, обрадовался, но, сдержавшись, спросил так, как будто ничего не произошло:
— А где бидон?
— Пропал без вести! — с удовольствием ответил я. — Отдай в приказе.
Тесленко пробурчал:
— Шпак — он всегда шпак! — И не стал меня ни о чем расспрашивать.
Раздался свисток нашего паровоза, и мы полезли в вагон.
1955
ШОК

Счастье — понятие относительное. Что такое, например, солдатское счастье?
В том немецком полку, в котором служил во время войны Иоганн Кюхель, уроженец маленькой австрийской деревушки, расположенной в долине Дуная недалеко от Вены, счастьем считалось потерять левую руку. Ведь с одной правой рукой жить можно! Хуже остаться совсем без рук или без ног. А еще хуже — не вернуться на родину вовсе, навсегда лечь в чужую мерзлую землю под чужим неласковым небом.
Поэтому с точки зрения однополчан Иоганн Кюхель был самым доподлинным счастливчиком: его погрузили в санитарный поезд целехоньким, с руками и с ногами, безо всяких телесных повреждений. С ним произошло другое.
Получилось так, что полк угодил в русский котел и варился в нем целых две недели. Сдаться в плен Иоганну Кюхелю не удалось — очень уж свирепствовали бдительные полевые жандармы. Когда жалкие остатки полка через узкую трещинку в стальной стенке котла вытекли наружу, Иоганн Кюхель был готов. Нет, он не был трусом, просто нервы его не выдержали напряжения непрерывных боев и шквального огня русской артиллерии. Он стал заикаться, в разговорах с товарищами нес чепуху, и во взгляде его серых, женственно-красивых глаз появилось выражение затравленности и страха.
В тыловом белорусском городке разгромленный, потерявший три четверти состава полк выстроили на площади. Оборванные, угрюмые, худые солдаты встали в одну шеренгу. Приехавший на смотр генерал, командир корпуса, надменный пруссак с остекленевшими глазами и гордо, по-гусиному выпяченной грудью, пошел вдоль фронта, раздавая железные кресты и медали бледным оборвышам, более похожим на призраки солдат, чем на лихих гренадеров непобедимой армии «фюрера».
Когда он поравнялся с Иоганном Кюхелем, стоявшим в строю в середине шеренги, произошла неприятность. Солдат испуганно отвел генеральскую руку с «железным крестом», а когда командир корпуса, недоумевая и негодуя, оглянулся на сопровождавшего его майора, заменившего убитого командира полка, жалко улыбнулся и, сложив губы трубочкой, причмокнул ими громко и крайне неприлично.
Пепельно-серое лицо генерала стало белым, он коротко через плечо бросил майору:
— Убрать идиота! — и пошел дальше по фронту.
Сразу же после смотра Иоганна Кюхеля отправили в госпиталь. Врачи признали его негодным к дальнейшему несению военной службы, и уже через неделю он уехал домой. Военная его карьера была окончена.
С тех пор прошло много лет. Много бурь пронеслось над черепичными крышами маленькой австрийской деревушки, в которой — теперь уже на положений инвалида — жил бывший гитлеровский солдат Иоганн Кюхель. А новые времена принесли людям новые страхи и новые тревоги. (В деревушке говорили об атомных бомбах, об американских военных приготовлениях, о тучах, сгущающихся на западе.) И только один Иоганн Кюхель был спокоен.
Он делал всю крестьянскую работу, ухаживал за своим виноградником, но все делал кое-как, словно во сне. Он жил, не замечая, что он живет. Его жену Марту — здоровую, полногрудую женщину — кумушки слишком уж часто встречали в укромных местах вдвоем с мельником Кранцфельдом, местным богачом. А Иоганну было все равно! И попрежнему стоял нетающий страх в его красивых глазах — будто, почти оглохнув от первого разрыва тяжелого снаряда, ждет солдат второго, третьего, четвертого, пятого!..
Деревенские озорники любили дразнить его. Они кричали ему в спину:
— Русские идут! — И когда Иоганн, втянув голову в плечи, пускался бежать по улице, хохотали, улюлюкая и визжа от удовольствия.
Летом 1954 года деревушку постигла большая беда. Несколько недель подряд во всей округе бушевали небывалые ливни, они переходили в снегопад, а потом снова в хлесткий, сильный, холодный дождь. Старухи уверяли, что это начался новый всемирный потоп, пастор советовал молиться и уповать на милость божию, а кое-кто утверждал, что этот циклон — последствие испытаний американской водородной бомбы в Тихом океане. Дунай вздулся, пожелтел и наконец, прорвав последним яростным штурмом дамбы и валы, затопил всю долину. Разлились и его притоки. Огромные пространства плодородной земли с городами и деревнями стали желтым пенящимся морем. Погибло много людей и скота.
Деревушку, в которой жил Иоганн Кюхель, тоже затопило. Люди опасались на крышах домов и на высоких деревьях.
Было мрачное, холодное утро. Дождь ослабевал, но эскадрильи тяжелых, набухших облаков продолжали свой стремительный, зловещий полет. Иоганн Кюхель, Марта и мельник Кранцфельд, продрогшие, полуживые, скорчившись, сидели на крыше кирхи среди других жителей деревни, которых загнало сюда великое бедствие.
Жалобно мычали, блеяли, лаяли и ржали тонущие животные, громко плакали голодные, напуганные дети, стонали старики и старухи. И все же эти надрывающие душу звуки не могли заглушить ровный, то утихающий, то усиливающийся плеск падающего в воду дождя.
Вдруг новый звук ворвался в эту печальную какофонию. Это был веселый, сильный перестук моторов.
Люди на крыше вскочили, стали слушать. Да, это стучат моторы! Значит, идет помощь! Спасены!
Одни, упав на колени и подняв руки к разверзшимся небесам, громко благодарили бога, другие просто кричали от радости, размахивая платками и шляпами. Сквозь мутную, белесую пелену дождя уже можно было различить странные, ни на что не похожие силуэты подходивших моторок.
Всмотревшись, мельник Кранцфельд крикнул:
— Это русские идут!.. На своих амфибиях!..
Никого не удивил этот выкрик: деревня входила в русскую зону оккупации, и жители знали, что советские солдаты стоят в городке, расположенном на возвышенности, в пятидесяти километрах от деревни.
На крыше поднялась радостная суматоха, и никто не заметил, как Иоганн Кюхель, услыхав крик мельника, вздрогнул, втянул голову в плечи и стал быстро-быстро карабкаться по крыше наверх, пока не добрался до самого ее гребня. Здесь он замер, с ужасом глядя на подплывающую амфибию с русскими солдатами на борту.
Амфибия остановилась, и советский офицер, молодой человек, почти мальчик, с румяным озябшим лицом, в сером, потемневшем от дождя плаще, поднялся и громко, так, чтобы все на крайне слышали, крикнул по-немецки:
— Я — лейтенант Советской Армии Макар Голубев. Слушайте меня. Все будут спасены. Только — без паники!..
Мельник Кранцфельд сейчас же подполз на брюхе к краю мокрой крыши. Он хотел первым спуститься вниз по водосточной трубе, но русский офицер остановил его властным окриком:
— Сначала женщины и дети!
Действуя быстро и ловко, советские солдаты установили привезенные ими лестницы, взобрались на крышу и на руках стали спускать в амфибию ребят и женщин.
Маленький мальчик, сидевший на крыше с перепуганным насмерть щенком на коленях, громко заплакал, когда молодой белобровый русский сержант хотел взять его на руки: мальчик боялся не за себя, а за щенка. Он решил, что собачонку оставят на крыше. Но сержант понял причину детских слез и энергичными жестами показал мальчику, чтобы тот покрепче держал щенка. Потом он осторожно, словно хрупкий сосуд, одной рукой прижал к себе ребенка с собакой и бережно спустил в амфибию свой двойной груз.
Когда все женщины и дети были сняты с крыши, принялись спасать стариков. Тут всех насмешил семидесятилетний Карл Бухгейм, славившийся в деревне своими чудачествами. Он молодцевато выкрикнул, что спустится вниз сам, без посторонней помощи, как полагается бывшему «гусару смерти» старой австрийской армии. Лейтенант Голубев, улыбаясь, перевел солдатам слова старого чудака, и белобровый сержант Даниленко под общий хохот сказал:
— Я, товарищ лейтенант, на всякий случай буду дедушку страховать… а то как бы этот «гусар смерти» не перешел в другой род войск — в подводники!
Предосторожность сержанта оказалась не лишней, потому что на середине лестницы у «гусара смерти» закружилась голова, он покачнулся и наверняка бухнулся бы в воду, если б Даниленко, спускавшийся сзади, не поддержал старика своей крепкой рукой.
Наконец все оказались в амфибии, и лейтенант Голубев уже собрался скомандовать отплытие, как вдруг заметили распластавшуюся на гребне крыши плоскую фигуру Иоганна Кюхеля.
— Стоп! — сказал лейтенант. — Там еще один остался!
Тогда мельник Кранцфельд, покосившись на сидевшую рядом с ним безмолвную, ничего не замечавшую, как бы окаменевшую Марту, подобострастно улыбнулся и шепнул лейтенанту:
— Не стоит из-за него беспокоиться, господин офицер. Это — дурачок, совсем ненужный человек. Он… сам… как-нибудь! Едемте скорей!..
Лейтенант Голубев так посмотрел на мельника, что тот весь съежился и отвел глаза, и скомандовал:
— Даниленко! Надо снять человека!
Очнувшись, Марта Кюхель тихо сказала:
— Спасите его. Это мой муж!
Белобровый сержант скинул с себя сапоги, сказал, что «босиком будет способней», быстро залез на крышу и, пригнувшись, стал карабкаться по ее скату, приближаясь к Иоганну Кюхелю. Тот уже стоял во весь рост, и вся его дрожащая тощая фигура выражала страх.
Вот Даниленко оказался почти рядом с ним, протянул ему руку. Но Иоганн Кюхель сделал шаг в сторону. Потом он стал быстро спускаться вниз по крыше. Даниленко спускался следом за ним, крича по-русски:
— Куда ты, геноссе? Убьешься, дурень!.. Обожди!..
Потом сидевшие в амфибии люди увидели, как бедняга, словно петух, преследуемый кошкой, отчаянно взмахнул длинными руками-крыльями, как бы собираясь перелететь с одной крыши на другую, и вдруг тяжело рухнул вниз, в воду. Мгновенно классической «ласточкой» Даниленко кинулся туда же, в кипящий желтый водоворот. Он во-время подплыл к захлебывающемуся австрийцу, уносимому сильным течением и уже терявшему сознание, и схватил его за волосы. С амфибии ему бросили спасательный круг. Не прошло и десяти минут, как их обоих втащили на борт.
Русские солдаты бережно уложили дрожавшего мелкой дрожью Иоганна Кюхеля, голова его оказалась на коленях Марты. Мокрые, спутанные волосы Иоганна прилипли к его бледному лбу, нос заострился, глаза были закрыты. Он казался мертвецом. Но вот он открыл глаза и увидел склонившегося над ним лейтенанта Голубева с фляжкой в руках, и всех поразила непривычная осмысленность его взгляда.
— Выпейте! — сказал ему лейтенант Голубев. — Это русская водка. Вам полезно!
Иоганн Кюхель охватил руку Голубева с фляжкой и прижал ее к своей груди, потом, приподнявшись, сделал глоток, сморщился, улыбнулся как-то по-детски счастливо и снова опустил голову на колени жены.
Лейтенант Голубев скомандовал отплытие.
Недели через три, когда Дунай уже вошел в свои берега и пострадавшие от наводнения люди вернулись в полуразрушенные жилища на старые места, в казармы полка, в котором служил лейтенант Макар Голубев, явился Карл Бухгейм, бывший австрийский «гусар смерти». Лейтенант вышел к нему на казарменный двор. Старик — в черной паре и праздничной шляпе с традиционными перышками — был слепка «под хмельком», но держался с достоинством и не без торжественности.
Он долго тряс руку лейтенанту и благодарил его «от имени всего нашего народонаселения», а потом сказал:
— Вы знаете, господин лейтенант, вот этот наш Кюхель Иоганн… которого вы вытащили из воды… он был совсем… — тут старик постучал пальцем себе по лбу, — а сейчас парня не узнать!.. Пастор говорит, что это шок налетел на шок и второй шок выбил к черту первый шок!.. Вы его напугали, вы его и вылечили, выходит!
«Гусар смерти» засмеялся скрипучим смехом и стал набивать табаком свою короткую трубочку.
— А почему вы решили, что парень избавился от шока и стал нормальным? — спросил его лейтенант Голубев.
Старик не спеша зажег трубку, раскурил ее как следует и потом, уже вынув трубку изо рта, сказал:
— О человеке надо судить по его поступкам — правда? Пока разумного он сделал немного. Но уже кое-что сделал. И это кое-что означает, что парень встал на правильный путь в своей жизни.
— А что же он все-таки сделал разумного, господин Бухгейм?
— Он так отколотил эту скотину — мельника Кранцфельда, что тот и носу не кажет к его Марте. Я вам говорю: парень встал на правильный путь!..
Они долго еще стояли вдвоем на казарменном дворе и разговаривали.
Прощаясь со стариком, лейтенант Голубев отдал ему воинскую честь, и тот в ответ, лихо щелкнув каблуками, тоже вскинул сморщенную руку к своей шляпе с перышками и еще раз повторил:
— Благодарю… от имени всего нашего народонаселения!
1954
ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ
Летит как пух от уст Эола!
А. Пушкин

В воскресенье Сережа ездил провожать Наточку на аэродром. Хотел на прощанье сказать все, и даже сложилась в голове фраза, красивая, звонкая: «Наточка, помни, улетая, что в Москве тебя ожидает верное и любящее сердце друга!» — но вдруг, как всегда неожиданно, по радио объявили посадку на самолет.
Наточка заторопилась. Сережа подхватил ее чемоданы, отдал их пожилому усатому носильщику с тележкой, и они пошли к выходу на летное поле. Здесь бы и сказать красивую фразу про верное и любящее сердце, но из Сережиных уст почему-то вылетело совсем другое — косноязычное, угловатое:
— Ты смотри, Ната… того… этого… не посрами, как говорится… земли русской!
Наточка приложила узкую ручку в тугой лайковой перчатке к золотистым кудрям, по-военному щелкнула каблуками туфелек.
— Есть не посрамить земли русской! — Она засмеялась и прибавила: — Я тебе напишу… оттуда!.. До свиданья, Сережа!
Потом Наточка вместе с другими пассажирами долго шла по полю. Самолет ждал ее, раскинув сильные, надежные крылья, огромный, рыбомордый, отсвечивающий серебром. Сережа смотрел на удалявшуюся Наточкину фигурку и, тревожась, думал: оглянется или не оглянется?
Оглянулась, помахала рукой! Тоненькая, стройная, как на карточке, где снята еще школьницей, когда никому и в голову не приходило, что эта озорная большеглазая московская девочка станет восходящей звездой русского балета.
А потом Наточка улетела. И хотя небо над аэродромом продолжало гудеть и рокотать, потому что взлетали и садились другие самолеты, Сереже оно казалось удивительно скучным и пустым.
Он вернулся в здание аэровокзала, подошел к окну справок и, назвав номер Наточкиного рейса, спросил, какая ожидается погода на трассе. Очень вежливая девушки в синем форменном кителе ответила серьезно:
— Прогноз хороший!
— Значит, сегодня долетят?
— Если погода позволит, долетят.
— Вы же сказали, что прогноз хороший?!
Вежливая девушка нахмурила подбритые бровки, сказала наставительно:
— Метеорология — наука молодая, гражданин.
…Прошли понедельник, вторник, среда, четверг — Наточка молчала. На заводе, где Сережа работал сменным инженером, были трудные дни. Сережа возвращался домой поздно ночью, валился на кровать и сразу же засыпал чугунным сном. Только в пятницу на заводе наконец все вошло в свои берега.
Сережа выспался, сходил в Сандуны, побрился и в субботу вечером без всякого телефонного предупреждения поехал к Наточке домой, на Сретенку, чтобы у ее родителей узнать все новости про нее.
Ни Ивана Павловича — Наточкиного отца, педагога, ни матери — Варвары Сергеевны дома не оказалось: ушли в Дом учителя на какой-то доклад. Дома была одна бабушка Ариадна Георгиевна — глуховатая и поэтому говорившая очень громко, чрезвычайно энергичная, но довольно бестолковая старуха. Она долго не хотела пускать Сережу в квартиру. Он стоял на площадке пятого этажа, а старуха кричала через дверь так, что было слышно на первом:
— Какой Сережа Копылов? Насколько мне известно, в Наточкином… репертуаре нет никакого инженера Сережи!..
— Ради бога, не надо так громко… Я — Сережа Копылов, Наточкин товарищ по школе… я у вас мальчиком еще бывал в доме!
Пауза. И снова крик за дверью:
— А почему вы бросили балет и стали инженером?
— Да я не в балетной школе учился с Наточкой. Я с ней… по общеобразовательной. Наши школы рядом были… Вечера устраивали вместе.
— Ну, это давно было! Еще до того, как я зубы себе сделала. Приходите завтра, когда наши дома будут, разберемся. До свидания, товарищ инженер Сережа!
— Не уходите! — отчаянно закричал теперь уже сам Сережа. — Умоляю, откройте дверь, так же нельзя разговаривать.
— А вдруг вы… с неблагородными намерениями?
— Откройте — и вы сразу увидите, что я с благородными намерениями!
— Голубчик, — захихикала старуха за дверью, — вы за маленькую меня принимаете, что ли? Когда я дверь открою, поздно уже будет разбираться!
С большим трудом Сереже удалось в конце концов уговорить подозрительную Ариадну Георгиевну приоткрыть дверь, но сам он по ее требованию опустился по лестнице на один марш вниз и стоял там, пока старуха не пришла к твердому выводу, что намерения у Сережи действительно благородные. Сережа вошел в переднюю маленькой, но уютной квартирки. Старуха еще раз внимательно осмотрела его с ног до головы и, окончательно успокоившись, сказала:
— Теперь я вас вспомнила! Вы были такой… коротенький стриженый мальчик… На Наточкин день рождения я приготовила свой знаменитый ореховый торт, и вы съели столько, что вам сделалось плохо.
Такого случал в Сережиной биографии те было, по чтобы не вызывать новых опасений у старухи, он развел смущенно руками и сказал извиняющимся тоном:
— Ребенок! Что вы хотите!
Через полчаса они с Ариадной Георгиевной стали друзьями. Сережа сидел в комнате за круглым обеденным столом, пил чай, глядел на большую Наточкину фотографию на стене (в белой «лебединой» пачке стоит на пуантах, напружинены стройные крепкие ножки, в милых, чуть прищуренных глазах вдохновение, еще миг — и… полетит, «как пух от уст Эола!») и слушал, что рассказывает Ариадна Георгиевна, волнуясь от ее болтовни до острой боли в висках.
— Наточка звонила во вторник… успех потрясающий… сам премьер-министр прислал ей огромный букет красных роз. А вчера пришла телеграмма… опять был потрясающий успех… и премьер-министр прислал букет чайных роз… Я написала Наточке, чтобы она все эти розы выставляла на ночь на балкон, а то голова будет болеть от ароматов!.. Что вы такой грустный стали, товарищ инженер Сережа?
— Я!? Нет, ничего, Ариадна Георгиевна!
Старуха хихикнула, как тогда, за дверью и сказала не без игривости:
— Не бойтесь, Наточка — патриотка, она не выйдет замуж за этого премьер-министра. Говорят, она вернется и опять улетит. Теперь в Нидерланды! Нидерланды — это, кажется, родина тюльпанов? Воображаю, как ее там будут засыпать тюльпанами! А потом, говорит, их пошлют в Канаду.
Сережа тяжело вздохнул и сказал бодро:
— Культурный обмен, ничего не поделаешь. Балет идет в первой шеренге, это понятно: язык балета — язык общечеловеческих чувств!
А сам подумал: «Букеты из роз, министры, дипломаты, мировая пресса, успех потрясающий. А я? Кто я? Рядовой инженер!.»
Как бы подслушав его мысли, старуха спросила:
— Вы не изобретатель, товарищ инженер Сережа?
— Нет… пока!
— Вам обязательно надо что-нибудь изобрести… какую-нибудь там гайку… или втулку — я плохо разбираюсь в технике, — о вас тогда тоже будут писать в газетах… как о Наточке.
Сережа уже собирался уходить, как вдруг на маленьком столике в углу зазвонил телефон. Звонок был резкий, продолжительный.
— Междугородный! — ахнула Ариадна Георгиевна. — Это она!
Старуха охватила трубку и закричала:
— Я, я, слушаю!.. Сейчас соединят! — сказала она Сереже, улыбаясь всеми своими морщинками.
Прошло пять томительных минут — словно пять веков. И вот Ариадна Георгиевна снова закричала в трубку:
— Натуся, Наточка, это я!.. Да, да, бабушка!.. Папы и мамы дома нет, они в Доме учителя на докладе, со мной говорить бесполезно, все равно не услышу или перепутаю, здесь сидит товарищ инженер Сережа, которого ты от меня почему-то прятала, говори с ним.
Она сунула в руки Сереже трубку.
— Говорите же! Я не буду вам мешать!
Когда старуха деликатности ради вышла из комнаты, Сережа, кашлянув, сказал:
— Наточка, это действительно я. Здравствуй!
Наточкин голос, далекий, но отчетливый, родной, затрепетал в трубке:
— Сережа, милый, как ты к нам попал?
— Очень беспокоился, что ты не пишешь!
— Вчера послала тебе открытку. Как ты живешь?
— В общем ничего. А ты как?
— Тоже ничего. Не посрамила земли русской. В газетах — целые дифирамбы!.. Сережа, милый, здесь очень дорого стоит телефон, давай говорить о самом главном… Какая погода у вас?
— Хорошая! Дождь идет!
— Милый московский дождь! Передай ему привет. А здесь тепло, сухо. Очень хочется домой, Сережка! Ты меня встретишь?
— Обязательно! Уж как-нибудь вырвусь!
— Принеси мне на аэродром букет!
— У тебя, кажется, их и так хватает!..
— Букет из листьев клена и осины. Помнишь, мы собирали на Ленинских горах? Красные, желтые!.. Я ужасно их люблю. Принесешь, Сережа?
— Обязательно!
— Сережа, мы решили говорить о главном, а я болтаю сама не знаю о чем. У тебя есть что-нибудь важное мне сказать?
— Есть! Наточка, помни, что тебя в Москве… ожидает верное и любящее сердце друга!
— Ох, как торжественно! А нельзя ли проще, конкретнее?
— Проще?.. Ната… Наточка… прилетай скорей… Я тебя люблю невероятно, чудовищно…
— Я — тоже, но это не телефонный разговор, Сережа, милый… Обо всем поговорим в Москве… У меня через час концерт… Я так буду сегодня танцевать, что они тут все со стульев попадают… Сережа, милый, только я ведь все время… в разлетах… Ничего?
— Я к этому готов! Культурный обмен, ничего не поделаешь!..
— А почему ты до сих пор молчал, только вздыхал, как десятиклассник? Хотя не надо, не говори, ты себе не представляешь, как дорого телефон стоит… Сережа, милый, до свидания! Целую тебя, Сережа!.. Обождите, не разъединяйте!..
В тот же день поздно вечером, почти ночью, уже после концерта, прошедшего с триумфальным успехом, Наточка сидела в театре за кулисами, в своей уборной, и принимала знаменитого театрального критика с мировым именем.
Критик, вымытый до сияния, розовощекий, неопределенного возраста — не то сорок, не то все шестьдесят, — в белоснежной сорочке с брильянтовыми запонками и в черном строгом смокинге, говорил по-русски, беспощадно коверкая произношение слов:
— Я видаль Анна Павловна и ваша Галина Уланова, но я не — как это сказать — не по-доз-рительствовал, что ваши молодие сили есть такой грандиозной сили! Вы растопиль сегодня наша — как это сказать? — крах-мальная публика. Я не есть поклонник ваша социальная система, но я обязан признать, что Советский Союз развиваль великий русский балет!..
И, склонив набриолиненную голову, он целует Наточкину руку.
Прощаясь, критик спрашивает Наточку, что ее ожидает в Москве, когда она туда вернется.
— Работа! — говорит Наточка и вдруг, озорно, по-московски, по-русски, тряхнув золотистыми кудрями, добавляет: — И любящее, верное сердце друга.
1955
ВЕСНА

Нигде так много не курят, как в редакциях и издательствах.
Литературный труд располагает к курению. Сочиняя, писатель курит, дабы помочь вдохновению. Редактор, зарезав его рукопись, тоже курит, для того чтобы притупить неприятное чувство, похожее на ту брезгливую жалость, какую испытывает повар, полоснув ножом по горлу петуха, обреченного стать котлетами.
Но больше всего курят в литературных консультациях, в этих маленьких чистилищах, куда начинающие писатели в возрасте от пятнадцати и до семидесяти пяти лет приносят свои стихи, поэмы, рассказы и романы и получают ответы, как правило, в стандартно-обтекаемой форме. Нередко здесь крупинкой чистого золота блеснет талант, но и отходы не малы!
Кабинет заведующего литературной консультацией издательства «Факел» ничем не отличался от других подобных кабинетов. Он был прокурен так, что даже уборщица тетя Настя — уж на что выносливое создание! — и та однажды потребовала в качестве спецодежды противогаз, чтобы в безопасности произвести уборку. Издательские остряки уверяли, что в этом кабинете все курят — даже бронзовые львы на ручках кресел, даже хмурые классики на портретах. Они курят ночью, когда в издательстве никого нет и лишь голодные мыши, постукивая острыми коготками по паркету, нарушают ночную тишину. Классики курят и обсуждают насущные проблемы отечественной литературы. Ах, какие это, наверно, интересные разговоры, не похожие на иные наши разговоры и дискуссии!
Свой рабочий день поэт Антон Трофимов, заведующий литературной консультацией «Факела», как всегда, начал с того, что закурил сигарету «Астра». Настроение у поэта было отвратительное, и к тому были веские причины: у него давно уже не ладилась начатая поэма о целине. За широким окном кабинета, в полном несоответствии с настольным календарем, скучно кружились белые мухи запоздалого снега, навевая тоску на нежную душу Антона Трофимова. Он докурил сигарету, вздохнул и с отвращением подумал, что начавшийся день не сулит ему ничего хорошего. Сейчас начнут являться посетители. Наверно, придет какой-нибудь начинающий сорокапятилетний графоман, начнет нудно жаловаться на журналы, которые отвергли его повесть из производственной жизни банковских инкассаторов на тридцать восемь печатных листов, станет доказывать, что эту повесть необходимо издать отдельной книжкой, и будет курить, курить, курить! Или явится поджарая, краснощекая, седая дама и скажет, что она написала стихи о страсти, которые нужно немедленно издать, потому что «наша молодежь не умеет красиво любить». Она громко — до боли в висках — примется читать свои ужасные вирши и тоже будет курить, курить, курить!
В дверь кабинета робко постучали.
— Войдите! — поморщившись, сказал Антон Трофимов.
Дверь отворилась, и в кабинет заведующего литературной консультацией вошла… Весна.
Когда-то художники иллюстрированных журналов изображали Весну в виде молодой привлекательной женщины в легкомысленном хитоне с разрезом и с венком полевых цветов на неправдоподобно красивой головке. Обычно на таких рисунках Весна куда-то мчалась на нарядной колеснице, в которую деликатные иллюстраторы запрягали не вульгарных кобыл, а белоснежных лебедей.
Весна, вошедшая в кабинет Антона Трофимова, была одета не в хитон, а в стандартное, видавшее виды пальтишко с воротником из меха не то домашней кошки, не то дикого кролика. На голове у нее был не венок из цветов, а лиловый берет, придавивший чертам ее неоформировавшегося, чуть скуластого, симпатично-курносого лица выражение детского доверия к миру и его обитателям. Несомненно, весенними были ее глаза — два бирюзовых озерца, такие чистые, что были видны все камешки, лежавшие на дне души их владелицы.
— Вы… ко мне? — спросит Антон Трофимов голосом князя из «Русалки», увидевшего маленькую русалочку на берегу омута.
— К вам! — сказала Весна. — Вы товарищ Трофимов, да?
— Да, я Трофимов. У вас стихи, наверно?
— Стихи! Мне… можно сесть?
Заведующий литературной консультацией торопливо поднялся и придвинул к посетительнице кресло с бронзовыми львами на ручках. В разъятой пасти правого льва торчал окурок «Казбека», засунутый туда каким-то нервным посетителем. Конфузясь, Антон Трофимов извлек окурок из львиной пасти и, мысленно ругнув тетю Настю за небрежную уборку, сказал:
— Пожалуйста, садитесь! И сначала расскажите о себе. Кто вы? Откуда?
Весна села на кончик кресла и доверчиво подняла на поэта свои бирюзовые очи.
— Меня зовут Смородкина… Аня. Я с Алтая приехала. С целины. Я садоводом работаю.
— Стихи давно пишете?
— Давно! С пятнадцати лет.
— А сейчас вам сколько?
— Сейчас уже восемнадцать. У меня много накопилось стихов, а какие они — хорошие или плохие, — у нас в совхозе не могут определить. Таких специалистов нету. Вот ваши мне и посоветовали: «Бери, говорят, Смородкина, отпуск, катай в Москву, пока зима еще держится и сады сажать рано. Стихи, говорят, — это дело важное, полезное. В Москве посмотрят твои сочинения, скажут, что к чему! А вернешься как раз к весенним посадкам!» Посмотрите, товарищ Трофимов, очень вас прошу. И скажите… — тут Аня Смородкина вдруг перешла на шепот, — что к чему…
Она положила на стол Трофимову толстую общую тетрадь. Бирюзовые озерца потемнели, на скулах выступили розовые пятна.
— Значит, зима еще на Алтае? — спросил заведующий литературной консультацией, инстинктивно не торопясь приступать к такому прозаическому делу, как разбор и анализ стихов.
— Зима! Но весна придет, вы не беспокойтесь! У нас там так: вот зима, зима, снег, метели. А потом сразу как брызнет! И словно праздник какой: все так и засияет кругом!.. У нас хорошо! Степь!..
— О чем у вас стихи, Аня?
— Обо всем. О красивой природе. И о людях, конечно. У нас люди очень замечательные. Тракторист есть Прохоров Вася… Василий то есть, его все знают на Алтае. Он у нас первую борозду провел. Его Степным соколом прозвали. Правда, красиво?
— О нем тоже есть стихи — о Соколе?
— Есть. Он хороший.
Покраснев, она помолчала и прибавила:
— Достойный!
— А недостойные у вас тоже есть?
— Есть. Но на тех карикатуры рисуют. В стенгазете. А которые достойные — про тех стихи!
— Оставьте вашу тетрадку, Аня! — сказал Трофимов, почему-то вздохнув. — Я прочитаю. И приходите… ну, хотя бы послезавтра.
Бирюзовые озерца стали светлыми, умоляющими.
— Прочтите сейчас, товарищ Трофимов! Очень вас прошу! — Тут Аня Смородкина снова перешла на шепот. — И скажите… что к чему!
Заведующий литературной консультацией покорно раскрыл толстую общую тетрадь и стал читать стихи Ани Смородкиной.
Ах, как хотелось ему, чтобы стихи этой девушки с Алтая были настоящими, хорошими стихами, чтобы он мог подняться, протянуть ей руку и сказать: «Да ведь у вас талант, моя дорогая!» Но, увы, стихи были плохие! Даже обилие горячих чувств не искупало их обидной неуклюжести. Предстоял неприятный разговор. Весна заглянула в его прокуренный кабинет с пучком плохо зарифмованных подснежников в руке, а он обязан заморозить этот робкий дар ледяным дыханием своего приговора! Конечно, можно сказать что-нибудь обтекаемое, ни да, ни нет, — но бирюзовые озерца требовали правды, а правда была груба и жестока. Трофимов медленно достал портсигар, вставил в мундштук сигарету «Астра», закурил и… поднялся из-за стола.
— Посидите минуточку, я сейчас! — скакал он и, схватив тетрадь Ани Смородкиной, выскочил в коридор. В сущности это было дезертирством.
В коридоре Трофимов сразу увидел того, кто был ему нужен. Зверь сам набежал на ловца. Зверя звали Федором Ивановичем Топоренко, и он занимал штатную должность редактора издательства «Факел». Товарищи звали его просто «Топор» за резкую прямолинейность суждений и железный характер. Самые неприятные объяснения с самыми нервными и самыми скандальными авторами поручались Топору, и он не без удовольствия рубил с плеча.
Трофимов остановил Топоренко и, смущаясь, кое-как объяснил ему просьбу.
— Ругай меня как хочешь, — закончил поэт свою путаную речь, — но не могу я ей сказать прямо в лицо, что стихи у нее плохие! У нее, брат, такие глаза!.. И вообще не хочется мне ее огорчать! Поди скажи ты. Тебе — ничего, ты это любишь!
— Втюрился? — грубо спросил Топор, почесав небритую, колючую щеку.
— Пошляк! Она мне… почти в дочки годится. Просто она такая… ну, как тебе сказать… как Весна. Или как Аленушка васнецовская. Понимаешь, Топорище?!
— Я понимаю, что ты сентиментальный, мягкотелый, слюнявый, старомодный интеллигент, которого надо гнать из редакции железной метлой. Давай рукопись!
Он взял у Трофимова тетрадь, уткнул в нее свой бледный нос и стал как бы грызть близорукими глазами стихи Ани Смородкиной. Фыркнув два раза, он сказал:
— Все ясно! Обожди маня здесь! — и решительно рванул дверь в кабинет заведующего литературной консультацией.
Когда Топор снова вошел в коридор, странная, блуждающая улыбка делала неузнаваемой его суровую, щетинистую физиономию.
— Сказал? — спросил Трофимов.
— Славная девушка! — неопределенно ответил Топор и вдруг раздраженно прибавил: — Я отдал ей рукопись и сказал, что ты сейчас придешь. С какой стати я должен выполнять за тебя твои служебные обязанности?!
…Через час Топоренко заглянул к Антону Трофимову.
Поэт сидел за столом и, дымя сигаретой, что-то писал.
— Сказал? — спросил Топор, криво усмехаясь.
— Сказал!
— Ну, как она?
— Ничуть не огорчилась. Во всяком случае виду не подала. Сказала, что так и думала про свои стихи — ну, что они плохие и что ей нужно работать над собой, учиться и так далее. Подумала, вздохнула и прибавила: «Ничего, что стихи у меня пока плохие, зато сады будут хорошие. Что же, говорит, делать — настоящие поэты к нам на целину редко приезжают, а без стихов там никак нельзя, вот и приходится сочинять стихи на месте самим». И, знаешь, как-то неловко мне сделалось после ее слов! Уж очень действительно наша братия обленилась, тяжела стала на подъем!..
Все так же криво усмехаясь, Топоренко спросил:
— Это ты о ее стихах пишешь рецензию?
— Нет, — ответит поэт, — я пишу заявление директору, прошу отпуск! — Он томно потянулся. — Устал я, Топорище, чертовски, сидя в этой коптилке. Надо проветриться, подышать жизнью.
— Уж не собираешься ли ты махнуть на Алтай?
— На Алтай, в Казахстан, еще куда-нибудь. Не могу я больше здесь сидеть. Надоело!
— Вот если написать рассказ, — помолчав, задумчиво сказал Топоренко, — о том, как в наше издательство на минутку заглянула Весна и как расчувствовались два пожилых сухаря, да закончить его твоим отъездом, то критики обязательно скажут: это банально, схематично и… как там еще?
— Тебе лучше знать! — огрызнулся поэт. — Ты — критик, а не я.
И, энергично потушив в пепельнице недокуренную сигарету, он размашисто подписал свое заявление.
1955
ДАЛЕКО ОТ МОРЯ

Леса здесь густы, непроходимы, прекрасны; снега безбрежны и чисты сахарной, голубоватой, нетронутой белизной.
В лесах много всякого зверья; бродят и волки. Едешь вечером со станции, а конь тревожится, прядает ушами, бежит шибко, срываясь на скок, — чует зверя.
Здесь — Русь вековая!
Деревня называется Темкино. Колхозники в Темкине живут хорошо, в достатке. У них свой клуб, библиотека, школа, родильный дом и своя гидростанция. Гидростанцией заведует Кузьма Иванович Широков, молодой, лобастый, чуть угрюмый парень. Он инвалид, правая нога у него не сгибается в коленном суставе.
Во время войны старшина второй статьи Кузьма Широков служил комендором на корабле, и тогда за храбрость и воинское мастерство его звали «бог огня». После ранения Широкову дали чистую. Маленький кусочек крупповской стали — осколок от бомбы с «Юнкерса» — не только повредил
ему ногу, но и убил его мечту о бессрочной морской службе.
В деревне Кузьма Широков первое время сильно тосковал по кораблю, по боевым дружкам, потам взял себя в руки, пошел к председателю колхоза — степенному, серьезному Игнату Савельевичу — и попросил дела.
Тот сказал:
— Вы, моряки, народ толковый, грамотный, мастера на все руки. Иди на гидростанцию, а то Степанов уезжает учиться.
— Так ведь я, Игнат Савельевич, слабовато в этом деле разбираюсь.
— Ничего, ты же артиллерист, значит должен в технике разбираться. Научишься! Был на флоте «богом огня», а у нас станешь «богом света». Действуй.
Кузьма Широков начал действовать. Съездил в город, накупил книжек, учебников по электричеству, засиживался над ними до глубокой ночи. И незаметно для самого себя овладел новой профессией.
…Вечер. Уже зажглись звезды на темкинском тихом небе. От реки тянет теплой сыростью. Деловито шумит падающая на лопасти турбины вода. В помещении гидростанции — образцовый порядок, строгая, корабельная чистота.
Посматривая на приборы, похаживает взад-вперед, опираясь на палочку, Кузьма Широков, и кажется ему, что идет он на родном корабле по ночному неспокойному морю в далекий опасный поход.
Он выходит на улицу покурить. В окнах деревенских изб уже горят веселые, неугомонные огоньки. На скотном дворе, беспокоясь, мычат коровы.
Широков смотрит на часики-браслет.
— Опять опаздывают, чертенята!
По одному, по два, а то и целой стайкой приходят на гидростанцию деревенские ребятишки — белоголовые, лобастые, как сам Широков, темкинские Ванюшки, Сережки и Гришутки.
Широков встречает их боцманской воркотней:
— Пистолеты вы, а не будущие моряки! На четверть часа опоздали на занятия. Это как называется по уставу морской службы?
«Пистолеты» оправдываются нестройным хором:
— У нас матка с хлебами завозилась!
— А меня отец в кузницы посылал!
— Я ногу занозил, насилу вытащил занозу — во какая!..
— Хватит! Тихо! — командует Широков. — Сегодня я вам расскажу про артиллерийское вооружение корабля, про систему управления огнем…
Говорит Широков увлекательно, интересно. Говорит и видит перед собой гордую громаду родного корабля, свою башню, свое орудие.
«Пистолеты» слушают его, как зачарованные. Все они, конечно, решили идти во флот, когда подойдет призыв, хотя никогда никто в жизни не видел моря.
А в конце декабря, когда Темкино утопает в снегах, бывший старшина второй статьи Кузьма Широков садится сочинять рапорт командиру корабля, на котором когда-то служил, о своей работе за год.
Пишет он не совсем по форме — отвык. Сначала поздравляет командира и всех товарищей с Новым годом и желает успехов в боевой учебе. Потом сообщает о делах темкинского колхоза, о работе гидростанции, о кружке по изучению морского дела, который он организовал для темкинских «пистолетов».
Отправив рапорт, Кузьма Широков трепетно ждет ответа.
Все эти дни он ходит сумрачный, неспокойный, сердитый. А вдруг забыли на корабле про бывшего своего «бога огня»?!
Жену, которая пытается его успокоить, он резко обрывает:
— Не суйся не в свое дело!..
Ответная телеграмма командира приходит всегда точно — 31 декабря. Ее приносит на гидростанцию письмоносец Маруся Моркалева, румяная, как елочная принцесса, девушка в городском нарядном берете и в валенках.
— Распишитесь, Кузьма Иванович! — заявляет она торжественно. — Вам! С корабля!
Хмурясь и делая вид, что ничего особенного в этой телеграмме он не видит, сдерживая дрожь в пальцах, Кузьма Широков накрывает телеграмму и читает напечатанные и а машинке строки:
«Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, благодарю за службу. Капитан 2 ранга Соловьев».
Сердце у Широкова бьется часто-часто.
…Новый год он обычно встречает вместе со всеми знатными людьми колхоза у председателя — Игната Савельевича. Первый тост поднимают за родину, потом за колхозное Темкино. А потом Кузьма Широков предлагает выпить за родной флот. Полеводы и животноводы встают и чокаются с Кузьмой Широковым, одетым по случаю праздника в полную морскую форму.
Слегка захмелев, бывший старшина второй статьи показывает Игнату Савельевичу полученную с корабля телеграмму и говорит:
— Видал, Игнат Савельевич! «Благодарю за службу»! Значит, считает меня вроде как на действительной!..
— Ты кружок свой веди, продолжай. Это дело полезное для наших ребят. Пусть Темкино с твоей легкой руки будет во флот госпоставки выполнять!
— Есть, товарищ председатель!.. Эй, баянист, Вася, друг сердечный, давай «Вечер на рейде».
Приятным, мягким тенорком он ведет мелодию:
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море…
Полеводы и животноводы могуче гудят басами.
…А кругом — леса густые, непроходимые в чащобах, прекрасные. И снега — безбрежны и чисты сахарной, голубоватой, нетронутой белизной. Как далеко отсюда до моря. И как оно близко!..
1948
ЕЛОЧКА

Плотные облака белесовато-свинцового невеселого цвета, свойственного небесам этой параллели, низко нависали над студеными водами дальнего моря.
Катер-охотник, рассекая острым носом невысокую, но злую волну, ходко шел курсом норд-ост на довольно значительном расстоянии от пологой, такой же скучной, как и здешнее небо, белой, с черными плешинами прибрежной полоски земли.
Командир катера лейтенант Острецов, молодой человек с густым, яблочным румянцем во всю щеку и рыжеватыми «нахимовскими» бачками, одетый в черный новенький кожаный реглан, с поднятым воротником стоял в командирской рубке, прикрытой от ветра и водяных брызг козырьком из плексигласа. Рулевой Гаврила Потапов, широкоплечий, низкорослый крепыш священнодействовал у штурвала. Его большие руки в толстых темнозеленых рукавицах сжимали колесо штурвала с чуть кокетливой небрежностью, которая отличает мастеров этого дела.
— Ну как, старшина, — сказал Острецов, поеживаясь от холодного, колючего ветра. — Успокоились ребята или еще переживают?.. Левей чуть держите! Вон на тот мысок!
— Есть держать левей! — с подчеркнутой молодцеватостью отозвался Потапов и с той же великолепной легкостью повернул тяжелое рулевое колесо. — Успокоились, товарищ лейтенант, — сказал он, не отрывая взгляда от мыска-ориентира. — Конечно, интересней было бы Новый год на базе встретить, там сегодня в клубе вечер, кино обещали новое, девчата придут, танцы под баян, одним словом — веселье до упаду, смех до зари, но… приказ есть приказ!
— К вечеру будем в Голом, — сказал Острецов.
— Вот уж действительно Голое, — отозвался Потапов, не скрывая своего презрения к порту назначения. — Ни деревца, ни кустика, только мох седой да камни. У черта на куличках и то, пожалуй, будет повеселей. Я там был три года назад, знаю!
— Но ведь живут же там люди?!
— Рыбаки жили, — неопределенно сказал Потапов, — две-три хатки…
— Геройский кок наш, Василий Иванович Сухоплетов, очень расстроился, — прибавил он, усмехнувшись. — Ужин грозился для команды приготовить новогодний почище, чем в ресторане «Якорь». Ну, а на первое января (если бы, конечно, он у вас увольнительную получил) у него было назначено свидание с его Катей, — есть такая у него Катя, товарищ лейтенант, невеста, девушка ничего, привлекательная, только косенькая чуток и нос мелковат. А тут — поход! Расстроился наш Вася ужас как! Ребята на него давеча насели: «Хоть пирог-то сделаешь к новогоднему ужину?» А он, сердечный, только глазами хлопает: от расстройства чувств забыл на берегу припасов купить.
— Так что на обычном паечке придется посидеть в сегодняшний высокоторжественный вечер! — с юмористическим вздохом закончил бравый рулевой.
Некоторое время в командирской рубке царило молчание.
— Не нравится мне эта история с коком, Потапов, — сказал Острецов серьезно, — я с ним поговорю. Держите чистый норд, я пойду к себе!
— Есть держать чистый норд, товарищ лейтенант!..
Кок Сухоплетов, высокий и худой, как мачта, парень, стеснявшийся своего роста, вошел в каюту командира катера и в полном несоответствии с «телячьей», как говорил весельчак Потапов, грустью, которую излучали его красивые темные глаза, отрубил бодро и четко, по уставу:
— Матрос Сухоплетов по вашему распоряжению явился, товарищ лейтенант!
Острецов внимательно поглядел на печальное лицо кока и нарочито веселым голосом спросил:
— Чем думаете нас сегодня угощать, товарищ Сухоплетов?
Кок стал медленно розоветь: сначала красна залила его щеки, потом налились кровью большие хрящеватые уши, потом шея.
— Как… всегда, — выдавил наконец из себя Сухоплетов.
— То есть как это, «как всегда»? — с деланным удивлением сказал Острецов. — Сегодня — Новый год. Вы не могли этого не знать. Катер — в походе, тем более необходимо отметить, поддержать настроение команды. Времени у нас было сколько угодно, могли подкупить на берегу, что вам и нам нужно. Почему вы этого не сделали?
— Виноват, товарищ лейтенант, из головы вылетело! — прошептал Сухоплетов, готовый провалиться сквозь палубу, только бы не видеть насмешливые, осуждающие командирские глаза.
Но Острецов с неумолимостью человека, знающего свою правоту, продолжал терзать нежную душу кока:
— Из головы вылетело? А почему же Катя из вашей головы не вылетела, а вот служба, долг, боевые товарищи — это вылетело?.. А, Сухоплетов?!
Сухоплетов молчал, опустив голову. Уши у него стали густомалиновыми.
— Вернемся на базу — семь дней без увольнения на берег! — жестко закончил Острецов.
Сухоплетов шумно вздохнул и, четко повернувшись через плечо, вышел из каюты.
«Может быть, не стоило его так?» — мысленно задал себе вопрос Острецов, морщась, словно от зубной боли. Как все добрые люди, он предпочитал поощрять и не любил (когда это приходилось делать) наказывать людей. Но представил себе пустынный, мрачный берег в Голом, холодные волны, вгрызающиеся белыми пенными клыками в черные скалы, их небольшое суденышко и то настроение заброшенности и оторванности, которое, несомненно, охватит его самого и команду в новогоднюю ночь, настроение, которое он, командир, надеялся рассеять за дружным новогодним ужином, и громко сказал:
— Ничего! Так ему, долговязому, и надо!
К причалу Голого подошли, когда было уже совсем темно. Приветливо мигали огоньки та берегу, и количество их сразу озадачило Острецова. Не похоже было, что тут, среди камней, заросших седым мохом, ютятся две-три рыбачьих хатки, как говорил Потапов.
Моряки сошли на берег. К Острецову подошел мужчина ростом чуть пониже Сухоплетова, в морокой фуражке и волчьей огромной шубе. С ним был мальчуган в меховом треухе, подмышкой он держал какой-то небольшой предмет, завернутый в мешок.
Мужчина в волчьей шубе сказал простуженным басом:
— Косоруков Иван Фомич, начальник пристани Голое и здешний председатель. Одним словом — советская власть. С благополучным прибытием, товарищ лейтенант!
— Вы-то мне как раз и нужны! — обрадовался Острецов, пожимая его теплую, сильную руку. — К вам пойдем или ко мне, на корабль?
— Ко мне! — решительно сказал Косоруков, — только сначала позвольте в вашем, как говорится, лице приветствовать родной флот. Василий! — обратился он к мальчику. — Давай-ка ее сюда!
Мальчик в треухе подал ему предмет, завернутый в мешок, и Косоруков вытащил оттуда самый обыкновенный цветочный глиняный горшок. В горшке росла миниатюрная зеленая елочка. Она были похожа на модель елки, но это была настоящая, живая елочка, прелестная своей гордой и какой-то детски трогательной осанкой.
— Вместо хлеба-соли! — торжественно произнес Косоруков, передавая горшок с елочкой растерявшемуся Острецову. — От наших мичуринцев. Сами вырастили. Весной будем высаживать. Приживутся — ничего. Заставим!..
— Спасибо! — с чувством сказал Острецов, не зная, что дальше делать с подарком. Он испытывал сейчас нечто похожее на ту неловкость, какую обычно чувствует холостой мужчина, когда ему дают подержать грудного ребенка.
Выручил его Потапов. Он взял у лейтенанта горшок с елочкой и весело сказал:
— Теперь бы к этой елке еще кое-чего добавить — и порядок! Можно Новый год встречать!
— У нас в клубе сегодня встреча! — с достоинством заметил мальчик в треухе. — Кино показывают «Скандербег», я уже смотрел два раза. А потом будут танцы!
— Где же это у вас тут клуб? — недоверчиво спросил Потапов, смущенно взглянув на Острецова. — Я был в Голом три года назад, — тут не то что клуба, а и жилья-то настоящего не было!
— Три года! — усмехнулся Косоруков. — Скажешь тоже, старшина! Ведь на этом пустыре поселился советский человек, не кто-нибудь. Вот и приспособились!.. Утром походи по поселку, полюбуйся. Не узнаешь!..
— А магазина у вас нет на берегу? — робко спросил подошедший раньше Сухоплетов.
— А какой вам магазин нужен?
— Ну… вроде Гастронома. Пирожок хочется соорудить, товарищ начальник. Мучки бы, маслица. И для начинки кое-чего!
— Есть и магазин. Василий мой вас проводит. Мука есть. И масло было. Нельмы возьмите свежей — вот вам и пирог!
— У нас в магазине даже «Советское шампанское» продают! — гордо сказал мальчик.
— Разрешите сходить в ихний «Гастроном», товарищ лейтенант? — обратился к Острецову повеселевший кок.
— Конечно, ступайте! — обрадовался и лейтенант. — Вот, возьмите, — он достал из кармана кителя деньги и дал Сухоплетову. — Купите все, что нужно. Если успеете с ужином и он будет хороший, сниму с вас наказание, так и быть! А ну, на носочках!
Сухоплетова и мальчугана в треухе как ветром сдуло с причала!
Когда Потапов и другие моряки ушли на корабль, Косоруков, смущенно кашлянув, сказал:
— А елочку вы нам, товарищ лейтенант, верните, когда будете уходить. У вас ведь их не так-то уж много. А вам она после праздника вроде и ни к чему!
— Э, нет! — ответил Острецов серьезно. — Такие подарки не возвращают. Куда к вам идти? Ведите!
— Недалеко! Вон дом на скале, окна светятся.
Они пошли рядом, громко стуча каблуками по гулким мокрым доскам причала. С катера до них доносились смех и громкие голоса моряков. Наверху, на скалах, горели, мигая и переливаясь, огни Голого.
1954
ОТЦОВСКИЙ ГОЛОС

Сережкин отец, Николай Афанасьевич Дудников, слесарь с большого московского завода, уехал на Алтай работать в МТС.
Поехал он добровольцем, пока один, без семьи. В парткоме завода по этому поводу сказал так:
— Присмотрюсь, устроюсь как следует. А потом можно будет и весь мой «курень» тронуть с места.
Дудниковский «курень» — это Евдокия Трофимовна, Сережкина мать, тихая, бледная женщина с кроткими глазами, до сих пор влюбленная без памяти в мужа, Сережка да кот Пахом, драчун и объедала, роскошной тигровой масти.
Провожали Сережкиного отца и других добровольцев торжественно, громко — всем заводом.
На перроне вокзала стоял оркестр, и оркестранты — свои же, заводские ребята — почти непрерывно играли марши и плясовые мотивы. День был солнечный, яркий. Сережке казалось, что жарко блистающие жерла больших медных труб сами выбрасывают веселые звуки, а люди только держат инструменты, чтобы они как-нибудь не вырвались у них из рук. Алые знамена, плакаты, синева неба — все настраивало на праздничный лад, и было неловко за мать, которая смотрела не отрываясь на возбужденное, румяное от крепкого мороза, усатое лицо отца и плакала, не стесняясь крупных светлых слез, катившихся по ее щекам.
— Не куксись, Дуня, не куксись, не на войну едем! — повторял отец. — Кому я говорю, Евдокия? Не куксись!
Подошел Сергей Гаврилович, секретарь парткома, стал тоже утешать плачущую Евдокию Трофимовну, и та, виновато всхлипывая, сказала:
— Да я ничего!.. Разве я не понимаю? Раз хочет — пускай едет. Это так, бабья привычка: провожаем — плачем, встречаем — тоже плачем.
— Твой орел? — спросил Сергей Гаврилович отца, показав на Сережку.
— Мой! — сказал отец, и Сережка уловил в отцовском голосе польстившую ему горделивую нотку.
— Звать как тебя, пионер? — обратился Сергей Гаврилович к Сережке и, когда мальчик ответил, сказал серьезно: — Учись без отца хорошо, тезка, не снижай качество.
— Он у меня смышленый, — похвалил Сережку отец, — на пятерочках да на четверочках идет, редко когда тройку притащит!
Он привлек к себе Сережку и небольно сжал своими крепкими пальцами его розовое оттопыренное ухо. Сережка зажмурился, сердце у него забилось часто-часто; было в отцовской ласке что-то такое, отчего ему тоже захотелось заплакать, но, взглянув на мать, он сдержался и сказал в той же отцовской шутливо-ворчливой манере:
— Не очень-то моими ушами распоряжайся!
Потом был короткий митинг, и Сережке понравилось, как Сергей Гаврилович назвал отцовскую фамилию — как-то особенно звонко, твердо, гордо: Дудников! Все оглянулись на отца и стали аплодировать, и Сережка тоже аплодировал вместе со всеми. Отец вскочил на подножку вагона последним, когда поезд уже набирал скорость, вскочил легко, ловко, словно на коня. Стоя на площадке, стройный, в высоких сапогах, в серой барашковой ушанке, надетой набекрень, как на фронтовой карточке, он долго махал рукой матери и Сережке.
Сережка толкнул мать в бок:
— Наш папка ловчее всех! Видала, как прыгнул?! Как бенгальский тигр!
Мать вздохнула.
— Пошли домой, Сереженька!
Жизнь шла по заведенному порядку. Сережка ходил в школу, играл на дворе с ребятами, смотрел картины в кино. Но то новое, что ворвалось в их дом и что вмещалось в круглое, как шар, слово «Алтай», наполнило его жизнь тревожным и радостным чувством ожидания больших перемен.
В школе ему говорили:
— Ты должен помнить, Дудников, что у тебя отец на Алтае.
Мать дома повторяла:
— Не будешь слушаться, напишу отцу, чтобы не брал тебя на Алтай. Останешься здесь, у тети Насти!..
Когда Сережка думал об Алтае, он представлялся ему огромным полем, таким просторным, что дух захватывает. На горизонте стоят огромные белые горы, над головой — синее небо, тоже огромное. На Алтае все большое: пшеничные колосья, солнце, люди, даже собаки — и те с теленка!
Отец писал домой редко и очень коротко — главным образом открытками. Работы много, готовят тракторы к весне, живет пока в общежитии, но дома уже строят. Как только он получит квартиру, сразу же заберет мать, Сережку и Пахома. Готовьтесь! Здешние места и люди ему нравятся. Из этих коротких цыдулок видно было, что человек чертовски занят, пишет, как на фронте, в промежутках между боями!
Потом с почты вовсе перестали приносить письма, и мать сильно затосковала. А тут еще повадилась к ним ходить «Тенти-бренти Макарьевна» — как называл отец старуху Анну Макарьевну, тещу своего дружка Василия Морозова, тоже слесаря с завода. Придет и давай за чаем мать пугать. Смотри, мол, Евдокия, и нет ли тут чего-нибудь такого-этакого, не казакует ли грешным делом муженек вдали от женушки.
На Сережку, конечно, ноль внимания: несмышленыш, ничего не понимает!
В этот вечер Тенти-бренти Макарьевна пришли еще засветло, уселась в кресло, на котором люби, бывало посидеть вечером за газетой отец, спросила мать:
— Не пишет твой?
— Не пишет, Анна Макарьевна! Не знаю, что и подумать!
— Да-а-а!.. Мужик он у тебя ладный, видный. Смотри Евдокия!..
— Куда смотреть-то? Что вы говорите, Анна Макарьевна?
— Всякое бывает! Туда ведь не одни мужики поехали! Девчат тоже много кинулось!
— Коля писал, что они главным образом прицепщицами будут работать на тракторах!
— Вот я и говорю: не подцепила ли уж твоего какая-нибудь такая… прицепщица!..
Сережка сидел в углу, делая вид, что читает книжку, а сам слушал разговор матери с Тенти-бренти Макарьевной. Он посмотрел на мать: глаза у той были широко раскрытые, жалкие, рот перекосился. Горло у него сдавила судорога, и он не сразу сказал то, что выкрикнул потом залпом, задыхаясь от ненависти к этой чужой, толстой, пухлой, как поднявшееся тесто, старухе:
— Пришла языком молоть! Уходи отсюда! Ишь, расселась! Это папкино кресло! Прогони ее, мама, прогони!
Он кричал и топал ногами. Испуганная Тенти-бренти Макарьевна что-то кудахтала, как курица.
Мать, строгая, бледная, взяла Сережкину шапку, нахлобучила ему на голову, дала пальтишко.
— Иди во двор! И не являйся, пока не позову. Разве можно так со старыми людьми разговаривать?! Бесстыдник!
— Безотцовщина! — сказала старуха.
Сережка сидел на крыше сарая, куда ему строжайше было запрещено лазить, один, мрачный и угрюмый, как ворон.
Он так глубоко задумался, что даже не слышал радио, заговорившее громко, на весь двор.
И вдруг он вздрогнул: ему показалось, что он услышал голос отца. Сережка насторожился. Да, конечно, это говорил отец! Отвечая кому-то далекому, незнакомому, отец сказал:
— Что в Москве передать? Передайте, товарищ корреспондент, моим дорогим жене Евдокии Трофимовне и сыну Сереже, — адрес вы знаете, я вам говорил, — что скоро за ними приеду. Не писал им долго, очень уж жаркая была работа. Сыну скажите, чтобы не озорничал. Я хоть и на Алтае, а все вижу и слышу. Так ему и скажите.
Кто-то ответил отцу:
— Хорошо, товарищ Дудников. Обязательно передам!..
Сережка кубарем скатился с крыши.
Когда он ворвался в комнату, мать плакала, но лицо у нее было такое счастливое, что Сережка понял сразу: она все слышала и говорить ничего не надо!
Обняв сына, Евдокия Трофимовна заплакала сильнее. Тенти-бренти Макарьевна сказала:
— А чего теперь-то плакать? На весь мир сказал, что заберет к себе. Теперь твое дело верное, крепкое, не беспокойся, Евдокия.
Сережка проворчал по-отцовски:
— У нее глаза на мокром месте.
1954
НЕОБЫКНОВЕННОЕ УЛИЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В таком большом городе, как Москва, ежедневно происходит много уличных происшествий. Это понятно: ритм московской жизни — стремительный, спешка — сильная. Отсюда «все качества».
Один мой старый друг, погостив две недели в Москве, потом прислал мне из далекого тихого городка на востоке страны, в котором он живет и поныне, письмо. В нем есть такие строки:
«У меня осталось впечатление, что вы, москвичи, даже во сне перебираете ногами, все куда-то спешите!»
Уличные происшествия бывают разные. Иногда они драматичны, иногда забавны, очень часто трогательны.
…Маленькая девочка, курносенькая, с широко раскрытыми глазами — в них еще не растаяло удивление перед грандиозностью мира, в котором она появилась так недавно, — потеряла маму. Прижимает к себе плюшевого зайца с одним ухом и ревет — громко, отчаянно, страстно.
Ее утешает милиционер — румяный, здоровый, плечистый и очень молодой. Похож на Алешу Поповича с картины Васнецова. До того похож, что ловишь себя на смешной мысли: если сейчас посмотреть на картину в Третьяковке, то лошадей на полотне будет по-прежнему три, а всадников-то уже два!
Алеша Попович, присев перед девочкой на корточки, говорит сочным окающим баском:
— Не плачь, кукла, найдем твою маму.
«Кукла» заливается еще громче, еще отчаяннее. Дома ее, наверно, пугали милиционером («Вот будешь плакать — отдам тебя милиционеру!»), а здесь, на улице, как только мама куда-то исчезла, страшный милиционер сам подошел к ней, да еще смотрит в упор своими огромными глазищами, да еще гладит по русой головке огромной, жесткой, богатырски-неумелой рукой. Попробуй тут не испугайся!
Останавливаются прохожие. И, конечно, начинают ругать маму-растяпу. Особенно стараются женщины.
— Наверно, зашла в какой-нибудь магазин и забыла все на свете!
— У таких надо отбирать детей!
— Ну, это вы уж слишком — отбирать!
— Именно отбирать. И отдавать на воспитание желающим. Да я бы первая взяла такую прелестную девчушку. А вы бы разве не взяли?!
И вдруг появляется мама. Бледная, глаза несчастные, шляпка на боку. Действительно, зашла в магазин и… «забыла все на свете».
— Галочка!.. Доченька!..
Алеша Попович делает маме-растяпе внушение, но она его не слушает. Прижала к себе свою Галочку и целует ее в щеки, в нос, в лоб, в уже сухие, веселые глазки. Все кончилось хорошо. Можно расходиться.
И все расходятся, мгновенно забыв и плач девочки, и ее маму-растяпу, и Алешу Поповича с погонами старшины милиции на саженных плечах. Он тоже возвращается на свой пост. На его румяном, очень русском лице написано: «Н-д-а-а, это тебе не то, что сидеть на рыжем коньке в Третьяковке! Хлопотливая службишка!»
Но я отвлекся. Приступаю к описанию необыкновенного уличного происшествия, свидетелем которого был сам в конце минувшего лета.
Я приехал в город по делам на один день из подмосковного санатория. Был знойный летний полдень, когда мягкие московские краски становятся резкими и яркими настолько, что даже наш серый, заезженный асфальт делается ослепительно белым, как на юге, и почему-то кажется, что вот дойдешь до угла — и там тебе в глаза густым ультрамарином плеснет море!
Я шел вверх по Петровке — к Эрмитажу и, вдыхая бензиновый перегар, с вожделением мечтал о том, как, покончив с делами, снова вернусь под сень вековых берез полюбившегося мне санаторного парка.
И вдруг я увидел, что впереди что-то случилось. Остановившиеся машины и люди образовали на площади в конце Столешникова переулка густую «пробку». Движимый любопытством, я ускорил шаг. Подхожу и слышу поразительный по красоте и силе мужской бас.
Спрашиваю стоящих людей:
— Что случилось?
— Поет!
— Кто поет?
— Неужели не слышите? И не мешайте, пожалуйста!
Звуки несутся из переулка, откуда-то сверху, вроде с неба. Что за наваждение?! Уж не ангел ли небесный распелся по случаю хорошей погоды? Но ведь ангелы — они должны «воздавать хвалу творцу» тенорами сладчайшими, дискантами, в крайнем случае фистулой, а тут — бас, земной, глубокий, бархатный!
В толпе шепчутся.
— Ну и голосище!.. Просто шаляпинский!
— Я шел, услышал, думал — это по радио. А это — он!
— На каком языке, как вы думаете? Не разберу!
Стою, слушаю, наблюдаю. Невидимый певец продолжает петь. Толпа растет. Уже весь Столешников переулок и большая часть Петровки запружены народом. Люди выходят из магазинов, стоят и слушают. Высовываются в открытые окна домов и слушают. Строители, занятые ремонтом большого дома в переулке, прекратили работу, стоят на лесах и слушают. Шоферы машин, попавших в пробку, положили руки на баранки и тоже слушают. Даже милиционеры, немножко растерянные от сознания своего бессилия (ну как тут прекратишь это — такое странное нарушение правил уличного движения!), и те стоят, улыбаются конфузливо и слушают!
Наконец на какой-то совсем уже немыслимой ноте пение обрывается. Секунда молчания — и все начинают аплодировать! Аплодируют люди, стоящие на улице, аплодируют в окнах, аплодируют строители на лесах и шоферы в застывших машинах. Вся «пробка» аплодирует! И тогда в открытом окне на третьем этаже гостиницы «Урал» появляется певец — молодой индиец, гигант с лицом и фигурой ожившей статуи. Он в своем национальном костюме: в узких белых штанах и длинной белой рубахе — тунике. Вихрь аплодисментов мгновенно становится бурей.
Индийцу кричат:
— Бис!
— Еще давайте!
— Да здравствует дружба народов!
— Бис! Бис!
Сложив руки лодочкой и подняв их на уровень глаз, индиец-певец, кивая красивой головой, приветствует бушующую улицу. Кто он? Наверно, студент, делегат фестиваля! Захотелось попеть — он и запел, не подумав об открытом окне и мощности своего дивного голоса!..
Овация гремит и гремит.
Индиец продолжает приветствовать «пробку».
По лицам людей видно, что они хотят во что бы то ни стало добиться продолжения концерта. Над уличным движением одной из центральных магистралей столицы нависает серьезная угроза! Тогда на сцене этого театра жизни появляется пожилой младший лейтенант милиции. Это уже не Алеша Попович! Это бывалый солдат, с суровым усатым лицом старого служаки, гроза лихачей-шоферов и зевак. Он становится так, чтобы певец мог сразу заметить его, и, подняв руки в белоснежных перчатках, сначала вежливо аплодирует индийцу. Потом он складывает свои ладони лодочкой и, копируя жест гостя из «страны чудес» приветствует певца. Выполнив этот с его точки зрения дипломатический ритуал, младший лейтенант обеими руками показывает певцу на скопище машин и людей и снова, сложив ладони лодочкой, повторяет приветственный жест. Усатое умоляющее лицо младшего лейтенанта и его жестикуляция настолько красноречивы, что индиец, поняв все, улыбается ему, кивает толпе и исчезает.
Вот и кончилось необыкновенное уличное происшествие! Догорела живая сказка жизни! Очнувшиеся постовые милиционеры под руководством расторопного младшего лейтенанта быстро и ловко «расшивают» «пробку».
— Давайте! Давайте!
Люди расходятся. Лица у них задумчивые и какие-то просветленные.
Я замечаю группу иностранных туристов на углу. Они тоже слушали индуса. Подхожу к ним и по разговору слышу, что это французы. Несколько молодых женщин, очаровательно нарядных, как колибри, какой-то экспансивный брюнет в светлом модном костюме и крупный хмурый седоусый мужчина — не то бухгалтер, не то провинциальный учитель по внешнему виду — с зонтиком в руке. С ними — гид, наша девушка, хорошенькая, в очках, изо всех сил старающаяся казаться очень серьезной.
— Что он пел, какую песню? — тормошат французы туристы свою проводницу.
И та, улыбаясь, отвечает:
— C’est une chanson de la paix! (Это песня мира!)
Французы тоже улыбаются ответно: одни — вежливо, другие — широко, от всего сердца. Седоусый турист поднимает зонтик и трясет им, словно угрожая тем, кому не по душе эта песня мира, спетая неизвестным индийским студентом в Москве в конце лета 1955 года.
1955
В КРАСНОДАР ПРИЕХАЛ МАЯКОВСКИЙ!

Январь в 1926 году в Краснодаре был снежный, холодный, с мокрыми метелями и ледяными дождями, а пришел февраль и повел себя как веселый, добрый дворник: теплым ветром, словно ломом, расколол на куски глыбища туч, «вымел все и вымыл», очистив небо от облачной грязи. На прямые краснодарские улицы сумасшедшими потоками света хлынула ранняя весна. И вот уже… «солнце жжет Краснодар, словно щек краснота. Красота!»
Мне было тогда двадцать с небольшим лет, я работал репортером в Краснодарской газете «Красное знамя», а «для души» писал стихи, главным образом лирические. Воюя с местными рапповцами, я считал себя «лефовцем», хотя о программе «Лефа» имел самое смутное представление. Для меня было достаточно, что во главе «Лефа» стоит Маяковский, в поэзию которого я был по-мальчишески влюблен.
Днем я пришел в редакцию и узнал оглушившую меня новость: в Краснодар приезжает Маяковский! В редакции, оказывается, был его представитель, неизменный П. И. Лавут, и уже показывал афиши. Маяковский будет выступать два раза, надо срочно написать заметку — подготовить краснодарцев к выступлениям поэта.
Редакторы (и не только периферийные) относились в то время к Маяковскому по-разному. Далеко не все правильно понимали и оценивали творчество «агитатора-горлана-главаря». Ханжествующие начетчики и либеральствующие «поклонники прекрасного» травили его на страницах отдельных изданий расчетливо, холодно и зло, попрекая пресловутым «ячеством» и забывая при этом, что поэт, который не может сказать про себя «Я», — не поэт. Сам Маяковский, когда ему говорили про его «ячество», пожимал плечами и басил в ответ:
— Я же не Николай Второй. Это только он о себе говорил: «Мы, Николай вторый»…
Наш редактор оказался человеком в этом вопросе «правильным», и моя заметка в пятьдесят строк, в которые я постарался влить все свое восхищение стихами и личностью поэта, была напечатана. Однако не всем нашим читателям она понравилась. На следующий день пришел в редакцию некий товарищ К-в, работник местного совета профсоюзов, пришел возмущаться и негодовать.
— Зачем вы делаете рекламу Маяковскому?! На каком основании? Кто позволил?!
Товарищ К-в сам считал себя поэтом и, давя на нашего редактора своим профсоюзным авторитетом, довольно часто печатал в газете — подвалами! — ужасные раешники, вполне стоеросовые по форме и содержанию. Иногда он появлялся на собраниях краснодарских рапповцев и, пользуясь каждым удобным и неудобным случаем, бранил Маяковского за «ячество», за «непонятливость», за тысячи других выдуманных грехов. Он просто слышать не мог имени Маяковского! Когда он говорил о поэте, которого и в глаза не видел, его невзрачная, «акцизная» бороденка тряслась от злости.
Редактор «Красного знамени» проявил, однако, твердость духа, и злобствующий виршеплет ушел ни с чем.
Я позвонил в гостиницу, узнал, «в каком номере остановился у вас Владимир Маяковский», и вдвоем с товарищем по газетной работе отправился к поэту знакомиться.
Сердце у меня сильно билось, когда я постучал в дверь номера. «А вдруг не примет? Или скажет что-нибудь такое насмешливое? Про него ведь разное говорят!»
За дверью раздался неповторимо красивый, бархатный бас:
— Входите!
Мы вошли. Маяковский, только что, видимо, побрившийся, свежий, в «чисто вымытой сорочке» (в той самой, кроме которой «ничего не надо»), в темном, простом, но хорошо сшитом просторном костюме сидел у стола. На полу подле кровати стоял резиновый таз — ванна (привез из Америки), на столе — бутылка с нарзаном.
Мы представились. Я, робея, спросил, читал ли он заметку о себе в газете. Он сказал, что читал и «претензий к редакции не имеет». Поговорили о городе, о его литературной жизни. Потом, преодолев муки застенчивости, я положил перед ним на стол кипу своих стихов.
Он взял первое попавшееся и стал читать мое стихотворение вслух.
В исполнении Маяковского оно мне чрезвычайно понравилось. Я сидел, слушал и мысленно восхищался собой: «Неужели это я написал такие звучные, такие красивые стихи?!»
Речь в этом стихотворении шла о событиях 9 января 1905 года, и оно было напечатано в нашем «Красном знамени».
Маяковский дошел до строк:
Колебля пик нестройный частокол,
По трое в ряд, проносятся драгуны… —
усмехнулся и прочитал Лермонтовское:
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнуло тут!..
Мое восхищение самим собой мгновенно увяло и «скукожилось».
Он тем не менее дочитал мои стихи до конца, положил газетную вырезку на стол и спросил очень серьезно:
— Зачем?!
— Что… «зачем», Владимир Владимирович?
— Зачем вы написали это стихотворение? Все, о чем здесь у вас говорится, читатели знают и без вас. Ну, пошли рабочие к царю, ну, царь встретил их свинцом. Ничего же нового вы не сказали? Если уж вы беретесь за историческую тему — надо или вытащить на свет новые интересные подробности, детали события, о которых никто не знал, или повернуть тему под каким-нибудь острым углом. А иначе это… производство стертых пятаков!..
Потом мы долго гуляли с ним по городу. Он шел скорым, размашистым шагом, часто показывал тростью на здания, на пустые постаменты памятников бывшим царям и царицам, на красные трамвайные вагончики, спрашивал по-хозяйски придирчиво:
— Что раньше было в этом здании? Кому здесь стоял памятник? Когда сняли? С какого года в Краснодаре трамвай? Почему на улицах так много собак?
Если я не отвечал на его вопросы, он недовольно щурился:
— Как же так? Живете в этом городе и не знаете!..
Иногда, останавливаясь, он вытаскивал из кармана записную книжку и быстро что-то писал…
Вечером состоялось его первое выступление в зрительном зале кинотеатра «Гигант». Поэт читал американские стихи, «Демона и Тамару», парижский цикл и многое другое, рассказывал о своей заокеанской поездке. Успех был огромный. Молодежь, рабочие, студенты Краснодара приняли его восторженно. Впрочем, в начале вечера произошел один инцидент.
Товарищ К-в, профсоюзный пиит, конечно, не утерпел и тоже явился на вечер. Он сидел в первом ряду, не снимая шляпы, а когда Маяковский стал читать стихи, нарочитым жестом развернул газету и демонстративно уткнул острый бледный нос в газетный лист. Маяковский прервал чтение и, багровея от сдерживаемой ярости (он уже заметил его и понял, что это — враг!), громко сказал:
— Гражданин в шляпе, одно из двух: или — мои стихи, или — газета!..
Пиит поднялся и молча направился к выходу.
— Куда вы? — громыхнул ему в спину Маяковский.
— Домой! — обернувшись, ответил К-в, вложив в это ехидное «домой» всю свою ненависть бездарности к таланту.
Поэт сказал:
— Торопитесь! У вас действительно не все дома!..
В следующем, 1927 году Маяковский снова приехал в полюбившийся ему Краснодар с «разговором» — как он сам говорил — на тему «Поп или мастер?» и с новыми стихами.
Мы встретились как старые знакомые, и он первый спросил меня:
— Стихи пишете?.
Я подал ему целую тетрадь. Он взял и сказал:
— Прочту! Приходите на вечер, после выступления поговорим.
И тут же написал мне записку-пропуск: «Прошу пропустить. Вл. Маяковский». На этот раз он выступил в помещении Зимнего театра. Опять был полный, даже сверхполный сбор. Но публика пришла разная: от студентов-рабфаковцев до разряженных дамочек нэпманской закваски включительно. Эти пришли не послушать Маяковского, а поглазеть на него. Провинциальные эстеты из числа частно практикующих дантистов и венерологов, благообразные члены коллегии защитников разгуливали перед началом вечера по фойе и монотонно жужжали о том, что Маяковский «исписался» и что «до классиков ему далеко».
Маяковский выступал больным, с высокой температурой (простудился, читая стихи в ростовском железнодорожном депо, выглядел плохо: осунувшийся, с воспаленными глазами.
Встретили его хорошо, но, повидимому, он почувствовал холодок и отчужденность части публики и держался колюче и настороже. Вскоре возникла перепалка между выступавшим поэтом и именно этой частью его аудитории.
Началось с того, что некий молодой человек в черной крашеной шинели до пят, местный поэт, писавший вялые, беспомощные стихи «под Есенина», стоя внизу, в оркестре, так что его круглая, скучная, стриженая голова находилась на одном уровне с ногами Маяковского, обутыми в добротные башмаки на толстенных подошвах, стал донимать поэта вопросами-упреками, из коих явствовало, что он, молодой человек, Есенина предпочитает Маяковскому.
Маяковский сказал:
— Есенин — это гитара. Ее взял подмышку и пошел с ней куда хочешь. А я — паровоз, меня в комнату не втащишь!
Молодой человек в перекрашенной шинели отпарировал не без ехидцы:
— А еще и скрипки имеются, товарищ Маяковский, и ба-ра-баны!..
— И шкафы бывают! — сказал Маяковский и, склонившись над своим оппонентом, огромный, нахмуренный, сердитый, прибавил: — Вот я читал ваши стихи. Вы стараетесь подражать Есенину, а ведь вы на самом деле помесь Бальмонта с крестьянкой!
Сидевший рядом со мной зубной врач — эстет выкрикнул:
— Не оскорбляйте человека!
— Я его не оскорбляю, — ответил Маяковский, — я, как рабочий на заводе, поднял щипцами болванку и рассматриваю ее!
В ложе кто-то взвизгнул тенорком:
— Я вот ваших стихов тоже… не понимаю.
Маяковский поднял голову, нашел взглядом крикуна, спокойно сказал:
— Ничего, дети ваши поймут!
— И дети не поймут!
— Ну, значит, в папашу пойдут: этакие молодые дубки!
Зал хохотал, свистел, аплодировал этой словесной дуэли одного со многими. Масло в огонь подлил студент Краснодарского пединститута, бледный юноша в клетчатой рубашке-ковбойке. Он поднялся со своего места и сказал Маяковскому:
— Я написал про вас стихи!
— Идите на сцену и читайте! — приказал поэт.
Юноша вышел и прочитал стихотворение, в котором Маяковскому досталось за то, что он в своей шуточной миниатюре о Краснодаре, пораженный обилием разной хорошей собачни на его улицах, написал: «Это не собачья глушь, а собачкина столица».
(В Краснодаре действительно было тогда очень много собак. Жилось им привольно и сытно. Я до сих пор помню огромного сенбернара, принадлежавшего известному в городе врачу. Этот добродушнейший пес разгуливал по улицам города один, заходил в кондитерские и колбасные, где его охотно угощали, иногда появлялся в кинозале во время сеанса и шел по проходу между рядами, важный и сановитый, словно почтенный, всеми уважаемый капельдинер. Казалось, что он сейчас начнет проверять у людей билеты.)
Юноша из пединститута упрекал Маяковского — автора поэмы о Ленине, американских стихов, Маяковского-сатирика, Маяковского — трубадура Октября в отходе от боевых общественных тем. Это было неумно, грубо, а главное — несправедливо. Это было еще и очень обидно: ведь удар в спину был нанесен Маяковскому из лагеря молодежи!
Маяковский выслушал пасквиль молча. Лицо его искривилось от боли. Когда юноша кончил читать, в зале раздались аплодисменты. Маяковский шагнул вперед на авансцену, поднял руку и… Если бледный юноша из пединститута живет и здравствует поныне, он, наверно, до сих пор краснеет, вспоминая ту трепку, которую задал ему тогда Маяковский!
Маяковский говорил о трудовом подвиге поэта, о работе над словом, о политическом его долге и о его праве на шутку. Говорил он и о тех, кто «сукинсынят из-за угла»! Юноша стоял, опустив голову. На него было жалко смотреть.
Потом Маяковский начал читать стихи. Они падали лавиной со сцены, оглушая и будоража. Читал он в тот вечер необыкновенно прекрасно. Враги молчали, совершенно подавленные, друзья устроили поэту овацию.
Я зашел к нему за кулисы. Он сидел, усталый и совсем больной, отдал мне мою тетрадь и сказал:
— Извините, разговаривать не могу — заболел. Там у вас строчки есть хорошие…
И — наизусть! — вслух прочитал мои пять строк.
Я взял свою тетрадь и ушел от него предельно счастливый. Боже мой, Маяковскому понравились мои пять строчек! Вот эти строчки из стихотворения «Малярия»:
Я с гостьей болотной еще не привык
На горы взбираться и падать.
К гортани сухой прилипает язык,
И я молчалив, как копченыйбалык,
В парламенте рыбного склада.
До рассвета я, «шатался по городу и репетировал», обожженный его лаской, и повторял эти строчки, смущая своим бормотанием одиноких прохожих и милиционеров. Тот, кто когда-нибудь писал стихи и любит Маяковского, поймет меня.
А потом увлечение стихами прошло у меня, как корь, не оставив заметных следов, другие литературные надежды и замыслы стали волновать меня… В 1930 году я работал фельетонистом в Ташкенте, в газете «Правда Востока»… Однажды пришел в редакцию утром и, просматривая телеграммы ТАСС, прочитал скупые, жестокие строки: «Вчера, на своей квартире…» Острая боль ледяным обручем сжала сердце, и я увидел поэта, ставшего мне вдруг бесконечно близким, как живого, таким, каким запомнил его по краснодарским встречам: высокий, ладно скроенный человечище с резким профилем, в оливкового цвета короткой куртке с серым каракулевым воротником размашисто шагает по солнечной улице веселого южного города упругим, бодрым шагом хозяина новой жизни.
1953
Оглавление
I
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАЛИЗМА
КАТАСТРОФА
ТАКАЯ СТАРУХА!
РЕФЛЕКСЫ
ЧУТКИЙ ТОВАРИЩ
ТЕТЯ НАДЯ
НАКАЧКА
СВИСТУН
СОЛИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
АВРАЛ
ВСТРЕЧА НА СТАНЦИИ
СОСНЫ ШУМЯТ
ЭКЗЕМПЛЯР
ПИЯВОЧКА
ПРОФЕССИЯ
ЭКСКУРСИЯ
НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ
ПОЕЗДКА К ЦЕЛИТЕЛЮ
ДОЗРЕЛ!
ВАСЬКИНА МАМАША
ВИЗИТ
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА
КУТЕЖ
II
ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК
ШОК
ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ
ВЕСНА
ДАЛЕКО ОТ МОРЯ
ЕЛОЧКА
ОТЦОВСКИЙ ГОЛОС
НЕОБЫКНОВЕННОЕ УЛИЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
В КРАСНОДАР ПРИЕХАЛ МАЯКОВСКИЙ!