Борис Васильевич Бедный
Неразменное счастье
Рассказы

Старший возраст

1

умно и весело было раньше у Федуновых. Дети характером удались в отца, Семена Григорьевича, росли общительными и компанейскими. У каждого из них было по нескольку неразлучных друзей, и с незапамятных времен повелось почему-то так, что не они ходили в гости к своим приятелям, а те — к ним. В целом году дня не выпадало спокойного, все — гвалт, топот, игры да песни. Весной и осенью дородная Екатерина Захаровна жаловалась, что гости много грязи наносят в комнаты, и предлагала отвадить для начала хотя бы тех, кто ходит без калош. Но Семен Григорьевич уверял жену, что гости красят жизнь, а калоши — вещь наживная, и все продолжалось по-прежнему.

А потом дети выросли, выучились на инженеров и агрономов, обзавелись своими семьями и разъехались кто куда. В родном городе остался лишь старший сын Петр, работающий в коммунхозе начальником над всем городским водопроводом. Уже и после женитьбы Петр долгое время жил в отчем доме, но года два назад ему дали в центре города хорошую квартиру — близко от места работы, все удобства, солнечная сторона, — и он переехал. Наиболее осведомленные из соседок поговаривали, будто истинной причиной переезда были не преимущества новой квартиры, а нелады, возникшие у Петровой жены со свекровью. Одни соседи винили во всем самолюбивую Екатерину Захаровну, другие — неуживчивую невестку. Кто из них был прав, решить трудно — недаром в китайской письменности иероглиф «ссора» рисуют в виде двух женщин под одной крышей.
После переезда сына Семен Григорьевич и Екатерина Захаровна снова остались одни-одинешеньки, как тридцать семь лет назад, когда соединили свои судьбы. И просторной же показалась им теперь их старая, еще недавно тесноватая квартира!
Петр навещал родителей не часто, ссылаясь на занятость срочными водопроводными делами. Еще реже писали письма другие дети, и письма эти выходили у них почему-то обидно куцыми, по схеме: «
Здравствуйте, милые! Как поживаете? У меня все в порядке. Целую…»
Дочь Вера, бывшая замужем за директором крупного сибирского завода, каждый месяц присылала по двести рублей, забывая, однако, черкнуть хотя бы строчку на обороте почтового перевода. Семен Григорьевич пристыдил как-то директоршу, и после этого Вера стала посылать деньги телеграфными переводами, в которых нет места для письма.
Екатерина Захаровна говорила Семену Григорьевичу, будто кладет Верочкины деньги в сберкассу, а сама тайком переправляла их младшему сыну, студенту, вдобавок к тем деньгам, что отец уделял ему из каждой получки. Семен Григорьевич нашел как-то разоблачительные квитанции в укромном месте, на комоде за зеркалом, все понял, но жене ничего не сказал и только иногда, посмеиваясь, заводил вдруг речь о том, как привольно заживут они с Екатериной Захаровной, когда проценты с отложенных капиталов достигнут солидной суммы.
Письма короче воробьиного носа, редкие приходы Петра, неудачная семейная фотография, где Семен Григорьевич вышел почему-то сердитым, а Екатерина Захаровна имела вид испуганный, да еще закапанная чернилами клеенка на столе, за которым дети готовили когда-то школьные уроки, — вот и все, пожалуй, что напоминало старикам об их сыновьях и дочерях.
С недавнего времени Семен Григорьевич стал замечать, что хитрая Екатерина Захаровна особенно внимательно слушает сводки погоды по радио. Ее радовало, что в сводках часто упоминают те города и области, где живут их дети. Когда писем не было очень уж долго, Семен Григорьевич, приходя с работы, спрашивал обычно:
— Ну как там… погода?
И Екатерина Захаровна незамедлительно вещала:
— У Веры двадцать градусов мороза, должно быть валенки уже надела. У Васи ветер умеренный, без существенных осадков. Про Гришу ничего сегодня не передавали. У Фени дождь, наверно опять насморк схватит. А Саша до сих пор в летнем костюмчике разгуливает: семнадцать тепла, умней всех устроился!..
— Большая, однако, у нас страна! — каждый раз наново удивлялся Семен Григорьевич и, успокоенный, садился обедать с таким чувством, будто от всех детей получил весточки.
При всем том Семен Григорьевич особенно на детей не обижался и считал, что в общем все идет правильно, как оно давно уже в мире заведено: были дети малыми — нуждались в родительской помощи, а теперь оперились, взвалили на собственные плечи нелегкий житейский груз, сами детей воспитывают, — где уж тут много о стариках думать, в сутках ведь только двадцать четыре часа.
Прежние гости — и те, кто носил калоши, и те, кто, к неудовольствию Екатерины Захаровны, обходился без них, — после отъезда молодых не заглядывали больше к Федуновым. Желанная тишина наконец-то установилась в доме, но не радовала она Екатерину Захаровну. Не веселили ее душу и незапятнанные полы: чистота их была какая-то скучная, неживая.
Лишь несколько человек навещали теперь Федуновых.
По воскресным дням приходил старый врач Кондрат Иванович, живущий в соседнем доме, некогда бесплатно лечивший всех детей Семена Григорьевича и до сих пор помнящий, кто из них болел корью, а кто — скарлатиной. Суетясь гораздо больше, чем надо для приема одного гостя, Екатерина Захаровна подавала на стол чай. Семен Григорьевич пил чай крепкой заварки и вприкуску, а Кондрат Иванович — внакладку и слабый, чтобы не попортить цвет лица. Они пили чай и неторопливо беседовали о погоде, международном положении и озеленении родной улицы. Выпив две чашки, Семен Григорьевич долго и тщательно вытирал усы и потом предлагал небрежно:
— Что ж, сразимся?
Кондрат Иванович доставал из жилетного кармана массивные серебряные часы фирмы «Павел Буре, поставщик двора его императорского величества» и говорил нерешительно:
— Неплохо бы, да вот беда — спешить мне надо…
— Одну-то партию можно сыграть! — убеждал Семен Григорьевич и, соблазняя врача, рассыпал по столу звонкие шашки.
— Разве что одну… — соглашался Кондрат Иванович, прятал «Павла Буре» и играл пять, а то и десять партий, совершенно позабыв, что ему надо спешить.
Долгое время трудно было определить, кто из них играет лучше: то врач одолевал мастера, то мастер — врача. Но с годами Семен Григорьевич как-то приловчился и стал выигрывать раз за разом. Несмотря на старинное их знакомство, Кондрату Ивановичу, как человеку с высшим образованием, стыдно было проигрывать малообразованному соседу. Утешая себя, он говорил, что шашки — игра примитивная, и все норовил подбить Семена Григорьевича обучаться благородным и высокоумным шахматам. Однако Семен Григорьевич на старости лет не хотел рисковать своим чемпионством и резонно возражал, что на шахматной доске тесно от фигур, а он простор любит. То ли дело разлюбезные шашки — тут вся доска насквозь просматривается, все шашки на виду, и никакого тебе обману…
По большим праздникам являлся мастер Зыков — дружок и одногодок Семена Григорьевича, работающий на одном с ним заводе. Озеленением улиц и международными вопросами молчаливый Зыков не интересовался, в шашки тоже не любил играть, и с ним Семен Григорьевич коротал время совершенно иным образом.
Каждый раз Зыков приносил пол-литра водки и молча ставил на стол. По долгу гостеприимства Екатерине Захаровне приходилось ухаживать за гостем, подавать закуску и говорить разные любезные слова, вроде: «Селедочку попробуйте! Неужели вам наша капуста не нравится?» — и прочее в том же духе, а если б ее вольная воля, она Зыкова с водкой и на порог не пустила бы. Четверть века назад у Екатерины Захаровны спился двоюродный брат; с тех пор она считала, что все мужчины как бы ходят по краю пропасти, и, оберегая семейный очаг, везде, где только могла, непроходимой стеной становилась между мужем и водкой.
Сперва Зыков наведывался лишь Седьмого ноября и Первого мая, а потом стал приходить и на рождество с пасхой. Никакого стариковского поворота к религии у него не произошло, просто ему нужен был повод, чтобы выпить. Выпивку без достаточного основания строгий мастер не признавал, считая ее признаком душевной слабости и самым обыкновенным пьянством.
С годами зыковский круг праздников расширился. После войны дружки стали отмечать День победы — в отдельности разгром Германии и капитуляцию Японии. А в самые последние годы, когда дети Зыкова тоже разлетелись из-под родной крыши, он стал заглядывать к Семену Григорьевичу, вдобавок ко всем прежним праздникам, еще Восьмого марта и на троицу.
Иногда Семена Григорьевича навещали и молодые рабочие, его ученики. Они входили к мастеру с торжествующим сиянием глаз и с тем беспорядком в прическе и одежде, которые за версту выдавали счастливых изобретателей, только что обогативших отечественную технику открытием невероятной важности. Ребята извлекали из карманов мятые крошечные листки чертежей, размеры которых были обратно пропорциональны гениальности замысла, или приносили модели резцов, бережно завернутые в носовые платки холостяцкой чистоты и вырезанные, за неимением под рукой другого материала, из обыкновенной картошки, — и тогда Екатерина Захаровна ворчала, что теперь ей понятно, почему на рынке подорожали фрукты-овощи. Чаще всего молодые изобретатели уходили восвояси опустив головы и, мстя себе за незадачливость, пешком тащились в свое общежитие через весь город, из презрения к себе отказываясь от услуг легко доступного по вечерам городского транспорта. Но попадались среди них и такие, кого Семен Григорьевич хлопал по плечу небольшой тяжелой рукой, бормоча растроганно:
— Порадовал старика, комсомол!.. Варит котелок, варит!..
Случалось, что «комсомол» являлся и без всяких чертежей и моделей. В беседе тогда какой-нибудь парнишка долго бродил вокруг да около, пока Семен Григорьевич не спрашивал, потеряв терпение:
— В чем неувязка? Выкладывай!
И в ответ слышал робкое:
— По личному я…
Ребята знали, что Семен Григорьевич не разболтает их секретов, и охотно советовались с ним в затруднительных случаях, доверяясь житейскому опыту и природному такту старого мастера, — к великому удивлению Екатерины Захаровны, которая с незапамятных, времен придерживалась того мнения, что муженек ее, может быть, и понимает кое-что в своем производстве, но зато ни бельмеса не смыслит в тонких сердечных делах.
Из молодых рабочих к Семену Григорьевичу чаще других приходили тихий, не по годам спокойный токарь Коля Савин и веселый фрезеровщик Кирюшка.
2
В глубине души Екатерина Захаровна считала, что жить ей на свете гораздо трудней, чем мужу. У Семена Григорьевича был завод, который не только каждодневно доставлял ему постоянное, восьмичасовое занятие, но и определял весь режим остального дня, придавая всему, что делал муж, завидный смысл: утром он озабоченно спешил на работу, а вечером заслуженно отдыхал. У Екатерины же Захаровны никакого завода не было, а хлопоты по хозяйству после отъезда детей сильно поубавились.
Как только Семен Григорьевич уходил на свой завод, в доме устанавливалась такая тишина — котенок прокрадется на мягких лапках и то слышно… От этой гнетущей тишины, от надвигающейся старости или оттого, что у Екатерины Захаровны оказалось вдруг много свободного времени, которое нечем было заполнить, она стала часто прихварывать. Раньше, когда семья была большая и Екатерине Захаровне надо было всех обшить, обстирать и накормить, у нее просто не хватало времени на болезни — и она всегда была здорова. А теперь ее стали вдруг одолевать всевозможные недуги, один другого мудренее.
Впрочем, довольно быстро находчивая Екатерина Захаровна вполне освоилась с новым своим положением и даже стала извлекать из него кое-какие выгоды. Почувствовав самое легкое недомогание или, что было одно и то же, вообразив его у себя, она немедленно ложилась в постель и ставила у изголовья жестяную коробку из-под печенья, с незапамятных времен служившую в семье Федуновых аптечкой. Екатерине Захаровне было приятно наблюдать, как сильно беспокоится Семен Григорьевич во время ее болезни и лезет из кожи вон, чтобы угодить ей и исполнить любой каприз. Как все жены на свете, Екатерина Захаровна была убеждена, что вообще-то муж недостаточно о ней заботится, и теперь радовалась, видя его смятение.
Высоко взбив подушки, она целыми днями лежала в постели, без нужды тяжко вздыхала и пугала доверчивого Семена Григорьевича разговорами о близкой своей смерти.
Домашний курс лечения вскоре Екатерине Захаровне наскучил, советы Кондрата Ивановича казались ей слишком простыми, и она чуть ли не впервые в жизни пошла в поликлинику. И там-то нежданно-негаданно Екатерина Захаровна открыла новый заманчивый мир. Строгая больничная чистота внушала невольное уважение. Народ в очереди стоял не в пример вежливее, чем в продуктовых магазинах, никто не лез нахрапом вперед, все было чинно, благородно. И разговор вокруг шел совсем иной. Никто не упоминал про обвес, растрату и другие низменные вещи. Под стать месту, беседа велась тонкая и ученая, порхали незнакомые Екатерине Захаровне слова: «гипертония», «терапевт», «глюкоза»…
Одно лишь омрачило радость открытия. В очереди, впереди себя, Екатерина Захаровна увидела жену диспетчера, живущую в том же доме, где и она, этажом ниже. Над диспетчершей этой давно уже смеялись все соседки: у нее вечно убегало на кухне молоко, пригорали котлеты, а муж ее, диспетчер, сам пришивал себе пуговицы. Дома она, сознавая свою неполноценность, была тише воды, ниже травы, а здесь громким уверенным голосом завсегдатая хвалила одних докторов и поругивала других — и все это с доскональнейшим знанием дела, солидно и авторитетно. Екатерина Захаровна почувствовала, что самолюбие ее задето. Она увидела, как много потеряла, сидя дома, — и с того дня стала частенько наведываться в поликлинику.
На старости лет ее вдруг обуял самый беспокойный из всех видов азарта — лечебный. Семен Григорьевич только диву давался: наверстывая все упущенное за прошлые годы, его благоверная лечилась водой и электричеством, добивалась приема у профессора, шла на рентген, капитально ремонтировала зубы.
Длинные амбулаторные очереди стали для Екатерины Захаровны и клубом, в котором она нескучно проводила свое время, и медицинским институтом, где она узнавала о всех существующих на свете недугах и способах их лечения. Врачи, даже не находя у Екатерины Захаровны никакой болезни, всегда прописывали ей какое-нибудь лекарство, которое хотя и не приносило особой пользы, но не причиняло и вреда.
Сначала она по неопытности робела перед медицинскими работниками и стыдилась отнимать у них время. Но врачи были с ней отменно вежливы, внимательно выслушивали, на что она жалуется, и постепенно Екатерина Захаровна прониклась уверенностью, что эти образованные и воспитанные люди для того и приставлены к ней государством, чтобы всячески обслуживать ее, — и стесняться тут нечего. Каждый делает свое дело: она болеет, а они ее лечат.
Екатерина Захаровна так старательно посещала поликлинику, что в скором времени все завсегдатаи стали считать ее своим человеком. При случае она уже могла указать новичку, как найти тот или иной кабинет, и посоветовать, в какой аптеке всего лучше заказать лекарство. А потом она так понаторела, что однажды вступила с диспетчершей в спор и о самой гипертонии. Память у Екатерины Захаровны была цепкая, не засоренная учением и книгами; она хорошо помнила все, что сведущие люди говорили в очереди о гипертонии, и хотя толком не понимала, что это такое, но повторила чужие слова правильней соседки, и та с позором должна была признать ее правоту.
У Екатерины Захаровны объявилось такое великое множество новых знакомых, что с ней стало просто невозможно ходить по городу: она раскланивалась на каждом шагу и в эти минуты сильно напоминала Семену Григорьевичу директора завода, когда тот в обеденный перерыв шел по заводскому двору. Любопытный Семен Григорьевич спрашивал иногда, с кем это она здоровается, и слышал в ответ небрежное:
«Вместе просвечивались». Или: «Стояли в очереди к врачу ухо-горло-нос».
Большинство новых знакомых Екатерины Захаровны были люди пожилые, нигде не работающие. Они жили на пенсии или на иждивении своих детей и так же, как Екатерина Захаровна, на закате дней наверстывали все упущенное по части медицины. Свободного времени у них было, хоть отбавляй, и Семен Григорьевич начинал теперь догадываться, почему рабочему человеку так трудно попасть на прием к врачу.
Сперва он лишь посмеивался над лечебными причудами супруги, но вскоре они коснулись и его. Екатерина Захаровна вдруг уверовала в пользу вегетарианства и стала донимать мужа обедами из овощей и разными киселями. Семен Григорьевич, любящий пищу такую, чтобы было чего грызть, долго не вытерпел подобных измывательств и пригрозил, что станет ходить в столовую или даже в ресторан. Екатерина Захаровна, всю жизнь как огня боявшаяся ресторанов-искусителей, испугалась, срочно пересмотрела свое отношение к вегетарианству, и на столе опять появились мясные блюда. Но она взяла реванш на другом: строго-настрого запретила мужу курить в комнатах и выгоняла его на кухню. С папиросой в зубах Семен Григорьевич в одиночестве прогуливался меж ярко начищенных кастрюль и сам себе казался похожим на тигра в клетке.
Благоговение перед новейшими открытиями медицинской науки прочно уживалось у Екатерины Захаровны со слепой верой в чудодейственную силу передающихся из поколения в поколение народных средств, не известных врачам. Семен Григорьевич часто заставал дома ветхих старушек со слезящимися глазами и бойких молодух цыганистого вида в длинных цветастых шалях. Они приносили Екатерине Захаровне какие-то травы, коренья и таинственные снадобья. Семен Григорьевич не шутя опасался, что супруга его как-нибудь ненароком отравится. Обширная жестянка из-под печенья уже не вмещала всех медикаментов, и Екатерина Захаровна в подмогу ей раздобыла где-то круглую картонку из-под шляпы, которую Семен Григорьевич ехидно именовал «филиалом».
У Екатерины Захаровны появилась заветная мечта съездить на Кавказ, покупаться в теплых водах Черного моря и полечить грязевыми ваннами свой застарелый ревматизм, которого, как думал Семен Григорьевич, у нее никогда и в помине не было. Она уже справлялась на железнодорожной станции, сколько стоит билет, заказала слесарю приделать к старому баулу замок покрепче, и Семен Григорьевич стал склоняться к мысли, что супруга его осуществит-таки свой грандиозный замысел.
Справедливости ради следует, однако, отметить, что Екатерина Захаровна отдавала лечебным процедурам лишь свое свободное время, на первом же месте у нее по-прежнему оставался дорогой муженек. Случалось, она бросала свою очередь в поликлинике перед самой дверью в кабинет и сломя голову мчалась домой, чтобы поспеть с обедом к приходу Семена Григорьевича с завода. И в думах о предполагаемой поездке на юг ее больше всего беспокоило, как будет жить в одиночестве Семен Григорьевич, кто его напоит-накормит. Тайком от мужа Екатерина Захаровна вынашивала план: поехать в дальнее путешествие вместе с ним, чтобы душа ее была спокойна, что он не терпит никаких лишений, пока она разъезжает по Кавказам…
Примерно в то же самое время, когда Екатерина Захаровна увлеклась медициной, Семен Григорьевич пристрастился к чтению художественной литературы. Раньше ему не довелось много читать: то на работе был занят, то дома, в семье. Всех детей надо было одеть-обуть, вывести в люди, где уж тут было думать о книжках. К тому же в цехе все время совершенствовалась техника, и, чтобы не опозориться перед «комсомолом», приходилось на старости лет, спрятав самолюбие в карман, вечера напролет просиживать над техническими брошюрами и наставлениями, — не до романов тут было!
Теперь же Семен Григорьевич добрался и до романов. Своих книг в доме было не густо, и скоро страсть к чтению привела Семена Григорьевича в библиотеку. Там он увидел, что книг написано превеликое множество, — всех не перечитаешь, если даже начать читать с грудного возраста. Возраст Семена Григорьевича был уже далеко не грудной, и, как человек осмотрительный, он побоялся наломать дров в новом для него занятии и взяться совсем не за те книги, какие ему надо бы прочесть. Сам специалист своего дела, Семен Григорьевич привык во всех случаях жизни доверять специалистам. Он обратился за помощью к библиотекарше — и не пожалел. Библиотекарша была молодая и даже без очков, но в многоярусном книжном хозяйстве разбиралась не хуже, чем Семен Григорьевич в своем цехе.
Семен Григорьевич полюбил чтение серьезное и толстые книги предпочитал тонким. Более всего он уважал книги о давно минувших временах, прочитав которые можно было узнать, что радовало тогда людей и что печалило, в каких жилищах они жили и какие носили одежды, сколько зарабатывали своим немеханизированным трудом и какие тогда держались цены на хлеб, мясо, сапоги и другие товары, необходимые для жизни во все времена и для всех народов. Когда Семен Григорьевич не находил в книге ответа на эти простые и важные вопросы, он сердился на автора и считал его человеком легкомысленным.
Желая порадовать супругу, Семен Григорьевич пытался приохотить к чтению и ее, но из этой затеи ничего путного не вышло. Книги на Екатерину Захаровну действовали как-то странно: принимаясь читать, она сначала все понимала, но уже на второй или третьей странице всегда почему-то получалось так, что глаза ее по-прежнему старательно скользили по строчкам, не пропуская ни единого слова, а мысли текли своим чередом, возвращаясь к насущным житейским заботам, не имеющим ничего общего с тем, о чем она читала. Бывало, глаза Екатерины Захаровны пробегали какое-нибудь пылкое объяснение в любви, а думала она в это время о том, хватит ли в примусе керосину приготовить утром завтрак Семену Григорьевичу, сможет ли унять боль в пояснице новое средство, о котором она вчера услышала в поликлинике, не поломает ли соседка взятую у нее швейную машинку… Прочитав книгу от корки до корки, Екатерина Захаровна помнила лишь какие-то случайные обрывки, а о главном не имела ни малейшего представления.
Семен Григорьевич сердился на жену и считал, что она просто ленится. Но Екатерина Захаровна не была виновата в том, что переживания книжных героев не могли заслонить ее собственных нужд. Она бы еще могла заинтересоваться жизнью и делами своих родичей или хотя бы знакомых, но решительно была не способна принимать близко к сердцу судьбы каких-то вымышленных, никогда не живших на свете людей. Ей и своих-то забот хватало, чтобы выдумывать себе еще новые. Все дело было, видимо, в том, что Екатерина Захаровна слишком долго вращалась в тесном кругу будничных житейских интересов. Она так плотно стояла на земле, что все отвлеченное, не имеющее самого прямого, непосредственного отношения к ней, Семену Григорьевичу и их детям, уже никак не могло приковать к себе ее внимания.
Так они и жили, коротая свои предзакатные дни: Семен Григорьевич работал на заводе, а по вечерам читал толстые книги; Екатерина же Захаровна вела все домашнее хозяйство, а в свободное время лечила свои действительные и мнимые недуги.
3
Как-то в середине зимы Семену Григорьевичу пришла в цехе удачная мысль. Штука была не бог весть какая, но выгоду обещала явную. Дело касалось трудоемких валиков. После обработки на фрезерном станке валики поступали на обточку к токарям. Семен Григорьевич с часами в руках проверил свои предположения и убедился, что один умелый рабочий успеет и фрезеровать валики и обтачивать их, если токарный станок поставить рядом с фрезерным.
Надо было решить, кому доверить это дело, и тут Семен Григорьевич заколебался. Как назло, обработкой валиков были заняты лучшие его рабочие — Коля Савин и Кирюшка. На доске показателей они давно уже «играли в чехарду»: то один вырывался на первое место, то другой. Оба парня одинаково хорошо знали и токарный и фрезерный станки. В довершение всех бед, ребята приударяли за одной и той же девицей, сверловщицей Клавой, и выбрать одного из них — значило смертельно обидеть другого. Учитывая их соперничество, правильней всего было бы поручить испробовать новинку обоим: работа от этого только бы выиграла. Но начальник цеха не очень-то верил в затею Семена Григорьевича, не захотел рисковать и лишь из уважения к старому мастеру разрешил сдвоить станки для одного рабочего.
Семен Григорьевич уже склонял свой выбор в пользу Коли Савина, как вдруг заметил, что между Кирюшкой и остальными ребятами творится что-то неладное. На заводе Кирюшка появился не так давно, но за короткое время своей смекалкой и усердием в работе добился признания со стороны начальства. Ребята же, пришедшие в цех несколько лет назад всем выпуском из ремесленного училища, не очень-то благоволили к новичку. Зато балагур Кирюшка стал любимцем всех девчат. На вечеринках они охотнее танцевали с ним, чем с другими ребятами, занимали для него место в столовой и сами, без просьбы Кирюшки, покупали ему в кассе предварительной продажи билеты в кино на восьмичасовой, труднодоступный сеанс. Все эти Кирюшкины успехи, понятное дело, кое-кому сильно не нравились, но Семен Григорьевич только посмеивался, считая, что так оно в жизни и должно быть: не зевай, а то останешься с носом.
А теперь ребята совсем рассорились с Кирюшкой. Лишь два-три человека постарше еще разговаривали с ним, а остальные упорно его не замечали, будто и не было вовсе в цехе танцора Кирюшки.
Сам Кирюшка еще пробовал бодриться и насвистывал «Ой ты, радость молодая, невозможная…», но Семена Григорьевича не так-то просто было провести, и он безошибочно определил, что на сердце у парня кошки скребут. С лица фрезеровщик осунулся, и во всей его фигуре появилось что-то жалкое, затравленное. Семен Григорьевич посмотрел туда-сюда, раскинул умом и решил, что всему причиной Клава-сверловщица, которая, видимо, не избежала Кирюшкиных чар и предпочла его Коле Савину, чем и разобидела всех ребят.
Семен Григорьевич не шутя рассердился на свой «комсомол». И хотя Колю Савина мастер всегда уважал больше, чем его удачливого соперника, но, чтобы восстановить справедливость и показать ребятам, что осуждает все их интриги против товарища по работе, он поручил новое дело не ему, а Кирюшке.
Рядом с Кирюшкиным шлицефрезерным станком установили токарный, и парень стал работать на двух станках. Он сразу повеселел, почувствовав поддержку мастера. А другие ребята надулись на Семена Григорьевича. Первый же успех окрылил Кирюшку, и он попробовал увеличить подачу фрезы. Высокие скорости сначала парню не давались, но Семен Григорьевич помог ему улучшить закалку фрезы, и дело пошло на лад.
Коля Савин и другие ребята совсем забыли дорогу к дому мастера, а благодарный Кирюшка стал частым гостем. По воскресеньям они даже ходили вместе в баню, и Семен Григорьевич учил молодого фрезеровщика сложному парильному искусству. При всем том Семен Григорьевич ни разу не заговаривал с Кирюшкой о его затянувшейся ссоре с товарищами и из дипломатических соображений держался в цехе так, словно решительно ничего не случилось, хотя и страдал, видя, что «комсомол» отвернулся от него. Он все ждал, что ребята в конце концов поймут свою промашку и прежняя дружба у них восстановится.
Екатерина Захаровна заприметила, что с мужем творится что-то необычное. Но на вопрос ее, почему их перестал навещать Коля Савин, Семен Григорьевич ответил самым правдивым своим голосом, что Коля держит сейчас трудные экзамены в вечерней школе, — и Екатерина Захаровна совершенно успокоилась.
Непоседа Кирюшка поведал Семену Григорьевичу новый свой замысел: поставить возле себя еще один фрезерный станок. Кирюшка уверял, что он успешно справится с работой и на трех станках. Семен Григорьевич видел: парень хочет своей отличной работой пристыдить других ребят и заставить их поскорее мириться. И конечно же он стремился выйти победителем в затянувшейся ссоре. По человечеству, все это было понятно, а учитывая зеленую Кирюшкину молодость, даже и простительно, но Семен Григорьевич привык заботиться о процветании всего своего участка и посоветовал нетерпеливому Кирюшке повременить, пока и Коля Савин освоит работу на двух станках.
Однако о горячем желании Кирюшки каким-то образом узнал начальник цеха, больше всего на свете любящий, чтобы под его руководством происходили всякие громкие дела, которые могли бы попасть на газетные страницы и принести ему славу. До этого, казалось, он совсем не замечал всей затеи Семена Григорьевича, а тут сразу оживился и настоял на том, чтобы новатору дали третий станок.
И надо же было случиться так, что как раз накануне того дня, когда Кирюшка должен был начать работу на трех станках, Семен Григорьевич неожиданно заболел.
4
То ли сквозняком его продуло, то ли глубже, чем надо, глотнул он морозного воздуха, то ли микроб какой подлый его укусил, — но Семен Григорьевич вдруг занемог посреди рабочего дня. Он переборол себя и выстоял до конца смены, а дома ему стало еще хуже. Его знобило, в костях поселилась сладкая и томительная ломота, так что все время хотелось потянуться, а во рту стоял противный металлический вкус, будто за щеку сунули медную монету.
Встревоженная Екатерина Захаровна послала соседскую девочку за Кондратом Ивановичем. Врач вскоре явился с потертым кожаным саквояжем — серьезный и деловой, совсем не похожий сейчас на того Кондрата Ивановича, который приходил по воскресеньям играть в шашки.
Хмурясь, Кондрат Иванович смотрел язык Семена Григорьевича, щупал пульс холодной с мороза рукой, выстукивал больного костлявым звонким пальцем. Все это он проделал строго, немного даже официально, чтобы Семен Григорьевич проникся уважением к его профессии и понял наконец: Кондрат Иванович потому, может быть, и в шашки играет неважно, что знает слишком много других, гораздо более полезных для человечества вещей. Семен Григорьевич запоздало пожалел, что так безбожно обыгрывал Кондрата Ивановича, и, чувствуя угрызения совести, дал себе слово после выздоровления проиграть врачу первую же партию.
— Что ж, старина, поболеем! — окончив осмотр, с напускной докторской бодростью сказал Кондрат Иванович, словно сообщал Семену Григорьевичу приятную новость или приглашал его на увеселительную прогулку. — Ничего серьезного нет, а с недельку придется полежать дома…
Екатерина Захаровна, узнав, что супруг болен неопасно, перестала волноваться. Она считала, что Семен Григорьевич, будучи здоровым, несколько притесняет ее, и теперь, пожалуй, была даже довольна, что беспомощный муженек находится в полной ее власти и она может командовать им, сколь ее душеньке будет угодно.
Для Семена Григорьевича настало тяжелое время. Его пичкали таблетками и микстурами по рецепту Кондрата Ивановича. Екатерина Захаровна тоже не сидела без дела и норовила испробовать на нем все свои врачебные знания, почерпнутые в амбулаторных очередях. Семен Григорьевич видел, что для супруги болезнь его является чем-то вроде зачетного экзамена по всему курсу медицинских наук.
Знаменитая жестянка из-под печенья и картонный «филиал» переселились на стол поблизости от кровати больного. Они все время стояли открытыми, готовые в любую минуту потчевать Семена Григорьевича всевозможными лекарствами и снадобьями. Екатерина Захаровна натирала мужа на ночь козьим салом, ставила банки, поила какой-то противной пахучей жидкостью, которую почтительно именовала «бальзамом». Видом своим бальзам напоминал деготь, а по вкусу сильно смахивал на чернила, настоянные на перце. Бальзам этот был настолько несъедобен, что, по мнению Семена Григорьевича, целебные свойства его имели характер исключительно психологический: бедняга, проглотивший хоть единую ложку бальзама, неминуемо приложит все усилия, чтобы никогда больше не болеть и не подвергаться угрозе пить эту отраву вторично.
Уже на другой день утром Семену Григорьевичу стало лучше. Помогло ли совместное лечение Кондрата Ивановича с Екатериной Захаровной или крепкий организм брал свое, но так или иначе озноб почти прошел и лишь ломота в костях стала еще слаще и томительней. Не привыкшему к безделью Семену Григорьевичу нудно было день-деньской лежать в постели. Одолевали разные невеселые мысли: о своей старости, о затянувшейся размолвке в цехе, о равнодушии детей.
Ему вдруг очень захотелось именно сегодня получить письмо от родного человека, который уважает и любит его не только за труд на заводе, а просто так, по-родственному, не рассуждая и не прикидывая по-бухгалтерски его достоинств и недостатков. Он с нетерпением ожидал прихода почтальона, но тот принес лишь газету. Семен Григорьевич прочитал газету всю целиком — от передовой до объявлений о разводе. И хотя в нынешнем номере было несколько дельных статей, и зубастый фельетон, и удачная карикатура, но даже такая интересная газета не смогла заменить Семену Григорьевичу коротенького письмеца, написанного родной рукой.
Время ползло на самой тихой больничной скорости. И чего только не передумал он за день!
Многое воспринималось сейчас совсем не так, как вчера и позавчера, когда Семен Григорьевич был здоров. У него появилось такое чувство, будто привычный и давно обжитый им самокат, который месяцы и годы мчал его все вперед и вперед сквозь житейскую сутолоку, вдруг остановился на полном ходу, — и вот теперь он озирается в незнакомой местности, не зная, как быть дальше. Иные заводские заботы, которые еще вчера казались Семену Григорьевичу очень важными, теперь как-то померкли, отодвинулись в сторону. Изредка он прихварывал и раньше, да и с заводом расставался каждый год на время отпуска, но такого с ним еще никогда не приключалось. «Совсем дряхлый стал!..» — тоскливо думал Семен Григорьевич.
Вспоминалось все больше печальное. Как живой встал вдруг в памяти сын Павлик, не вернувшийся с войны. При жизни Павлик был таким же, как другие сыновья и дочери, но сейчас он казался Семену Григорьевичу добрее и сердечней. Семен Григорьевич невольно наделял его всеми теми качествами, каких так не хватало ему в других детях. Верилось, что уж Павлик, останься он в живых, не покинул бы отца с матерью на старости лет, жил бы с ними под одной крышей, а если б и уезжал иногда по делам службы в командировки, то конечно же писал бы им часто письма — и каждое не меньше чем на четырех страницах…
К вечеру Семен Григорьевич приободрился, ожидая, что после работы его обязательно навестит кто-нибудь из заводских знакомых. На приход Коли Савина и других ребят он, признаться, не очень-то рассчитывал, но Кирюшку-новатора ждал с минуты на минуту.
«Эх, не вовремя я свалился…» — пожалел Семен Григорьевич и тут же припомнил, что всю свою жизнь почему-то болел удивительно не вовремя.
Уже давно вернулся с работы сосед-счетовод, а Кирюшки все не было. «Или собрание срочное, — решил Семен Григорьевич, — или не осилил Кирюшка трех станков, вот и не хочет меня огорчать: парень он деликатный…»
Поздно вечером Семена Григорьевича посетил сын Петр. Он вошел в комнату, где лежал отец, встревоженным, но увидел его — и сразу успокоился. Семен Григорьевич полулежал в постели и скорее был похож на отдыхающего после работы человека, чем на больного. Петр присел у изголовья и спросил отца о самочувствии, машинально взглянув при этом на ручные часы. «Засек время!» — подумал Семен Григорьевич, и ему что-то расхотелось распространяться о своем здоровье. Петр заговорил о больших выгодах, которые сулит городу новая водонапорная башня, а с башни перекинулся на школьные успехи своего сына Вити. На прощанье он попросил Семена Григорьевича беречь себя. У родителей Петр пробыл всего минут двадцать и за это время трижды взглянул на часы — такой занятой был он человек.
На следующий день Семен Григорьевич крепко заскучал. Екатерина Захаровна и слушать не хотела о том, чтобы он встал с постели раньше, чем она испробует на нем все свои лекарства. Плотно позавтракав жареной картошкой с маринованными грибами (Семен Григорьевич был человек простой и, болея, никогда не терял аппетита), он стал думать, как бы убить время. Читать было нечего: как назло, взятую в библиотеке книгу — «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева — он прочитал перед самой болезнью, а обменять не успел. От нечего делать Семен Григорьевич стал слушать подряд все детские радиопередачи и до того дослушался, что ему начало казаться, будто на груди у него вырос пионерский галстук.
На самом интересном месте нанайской сказки на всю квартиру запел-залился звонок, заглушая рев тигра в репродукторе. Кирюшка в рабочее время прийти не мог, да и звонки были настойчивые, властные, — чувствовалось, что на кнопку нажимает начальственная рука. «Кого еще нелегкая принесла? — подумал Семен Григорьевич. — И поболеть спокойно не дадут!» Екатерина Захаровна вышла открыть дверь и вернулась с председателем цехкома, которого Семен Григорьевич недавно ругал на профсоюзном собрании за бездеятельность. Нельзя сказать, чтобы председатель был ленив или отлынивал от работы. Нет, ему случалось и недосыпать и недоедать, он и худел и горел на работе, но толку от всего этого было все-таки мало. На свою беду, председатель цехкома принадлежал к той категории работников, которые главным в любом деле считают отчетность. Он так боялся пропустить и не учесть самое малое дельце, совершенное под его руководством цехкомом, что учет этот пожирал все его время и недюжинную энергию, и у него уже не оставалось ни времени, ни сил для самой профсоюзной работы. Как раз за это Семен Григорьевич и критиковал его на последнем собрании.
Председатель спросил Семена Григорьевича, вполне ли обеспечен он квалифицированной медицинской помощью и нет ли у него каких претензий к цехкому — например, по вопросу диетпитания. И хотя он ни разу не заикнулся о критическом выступлении Семена Григорьевича, мастер хорошо видел, что председатель ни на секунду не забывает о том выступлении. Ему доставляла истинное удовольствие мысль, что он такой великодушный: Семен Григорьевич его критиковал, а он вот, как ни в чем не бывало, пришел к нему на дом, на деле доказывает сварливому мастеру, что цехком не бездействует и внимателен к нуждам рабочих. Семен Григорьевич вдруг заподозрил, что на ближайшем же отчетном собрании председатель не позабудет упомянуть и про это свое посещение.
— Спасибо, что пришел, а только помощи мне никакой не надобно, — твердо сказал он. — Зарплаты на харчишки хватает, а медициной обеспечен даже в избытке!
Председатель цехкома ретировался несолоно хлебавши и решив, что Семена Григорьевича на старости лет обуяла несусветная гордыня.
Только после его ухода Семен Григорьевич спохватился, что упустил возможность обменять книгу в библиотеке. Но, подумав хорошенько, он пришел к выводу, что если б председатель, не дай бог, принес ему книгу, то в его отчете, в графе «наименование мероприятий, проведенных цехкомом за отчетный период», наверняка появилась бы строчка: «Снабжение книгами больного мастера С. Г. Федунова», а рядом, в графе «количество», стояло бы: «Книг принесено столько-то, всего страниц столько-то…»
«А ну его к лешему со всеми его мероприятиями!»— решил Семен Григорьевич и окончательно перестал жалеть, что не попросил председателя цехкома обменять ему книгу.
5
В полдень прибежал внук Витя — любимец Екатерины Захаровны. Его школа была неподалеку, и он частенько навещал деда с бабкой, зная, что всегда будет желанным гостем. Когда Витюк был помоложе, Семен Григорьевич охотно возился с ним и отвечал на его бесконечные пытливые вопросы: из чего сделана конфета, оконное стекло, снег, солнце? А потом как-то незаметно их дружба расклеилась, разговоры стали осторожные, натянутые. Витюк уже ходил в шестой класс, изучал разные физики-химии, и неученый, но самолюбивый Семен Григорьевич боялся в разговоре с ним нечаянно проявить свое невежество и навеки потерять уважение внука.
Витюк покрутился возле больного, рассказал о своих занятиях в кружке «умелые руки» при Доме пионеров и улизнул на кухню к бабушке. Екатерина Захаровна баловала внука, и у нее всегда хранился для него гостинец про запас. Семен Григорьевич с горечью отметил, что теперь Витюк говорит с ним лишь на бытовые и ремесленные темы, признавая здесь покамест его авторитет, а научные вопросы приберегает для беседы с другими, более грамотными людьми.
— Не скучай без нас, — сказала Екатерина Захаровна, заглядывая в комнату. — Я к зубному пошла, а Витенька меня проводит.
Семен Григорьевич остался в квартире один. По радио передавали музыку — какую-то нестройную, унылую, ничего не говорящую ни уму, ни сердцу. «Увертюра, должно быть…» — умудренно предположил Семен Григорьевич и выключил радио.
И сразу же скучная тишина навалилась на него, заложила уши. Семен Григорьевич встал с постели и оглядел комнату, выискивая, чем бы заняться, лишь бы не слышать этой тяжелой могильной тишины. Он уже хотел взять «Записки охотника» и приняться за них по второму разу, как вдруг увидел на комоде незнакомую толстую книгу с надорванным корешком. Книга эта была раза в два толще «Записок», и Семен Григорьевич сразу проникся к ней уважением.
«Наверно, Витюк свой учебник забыл, — подумал Семен Григорьевич, подходя к комоду. — Интересно, чему их в этом году в школе учат?..» Но книга оказалась совсем не учебником. На заглавном листе стояло: Жюль Верн, «Дети капитана Гранта», роман.
«Не рано ли внук за романы берется? — обеспокоился Семен Григорьевич. — Давно ли на четвереньках ползал!»
Как постоянный читатель библиотеки, Семен Григорьевич наловчился по внешнему виду книги безошибочно определять, интересная она или так себе. Наружность Витюкова романа была самая заманчивая: голубая некогда обложка, захватанная многими руками, давно уже приобрела прочный серый цвет, а уголки листов имели ту приятную глазу округлую форму, которая сказала читательскому сердцу Семена Григорьевича, что книгой этой насладилась уже не одна сотня человек.
Стоя в нижнем белье посреди комнаты, Семен Григорьевич раскрыл книгу наугад и прочитал страницу для проверки. Описано было извержение вулкана, но ничего такого, что могло бы развратить внука,
придирчивый Семен Григорьевич не нашел. Он раскрыл в другом месте — и прямешенько угодил в морскую бурю. Ураган чудовищной силы нес корабль к береговым отмелям. У самого берега раскинулась тихая заводь, но корабль никак не мог пройти туда из-за огромных волн, которые неминуемо должны были разбить его об отмели. «Вот положение!» — обескураженно подумал Семен Григорьевич, принимая вдруг близко к сердцу чужую беду. Он поспешно перевернул страницу, чтобы узнать, что дальше будет. Все обошлось благополучно: капитан велел вылить за борт несколько бочек тюленьего жира, море на миг успокоилось и хотя сейчас же разбушевалось с новой силой, но корабль уже успел проскользнуть в заводь.
— Не знал я, что таким способом можно бурю утихомирить!.. — заинтересованно пробормотал Семен Григорьевич, будто был он не мастером машиностроительного завода, а по меньшей мере боцманом дальнего плаванья.
В третьем месте Семен Григорьевич прочитал о нападении на путешественников красных волков — агуаров. До самой этой минуты Семен Григорьевич и слыхом не слыхал об агуарах: все прежние годы он как-то обходился без них, разминулся с ними в жизни, а теперь подумал философически: «Сколько разной твари живет на свете!..»
Он решил, что книга эта ничуть не вредная, а даже полезная. Спросят Витюка на экзамене, какие бывают волки, — он всех наших серых перечислит, да и добавит: есть, мол, еще красные волки, прозываются — агуары. Молодец, скажет учитель, получай пятерку! «Хитро, бесенок, придумал, — одобрил внука Семен Григорьевич. — Вроде роман читает, а сам разные диковинки узнает. Сочетает, курицын сын, приятное с полезным!»
Семен Григорьевич захлопнул книгу и прищуренным недоверчивым взглядом посмотрел на профиль автора, нарисованный на обложке, выпытывая у него, не присочинил ли он, по своему писательскому обыкновению, чего-нибудь насчет бури и красных волков. Профиль Жюль Верна с окладистой бородой, энергичным лицом и устремленным вдаль взглядом внушил Семену Григорьевичу полное доверие. Ему особенно понравилось, что автор — не мальчишка какой-нибудь, который недорого возьмет и соврать, а человек, поживший на свете и, может быть, даже его одногодок. У Жюль Верна было простое мужиковатое лицо, и Семену Григорьевичу он вдруг показался похожим на мастера Зыкова.
Подивившись неожиданному сходству, Семен Григорьевич лег на кровать, распахнул книгу и стал читать с самого начала. Читалось легко, печать была не мелкая, как раз по стариковским глазам Семена Григорьевича. Текст часто перемежался картинками, и Семен Григорьевич имел счастливую возможность на каждом шагу проверить, правильно ли он представляет себе все то, о чем пишется в книге.
Но совсем не в картинках тут было дело! Не успел Семен Григорьевич опомниться, как очутился в самой гуще невероятных событий: приключений было так много, что едва он успевал успокоиться после одного, удачно окончившегося, как сейчас же наступало новое, еще более чудесное. Еще ни разу в жизни Семен Григорьевич не читал таких книг и даже не подозревал об их существовании.
Вместе с героями романа он плыл по океану и запросто ловил на крюк с салом огромных акул. Когда дело дошло до расшифровки полустертых водой записок, Семен Григорьевич от всей души пожалел, что не обучен иностранным языкам и ничем не сможет помочь пассажирам яхты «Дункан».
К возвращению Екатерины Захаровны от зубного врача Семен Григорьевич узнал кучу интереснейших и преполезнейших вещей, которые очень могли бы ему пригодиться, если б он на старости лет пустился вдруг в кругосветное путешествие. Екатерина Захаровна не учла всего этого, и ей сильно не понравилось, что муженек благодушествует за книгой: раз больной — так должен болеть, а не развлекаться книжками, — тут тебе не читальня! Она неодобрительно косилась на Семена Григорьевича, укоризненно гремела на кухне посудой, но, зная упрямый нрав своего благоверного, отнять у него книгу даже и не пробовала.
Семен Григорьевич читал до самого обеда и отхватил без малого сотню страниц. Он отложил книгу лишь тогда, когда Екатерина Захаровна поставила перед ним налитую вровень с краями тарелку борща.
— Постыдился бы в свои годы такую ерунду читать! — сказала супруга, рассматривая картинки в книге.
— Много ты в книгах понимаешь! — обиделся Семен Григорьевич и ткнул пальцем в надпись на обратной стороне заглавного листа, где черным по белому было пропечатано: для старшего возраста.
— Так это же для детей старшего возраста! — догадалась Екатерина Захаровна.
— А где тут написано — для детей? — хитро вопросил Семен Григорьевич. — Где? Прочитала бы сама — так увидела…
Екатерина Захаровна презрительно фыркнула:
— Есть у меня время глупые твои книжки читать! А в магазин кто будет ходить, полы мыть, обед для тебя, читателя, готовить? Кто? Может, этот твой… Жулик Верный?
Семен Григорьевич открыл было рот, собираясь вполне резонно заметить, что тот же обед она готовит не только для него, а и для себя, но решил, что тогда спор разгорится пуще прежнего, и благоразумно промолчал.
— То-то! — торжествующе сказала Екатерина Захаровна и подлила мужу в тарелку половник горячего борща, чтобы он видел, что никакой обиды на него она не держит и великодушно прощает ему все его заблуждения.
После обеда Семен Григорьевич снова взялся за книгу, а Екатерина Захаровна уселась шить ему теплую фланелевую рубашку, чтобы он не простужался, раз не умеет болеть. По простоте душевной она думала, что муженек лежит в трех шагах от нее, и не догадывалась, что он, в поисках капитана Гранта, рыщет сейчас за тридевять земель от родного дома.
Семен Григорьевич на яхте «Дункан» быстренько пересек Атлантический океан, узким Магеллановым проливом протиснулся в Тихий и высадился на далеком чилийском берегу. Путеводная тридцать седьмая параллель привела его вскоре на вершину Кордильеров. Тут, по воле Жюль Верна, который все время заботился о том, чтобы Семену Григорьевичу не скучно было путешествовать, его тряхнуло маленько землетрясением. На оторвавшемся куске горы Семен Григорьевич вместе с отважными путешественниками стремительно спустился с заоблачных высот и благополучно, без единой царапины, очутился в аргентинской прерии.
Одно несчастье за другим обрушивалось на спутников Семена Григорьевича, испытывая их мужество. На равнине их настигло наводнение, они потеряли лошадей и чудом спаслись на гигантском дереве омбу — мокрые и голодные посреди бушующей стихии. Но Жюль Верну и этого показалось мало: он зажег дерево молнией, а воду вокруг наполнил крокодилами. «Безжалостный ты человек!» — осудил автора Семен Григорьевич. На миг он испугался, что на этот раз героям не выкрутиться из беды: одни сгорят, другие утонут, третьих съедят прожорливые крокодилы. Но тут, как раз вовремя, ему пришла в голову спасительная мысль: о чем же тогда будет повествоваться в оставшейся части книги, если все герои сейчас погибнут? Семен Григорьевич прикинул на глаз, что не прочитано еще добрых две трети, и сразу успокоился.
И он не ошибся. Ко всем прежним злоключениям Жюль Верн добавил еще и смерч, и эта последняя беда неожиданно обернулась для горемычных героев романа благодатной своей стороной. Подхваченное налетевшим смерчем, дерево рухнуло в воду, распугало крокодилов и, погасив огонь, прямым ходом поплыло к сухой земле, куда в самом скором времени и доставило всех путешественников в полной целости и сохранности.
— Чтоб тебя! — сказал Семен Григорьевич автору с восхищением и укором за только что пережитые волнения.
На минуту он даже прикрыл книжку, чтобы полюбоваться профилем Жюль Верна на обложке. Профиль по-прежнему, как ни в чем не бывало, спокойно смотрел вдаль, обещая Семену Григорьевичу впереди еще и не такие приключения. И покоренный Семен Григорьевич одними губами, чтобы не подслушала любопытная Екатерина Захаровна, прошептал признательно:
— Хитрован ты!..
6
Кирюшка не явился и в этот день. Зато под вечер нежданно-негаданно пришел навестить больного мастер Зыков. Боясь насмешек, Семен Григорьевич проворно сунул книгу под подушку.
Как всегда неторопливый и неразговорчивый, Зыков молча снял в передней полушубок, причесал сбившиеся под шапкой волосы, расправил окладистую бороду и вошел к больному. Он молча и с преувеличенной осторожностью пожал Семену Григорьевичу руку и сел на заскрипевший под ним стул. Зыков и не подумал утешать больного дружка и говорить ему разные ободряющие слова, предсказывая скорое выздоровление. Всем этим, может быть, и следовало бы заниматься каким-нибудь новоиспеченным друзьям, но Зыков знал Семена Григорьевича без малого полвека, и дружба их не нуждалась во внешних проявлениях. Иные, глубинные источники питали ее.
Они без слов понимали друг друга и ценили это понимание. Случалось, работая в разных сменах, они не виделись месяцами, но это не расхолаживало их дружбы. Каждому из них достаточно было знать, что в одно время с ним живет верный дружок, чтобы в трудную минуту чувствовать его рядом. Если тот не дает о себе знать — значит, у него все в порядке. А стрясется с тобой какая беда — так он первый придет с советом и помощью.
Оба мастера никогда не говорили о своей дружбе, не клялись друг другу в верности, и со стороны могло даже показаться, что ничто прочное их не связывает. Дружба их выглядела холодноватой, но под этим наружным холодком было скрыто больше внутреннего жара, чем у иных вспышкопускателей. Не слишком зоркий посторонний глаз замечал у них одну лишь долголетнюю привычку друг к другу, и многие из молодых рабочих Семена Григорьевича очень удивились бы, узнав, что их мастер крепко дружит с мастером соседнего участка.
Взаимное уважение не мешало им подшучивать друг над другом. Зыков боялся, что Семен Григорьевич вскоре ослепнет, читая свои толстенные книги, и, зная банные страсти дружка, стращал его тем, что когда-нибудь он запарит себя до смерти. В свою очередь Семен Григорьевич опасался, что несчастная жена Зыкова в конце концов онемеет, живя так долго с молчаливым супругом, и предсказывал приятелю, что когда тот исчерпает все праздники в календаре, то начнет пить по будничным дням и на старости лет сопьется самым жалким образом. Но стариковские шутки эти они позволяли себе лишь наедине друг с другом, и каждый из них горой бы встал на защиту дружка, если б кто-нибудь посторонний осмелился сказать нечто подобное.
Все меньше и меньше оставалось в живых их одногодков, и они оба понимали, что для них теперь самое пустяковое недомогание — звонок оттуда. Зыков видел, что на этот раз Семен Григорьевич выкрутился, надеялся, что они с ним выкрутятся и еще не раз, но стоило ли говорить обо всем этом, ежели оно и так все было ясно?..
— Как там завод, все еще вверх трубами? — спросил Семен Григорьевич, издалека подводя разговор к Кирюшке.
— Дымит.
— Ну, а комсомол мой как?
— Гремит.
Семен Григорьевич нетерпеливо приподнялся на локте.
— Да что ты заладил!.. У Кирюшки дела как? Сильно опозорился со своими тремя станками или стерпеть можно?
На невозмутимом лице Зыкова отразилось нечто похожее на удивление. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но раздумал и молчком вытащил из кармана свернутую заводскую многотиражку. На первой странице газеты красовался снимок: Кирюшка в гордой позе стоял у своего шлицефрезерного станка, а начальник цеха добрым дядей выглядывал из-за его плеча и покровительственно улыбался. Семен Григорьевич понял — никакого провала у Кирюшки не было, на трех станках он работает успешно.
— Вчера Кирюха твой по радио выступал, делился опытом, а сегодня его прямо в цеху кинохроника снимала… — Зыков передохнул после необычно длинной для него фразы и добавил: — Для потомства… — Подумал и еще сказал, чтобы порадовать Семена Григорьевича: — В гору пошел твой выученик, Сеня!
Семен Григорьевич сердито засопел, но промолчал: ему стыдно было признаться старому приятелю, что знаменитый Кирюшка за два дня не выбрал куцей минуты забежать проведать больного мастера. Он догадывался, что начальник цеха кинохроникой да газетной славой сбивает парня с толку. На своем веку Семен Григорьевич уже не раз видел, как внезапно пришедшая слава кружит голову хорошим ребятам. Но Кирюшка-весельчак, Кирюшка — открытая душа, как легко он клюнул на эту мелкую удочку!..
Меж тем Зыков осмотрел лекарства на столе, насмешливо хмыкнул и спросил презрительно:
— Лечат?
Семен Григорьевич махнул рукой.
— Я тоже для тебя лекарство прихватил… — многозначительно сказал Зыков и приоткрыл борт своего широкого пиджака. Во внутреннем кармане белоголовым птенцом в гнезде уютно сидела небольшая аккуратная бутылочка, известная в народе под ласкательными именами: косушка, четвертинка, чекушка и просто — маленькая. — Раздавим за твое выздоровление?
— Придется… — кротко ответил Семен Григорьевич, тронутый тем, что его выздоровление Зыков приравнивает к большим праздникам.
Не откладывая дела в долгий ящик, Семен Григорьевич тихонько встал с постели, сполоснул стакан из-под бальзама и вылил воду в фикус, от всей души надеясь, что бальзам, целебный для человека, не повредит и бессловесному растению. Но друзья совсем позабыли о Екатерине Захаровне, бывшей все время начеку после прихода ненавистного ей пьянчужки Зыкова. Она незаметно вошла в комнату и схватила со стола заветную бутылочку.
— Тетя Катя, всего-навсего маленькая! — взмолился Зыков, но Екатерина Захаровна была непоколебима, на все уговоры «не лютовать» и «поиметь совесть» лишь вертела головой, как заведенная, и удалилась на кухню с добычей в руке.
Зыков почесал в затылке и сказал уважительно:
— Серьезная у тебя жена!
Потом он на цыпочках подкрался к кухонной двери, закрыл ее на крючок и для верности подпер шваброй. После этого Зыков молча вынул из другого кармана вторую «маленькую», быстро, без лишней канители, распечатал ее точным ударом ладони в донышко и стал осторожно лить холодно булькающую водку в стакан, смотря прищуренным глазом на свет, чтобы разделить драгоценную влагу поровну.
— Пей ты первый, — предложил Семен Григорьевич, — может, у меня что-нибудь заразное.
— Через водку никакая зараза не передается! — убежденно сказал Зыков, протягивая стакан приятелю.
Почуяв недоброе, Екатерина Захаровна забарабанила в закрытую дверь.
— Не ломай домишко, тетя Катя: выпьем — сами откроем, — беззлобно посоветовал Зыков.
И позже, когда дверь была открыта и разгневанная Екатерина Захаровна, ворвавшись в комнату, усердно ругала мужское племя, обзывая поголовно всех его представителей горькими пьяницами и подзаборными забулдыгами, Семен Григорьевич с Зыковым преданно смотрели друг на друга подобревшими после водки глазами и особенно сильно, как во всякую минуту испытаний, чувствовали всю красоту и прочность своей дружбы. Екатерина Захаровна разошлась не на шутку и честила их на чем свет стоит, но приятели скромно и величественно молчали, считая ниже своего достоинства отвечать на ее ругань.
Провожая угомонившуюся в конце концов Екатерину Захаровну глазами, Зыков повернулся в профиль к Семену Григорьевичу, и тот вздрогнул: так сильно был похож его одногодок на Жюль Верна. Подумалось: вот живет на свете человек и даже не подозревает о своем чудесном сходстве. Спеша доставить дружку удовольствие, Семен Григорьевич сказал:
— Есть один заграничный писатель, книжки про заморские путешествия пишет, а обличьем сильно на тебя смахивает!
— Все может быть… — ничуть не удивившись, ответил Зыков, словно всю жизнь подозревал нечто подобное, и стал прощаться.
Уже облачившись в полушубок, он вдруг спросил:
— Помнишь, мы когда-то праздновали низвержение самодержавия?
— Это Февральскую-то революцию?
— Должно, ее… Не знаешь, на какое число она приходится? Я что-то запамятовал.
— Раз февральская — так, значит, в феврале, — резонно рассудил Семен Григорьевич.
— Уточнить это дело надо… — сказал Зыков, и Семен Григорьевич понял, что дружку тесным уже стал нынешний круг отмечаемых им праздников и он снова намеревается расширить его.
После ухода Зыкова черная Кирюшкина неблагодарность во весь свой рост представилась Семену Григорьевичу. Закрутили парня! Семен Григорьевич уже предвидел, как стыдно станет Кирюшке, когда развеется первый угар славы и он поймет всю подлость своего поведения. Интересно, что он тогда сделает? Упрется на содеянном или, припомнив все былое добро, сам явится к нему с повинной головой?..
Чтобы пронырливая Екатерина Захаровна не догадалась, как сильно обидел его Кирюшка, Семен Григорьевич снова взялся за книгу. Читать ему сейчас не очень-то хотелось, но не любил он ничего бросать на полпути и всегда доводил начатое дело до конца. Сначала читал он рассеянно, но вскоре удивительные приключения захватили его, и Семен Григорьевич с пробудившимся интересом стал следить за разворотом событий, хотя и не испытывал больше прежней безоблачной радости, словно Кирюшка своим вероломством отравил и самый воздух, которым дышал он.
Весь день Екатерина Захаровна скрепя сердце терпела самоуправство больного. Зато вечером она взяла реванш: так сильно натирала на сон грядущий несчастного Семена Григорьевича козьим салом, будто хотела живьем содрать с него кожу. Ей не терпелось доказать несознательному мужу: он больной, а она его лечит и может сделать с ним все, что ей заблагорассудится, в гибких пределах медицинской науки, в которой он ровным счетом ничего не понимает, несмотря на всю свою деловитость и чтение толстых книг — и взрослых и детских.
Она нарочно легла пораньше спать, чтобы положить конец затянувшемуся чтению. Семен Григорьевич попробовал было запротестовать, но Екатерина Захаровна деспотически погасила свет, и ему пришлось подчиниться.
Семен Григорьевич долго не мог заснуть. В темноте он остался наедине со своими мыслями и думал сразу обо всем: о запропавшем капитане Гранте, о верном друге Зыкове, о Кирюшке-ветрогоне. Мысли были ночные, длинные. Екатерина Захаровна неподвижно лежала рядом, но Семен Григорьевич, хорошо изучивший жену за годы семейной жизни, в точности знал, что она тоже не спит и, по своему жестокому обыкновению, ждет, когда он покается во всех дневных грехах.
Видит бог, каяться Семену Григорьевичу было не в чем. Но и на супругу он не сердился, признавая, что по-своему она тоже права. Он от всей души пожалел, что Екатерина Захаровна не спит из-за него, мается, а годочки у нее не маленькие. Ему вдруг захотелось порадовать не читающую книг, погрязшую в будничных делах подругу жизни какой-нибудь возвышенной поучительной историей. За примером не надо было далеко ходить.
— Слышь, Захаровна, — вкрадчиво начал Семен Григорьевич, предвкушая, как сильно удивится жена, когда дослушает его до конца, — есть такая хищная рыба — акула. Вроде щуки, только в сто раз больше… А может, и в двести! Так вот, поймали раз акулу, распороли ей брюхо, а там — бутылка…
— Тебе бы все про бутылку! — злопамятно сказала подруга жизни.
Семен Григорьевич смущенно крякнул и отвернулся к стене.
7
Еще не переступив порога, Витюк крикнул встревоженно:
— Дедушка, я у вас вчера книгу не позабыл?
Увидев свою книгу в руках Семена Григорьевича, внук успокоился за целость и сохранность библиотечного имущества и в то же время поразился, что его книгу читает престарелый дед.
— Да разве вам интересно? — полюбопытствовал он. — Это же вовсе молодежная книга. Ее все в детстве читают! Разве вы не читали?
— Не читал, — признался Семен Григорьевич. — Не пришлось как-то…
Витюк вдруг вспомнил рассказы отца о том, что в его возрасте дедушка уже работал на заводе и даже участвовал в забастовке, а позже, в семнадцатом славном году, был красногвардейцем. А он вздумал упрекать деда, почему тот не прочитал в свое время детскую книжку! Витюк виновато прикусил язык и с почтительным интересом посмотрел на Семена Григорьевича, видя сейчас в нем не дедушку, а живого представителя героического российского пролетариата, который завоевал для него счастливую жизнь.
Семену Григорьевичу не в новинку были подобные взгляды: молодые рабочие на заводе не раз глазели на него таким образом, выводя мастера из терпения. Он считал чистым безобразием, когда человека при жизни производят вдруг в какие-то представители — хотя бы и самые почетные. Вот помрет — тогда делайте, что хотите, а пока оставьте старика в покое!..
Витюк клялся, что должен сегодня же вернуть книгу в библиотеку, но ему как-то совестно было огорчать бывшего красногвардейца, и действовал он нерешительно. Семен Григорьевич, похвалив читательский вкус внука, без особого труда выговорил себе право держать книгу до завтрашнего вечера.
Интерес к одной и той же книге перекинул между старым и молодым читателями невидимый мостик, и Витюк, как равный равного, спросил деда:
— А на самых интересных местах вы вперед не заглядываете, чтобы поскорей узнать, чем кончится?
— Что ты? Как можно! — запротестовал Семен Григорьевич, но глаза свои почему-то отвел в сторону…
Вечером Екатерина Захаровна пожаловалась Кондрату Ивановичу, что супруг ее совсем отбился от рук и целыми днями напролет читает глупую книжку. И ещё она добавила тем тонким, как бы сдавленным от почтения голосом, который сам собой появлялся у нее, стоило лишь ей заговорить о медицине, что, по ее мнению, это неразумное чтение сводит на нет все благодатное действие лекарств и может привести ослабленный болезнью организм Семена Григорьевича к хроническому малокровию.
Кондрат Иванович засмеялся своим скрипучим смехом и сказал легкомысленно:
— Пусть читает сколько хочет, лишь бы раньше срока не выходил из дому!
Екатерина Захаровна надулась от обиды и усомнилась в медицинских познаниях Кондрата Ивановича, а Семен Григорьевич в благодарность предложил врачу сыграть в шашки.
Он все время помнил о недавнем своем решении проиграть Кондрату Ивановичу, но осуществить этот хитрый замысел не оказалось никакой возможности. Когда Семен Григорьевич зорким чемпионским глазом видел, что очень даже просто можно сразить две-три пешки противника или пробраться в дамки, он не в силах был удержаться, чтобы не совершить этого. Не его вина, что все в своей жизни привык он делать добросовестно, в полную меру сил, и играть хуже, чем умел, был прямо-таки не в состоянии. Ему легче было на словах признать, что Кондрат Иванович играет в сто раз лучше его, чем на деле проиграть ему хоть одну партию.
Презирая себя за жадность, Семен Григорьевич первую партию закончил вничью, а вторую выиграл и даже запер Кондрата Ивановича в «нужничок» — вместе с его «Павлом Буре» и высшим образованием.
— Пошел на поправку! — весело сказал Кондрат Иванович, довольно удачно делая вид, что самолюбие врача, вылечившего больного, пересиливает в нем обиду побежденного игрока.
Не успела Екатерина Захаровна закрыть за Кондратом Ивановичем дверь, как снова позвонили. Звонок был тихий, неуверенный. Сердце Семена Григорьевича сдвоило удар: Кирюшка! Щелкнул дверной замок — и Семен Григорьевич услышал в передней глуховатый голос Коли Савина.
Уж кого-кого, а Колю Савина он никак не ждал. Пришел парень, не посмотрел на обиду… Семен Григорьевич смахнул слезу-горошину, подумал: «Слаб стал!»
Екатерина Захаровна встретила Колю ласково: она любила, когда их навещали молодые рабочие, — то ли потому, что после отъезда своих детей скучала по юным лицам, а может, еще и потому, что бессознательно видела в этих посещениях признание особых заслуг Семена Григорьевича, подтверждение того, что они с мужем не даром прожили свой век на земле, есть кому помянуть их добрым словом.
— Как экзамены, Коля? — спросила она токаря, помогая ему пристроить на вешалке пальто.
— Какие экзамены? — опешил Коля Савин.
— Как какие? А в вечерней школе?
Коля Савин догадался, что Семен Григорьевич экзаменами объяснил его отсутствие во время размолвки, и, выручая мастера, сказал:
— Ах, в школе… На будущей неделе начнутся, день и ночь зубрю, боюсь срезаться!
— А ты не бойся, — сердобольно посоветовала Екатерина Захаровна. — Учи все, что положено, и ничего не бойся!
— Так и придется… — согласился Коля Савин, стыдясь, что обманывает добрую Екатерину Захаровну.
Семен Григорьевич, слышавший весь разговор, с облегчением перевел дух. Он подумал признательно, что мужчины, настоящие мужчины, даже не сговариваясь меж собой, всегда поймут друг друга, — поймут и вызволят из беды.
Коля Савин долго откашливался перед дверью и наконец вошел к больному. Семен Григорьевич сидел на кровати и, может быть, потому, что смотрел он на своего любимого ученика снизу вверх, — взгляд его казался виноватым. Коля поздоровался с мастером, неловко положил на стол плоскую коробку, перевязанную нарядной голубой лентой, и присел на кончик стула. Долгую минуту они стесненно молчали.
Выручила их коробка, принесенная Колей. Она покоилась на столе скучным серым дном кверху и, судя по некоторым признакам, содержала в себе нечто кондитерское. Лента на коробке была такой праздничной голубизны, что невольно притягивала взгляд Семен Григорьевич покосился на ленту, и Коля Савин обрадовался законному поводу начать разговор.
— Вам от всех наших ребят… — стыдливой скороговоркой сказал он, пододвигая коробку мастеру.
Семен Григорьевич строго посмотрел на пеструю картинку на крышке и спросил шепотом:
— Что там?
— Конфеты, — так же шепотом ответил Коля Савин. — Шоколадные..
— А вот это зря! — рассердился Семен Григорьевич. — Эх ты, а еще токарь: кто же больным старикам конфеты носит? Да у меня от этого шоколада всегда изжога приключается. Как поем — так изжога!
Семен Григорьевич презрительно щелкнул по крышке пальцем, будто всю жизнь только и питался фигурным шоколадом.
— Мы сначала цветов хотели купить, да нигде не нашли: не сезон…
— Цветы! — фыркнул Семен Григорьевич. — Что я, барышня какая, чтобы цветочки нюхать?! Вижу, недобираешь ты в этом вопросе, Коля!
— Недобираю… — признался Коля Савин. — Нас этому никто не учил. В ремесленном много наук проходили— и математику и технологию металлов, а какой подарок больному мастеру принести — про это не говорили… — Коля помолчал и спросил на будущее: — А что в таких случаях лучше всего приносить?
— А я почем знаю? — отмахнулся Семен Григорьевич. — Если б я дарил, так знал бы, а сейчас и голову ломать не стану!
— Как же теперь быть? — вслух подумал озабоченный Коля Савин. — Не нести же конфеты назад, меня ребята засмеют!
— Назад нести негоже, — согласился Семен Григорьевич и добавил доверительно: — А мы вот как сделаем: попросим Захаровну вскипятить чайку да все втроем и навалимся на шоколадные. Авось изжога тогда оробеет!
Екатерина Захаровна ушла на кухню, и через минуту там басом загудел работящий примус. Семен Григорьевич любующимися отцовскими глазами оглядел ладную фигуру Коли Савина и сказал растроганно:
— Молодец, что пришел, молодец!
— Мы с ребятами собирались еще позавчера проведать вас, да побоялись…
— Уж не меня ли? — удивился Семен Григорьевич и невесело пошутил: — Неужто я для вас такой страшный стал?
— Что вы, Семен Григорьевич! И не стыдно вам? Все ребята вас любят… как и раньше. Мы потому не шли, думали застать здесь…
Коля Савин запнулся, не желая произносить ненавистное Кирюшкино имя. Семен Григорьевич понял его и сочувственно кашлянул.
— Та-ак… — раздумчиво сказал он. — А нынче что ж не побоялся ты с ним встретиться?
— Прояснилось кое-что. Попытались мы сегодня узнать у него про ваше здоровье, а он и говорит… В общем, догадались мы, что он к вам и носа не кажет.
— Что же Кирюшка молвил? Что?
Семен Григорьевич даже с кровати вскочил — так не терпелось ему поскорее узнать, почему Кирюшка отплатил черной неблагодарностью за все его заботы о нем.
Коля Савин замялся. Он давно уже чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь совсем запутался. Говорить о Кирюшке хорошее Коля никак не мог, так как знал о нем одно лишь плохое; ругать же его при Семене Григорьевиче не хотелось, чтобы мастер не подумал, будто он сводит с Кирюшкой счеты.
— Руби сплеча, Никола! — приказал Семен Григорьевич. — Узнавать — так уж всю правду.
— Мне его слова и повторять-то неохота… В общем, распространялся он в том плане, что болезнь у вас дипломатическая, чтобы не отвечать за его работу, если он не управится с тремя станками…
Семен Григорьевич даже охнул, заслышав такое.
— И язык у него не отсох?
— Не отсох… — виновато ответил Коля Савин.
Семен Григорьевич опустил голову и закручинился.
— Да вы не огорчайтесь, — попытался утешить его Коля. — Он и раньше такие штучки отчубучивал. Мы ведь с ним в одном общежитии живем, пригляделся я к нему…
Коля Савин спохватился, что поругивает-таки Кирюшку, несмотря на данное самому себе слово не осуждать его в присутствии Семена Григорьевича и вообще отзываться о сопернике со студеной вежливостью. «Ну и черт с ним! — непоследовательно решил он. — Мне бы только деда нашего успокоить».
Семен Григорьевич рывком поднял голову.
— Слышь, Никола, а не завидуешь ли ты Кирюшкиной славе?
— Нечему завидовать, — твердо сказал Коля Савин. — Будут мне такую славу даром давать — и то не возьму!
— Что так? Не пойму я что-то тебя. Мне, к примеру, было бы любопытно на самого себя в кино поглазеть: на фотографиях красовался, а в кино помелькать не привелось… Чем же Кирюшкина слава плоха?
— Нечистай она… Вы по радио его выступления не слыхали? Жаль! Ведь он все себе приписал, будто сам предложил работать на двух станках и закалку фрезы для скоростного резания придумал. Все сам! Мы с ребятами слушали — и ушам своим не верили. Про вас он лишь в самом конце упомянул: «Кроме того, оказывал помощь мастер Федунов».
— Оказывал все-таки? — усмехнувшись, спросил Семен Григорьевич.
«Спокойный дед! — с уважением подумал Коля Савин. — Другой бы на его месте взвыл от обиды, а у него только глаза колючие стали».
— А может, не успел он всего по радио высказать? — заступился за Кирюшку все еще сомневающийся Семен Григорьевич. — Поторопили его, или растерялся с непривычки, не видя, кому говорит. А то и речь ему подсократили, чтобы не засорять приемники разными ненужными стариками… Мало ли что могло быть?
— Все руководство цеха отблагодарил, начиная с начальника и кончая профгрупоргом, который для него и пальцем не шевельнул, а про вас забыл. Нет, здесь тактика! — убежденно сказал Коля Савин. — Вас он больше всех опасался, не хотел славой поделиться — вот и зачеркнул. Очень уж кстати болезнь ваша тут ему подвернулась!..
Семен Григорьевич обескураженно покрутил головой, все еще не в силах свыкнуться с обидной новостью.
— А какой обходительный да ласковый был! — вспомнил он. — Встретит меня в проходной — так и засияет, будто я не мастер, а артистка фартовенькая из гортеатра. В трамвае всегда норовил билет мне купить, а в бане сам, без спросу, спину мне мочалкой тер, — ах, проныра!
Только сейчас Семен Григорьевич начал понимать, как ловко Кирюшка-пройдоха обвел его вокруг пальца. Непонятно было только, почему теперь он перестал юлить, пошел на разрыв. Семен Григорьевич призадумался. Как ни крути, выходило одно: после головокружительных своих успехов Кирюшка считает, что мастер ему больше не нужен и он свободно теперь обойдется без него. Использовал как ступеньку — и отбросил за ненадобностью!
Семен Григорьевич тяжело засопел, ибо не привык он оставаться в дураках. То, что Кирюшка посчитал его бесполезным, обидело его больше, чем все бессовестные Кирюшкины выхваленья по радио.
— Из молодых, да ранний! И откуда такие берутся? — изумился Семен Григорьевич. — Все ведь у него шито-крыто. Пойди теперь докажи, кто и чем ему помогал. Да и знает ведь, ржавая душа, что не стану я с ним, поганцем, спорить. И судить его не за что: чистая работа!
— Ничего, найдем мы и на него управу, — пообещал Коля Савин. — Ребята хотят на комсомольском комитете все его поведение обсудить, соскоблить ржавчину с души…
— Ах, дурень я, дурень! — с запоздалым сожалением сказал Семен Григорьевич. — Мне надо было тебя на два станка поставить, а я Кирюшку-гаденыша пожалел. Кроме всего прочего, я ведь почему тогда в тебе, Коля, усомнился? Он у тебя Клаву раскосенькую отбил, а ты…
— Какая же она раскосая? — обиделся Коля Савин. — Просто глаза у нее очень черные, вот и кажется…
— Пускай черные, — покладисто согласился Семен Григорьевич. — Не в том дело. Он у тебя девку отбил, а ты — хоть бы хны! Ведь даже выработка у тебя тогда не снизилась. До того спокойный — ни рыба ни мясо. Не люблю я таких!
— Много для нее чести — волноваться, раз она меня на такого вертуна променяла! — уверенно, как о давно решенном деле, сказал Коля Савин. — Он с ней поиграет и бросит. А у меня серьезное было, на всю жизнь… — На миг Коля помрачнел, вспомнив Клаву-сверловщицу, но тут же встрепенулся и гордо добавил: — В общем, недостойна она моего волнения!
Семен Григорьевич с интересом посмотрел на молодого токаря.
— Утешаешь себя этим? — понимающе спросил он.
Коля Савин устало потер виски и признался:
— Утешаю…
— Ну и как? — полюбопытствовал Семен Григорьевич. — Действует?
— Когда действует, а когда и… не так, чтоб очень. В общем, раз на раз не приходится.
Семен Григорьевич прикинул в уме, что бы могла означать подобная разноголосица, и авторитетно заключил:
— Значит, любил ты ее.
— Значит, любил…
Помолчали.
— Как она теперь-то? — спросил Семен Григорьевич.
— Кирилл с нею вроде рассорился. Она ему уже не подходит, он теперь под нормировщицу клинья подбивает. Но и в мою сторону Клава что-то не смотрит… Она ведь гордая, Клава, долго теперь переживать будет!
Колин голос дрогнул, и какие-то новые нотки, теплые и признательные, зазвучали в нем. Спохватившись, что расхваливает недостойную, Коля Савин закашлялся и осторожно покосился на мастера. Семен Григорьевич был занят: он отвязывал с конфетной коробки срочно понадобившуюся ему голубую ленту и, кажется, ничего не заметил.
— Признавайся: обиделся ты на меня, когда я Кирюшку на два станка поставил? — спросил он вдруг, старательно бинтуя свой большой палец красивой голубой лентой. — Только правду говори.
Коля Савин задумался, вспоминая тогдашнее свое состояние, и сказал с некоторым даже вызовом:
— Обиделся!
— Ну и правильно! — одобрил Семен Григорьевич. — Нечего на старых хрычей богу молиться. Ведь вы, молодняк, как думаете? Раз, мол, дядя волосы седые вырастил на своей голове — так, значит, ото всех ошибок в жизни предохранен. Черта лысого! Вот доживешь до моих лет — увидишь… А насчет того, как Кирюшке укорот дать, мы еще потолкуем. Поторопился он маленько списывать меня в утильсырье! Эх, ребятки, ребятки… Может, доживем и до такого денька, когда Кирюшка и в ножки поклонится.
— И вы ему все простите тогда? — поинтересовался Коля Савин.
— Там видно будет, — уклончиво ответил Семен Григорьевич. — Двуличных людей я всю жизнь недолюбливал…
Екатерина Захаровна принесла чайник, чашки-ложки и прочий свой гремучий инвентарь. Сели пить чай с конфетами. Опасаясь изжоги, Семен Григорьевич выбрал какую-то махонькую шоколадную рыбку, вроде кильки, экономно сосал ее и расспрашивал Колю о заводских делах. Екатерина Захаровна изжоги ничуть не боялась и с молодым азартом грызла конфеты своими капитально отремонтированными зубами. Коля Савин обстоятельно отвечал на вопросы мастера и сначала придерживал руку, а потом, в пылу разговора, стал все чаще и чаще нырять в коробку с конфетами.
Выяснилось, что, за исключением Кирюшкиных громких рекордов, никаких особых событий за время болезни Семена Григорьевича в цехе не произошло. Литейщики и инструментальщики не вставляли палки в колеса, и участок Семена Григорьевича, как и при нем, все эти дни перевыполнял план.
«Понаторели ребятки!» — одобрительно подумал Семен Григорьевич, но радости не почувствовал.
Умом Семен Григорьевич понимал: не останавливать же из-за его болезни завод. Но все-таки ему стало как-то не по себе, когда он убедился, что так незамеченно прошла его болезнь, что такое малое место в жизни завода занимает он. Подумалось: «Вот так помрешь ненароком — никто и не почешется…» И завод будет все так же стоять вверх трубами, будто и не было на свете никакого Семена Григорьевича со всеми его невеликими достижениями и позорными, непростительными на старости лет ошибками, вроде истории с Кирюшкой.
Слушая уверенную речь Коли Савина, Семен Григорьевич припомнил вдруг, каким робким желторотым птенцом пришел Коля в цех четыре года назад из ремесленного училища: в теории — чуть ли не профессор, а с живым шпинделем отношения натянутые… И тут сам собой возник вопрос: кто научил ребят ремеслу, благодаря какому дяде они работают теперь самостоятельно? Семен Григорьевич строго, без всякой поблажки, допросил свою совесть и, из скромности думая о себе в третьем лице, ответил: «Мастер Федунов их научил! Мастер Федунов тот дядя и есть!..»
За разговором Коля Савин и не заметил, как вместе со сладкоежкой Екатериной Захаровной уничтожил все конфеты, пока Семен Григорьевич сосал свою шоколадную кильку. Увидев чистое дно коробки, Коля крякнул со стыда, но было уже поздно.
— Поправляйтесь поскорее! — пожелал Коля на прощанье и тихо добавил: — Вы хоть ребятам не рассказывайте, что я весь шоколад съел. Засмеют: пришел, скажут, проведать больного, да сам гостинец и слопал!
— Ладно уж, не выдам! — пообещал Семен Григорьевич.
Коля Савин ушел, ругая себя за легкомыслие и удивляясь, как ловко мастер скормил ему его же подарок.
Ночью Семену Григорьевичу приснился сон. Вместе с Екатериной Захаровной, Колей Савиным и Витюком, который был уже не его внуком, а сыном капитана Гранта, он удирал на неуклюжем плоту от людоедов. Худые людоеды, отощавшие от долгой бескормицы, преследовали их на узкой стремительной пироге. На носу пироги стоял вождь людоедов Кирюшка — с копьем в руке, голый, размалеванный по всей людоедской форме. Кирюшка-перевертень потрясал копьем, собираясь метнуть его в Семена Григорьевича, хищно клацал зубами и кричал диким голосом:
— Оказывал помощь! Оказывал!..
8
На другой день, в пятнадцать часов сорок минут по местному времени, Семен Григорьевич благополучно завершил свое кругосветное путешествие. Екатерины Захаровны дома не было: на ночь глядя она ушла в продовольственный магазин раздобыть что-нибудь вкусное для своего выздоравливающего мужа.
Семену Григорьевичу надоело валяться в постели, и, пользуясь отсутствием супруги, он разгуливал по комнате, с интересом, как чужие, рассматривал свои побелевшие от безделья руки и размышлял о только что прочитанной книге, о Коле Савине, о том, что, выйдя на работу, мстить Кирюшке не будет, а предоставит его собственной совести — если она еще у него есть… И потому ли, что мужественный капитан Грант был в конце концов спасен, а дружба с Колей Савиным обещала впереди много радостных минут и, по всем признакам, должна была с лихвой перекрыть все обиды, нанесенные Кирюшкой, или оттого, что хворь покидала Семена Григорьевича, — но мысли у него были какие-то широкие, весенние, несмотря на трескучий мороз за окном.
Пришел за книгой Витюк — свежий, румяный, очень похожий сейчас на молодую Екатерину Захаровну.
— А я вас выдал, дедушка! — объявил он, снимая шапку-ушанку.
— Как это выдал? — не понял Семен Григорьевич.
— Вчера наша пионервожатая сказала, что мы уже не маленькие, чтобы читать Жюль Верна, и посоветовала нам браться за серьезные книги. А я встал и говорю: «Моему дедушке скоро шестьдесят, а он „Капитана Гранта“ читает!»
Семен Григорьевич засомневался, хорошо это или плохо, что теперь всей пионерии известно, какие книги читает он во время болезни. На всякий случай он нахмурился и строго спросил:
— Ну, а вожатая твоя что?
— Сначала она запнулась, а потом все нам до тонкости разъяснила, — гордясь своей вожатой, сказал Витюк. — У нас сейчас для детей и санатории и дворцы пионеров, а у дедов ничего этого не было, потому — при капитализме жили. Они даже детских книг не успели прочесть, когда были маленькими. И еще она сказала: случай с вами — это… иллюстрация того, что предки наши не имели детства! Ведь правда, дедушка?
— Это я-то иллюстрация? — возмутился Семен Григорьевич. — Эк, хватила! Мало она еще каши ела, твоя вожатая-провожатая!
— Круглая отличница, — почтительно сказал Витюк, — в десятом классе учится…
— Плохо учится! — отрезал Семен Григорьевич. — Нахваталась разных слов, а сути не понимает. У нее выходит: раз до революции родился — так уж вроде и не человек!.. Ты тоже хорош: родного деда в обезьяны зачисляют, а ты поддакиваешь!
— Да вы не так поняли, дедушка! Она в том смысле…
— Нету у нее никакого смысла, по верхам стреляет. Дворцов и санаториев мы, конечное дело, не видывали, а детство все-таки у нас было. Было!.. Как же так, без детства? Ведь не на ветке же выросли?..
Семену Григорьевичу вдруг живо припомнилось одно давнее весеннее утро. Ему было тогда лет шесть-семь. Проводив отца на завод, мать дошивала ему в то утро новую кумачовую рубашку, а он торопил ее, нетерпеливо выглядывая из окна на лужайку перед бараком, где играли его сверстники. Еще вчера лужайка лежала бурая и скучная, а ночью выпал первый в том году теплый дождь, и сейчас вся лужайка заманчиво зазеленела, залитая молодым низким солнцем. В то пригожее утро небо над лужайкой было синее-пресинее, каким оно бывает лишь в самом раннем детстве, когда хочется дойти до того места, где небо смыкается с землей, и потрогать его руками.
Наконец мать обметала последнюю петельку на вороте, и он мигом облачился в холодящую тело, ни разу не стиранную рубаху, остро и пряно пахнущую фабричной краской. Мать строго-настрого наказала ему не дразнить деревенского быка кумачовой обновкой. Язык его обещал и на сто шагов не подходить к быку, а сам он в это время думал: «Там видно будет!» Выбежав из барака, он скинул в укромном месте тяжелые от многих заплат опорки, чтобы они захудалым видом не портили его праздничного наряда.
Ему не хотелось стеснять свою радость никакими правилами, он не стал играть с ребятами в чижика, а свободно и вольно носился по лужайке. Теплый
ветер свистел в ушах, упругим парусом надувалась за спиной новая рубаха. Не смотря на свое окошко, он знал, что мать следит за ним и любуется его ловкостью. Еще приятней было чувствовать на себе завистливые взгляды ребятишек: ведь ни у кого тогда в целом мире не было такой яркой — глаз не оторвать! — рубашки, как у него. А как нежно и щекотно в то далекое утро ласкала его босые подошвы молоденькая, бледно-зеленая, колючая, как ежик, травка! Даже сейчас, полвека спустя, старые ноги Семена Григорьевича припомнили то щекотное прикосновение и сами собой заныли, просясь на свободу из шерстяных носков и теплых войлочных туфель, сшитых заботливой Екатериной Захаровной…
— Было детство! — упрямо повторил Семен Григорьевич, все еще споря с пионерским начальством внука. — И свои радости были: сперва обыкновенные, ребячьи, а затем и посерьезней… Мальцами изобрели мы себе забаву в сад к управляющему-бельгийцу лазить. Не так груши-яблоки добывали, как друг перед дружкой выхвалялись своей храбростью. Сад был большущий, десятины на три, и примыкал к заводскому двору. Бердан свой сторож заряжал крупной солью, но это было еще не самое страшное. Бегали по саду два барбоса ненашенской породы, ростом с доброго теленка. И прозвища у них были чужеземные: одного Маас кликали, а другого — Шельда; управляющий не любил ничего русского… Маас — тот подобрее был: штанишки обдерет и отпустит с миром. А Шельда все норовила кусок мяса послаще вырвать и подкрадывалась без лая, мы ее за это в Шельму перекрестили. Одному нашему пареньку она жилы нужные перегрызла, на всю жизнь охромел… Робкие в тот сад стеснялись лазить: через забор собак подразнят — тем и утешатся!
— А вы, дедушка… не стеснялись? — с загоревшимися глазами спросил Витюк.
— Три раза слазил, а больше не был, врать не стану. Дважды, как и все, по яблоки ходил, а в остатний разок пришлось зимой лезть, тут уж совсем другие фрукты понадобились..
— Как это вы до сих пор ничего не забыли? — удивился Витюк. — Ведь столько лет прошло!
— Есть что помнить — потому и не забыл… Ученье мое посреди второго класса закончилось: таблицу умноженья на шестерку вызубрил, а отвечать не довелось — отец помер. Отвела меня мать на завод, годков набавила, да и определила в ученики…
— Тяжело вам было? Били? — жалеючи деда, спросил Витюк.
Ему казалось, что, несмотря на родственное чувство, дед в глубине души все же несколько презирает его за то, что вырос он дылда дылдой, а до сих пор и рубля не заработал собственным трудом и на заводе побывал лишь с экскурсией, как какой-нибудь интурист.
Семен Григорьевич насупился, но совсем не от горечи воспоминаний, как думалось внуку. Слишком уж однобоко понимал Витюк его детство-отрочество! Похоже было на то, что внук прочитал на днях какую-то книжку о горемычном житье-бытье стародавних учеников и подмастерьев и видит теперь в деде ожившую картинку — опять иллюстрация! — из этой печальной и, по всей вероятности, очень уж тонкой книжки. Семен Григорьевич был убежден, что книжка внуку попалась самая тонкая: ведь если б она была хоть немного потолще, в ней наверняка нашлось бы место не только для описания побоев и унижений, но также для повествования и кое о чем посущественней, чем были заполнены годы ученичества его самого и сверстников.
И еще: зеленый Витюк, кажется, опять, как и вчера, произвел его в некие представители. Семен Григорьевич терпеть не мог, когда с ним обходились, как с каким-то пыльным экспонатом, место которому в краеведческом музее — где-то посредине между костями мамонта и моделью космической ракеты. И как это люди не возьмут в толк: у музейных экспонатов все позади, а его жизнь еще далеко не кончена. Недаром он до сих пор и промахи делает, как всякий живущий, — вот опростоволосился же с Кирюшкой, а всамделишные экспонаты небось не ошибаются!..
Витюк смотрел на него, ожидая утвердительного ответа на свой вопрос. Семен Григорьевич хорошо понимал сейчас внука. Идя проторенной дорожкой, Витюк втиснул все долгие годы его ученичества в нехитрую хрестоматийную форму, второпях сколоченную из худосочных знаний своих о старине. «Уложил деда в опоку и любуется!» — неодобрительно подумал Семен Григорьевич и даже плечи расправил, словно и в самом деле хотел вырваться из тесной Витюковой «опоки».
Да что Витюк! Он лишь бессознательно повторил ошибку многих знакомцев Семена Григорьевича, давно уже и вполне благополучно достигших совершеннолетия и даже снабженных солидными дипломами. Мерить привычными мерками всегда легче. Всевозможные любители упрощенного подхода к жизни уже не единожды и по самым различным поводам укладывали Семена Григорьевича в готовые формы-опоки, удобные карманные размеры которых и повсеместная распространенность казались им наилучшей гарантией от просчета.
Семен Григорьевич, со своей стороны, несмотря на всю его покладистость, был убежден, что он — такой, как есть, — не вместится без остатка и в самую хитроумную опоку. И совсем не потому, что он такой громоздкий и сложный. Просто: он не экспонат и никакой тебе не представитель, а обыкновенный живой человек. И как ни укладывай его в опоку, а наружу сам собой высунется хоть махонький кончик уха, а то — как сегодня в Витюковой неумелой опоке — за бортом останется главная суть всего ученичества Семена Григорьевича. Или никак не найдет себе места какая-нибудь самодельная мысль мастера о коловращении людей, не претендующая на ученость, но, как всякая самодеятельность в преклонном возрасте, вполне устраивающая своего хозяина, — мысль, очень уж забирающая в сторону, сучковатая, требующая для своей невредимой укладки такого расхода материала на опоку, какого, как полагали резвые укладыватели, не стоил и весь Семен Григорьевич со всеми своими потрохами.
Всю жизнь Семен Григорьевич, где только мог, противился тому, чтобы его втискивали в опоку — какой бы почетной она ни считалась и как бы мягко ни было в ней лежать. Недели две назад он даже целый бой выдержал по этому поводу с одним газетным корреспондентом.
Корреспондент был не так уж молод, но все еще не избавился от той довольно распространенной среди газетчиков наивной уверенности, что все люди вокруг живут и трудятся для того лишь, чтобы газета могла печатать о них свои заметки, статьи и очерки. Ему уже приходилось организовывать материал о старых производственниках, и он считал, что набил руку на стариках. Еще до встречи с Семеном Григорьевичем, взяв у начальства его показатели, корреспондент уже составил о мастере самое полное и исчерпывающее представление. Собственно говоря, для написания очерка ему даже и не нужно было встречаться с мастером — так ясно он заранее предвидел все, что будет о нем писать. Но для «оживления образа» корреспонденту потребовался «местный колорит» — внешность, любимые словечки, — и он отыскал Семена Григорьевича в цехе.
Поначалу Семен Григорьевич даже понравился корреспонденту. «Симпатичный старикан, — решил он. — Звезд, конечно, с неба не хватает, но для очерка о смычке поколений — фигура самая подходящая». Он отметил в памяти сивые усы мастера, которые, чего уж никак не подозревал Семен Григорьевич, очень хорошо ложились в очерк: мастер мог задумчиво теребить их, а то и улыбку в них прятать, смотря по обстоятельствам очерка.
Но в беседе с Семеном Григорьевичем корреспондент семь потов пролил, а нужного ему толка так и не добился. Он никак не мог понять, почему зловредный старик вдруг заупрямился и не хочет лезть в уготованную ему уютную газетную опоку.
Корреспондент любил, как он сам говаривал, «держать объект в узде». Он привык спрашивать утвердительным тоном, вкладывая в каждый свой вопрос — для собственного удобства и экономии времени — тот ответ, которого требовала заранее сложившаяся в его голове схема очерка. Такая манера всегда безотказно действовала на людей скромных и застенчивых. Сами хорошо зная свое дело, они полагали, что сведущему корреспонденту видней, как именно должны они думать в том или ином случае, и не спорили с ним, когда он приписывал им свои мысли.
Это сильнодействующее средство корреспондент решил испробовать и на нынешнем «объекте». Он спросил Семена Григорьевича:
— Не уходите на пенсию потому, что не можете представить себя вне завода, цех для вас — родной дом, а шум машин — лучше всякой симфонии?
И хотя Семен Григорьевич, проработав на заводе без малого полсотни лет, на самом деле не мог представить своей жизни без завода, ему вдруг очень не понравилось, что какой-то пижонистый корреспондент с щегольским блокнотом так легко и просто катит холодные слова-кругляши, не выстрадав их, не понимая по-настоящему, что значит для рабочего человека этот самый завод. Его возмутила и покровительственная манера заранее подсказывать ему ответ, как малому ребенку-несмышленышу. В этом Семен Григорьевич увидел недоверие к себе, к своим умственным способностям. Он не нуждался в подсказках и хотел сам отвечать на любые вопросы, по своему разумению. Пусть он скажет не так красиво, без всяких симфоний, но если он и такой несладкозвучный интересен газете, — так надо бы его все-таки выслушать.
И Семен Григорьевич решил проучить газетчика. Он сказал, что на пенсию ему никак нельзя податься: эта стариковская музыка не для него. (Корреспондент согласно закивал головой, радуясь, что упрямый «объект» наконец-то взялся за ум и отвечает как надо.) И дело тут совсем не в шуме машин, который, откровенно говоря, порядком уже осточертел ему, днем и ночью в ушах откликается. Если б была хоть какая-нибудь возможность, он давно бы ушел на пенсию, надоело с молокососами возиться: хлопот с ними много, а благодарности не дождешься. Держит его на заводе рубль-копейка. Привык со своей женой широко жить, никакой пенсии на такую жизнь не хватит! Супруга, дорогая Екатерина Захаровна, на старости лет совсем аристократкой заделалась — без шампанского не сядет за стол и, потеряв всякую совесть, хлещет дорогую шипучку, как воду. А он сам больше налегает на коньяки, потому что от грубой водки у него в животе происходит жалобное урчанье…
Корреспондент слушал и не верил своим ушам. Ни очерка, ни статьи, ни самой короткой заметки Семен Григорьевич в газете так и не увидел…
— Сильно вас били? — переспросил Витюк, не дождавшись ответа.
Семен Григорьевич задумчиво посмотрел на внука. Ему хотелось предостеречь Витюка, как опасно втискивать людей в опоки, но он побоялся, что внук по молодости лет его не поймет.
— Тумака, бывало, отхватывали, а еще больше страдали мы, — малолетки, от недосыпанья. К концу смены у всех у нас глаза слипались, будто медом смазанные. Горький был тот мед, и многие ребятишки из-за него у станков покалечились. Уже со вторника начинали мы ждать воскресенья, чтобы выспаться досыта… Да не в этом суть! Хоть и работали мы на хозяина-толстосума, а были и у нас свои светлые деньки. Помню, как я впервой сам, своими руками зубья на шестеренке нарезал. И немудрящая, кажись, была шестереночка, а по сей день перед глазами стоит!
Ученая вожатая твоя небось скажет: никакой настоящей радости тут нету, еще один подневольный рабочий прибавился, чтобы хозяйский барыш умножать… Так все это, да и не так! И не потому даже, что тогда уже оставались считанные годки на хозяина работать и вскорости мастерство наше всему народу пригодилось. Это сейчас, с нынешней горки, все прошлые годы насквозь просматриваются, а в ту пору, у первой неказистой шестереночки, мы просто делу рук своих радовались, народившимся уменьем своим гордились. И заметь себе, никакого самообману тут не было! Никудышный тот человек, который сам ничего сработать на совесть не умеет. Чем сильнее руки свои умелые уважать начнешь — тем быстрее и расковать их захочется. И никаким бойцом со старыми хозяевами мира нельзя стать, пока мастера в себе не почувствуешь. Задаваться мастерством никогда не надо, а уважать свои руки каждый рабочий человек обязан всегда и везде, ибо все в конце концов от этих рук пошло и ими держится… Не темно я говорю?
Витюк закивал головой, показывая, что вполне понимает деда.
— Да и дружба меж учениками у нас на заводе завязалась уже не ребячья. Раньше, когда мы по домам сидели, у нас редкий день без драки обходился. Один конец слободки с другим воевал. Увидишь где-нибудь чужого парнишку и лупишь его за то лишь, что он рыжий! А теперь и рука как-то не поднималась на такого же, как и ты, бедолагу, а если, случалось, кого и колотили, так уж за дело: не выслуживайся перед мастером, на товарищей не ябедничай. Завод сплотил нас всех, нацелил, и хоть слова «коллектив» мы тогда еще, по своей малограмотности, и не знали, а выковался он у нас самый настоящий. После первой же получки мы сразу и повзрослели, полноправными рабочими себя почувствовали…
Первый заработок!.. Всю дорогу с завода домой он не вынимал руку из кармана, чтобы как-нибудь ненароком не обронить денежек. На пути его подстерегала рыночная площадь со своими ирисами-тянучками и сладкими тыквенными семечками. Он пересек площадь, глядя себе под ноги, чтобы не поддаться соблазну, и всю получку, до последнего грошика, принес домой. Мать стирала чужое кружевное белье. Он молча подошел к ней, вытащил ее руку из корыта, высыпал в мокрую, обезображенную стиркой ладонь все свое медь-серебро и сказал, подражая отцу:
— На вот…
Младшие братишка с сестренкой смотрели на него затаив дыхание, а мать долго держала на весу полусогнутую руку с деньгами, и в глазах ее стояли, не проливаясь, слезы. Она хотела обнять его, но вдруг застеснялась чего-то и лишь прошептала:
— Добытчик ты наш…
Потом мать засуетилась, собирая ему обед. Но деньги она не прятала, а так и держала в руке: видно, не слишком много принес он их тогда, если все они, даже в мелкой разменной монете, вместились в зажатый материн кулак…
— Да, великая это вещь — первый заработок… — тихо сказал Семен Григорьевич. — А кое-кому преждевременная взрослость боком вышла. Чтобы уж во всем со взрослыми сравняться, стали ребятки курить, ругаться позаковыристей, а самые забубенные и в кабак тропку топтать. Ему, пичуге, леденца пососать охота, а он тянет пиво, а то и ерша-горлодера смастерит, чтобы все видели: парень солидный! Ну, да такие меж нами наперечет были. Большинство заработок домой несли, посильно семье помогали.
А тут и жизнь другим боком стала к нам поворачиваться, помаленьку-полегоньку толкать нас от ребячьих забав на крутую дорожку. На сходках и маевках без нас никак не обходилось. Соберутся взрослые рабочие на поляне в лесу, а мы на всех подходах дозоры несем. Нам такое доверие и лестно, вовсю стараемся! Сами вроде цветы-ягоды собираем или играем в прятки, а как завидим кого подозрительного — сразу начинаем аукать, будто потеряли меньшого братика. Бывало, такой гвалт подымем — не только на поляне, а и в самой слободке слышно! Чаще всего кликали мы Мишутку Борщева: был такой бестолковый парнишка в нашем бараке, пойдет нужду справить — и то заблудится. Как наша дозорная служба потребуется, взрослые рабочие — к нам: «Приходите завтра к поляне Мишутку Борщева кликать!» Через нас малец этот непутевый на весь завод прославился!..
Дальше — больше. Перед забастовкой нам уже доверили пронести на завод листовки и разбросать их по цехам. На заводе было неспокойно, каждого рабочего в проходной обыскивали и вдоль забора стражу выставили, чтобы никто не проник на завод незаконным путем. Лишь ту сторону, что к саду управляющего примыкала, оставили открытой, на Мааса с Шельмой понадеялись. Тут-то и пригодилась нам прежняя сноровка! Кто-нибудь залезал на забор и шумел погромче. Собаки кидались к нему, а тем временем парень с листовками в другом месте тихонько пробирался в сад — и шасть к заводскому двору. Полиция и хозяйские прихвостни с ног сбились, а так и не могли понять, как листовки на завод попадают!
Семен Григорьевич усмехнулся, вспомнив былое свое молодечество.
— Вот так и росли. Ремеслом овладевали, людьми-человеками становились и незаметно в самую гущу борьбы втягивались. По нашему возрасту и разумению было это для нас как игра: чем опаснее — тем заманчивей. Не скажу, чтоб мы всё тогда до тонкости понимали, но место свое знали твердо и под ногами у взрослых не пугались… Так что мы не только страдали под тяжким ярмом самодержавия, как твоя вожатая думает, но как умели помогали свалить его с копыт, готовили себя к семнадцатому годку. Ведь если б мы только скулили от побоев да свою разнесчастную жизнь оплакивали, так некому было бы и советскую власть ставить, санатории и дворцы для вас сооружать… Так-то вот, а ты — «иллюстрация»!..
9
Витюк давно уже ушел с книгой, а Семен Григорьевич все еще сидел на кровати и остановившимися, невидящими глазами смотрел на носик никелированного чайника, забытого Екатериной Захаровной на столе. На самом кончике носика примостился зеркальный блик, и Семену Григорьевичу почему-то сподручней было вспоминать давние годы, глядя на это блескучее пятнышко.
Потревоженная память подсовывала все новые и новые воспоминания — станции и верстовые столбы на пройденном житейском пути. Путь этот ничем особым не выделялся среди других путей, и не так уж высоко вознес он Семена Григорьевича, но пройден был честно, без единой попытки проехать в обозе, — шаг за шагом, от самого начала до нынешней вынужденной остановки где-то не так уж далеко от неминучего шлагбаума, которым кончаются все наши житейские пути-дороги.
Сумерки наползали на Семена Григорьевича от углов и простенков и скоро заволокли всю комнату. Только окна смутно белели отраженным снеговым отсветом.
Вспоминались почему-то все больше молодые годы. Начальные события его жизни, проступая сквозь наслоения последующих лет, казались сейчас Семену Григорьевичу не совсем правдоподобными. Было такое чувство, будто все это происходило не с ним, а с кем-то другим, хорошо ему знакомым, и он лишь вычитал об этом в первых главах какой-то очень толстой и неоконченной книги.
В книге этой страницы веселые перемежались мрачными, и сразу трудно даже было сказать, каких страниц перепадало больше. Но таково уж свойство человеческой памяти: минувшие годы просеяли воспоминания, и все мрачное и тяжелое расплылось, потеряло четкие очертания и как бы даже пригнулось, чтобы не мешать выступившему наперед светлому и хорошему…
В передней вкрадчиво щелкнул замок входной двери — будто негромко чихнули в кулак. Закутанная шалью, в комнату вошла Екатерина Захаровна с покупками, и от нее повеяло холодом, как от деда-мороза. Она подивилась темноте и решила, что муженек заснул, ее поджидаючи. Но тут Семен Григорьевич пошевелился на кровати, и Екатерина Захаровна спросила неодобрительно:
— Что это ты, как сыч, во тьме сидишь?
— Да так, задумался что-то… — виновато ответил Семен Григорьевич, будто жена захватила его на месте преступления.
Как все старые и верные жены, Екатерина Захаровна очень не любила, когда супруг ее ни с того ни с сего вдруг задумывался. Сама она никогда не грешила этим и считала, что Семен Григорьевич, беспричинно задумываясь, пытается улизнуть из-под ее контроля, чего Екатерина Захаровна, уважая свои права, допустить никак не могла.
— Не зажигай света, — попросил Семен Григорьевич. — Давай посумерничаем.
«Час от часу не легче! И что это с ним?» Встревоженная Екатерина Захаровна повесила сетку с покупками на спинку стула и сняла с себя тяжелое пальто с воротником из непонятного меха — подарок дочери-директорши.
От продуктовой сетки шел тонкий и сильный запах прихваченных морозом яблок. Семен Григорьевич полной грудью вдохнул этот вкусный запах и спросил тихим голосом:
— Помнишь, Катя, как мы с тобой познакомились?
Екатерина Захаровна даже охнула от неожиданности и решила, что добром все это не кончится: уже лет двадцать муж не называл ее по имени, а все «Захаровна» да «Захаровна»…
— Чего это ты надумал? — забеспокоилась она. — Уж не заболел ли снова? Говорила тебе: пей бальзам!
Она подошла к мужу и дотронулась рукой до его лба, пробуя температуру. Лоб был негорячий, и Екатерина Захаровна растерялась, не зная, что теперь делать.
— А как я тебя впервой поцеловал, помнишь? — совсем уж тихо спросил Семен Григорьевич, стыдясь на старости лет говорить такое.
Екатерина Захаровна не то кашлянула некстати, не то фыркнула тихонько — в темноте не разберешь. Потом она сказала неожиданно помолодевшим голосом:
— А все с того началось, что я в тебя снежком залепила! — и присела рядом, легкомысленно позабыв, что ею ничегошеньки не сделано для приготовления ужина и даже чайник стоит не на примусе, а на холодном столе.
Семена Григорьевича приятно удивило, что Екатерина Захаровна до сих пор все помнит. Раньше ему всегда почему-то казалось, что супруга, за каждодневными своими хлопотами по хозяйству, давно уже перезабыла всю их любовь.
— Залепить-то залепила, — охотно подхватил он, — да сама и перепугалась: стоишь и смотришь, что дальше будет. Мне ничего другого и не оставалось, как чмокнуть тебя в губы!
— В щеку… — поправила Екатерина Захаровна, защищая свою давнюю девичью гордость.
— Нет, в губы! — заупрямился Семен Григорьевич.
— Ну, разве что в самый краешек… — согласилась Екатерина Захаровна, припоминая подробности.
— Я тебя еще летом заприметил, как ты на лугу песни пела. Крепко ты мне в память запала: у станка стою, а голос твой в ушах звенит. Никогда со мной ни раньше, ни позже такого не бывало…
— Ты ловкий тогда был, самый ловкий изо всех слободских ребят! Этим ты мне и полюбился… — с опозданием в четыре десятка лет призналась Екатерина Захаровна.
Семен Григорьевич знал, что, так же как и он, Екатерина Захаровна видит сейчас стиснутую сугробами улицу старой слободки. Давняя зима была расточительно богата снегом — потому, наверно, и решилась Катя-тихоня израсходовать горстку на тот счастливый снежок, который угодил в него и ускорил их объяснение.
Все помогало им тогда. На улице не видно было ни души, и даже мороз, лютовавший перед тем целую неделю, вдруг подобрел, словно для того лишь, чтобы не мешать им, бездомным, миловаться на улице. Счастливые и испуганные этим непривычно новым для них счастьем, они стояли, обнявшись, меж сугробами, у стены какого-то сарая, и то говорили оба враз, то молчали — молодые, вся жизнь впереди…
Давно уже растаяли те далекие сугробы. Семен Григорьевич никогда не напоминал о том вечере Екатерине Захаровне: молодой был — не придавал ему значения, думал беззаботно, что много еще впереди будет разных вечеров; а состарился — и как-то неловко стало об этаком заговаривать, боялся, что суровая Екатерина Захаровна обвинит его в телячьих нежностях.
После женитьбы они поселились на другом конце слободки, и Семену Григорьевичу не часто доводилось бывать возле их сарая. Но каждый раз, когда он проходил мимо, у Семена Григорьевича невольно теплело на сердце, а ноги сами собой замедляли свой бег. Бывало, ему хотелось постоять на этом месте, но как-то стыдно было средь бела дня останавливаться на улице без дела, и он лишь с ходу оглядывал сарай и шагал себе дальше с таким чувством, будто в молодость окунулся.
А жизнь шла своим чередом, и той осенью, когда Петру купили школьный ранец, сарай был переоборудован под кооперативный склад скобяных изделий. Может, кто другой на месте Семена Григорьевича обиделся бы, что такое будничное предприятие обосновалось в святом для него помещении. Но Семен Григорьевич не увидел в крючках и шпингалетах ничего унизительного для себя и своей любви и рассудил, что правление кооператива поступило правильно: шпингалеты людям тоже нужны и не пустовать же сараю из-за того лишь, что некогда здесь вздумалось кому-то целоваться.
Вскоре после того, как Семена Григорьевича произвели в мастера, сарай сломали, а на его месте построили маленький уютный домик с веселым жестяным петушком на гребне крыши. Но не всем жильцам нового домика петух накукарекал счастье. В солнечные дни Семен Григорьевич часто видел в палисаднике перед домиком молодую, всегда чисто, как в праздник, одетую женщину болезненного вида. Из окна иногда выглядывал мужчина с прямыми черными усами и говорил ей что-то короткое и сердитое. Когда усача не было дома, женщина подзывала к себе ребятишек, играющих на улице, расспрашивала, как их зовут, гладила по головам и давала денег на мороженое. Случалось, она дремала на скамеечке, и однажды, когда Семен Григорьевич проходил мимо, она улыбнулась с закрытыми глазами — может быть, увидела в минутном сне свой сарай, возле которого ее впервые поцеловали. Семену Григорьевичу почему-то казалось, что целовал ее не усач, а кто-то другой и что сарай этот находится где-то очень далеко от нарядного домика с обманчивым петушком на крыше.
А в тот год, когда Екатерина Захаровна прозвала Семена Григорьевича путешественником за его частые разъезды (в начале года он ездил в Ленинград на курсы повышения квалификации, а в середине — в Москву, на совещание в министерство, которое тогда именовалось наркоматом), — в тот год всю старую слободку снесли и на ее месте воздвигли новые четырехэтажные корпуса. Ничего не скажешь, корпуса были добротны, красивы и разве только больше чем надо похожи друг на друга, так что в первое время после заселения счастливые новоселы признавали свои дома лишь по кучам строительного мусора, которые, как водится, долго еще красовались перед фасадами. К радости жильцов, строителям не удалось сделать эти кучи такими же похожими и симметричными, какие у них вышли дома. Если мусорная гора возле одного корпуса сильно смахивала на повсеместно известный по папиросной коробке Казбек, то возле соседнего дома она торчала уже каким-нибудь неведомым Эльбрусом. Оставалось лишь хорошенько запомнить свою вершину — и можно было смело выходить из дому, не боясь заблудиться на обратном пути.
Как жильцы разыскивали свои квартиры после уборки мусора, Семен Григорьевич никак не мог догадаться. Отправляясь в гости к знакомым, поселившимся в новых корпусах, он вечно попадал на чужие лестницы. Наблюдательные ребятишки быстро заметили эту привычку Семена Григорьевича и, завидев его, вежливо кричали:
— Опять не туда идете, дедуся!
Именно здесь, в лабиринте новых корпусов, его и настигло это неизбежное стариковское прозвище. И когда вскоре Витюк стал называть его дедом, Семену Григорьевичу это было уже не в диковинку.
На том месте, где когда-то стоял сарай, а потом домик с петушком, тоже выстроили четырехэтажный корпус. И теперь лишь в названии улицы — Старослободская — хоть и косвенно жила память о молодых годах Семена Григорьевича и Екатерины Захаровны, о их заветной встрече среди сугробов…
Семен Григорьевич молчал-молчал в темноте и вдруг спросил супругу:
— Если б, к примеру сказать, зачем-нибудь понадобилось, смогла бы ты найти то место, где… снежком в меня залепила?
Екатерина Захаровна ничуть не удивилась вопросу, будто все время только его и ждала.
— Я и сегодня мимо того места проходила, как в «Гастроном» шла, — спокойно сказала она. — Если по-нынешнему мерить, так это будет между книжным магазином и аптекой, чуток поближе к аптеке.
«И сюда она свою медицину приплела!» — в сердцах подумал Семен Григорьевич, досадуя сейчас на супругу не так за ее небольшую промашку в топографии, как за то, что она могла столь небрежно говорить о дорогом для них обоих месте.
— Как бы не так! — выпалил он. — У самого входа в магазин то место!
И тут его поразила мысль: раз Екатерина Захаровна так быстро и довольно точно назвала место, где стоял раньше их сарай, — значит, все эти годы она тоже не теряла его из виду, знала и о крючках-шпингалетах и о печальной женщине из палисадника, и так же, как и он, не раз, наверно, вспоминала тот вечер среди сугробов, когда у них все решилось… Даже смешно: жили под одной крышей и таились друг от друга! И чего они боялись?
Он ожидал, что супруга, по своей привычке, ринется сейчас в спор, выгораживая злосчастную аптеку, и сама развеет то чувство признательной нежности, которое у него возникло к ней после неожиданного открытия. Но Екатерина Захаровна сказала покладисто:
— Все бы тебе спорить! Мы же на одном месте не стояли, а ходили от аптеки к магазину и назад. Целую тропку в снегу выбили, разве забыл?.. — Она помедлила немного и добавила, не в силах удержаться: — А снежок в тебя я все-таки возле самого аптечного крыльца кинула!
Семен Григорьевич хорошо помнил, что никакой тропки в снегу они тогда не проторили, а все время смирно стояли на одном месте. Но возражать он не стал, понимая, что Екатерина Захаровна и так одержала над собой немалую победу, признав его частичную правоту. Чтение книг развило в Семене Григорьевиче философическую струнку, и он знал, что нельзя от людей требовать невозможного…
Екатерина Захаровна притихла в темноте, а Семен Григорьевич вдруг некстати припомнил, что на том стуле, где висела сейчас сетка с пахучими яблоками, неделю назад сидел Кирюшка, внимательно слушал его наставления и смотрел на него честными, преданными глазами. Обида на Кирюшку уже потеряла свою остроту, и Семен Григорьевич мог теперь хладнокровно думать о нем. В размягченной от воспоминаний душе мастера шевельнулось даже такое чувство, будто была и его доля вины во всем случившемся: парень заблудился по недомыслию или слабости характера, а он вовремя его не одернул.
Много часов провел он наедине с Кирюшкой, а толком его так и не разглядел. Ошибся он потому, что прикрасил парня, подогнал его под известные ему образцы. Как ни крути, а выходит: он тоже уложил живого человека в опоку! Что из того, что опоку он выбрал отменную, сделанную по мерке с лучших ребят — вроде Коли Савина и тех молодых рабочих, с кем довелось ему делить стужу и бесхлебицу первой военной зимы.
Его обманули Кирюшкина молодость, задор и… комсомольский значок на груди парня — все то честное и хорошее, что привык он видеть за этим значком. Упустил он из виду, что легче значок отштамповать из жести, чем выковать настоящий характер.
По доброте душевной Семену Григорьевичу хотелось сейчас думать, что дело еще поправимо. Надо лишь поскорее разобраться: глубоко внутри парня сидит вредная раковина или только с поверхности он маленько запаршивел, а снять наружную стружку — и дальше пойдет добротный материал.
Он уже невольно прикидывал, как надо спасать Кирюшку. Перво-наперво необходимо оторвать парня от начальника цеха и оставить его вариться в собственном соку. Потом ребята должны на него поднажать — без злобы, но крепенько, чтобы почувствовал Кирюшка силу коллектива. Само собой, тут уж взыграет Кирюшкино самолюбие, подогретое скороспелой славой! И выйдет одно из двух: либо Кирюшка ожесточится и закостенеет в своей ранней подлости, либо переболеет и станет человеком. Полезно будет в это время показать парню, куда ведет-заворачивает та скользкая дорожка, на которую ступил он неосторожной ногой. Сделать это следует как бы мимоходом, исподволь, чтобы не отпугнуть. В общем, повозиться придется немало. Поскорей надо выходить ему на работу, а то ребятки сгоряча наломают дров в этом тонком деле.
А там не худо бы и Колю Савина с Клавой-сверловщицей помирить. Дело это будет еще потоньше, неизвестно даже, с какого конца и приступать.
Семен Григорьевич покрутил головой, удивляясь, какие трудные и щекотливые занятия подсовывает ему жизнь-жистянка. Уж не выдумывает ли он сам себе работу, чтобы чувствовать себя нужным людям? Нет, помнится, он и прежде никогда мимо таких дел не проходил — такой уж, видно, уродился…
Затхлый душок бальзама, хозяйничавший в комнате все эти дни, попробовал было потягаться с молодым свежим запахом яблок, но не выдержал поединка и стал отступать. А Семену Григорьевичу казалось, будто от него, выздоравливающего, все дальше и дальше отодвигают отслужившую свое бутыль с бальзамом, а заодно уж и скудную аптечку с «филиалом».
В темноте, скрадывающей немилые приметы возраста, Семену Григорьевичу на миг почудилось, что ему всего-навсего двадцать лет, а рядом с ним сидит восемнадцатилетняя Катя-певунья. Но Екатерина Захаровна, которую долгое пребывание во тьме всегда бросало в сон, шумно и аппетитно зевнула и сразу разрушила весь его самообман.
«Вот всегда она так!» — рассердился Семен Григорьевич.
— Надо бы Васеньке посылку послать, — сказала Екатерина Захаровна тягучим своим будничным говорком. — Как бы не отощал на студенческих харчах…
И совестливому Семену Григорьевичу стало стыдно, что он размечтался тут о несбыточном, в то время как Екатерина Захаровна занята насущным делом. И какая муха его укусила, что ему вздумалось променять практичную Екатерину Захаровну на девчонку Катю? Ведь состарилась Екатерина Захаровна и потолстела бок о бок с ним, рожая ему детей и всячески украшая жизнь семьи. Все эти долгие сорок лет, не щадя себя, она заботилась о нем и детях, а если, случалось, иногда и докучала ему, то совсем не по злому умыслу, а просто от излишнего усердия.
Больше он уже не обманывал себя и все время помнил, что рядом с ним сидит не тоненькая и зеленая Катя, а дородная Екатерина Захаровна — мать и хозяйка. Чтобы загладить свою невольную вину перед женой, Семен Григорьевич положил руку на ее мягкое плечо, и отзывчивая на ласку Екатерина Захаровна тут же придвинулась к нему.
Они сидели щека к щеке и молчали. В темной комнате пахло яблоками.
Мачеха



горка бесшумно слез с печки, постоял у окна, водя пальцем по морозным узорам, полистал календарь на стене, проверяя, скоро ли день сравняется с ночью, и уже собирался тайком выскользнуть из избы, когда был остановлен строгим окриком тетки Елизаветы Фроловны:
— Ты куда? Уроки сделал? Не вздумай еще мачеху встречать!
Егорка вопросительно посмотрел на отца. Теперь все зависело от него: если отец и сам поедет на станцию встречать награжденных, то на тетку можно просто не обращать внимания; если же отец не поедет, то надо, чтобы он сейчас же решительно заступился за Егорку, и тогда тетка опять-таки останется с носом. Отец сидел у стола и просматривал свежий номер агрономического журнала. Переворачивать листы единственной левой рукой отцу было неудобно, он сидел боком к столу, и Егорке казалось поэтому, что отец читает невнимательно и думает совсем о другом.
— А хотя бы и встретил, — не поднимая головы от журнала, сказал отец. — Ведь не чужая она ему…
— «Не чужая»! — подхватила тетка. — Беги и ты встречать, чего сидишь? В первом ряду поставят, как же — муж Героини! Понимаешь: Героиня она, а ты при ней только муж. Эх, Павел, сподобился ты!..
Отец отодвинул журнал и решительно распахнул толстый том «Агробиологии», который из уважения к автору — академику Лысенко — был обернут газетой. «Агробиологию» отец читал ежедневно, не любил, когда его отрывали от чтения этой книги, и Егорка понял, что на станцию отец не поедет.
— «Не чужая»!.. — язвительно повторила Елизавета Фроловна, торжествуя победу. — Мачеха — она и есть мачеха, одно слово… Была бы жива родная мать, так ребенок не бегал бы в рубахе без пуговицы. Эх, Катя, Катя… — Тетка поднесла к сухим глазам кончик головного платка. — Иди сюда, милый, я тебе пуговицу пришью.
Егорка хотел было сказать, что пуговица оторвалась сегодня утром и мачеха никак не могла ее пришить, но, чтобы не злить тетку, промолчал и только покосился на ходики. Медный маятник налево и направо щедро разбрасывал секунды: ему и горюшка мало, что до отъезда на станцию осталось меньше четверти часа, а у Егорки еще и пуговица не пришита.
Дородная Елизавета Фроловна вооружилась иглой с длинной ниткой, надела очки, и лицо тетки сразу приняло несвойственное ей ученое выражение. Егорка подивился: он хорошо знал, что тетка книг никогда не читает, а когда раз в месяц посылает письма своим детям — Мите и Марусе, — то на конверте пишет «даплатное». Елизавета Фроловна согласилась пришивать пуговицу, не снимая с Егорки рубаху, но предварительно сунула ему тряпицу в рот — чтобы не зашить память.
Егорка сверху вниз смотрел на склоненную голову тетки и думал: когда же наконец Елизавета Фроловна уедет? Она приехала к ним погостить осенью, да с тех пор так и прижилась в доме. Незадолго перед ее приездом отец женился на мачехе. Втроем, без тетки, они жили дружно. Мачеха раздаивала на колхозной ферме коров, а Егорка по вечерам помогал ей составлять рационы: она диктовала, а он записывал самым красивым своим почерком, сколько какой корове давать сена, силоса, корнеплодов и концентратов.
Хорошее было время! Егорка в точности знал повадки всех десяти коров, закрепленных за мачехой, начиная от норовистой Снегурки и кончая спокойной Резедой. Он был своим человеком на ферме, а в школе всеми признавался непререкаемым авторитетом по животноводству: его даже прозвали тогда зоотехником. Самолюбие Егорки страдало лишь оттого, что мачеха считалась в колхозе второй дояркой, а первой — маленькая Настя Воронкова.
Но однажды он случайно подслушал, как председатель колхоза Матвей Васильевич распекал Настю за перерасход концентратов и ставил ей в пример мачеху. После этого Егорка уже снисходительно выслушивал всех, кто в его присутствии славил маленькую Настю.
Да, хорошее было время…
С приездом тетки все изменилось. Елизавета Фроловна сама напросилась готовить обеды и стирать белье, а потом тихо и незаметно прибрала к рукам весь дом. От тетки Егорка узнал, что мачеха не любит его, а только притворяется, о доме она тоже не заботится: все ферма да ферма, а когда же свое, родное? Да и сама забота о ферме, по мнению тетки, объяснялась не любовью мачехи к работе, а ее желанием во что бы то ни стало отличиться и этим унизить Егорку с отцом. Елизавета Фроловна рассказала племяннику, что мачеха была подругой его матери и еще до ее замужества любила отца. Тетку особенно возмущало, что мачеха ни за кого не вышла замуж после женитьбы отца, хотя в женихах недостатка не было: сам Матвей Васильевич тогда на нее заглядывался.
— Все хотела отцу твоему доказать, что от него не отступится, — объясняла тетка. — У, гордыня несусветная!.. Как змея подколодная притаилась и ждала своего часа. Виданное ли дело, ждать двенадцать лет? Я после смерти первого мужа поплакала-погоревала, да году не прошло и за второго вышла. Что ж тут ждать: бог дал — бог и взял…
Тетка готова была обвинить мачеху даже в смерти Егоркиной матери, хотя Егорка хорошо знал, что мать умерла во время войны от воспаления легких и мачеха тут была совсем ни при чем.
— Не отказалась и от однорукого! — осуждала мачеху тетка. — Дождалась-таки своего…
На робкие возражения Егорки, что мачеха добрая, тетка говорила сокрушенно:
— Святая простота! Дайте только срок, она вам с отцом доброту свою в полный рост выкажет. Вот увидишь: она еще отомстит за свое долгое ожиданье. Такие гордые этого никогда не прощают…
Егорка верил тетке и не верил, но уважать мачеху по-прежнему уже не мог. Он избегал оставаться с ней наедине, перестал ходить на ферму и по вечерам писать под ее диктовку рационы. В школе его уже больше никто не называл зоотехником, и авторитетом по животноводству считался теперь дружок Егорки — Олег. Несколько раз Егорка видел мачеху с заплаканными глазами и однажды слышал, как отец говорил ей, оправдываясь:
— Не могу же я Лизавету из дому выгнать. Ведь родная сестра!
Угодить тетке было очень трудно. Когда мачеха давала Егорке деньги на кино или сладости, Елизавета Фроловна говорила племяннику:
— Задабривает она тебя, к рукам прибрать хочет. Не поддавайся, Егорушка!..
Если же мачеха забывала дать денег пасынку, тетка обвиняла ее в жадности:
— Копейку пожалела знатная доярка! Без материнской ласки растешь ты, сиротиночка…
Не один раз тетка собиралась уезжать в город к своим детям — Мите и Марусе, которые, по клятвенному уверению Елизаветы Фроловны, хотя и не писали писем, но так сильно любили свою мать, что даже начинали худеть, когда долго ее не видели. Тетка переносила из кладовой в кухню тяжелый, вечно запертый зеленый сундук и не спеша приступала к сборам в дорогу. Но каждый раз случалось как-то так, что тетка все-таки не уезжала, тяжелый зеленый сундук водворялся на старое место, в кладовую, и все оставалось по-прежнему. Егорка не шутя опасался, что от любящих Мити и Маруси скоро останутся только кожа да кости…
Теткина рука с иглой, пришивая пуговицу, мелькала перед самым носом Егорки. Нитка была длинная, и руку тетка отводила далеко в сторону отца, как бы приглашая Егорку брать с него пример: отец отказался встречать мачеху — не встречай и ты. Егорке смертельно захотелось насолить чем-нибудь Елизавете Фроловне. Рискуя на всю жизнь остаться без памяти, он незаметно вытащил изо рта тряпку и забросил ее в дальний угол. Отец заметил его проделку, но ничего не сказал.
По твердому убеждению Егорки, отцу сильно не повезло в жизни. Почти всю войну отец провел в далеком тылу на охране крупного железнодорожного моста, а когда на исходе войны его часть направили на фронт, то эшелон попал под бомбежку, не доехав до передовой. Отца ранило, в госпитале ему отрезали руку, и он вернулся в родное село, так и не убив ни одного фашиста. Не повезло отцу и в мирной жизни: до войны он считался лучшим в колхозе бригадиром полеводческой бригады, а после войны его поставили завхозом, а на этой работе, как известно, хлопот много, а славы мало.
Колхоз под руководством расторопного Матвея Васильевича набирал силу, богател, год от году росло в нем число награжденных, а на парадной гимнастерке Егоркиного отца по-прежнему одиноко висела привезенная с войны медаль.
Десятки раз отец просил Матвея Васильевича определить его на «живую» работу.
— Потерпи, Фролович, — отвечал председатель. — Это ничего, что ты у нас без орденов ходишь. Не за горами время, когда будут награждать и завхозов: пользы от тебя нашей артели больше, чем от любого бригадира…
И отец соглашался. Но в глубине души он все еще надеялся поработать бригадиром и целые вечера просиживал над новыми агротехническими книгами, чтобы не отстать от жизни…
Тетка перекусила нитку, и Егорка, приплясывая от нетерпения, быстро напялил на себя шубейку и шапку, боясь, что отец раздумает и не пустит его из избы. Елизавета Фроловна осуждающе покачала головой и жалостливо сказала вслед выбегающему племяннику:
— Несчастный сиротинка!..
А «сиротинка», ничуть не
чувствуя себя несчастным, кубарем скатился с лестницы и вихрем помчался к правлению колхоза.
На улице перед правлением стояло трое празднично разукрашенных саней и колхозный грузовик, на борту которого полыхал кумачовый плакат «Привет землякам — Героям Социалистического Труда!». Егорка поспел как раз вовремя: отъезжающие на станцию усаживались по местам, и шофер дядя Гриша пробовал носком сапога, туго ли надуты скаты. На миг Егорка заколебался: что предпочесть — сани или грузовик? В кабине грузовика сидел сам председатель Матвей Васильевич, на борту кумач и, что ты там ни говори, а грузовик все-таки машина, почти легковая. Но и сани не были обыкновенными санями: на дугах нетерпеливо звякали бубенцы, обещая серебристый перезвон в дороге, а конские гривы были так густо увиты пестрыми лентами, что лошади избегали встречаться с Егоркой глазами, стыдясь своего щегольства. Дядя Гриша дал долгий прощальный гудок, и гудок этот решил дело: Егорка проворно перемахнул через борт грузовика, сам себе удивляясь, как мог он еще сомневаться — ведь у саней гудка не было!
В кузове у передней стенки уже сидел Егоркин дружок — Олег, тот самый, который после приезда Елизаветы Фроловны стал считаться школьным авторитетом по животноводству.
— Садись рядом, — сказал Олег. — Здесь меньше трясет!
Егорка и сам знал, что поближе к кабине трясет меньше. Он давно уже заметил, что дружок любит говорить общеизвестные вещи. Олег был на полтора месяца старше Егорки и по этой причине относился к приятелю покровительственно, хотя и не стыдился списывать у него трудные задачки.
Пятнадцать километров до станции мчались «с ветерком», оставив далеко позади нарядные сани с дедовскими бубенцами. Егорка окончательно решил, что когда вырастет большим, то обязательно станет шофером, а не конюхом, как он опрометчиво надумал летом, когда тайком пробирался на конюшню дергать из конских хвостов волос для лески.
На станции, в зале ожидания, было людно: из соседних колхозов тоже приехали встречать своих награжденных. Егорка и Олег с трудом нашли свободное место в углу между бригадой плотников с пилами и топорами, обернутыми мешковиной, и человеком с толстым брезентовым портфелем, с каким в Егоркин колхоз приезжали заготовители из района. Заготовитель, наверно, был очень занятой человек, так как за весь день не успел прочитать газету дома и теперь читал ее на вокзале.
— Держи место! — начальническим тоном сказал Олег, отошел к стене и долго морщил нос, разглядывая расписание, а потом, вернувшись к Егорке, объявил таинственным шепотом, что московский поезд прибывает через полчаса, о чем Егорка к тому времени и сам уже знал из разговора соседей-плотников.
Из вокзальной парикмахерской вышел председатель колхоза имени Чкалова. Стоящий невдалеке от ребят Матвей Васильевич провел рукой по щеке и, хотя ему вполне можно было еще не бриться, тоже пошел в парикмахерскую, не желая ни в чем уступать чкаловцам, с которыми Егоркин колхоз соревновался.
Олег разузнал, что в буфете есть чай — дешевый и сладкий, — и, явно подражая кому-то, предложил пойти «погреться горяченьким». Егорка еще ни разу в жизни не пил чай в железнодорожном буфете и согласился.
В буфете Егорке понравилось. Старый седой официант принес им на блестящем медном подносе два стакана чаю в высоких подстаканниках и обращался с Егоркой и Олегом так почтительно-вежливо, будто не видел, что перед ним дети, а принимал их за самых настоящих взрослых пассажиров, которые едут куда-то очень далеко — например, в город Владивосток.
Матвей Васильевич и председатель колхоза имени Чкалова тоже заглянули в буфет. Они подошли к стойке, и все Егоркины односельчане и чкаловские колхозники, какие находились в буфете, как по команде замолчали, оторвались от своих кружек и стаканов и стали смотреть, что будут делать их председатели. Матвей Васильевич для начала распахнул свой дубленый полушубок, чтобы все желающие могли беспрепятственно любоваться орденом Ленина, полученным в прошлом году за развитие колхозного животноводства, и тремя фронтовыми орденами Славы, которые косо, по-морскому, висели вдоль лацкана пиджака. Но чкаловский председатель тоже не остался в долгу, хотя был на целую голову ниже Матвея Васильевича и далеко не такой бравый на вид, как тот. Он медленно раздвинул полы зимнего пальто с барашковым воротником, и все увидели у него на бархатной тужурке тоже орден Ленина, полученный за высокие урожаи зерна, и орден Отечественной войны первой степени, которым чкаловский председатель был награжден за хорошую работу колхоза в военные годы.
Матвей Васильевич заказал у буфетчика две стопки водки и, перед тем как выпить, проговорил:
— Будем здоровы!
А чкаловский председатель сказал:
— Дай бог не последнюю! — и, осушив свою стопку, вкусно крякнул.
Председатели закусили красными яблоками, которые буфетчик из уважения к знатным клиентам так долго тер чистым полотенцем, что Егорка опасался, как бы он не сорвал с яблок кожуру. Чкаловский председатель достал из кармана пальто коробку папирос «Казбек» и гостеприимно распахнул ее перед Матвеем Васильевичем. Тот из вежливости взял папиросу, хотя Егорка хорошо знал, что их председатель не курит. Чкаловский председатель подмигнул своим колхозникам и заказал две стопки коньяку. Чкаловцы одобрительно загудели, а колхозники из Егоркиной деревни тревожно переглянулись. Но Матвей Васильевич знаком успокоил односельчан, выпил коньяк, довольно удачно для некурящего человека пустил кольцо дыма и твердым голосом попросил буфетчика открыть бутылку шампанского. Кто-то из чкаловцев ахнул от удивления, а их председатель растерянно заморгал и, пока буфетчик снимал с верхней полки давно уже стоявшую там, судя по толстому слою пыли, нарядную бутылку шампанского в серебряной шапочке, обежал глазами весь буфет, но не нашел ничего, чем можно было бы перещеголять Матвея Васильевича.
— Женский это напиток… — осудил чкаловский председатель шампанское, но бокал с пенящимся вином принял обеими руками.
— Что ж, будем здоровы, — сказал свое неизменное Матвей Васильевич.
— Будем здоровы… — послушно, как эхо, повторил побежденный чкаловский председатель.
…Когда до прихода поезда оставалось пять минут, Егорка с Олегом вышли из буфета. На перроне было пусто, лишь в багажной возле весов возился старик, очень похожий на колхозного пасечника деда Никифора, — только у Никифора взгляд был, как у всех пасечников, тихий и умиленный, а у весовщика — быстрый и недоверчивый. Прошли два носильщика в новых необмятых фартуках, а вслед за ними пролетели два воробья — по-зимнему пухлые, озабоченные, будто и они встречали кого-то с поездом. Потом из вокзала вышел дежурный в красной фуражке, и тотчас же, словно только его и дожидался, за поворотом дороги затрубил паровоз.
На перрон высыпали колхозники, вышел раскрасневшийся, с блестящими глазами Матвей Васильевич, на ходу застегивая полушубок. Рядом с Матвеем Васильевичем шагал секретарь райкома, легковую машину которого Егорка видел из окна буфета.
Паровоз обдал Егорку машинным теплом, вагоны, сбавляя ход, заскрипели тормозами. Все вагоны были похожи друг на друга, и определить по внешнему виду, в каком из них приехала мачеха, было никак невозможно.
— Айда вперед! — сказал Олег. — Наши ближе к паровозу будут.
— А может, сзади? — предположил Егорка.
— Награжденные — и сзади? Эх ты, зоотехник! — презрительно сказал Олег и побежал вдогонку за паровозом.
Егорка из упрямства остался на месте. Кто-то положил на плечо ему тяжелую руку. Егорка вскинул голову и увидел рядом с собой председателя колхоза. От Матвея Васильевича пахло вином и одеколоном.
— Что ж отец не приехал встречать? — спросил председатель. — Нехорошо…
Вдоль всего поезда, от паровоза к хвосту, прокатился раскатистый лязг буферов, и состав остановился. На площадку вагона, немного наискось от Егорки, вышла Настя Воронкова. На груди доярки, приколотая прямо к пальто, сияла звездочка Героя. С золотой звездочкой на груди маленькая Настя стала выше ростом и красивей. Она так торжествующе смотрела с высоты площадки на односельчан, пришедших ее встречать, как будто и не было у нее никогда перерасхода концентратов. За Настей показалась сестра Олега, хотя она была награждена только медалью «За трудовую доблесть» и, по мнению Егорки, могла бы посидеть в вагоне, пока не выйдут все Герои.
Потом стали сходить чкаловцы. Егорка не знал, кто из них чем награжден, и, чтобы понапрасну не обидеть людей, не стал их осуждать, как Олегову сестру.
Мачеха вышла предпоследней. В руке она держала маленький чемоданчик, золотой звездочки поверх пальто видно не было. Сначала Егорке не понравилось, что мачеха скромничает, но потом он решил: когда сам вырастет большим и заработает свои ордена, — тоже воздержится выставлять их напоказ. Все будут знать, что награды у него есть, а носить их он не станет — так даже интересней!.. Мачеха быстрым ищущим взглядом окинула толпу. Егорка, чтобы попасть ей на глаза, приподнялся на цыпочки. Заметив Егорку, мачеха рассеянно улыбнулась, поискала еще кого-то в толпе, не нашла, и по лицу ее скользнула тень. Егорка догадался: «Отца ищет», вспомнил слова тетки: «Двенадцать лет ждала» — и огорченно вздохнул, обиженный на отца. И почему он не поехал на станцию?
Олег протиснулся сквозь толпу к Егорке. Вид у Олега был такой же независимый, как и раньше, будто он оказался прав и награжденные ехали в самом первом от паровоза вагоне.
Председатель сельсовета пошептался о чем-то с усатым проводником, взобрался на верхнюю ступеньку вагона и начал говорить приветственную речь. Председатель был молод, еще год назад заведовал колхозным клубом и всем от мала до велика был известен как Павлуша-избач. Да и теперь Павлом Тихоновичем его величали лишь злостные неплательщики налогов и другие нарушители закона, а все честные люди звали его Павлушей-председателем.
Имя Олеговой сестры, когда подошла очередь и ее приветствовать, Павлуша-председатель произнес громко и с большим чувством. Никто из колхозников этому не удивился, так как все знали, что сестра Олега — Павлушина невеста. Всем было известно также, что у Павлуши плохая память на цифры, и поэтому никто тоже не удивился, когда он достал из кармана узкий листок и стал читать, сколько каждая из награжденных доярок надоила за год. Но секретарь райкома, видимо, не знал всего этого, и Егорка заметил, как при появлении бумажки секретарь нахмурился. А усатый проводник, заслушав высокие цифры удоев, стал молодцевато подкручивать усы, словно и он имел какое-нибудь отношение к успехам доярок.
Из окна вагона, расплющив о стекло нос, на Егорку с Олегом с завистью смотрел мальчик одних с ними лет в синей матросской курточке. Рядом с ним стояла строгая женщина в пенсне, при виде которой Егорке почему-то захотелось вслух произнести холодные и непонятные слова вокзальных объявлений — такие, как «плацкарта» или «транзит». Олег показал мальчику в матроске язык, и тот тайком от женщины в пенсне очень умело ответил ему тем же, после чего Олег самыми доходчивыми знаками стал вызывать его из вагона подраться, но мальчик в матроске сделал вид, что не понимает, и отошел от окна.
А секретарь райкома хмурился все больше и больше, и когда Павлуша дошел до характеристики работы Олеговой сестры и сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в грудь, секретарь перебил его:
— Дорогой товарищ, зачем же людей на морозе держать?
Павлуша пробормотал: «Какой же это мороз, всего десять градусов…» — и начал снимать рукавицы, чтобы доказать, что никакого мороза нету. Но секретарь райкома не стал ждать, пока Павлуша-председатель снимет рукавицы. Коротко, не называя цифр, он поздравил доярок с наградой, поблагодарил их за то, что они на всю страну прославили район, и в заключение предложил подвезти Героев на своей машине.
На заднее сиденье райкомовской «эмки» сели Настя Воронкова и мачеха. Секретарь поместился впереди, рядом с шофером.
— Татьяна Ивановна, возьми своего мальца, — сказал Матвей Васильевич мачехе. — Я по его носу вижу, ему до зарезу хочется прокатиться на легковой машине!
Егорка подивился, как это Матвей Васильевич умеет читать по носу, чего хочет человек, и храбро полез в «эмку». Шофер покосился на его валенки, но ничего не сказал.
Олег остался на улице, и Егорка из машины с торжеством посмотрел на дружка, но тот ответил ему таким равнодушно-снисходительным взглядом, словно по меньшей мере тысячу раз ездил в «эмке» и это ему порядком уже надоело. Задетый за живое, Егорка вспомнил безошибочный способ Матвея Васильевича, внимательней присмотрелся к носу приятеля и сразу увидел, что равнодушие Олега напускное и тот ему сильно завидует.
Машина тронулась, и Егорка закачался на мягком сиденье. Настя Воронкова начала рассказывать секретарю, как ей вручали награду, а Егорка тихо попросил мачеху:
— Можно, я звездочку посмотрю?
Татьяна Ивановна расстегнула пальто, и на ее вязаной кофточке неярко блеснула золотая звездочка — точь-в-точь такая же, как ее рисуют на плакатах.
Егорка бережно погладил звездочку мизинцем, а потом снизу вверх приподнял на цепочке, пробуя на вес. Звездочка была теплая и тяжелая.
— А орден Ленина где? — совсем расхрабрившись, спросил Егорка требовательным шепотом.
— В коробочке… — также шепотом ответила мачеха, привлекла пасынка к себе и провела рукой по его волосам — густым и мягким, как у отца.
Не избалованный лаской, Егорка шумно засопел и уткнулся лицом в плечо Татьяны Ивановны. Ему сильно хотелось порадовать чем-нибудь мачеху — например, сказать ей, что теперь он каждый день будет приходить на ферму, а по вечерам писать рационы. Но в носу у него предательски защипало, а с глазами стало твориться что-то и совсем уж неладное, и Егорка сидел тихо и смирно, боясь оторваться от теплого спасительного плеча…
Секретарь райкома довез их до самой избы. Маленький легкий чемоданчик Егорка с мачехой внесли с улицы вместе, крепко держась за него руками. Елизавета Фроловна презрительно усмехнулась при виде такой дружбы.
Отец сидел на старом месте, раскрытый том «Агробиологии» лежал перед ним на столе. Но смотрел отец не в книгу, а прямо перед собой, словно увидел на стене что-то новое, никогда не замечаемое прежде. Когда Татьяна Ивановна сняла пальто, отец встал из-за стола и шагнул к ней. Пустой правый рукав рубашки качнулся и повис вдоль тела. Избегая смотреть на золотую звездочку, отец сказал глухо:
— Прости, Таня, что не встретил… Блажь какая-то пришла в голову, одолела на время… Прости!
— Ну что ты, что ты! — растерянно сказала мачеха и покраснела, как девушка.
Глаза ее стали лучистыми, и в них засветилась такая давняя всепрощающая любовь к отцу, что Егорке почему-то даже неловко было смотреть на нее, и он поспешно шагнул к стенному календарю, чтобы еще раз проверить, когда же наконец день обгонит ночь. А тетка открыла рот, собираясь сказать что-то обычное свое, ехидное, но, увидев глаза мачехи, поперхнулась и сердито загремела в печи ухватом.
Татьяна Ивановна достала из чемоданчика подарки: цигейковую шапку мужу, кожаную куртку с блестящими застежками Егорке и шаль для Елизаветы Фроловны. Тетка примерила шаль и, хотя та сидела на ней лучше некуда, сказала, поджав тонкие губы:
— Короткие нынче шали делают… — и так посмотрела на Татьяну Ивановну, будто подозревала, что она отрезала кусок от ее шали.
Егорка мигом облачился в кожаную куртку и сразу стал похож на летчика. Для полноты сходства он взобрался на печку, чтобы смотреть на все сверху, как бы с самолета.
А мачеха сняла праздничную кофточку, повесила ее в шкаф и надела старый ватник, в котором всегда ходила на ферму.
— Ради такого дня могла бы и дома посидеть, — обиженно сказал отец. — Позаботятся на ферме о твоих коровах!
— Я на одну минутку, Паша. Узнаю только, как тут без меня Снегурка жила: очень уж она норовистая… — виновато сказала Татьяна Ивановна и уже в дверях добавила — Сегодня в правлении вечер будет по поводу… Ну, сам знаешь… Сначала торжественная часть, потом ужин. Матвей Васильевич просил, чтобы ты обязательно пришел.
— Раз приглашали — так приду: кто же от выпивки отказывается! — деланно веселым голосом сказал отец, но Егорка с печки видел, что ему совсем не весело.
Отцу было стыдно перед мачехой, он хотел быстрее загладить вину, но не знал, как за это взяться. Егорка впервые в жизни почувствовал свое превосходство: отец еще не понимал, как легко и просто можно помириться с мачехой, если уткнуться в ее плечо…
— Уже заискиваешь, братец? — тоненьким голоском спросила Елизавета Фроловна, когда мачеха вышла. — Погоди, это только цветочки, ягодки еще впереди! Что бы ты теперь ни сделал, о тебе будут говорить: муж Героини… Пропала твоя самостоятельность!
— Слушай, сестра, — тихо сказал отец, — а не загостилась ли ты у нас? Ведь тебя ждут не дождутся Митя с Марусей, стыдно так обижать любимых детей!
— Это как же понимать? — громким шепотом спросила Елизавета Фроловна. — Родную сестру выгоняешь?
— Выгоняю! — твердо сказал отец и пояснил: — От тебя вовремя не избавишься — так ты нас всех разгонишь!
Егорка одобрительно хихикнул и сел на краю печи, чтобы в случае нужды быстро оттолкнуться от борта печки-самолета и затяжным прыжком прийти отцу на помощь. Тетка бросила кухонную тряпку на пол, ударила по пей каблуком и закричала:
— Ноги моей здесь никогда больше не будет! Просить, умолять станешь — все равно не приеду!
— Сделай милость, не приезжай, — устало сказал отец.
Елизавета Фроловна схватила с лавки дареную шаль, подержала ее на весу, как бы раздумывая, не швырнуть ли шаль на пол вслед за кухонной тряпкой. Егорка по лицу тетки видел, что искушение бросить шаль было очень велико. Но Елизавета Фроловна переборола себя, сунула подарок под мышку и, гордо вскинув подбородок, вышла из комнаты, завозилась с тяжелым сундуком в кладовой. Отыгралась тетка на двери: так хлопнула ею, что у Егорки добрых пять минут шум стоял в ушах, а за печкой сразу, как подкошенный, затих сверчок и молчал потом целую неделю.
Отец обошел комнату вдоль стен, остановился возле шкафа и воровато осмотрелся вокруг. Егорка притаился на печи, будто его там и не было. Отец рывком распахнул дверцу. В полутьме шкафа на кофточке мачехи тепло сияла золотая звездочка. Рядом с кофточкой висела парадная отцова гимнастерка с медалью. Переводя глаза с золотой звездочки на свою единственную медаль, отец долго неподвижно стоял у раскрытого шкафа. Потом он легко вздохнул и точно так же, как недавно Егорка в райкомовской «эмке», бережно погладил звездочку мизинцем.
Тяжелый воз


1

ура положила руку на штурвал и крикнула в переговорную трубку:
— Полный вперед!
За кормой катера дружно заклокотала вода. Рывком взмыл затопленный тяговый трос; повисшая на нем тонкая водяная пленка радужно сверкнула на солнце. Пучки бревен грузно зашевелились, вытягиваясь вдоль троса. У передней кромки головных пучков вскипал невысокий бурливый вал.
Катер работал на буксировке древесины от сплоточной запани к формировочному рейду, расположенному в четырех километрах ниже по течению реки. На рейде загорелые, жадные до работы формировщики составляли из поступающих катерных возов транзитные плоты.
Свежий ветер гулял по реке. Шура запахнула полы просторной брезентовой куртки. Катер повиновался каждому движению ее руки, и от этого ощущения власти над послушным мощным механизмом Шурой овладело горделивое чувство собственной силы.
Она заглянула в накладную, разочарованно поморщилась: всего лишь триста десять кубометров. Шуре, хотелось провести длинный тяжелый воз, утереть нос старшему рулевому Векшину и мотористу Боровикову — насмешнику и зубоскалу. На катере Шура работала всего лишь вторую неделю, и ей казалось, что новые товарищи все еще присматриваются к ней, прикидывают, на что она способна.
Обмелевшая река на всем протяжении до формировочного рейда пестрела частыми песчаными косами, и осторожный Векшин больше четырехсот кубометров не брал. «Попрошу мастера составить воз кубометров на шестьсот — и проведу, — решила Шура. — Пусть знают, с кем имеют дело!»
Впереди зазеленел густо заросший кустарником остров. Это был самый трудный участок пути. Против острова поперек реки вытянулась изогнутая серпом бурая песчаная коса. Левый проход был широкий и мелкий, а правый, по-над самым островом, — узкий и глубокий. Второй проход был опасен быстрым боковым течением в протоку, и Шура водила здесь катер только холостым рейсом.
Катер уже обогнул слева косу, когда вдруг вздрогнул всем корпусом, будто споткнулся. Шура выглянула из рубки: сосна со сломанной верхушкой маячила на берегу против катера, как привязанная. Воз не двигался — держали севшие на мель хвостовые пучки.
— Самый полный! — крикнула Шура в машинное отделение.
Взвихренная винтом вода бурлила за кормой, скрипел туго натянутый трос, но пучки не трогались с места. Шура осаживала катер назад, пробовала взять рывком, но безуспешно: проклятые пучки сидели как вкопанные.
По песку отмели прогуливалась сытая важная ворона. Склонив голову набок, она внимательно посмотрела на Шуру, осуждающе качнула хвостом и неторопливой обидной раскачкой пошла прочь, словно хотела сказать: «Что на тебя смотреть! Легкий воз не смогла провести, а туда же, расхвасталась: подавайте ей шестьсот кубометров!»
Векшин с учеником Сеней вылезли из кубрика. Сеня сочувственно шмыгнул носом, рулевой уныло пробасил:
— Как же ты так? Ведь говорил: держись подальше от песка.
Появился Боровиков. Шура настороженно поправила косынку. Хотя официально капитаном команды считался рулевой Векшин, но верховодил всеми делами на катере придирчивый моторист Боровиков. Сейчас его должно было радовать, что она опозорилась, дала повод для насмешек.
Боровиков зевнул, сказал Сене:
— Ступай расшлаговывай, — и скрылся в кубрике.
По всем признакам, моторист должен был ругать Шуру, а он даже не глянул в ее сторону. Зря пропадали все заранее приготовленные возражения и колкие слова. Сначала Шура растерялась, а потом еще больше озлилась на Боровикова. «Снисходительность проявляет!»
Прыгая по зыбким пучкам, Сеня добрался до хвоста воза и снял трос с пучков, севших на мель.
— Шесть пучков застряло, — доложил он, вернувшись на катер.
— Считай: сорок кубометров! — мрачно сказал Векшин и сплюнул за борт.
2
Вечером всей командой снаряжали второго моториста Кирпичникова. Боровиков дал ему желтые скрипучие ботинки и новую фуражку с крохотным московским козырьком. Векшин вынул из сундучка узенький пояс с никелированной пряжкой. Неимущий подросток Сеня сунул старшему товарищу в карман перочинный ножик — на всякий случай, может и пригодится. Кирпичникова поворачивали во все стороны, ревниво оглядывали, давали советы.
— Захочешь курить — проси разрешения, — посвящал Боровиков молодого моториста в тонкости этикета. — Они это любят… Да возьми у меня одеколон, побрызгайся гуще: женский пол эти штуки обожает.
— Брызгался уже, — сказал вконец замученный участием товарищей Кирпичников и по ребристому пружинящему трапу сбежал на берег.
Мелкими осторожными шажками он пробирался по вязкому илистому берегу, стараясь па запачкать ярких ботинок. Со стороны клуба слышалась однообразная, скучающая трель балалайки.
— Что это Кирпичников сегодня такой праздничный? — спросила Шура.
— Полная боевая изготовка для покорения женского сердца, — объяснил Боровиков. — Кокетничает тут с ним одна красавица, не дает решительного ответа. Ну да мы заставим ее ответить!
— Мы? — удивилась Шура. — Тоже помощники нашлись! Оставьте их в покое, они сами скорей договорятся.
Боровиков снисходительно ухмыльнулся, взял ломик и открыл крышку бункера. Темное смрадное облачко повисло над катером.
— Сеня! — крикнула Шура. — Иди в кубрик, вытаскивай изо всех углов белье. Обстираем с тобой наших женихов!
Сеня вопросительно посмотрел на Боровикова.
— Кончилась спокойная жизнь! — сказал тот и до отказа вогнал ломик в бункер.
Два пухлых узла грязного белья лежали на песке. Сеня колол дрова щербатым топориком. Шура красным пожарным ведром носила воду в котел.
— Хозяйственная девица, — задумчиво произнес Векшин. — В кубрике чистоту навела, стирать добровольно вызвалась. И сама из себя подходящая — что рост, что глаза…
Боровиков презрительно фыркнул.
— Глаза у нее рыбьи, а насчет хозяйственности — в доверие войти хочет, подлизывается. Я ее насквозь вижу. Женщины для меня — раскрытая книга вот с таким шрифтом! — Боровиков раздвинул пальцы на добрый дециметр.
— Может, и так, — согласился податливый рулевой. — Это она ведь только здесь недотрогу разыгрывает, а на берегу ты ее не узнаешь, так за механиком и увивается. Из-за него к нам и на работу перевелась — чтобы ближе было…
Сколько Боровиков помнил, Векшин вечно торчал на катере, лишь изредка ходил в ларек за продуктами, но не было такой сплетни во всей сплавной конторе, которая прошла бы мимо его маленьких, плотно прижатых к голове ушей.
Сеня сидел на корточках у закипающего котла, курил, щурясь от дыма.
— Не я твоя сестра… — ворчала Шура, намыливая белье. — Научила бы я тебя табак переводить… Катер загрязнили, мальчишку испортили. Работнички!
— Зря ругаетесь, — обиделся Сеня. — Катер наш — газогенераторный самовар, это верно. Зато команда у нас знаменитая: Векшин рулевым на пассажирских пароходах работал, а лучше Боровикова нет моториста на всей реке.
— Клапана стучат, как счеты в бухгалтерии. Первый моторист!
— Значит, надо, чтобы стучали, — солидно сказал Сеня и, не в силах удержать тайну, поведал Шуре: — Мы новых катеров ждем, дизельных. Вот Боровиков и не ремонтирует, боится — не переведут тогда на новый катер. И в кубрике по той же причине не убираем. Теперь поняли?
Шура развела руками:
— Что и говорить, знаменитая команда!
Шура выстирала все белье и заставила Сеню, как тот ни упирался, вымыть горячей водой голову. Воду Сене пришлось менять четырежды, и каждый раз, выплескивая грязную воду из таза, ученик стыдливо отводил глаза в сторону — такой траурной черноты была вода. Он совсем было приуныл, а потом вдруг приободрился, решив, что вряд ли ученики с дизельных катеров меняют воду больше двух раз, когда моют свои головы.
«Газогенерация!» — горделиво подумал Сеня.
На ночь катер пристал к берегу. Когда Шура с Сеней вошли в кубрик, Векшин лежал в ботинках на постели, храпел тонко, с присвистом. Боровиков сидел за столом, читал растрепанную книгу. Сизый махорочный дым овевал настороженное, недоверчивое лицо моториста. На круглой чугунной печурке исходил паром помятый, ярко начищенный чайник. Шура разбудила Векшина, уговорила снять ботинки, поставила перед Боровиковым пустую консервную банку вместо пепельницы и села с Сеней пить чай.
Сеня из-за плеча Боровикова заглянул в книгу.
— Как ты читаешь? Тут половины страниц нету!
— Больше пищи уму! — наставительно сказал моторист, потянул Сеню за мокрый вихор и искренне удивился — Да ты, браток, оказывается, белесый!
Боровиков осторожно переворачивал ветхие, захватанные листы. Не отрываясь от книги, привычным широким жестом бросил окурок в угол кубрика. Шура молча встала из-за стола, подняла окурок, положила в консервную банку. Сеня ехидно хихикнул.
— Внедрение культуры! — сказал Боровиков и злопамятно посмотрел на Сеню.
После чаепития Шура ушла в угол, отгороженный занавеской, а Сеня юркнул под одеяло и сразу затих. Маленький круглый нос Сени хитро сморщился, словно принюхивался к снам, обступившим подушку, выбирал из них самый интересный. Боровиков сидел далеко за полночь. Курил, старательно стряхивая пепел в консервную банку. Часто отрывался от книги, пристально смотрел перед собой — давал пищу уму.
Шуру разбудили приглушенные голоса. Предутренний резкий холод просачивался в кубрик. За бортом сонно плескалась вода.
— Не любит она меня, — говорил Кирпичников, — только играет. И черт меня дернул влюбиться в такую!
— Эх, ты! — презрительно отозвался Боровиков. — Распустил нюни: «Любит — не любит». Ходишь вокруг, как теленок, все на красоту свою надеешься. А женщину, браток, главное дело, удивить надо. Смелостью, языком, работой, хваткой — чем угодно, лишь бы удивить?
— Ни-че-му она не удивляется! — воскликнул Кирпичников. — Я все твои советы в точности исполнял, а она — как каменная!
— Тише ты! — шикнул Боровиков. — Принцессу нашу разбудишь.
«Сам ты принцесса, книжник несчастный!» — беззлобно подумала Шура.
3
Утром на катер пришел механик, принес приказ. Из бункера густо валил пахучий смолистый дым. Брезгливо морщась, механик протянул Боровикову синий листок.
— «С получением сего…» — нараспев прочитал Боровиков и, не спуская прищуренных глаз с косых височков механика, повесил листок на стену рубки. Тупой гвоздь безжалостно проткнул замысловатую подпись.
— Можно тебя на минутку? — напряженным, зазвеневшим голосом позвала Шура и отошла с механиком на корму катера. Боровиков мельком глянул на них и отвернулся. Как заискивающе Шурины пальцы теребили лацкан чужого пиджака!
Сене вдруг смертельно захотелось подслушать разговор на корме: ему давно уже не терпелось в точности разузнать, что нужно говорить, если ты влюбленный. Для отвода глаз он пополоскал швабру за бортом и, распуская по всей палубе грязные ручьи, двинулся на корму.
Но ничего поучительного Сеня не услышал. Сначала Шура и механик молчали, ожидая, видимо, что Сеня уберется куда-нибудь подальше. Потом, убедившись, что Сеня со своей шваброй обосновался по соседству всерьез и надолго, Шура спросила с упреком:
— Почему ты стал меня избегать?
— Нашла время для объяснений! — досадливо буркнул механик. — В другой раз потолкуем.
Он небрежно кивнул Шуре на прощанье и, старательно переступая через многочисленные Сенины ручьи, двинулся к трапу. Шура проводила его долгим растерянным взглядом. Никогда еще Сеня не видел у нее такого открытого, незащищенного выражения лица.
«Вот она какая бывает, любовь!..» — боязливо подумал Сеня. А Векшин, наблюдавший за Шурой через тыльное окно рубки, почесал кончик длинного унылого носа и окончательно решил, что Боровиков сильно ошибается, считая глаза Шуры рыбьими.
Вечером, сдав смену, Шура юркнула за занавеску и вышла оттуда в праздничном сиреневом платье и белых свеженачищенных мелом тапочках. Всей спиной чувствуя осуждающие взгляды товарищей, она спустилась на берег и по скошенному лугу напрямик зашагала к поселку.
А на палубе катера — там, где ступала Шура, — остались меловые следы от ее тапочек. Один такой след был хорошо виден Боровикову из окна машинного отделения. Когда катер с возом вышел на фарватер, встречный ветер сдул крупинки мела, но контур следа долго еще чуть заметно белел на темной металлической палубе. А потом на белый след широким мокрым сапогом наступил бригадир формировщиков, и после ничего уже нельзя было рассмотреть…
Вернулась Шура рано, едва катер пришел из последнего рейса. Векшин многозначительно посмотрел на Боровикова и пригласил Шуру:
— Садись чай пить. У меня конфеты есть — лимонные корочки.
— Напилась я досыта! — сказала Шура и скрылась за занавеской.
Векшин перекинул через плечо полотенце, поднялся наверх. Из угла, отгороженного занавеской, послышался тихий, сдерживаемый плач. Боровиков вскочил, потоптался на месте и, срываясь со ступенек лестницы, выбежал из кубрика.
Сеня и приятель его — ученик с соседнего катера — барахтались в реке, визжали. Векшин, склонившись над водой, старательно намыливал жилистую шею.
— Не ладится у нее с механиком, — сказал всезнающий рулевой. — Тот за телефонисткой Зиной теперь приударяет. Наша Шура для него слишком простая!
— «С получением сего»… — буркнул Боровиков и спустился в машинное отделение.
Он обтер ветошью мотор, взялся за швабру. Через полчаса чисто заблестела насечка на стальных листах пола. В помещении стало светлей, словно накал прибавился в лампочке. Боровиков выпрямился, смахнул пот со лба и вдруг отчетливо, будто видел наяву, представил, как, уткнувшись лицом в подушку, плачет в своем углу Шура. В памяти всплыло лицо механика — брезгливое, с косыми височками. «И что она в нем нашла? Девчонка!»
Боровикову хотелось сейчас презирать Шуру, и, видит бог, он добросовестно пытался ее презирать, но из этого ничего не получалось. Странное дело, недостатки Шуры, только потому, что это были ее недостатки, оборачивались вдруг достоинствами. Боровиков даже головой покрутил, дивясь такой непонятной нелепости.
«Как будто свет клином на ней сошелся… — растерянно подумал он. — Взвалил на себя груз… Эх ты, и все-то у тебя не так, как у людей!»
Среди ночи, когда на катере все спали, из машинного отделения раздавался глухой стук ключей и тихая, яростная ругань. Это Боровиков занялся регулировкой клапанов. Заспанный Сеня заглянул было к нему, осведомился виноватым голосом, не нужно ли помочь.
— Всю жизнь мечтал о твоей подмоге! — фыркнул Боровиков и одарил Сеню увесистым шлепком пониже спины. — Ступай спать, младенец!
Светало, когда Боровиков закрутил последнюю гайку. Он вымыл керосином грязные натруженные руки и, сильно фальшивя, пропел вполголоса в гулкой тишине:
Там работал отчаянный шофер,
Звали Коля его Снегирев…
И сразу умолк, застыдившись.
4
В субботу на запань приехали артисты из города. На катере кинули жребий, кому работать во время концерта. Выпало — Векшину и Кирпичникову.
Накануне ночью Кирпичников вернулся из поселка улыбающийся, хмельной от первого счастья. Не в силах ждать до утра, он разбудил Боровикова, угостил его толстой папиросой, похвастался:
— Эх, как она, оказывается, любит-то меня!.. И ничем ее не удивлял, а просто взял и открылся. Она и говорит: «Что же ты раньше молчал?» Вот какие дела, дружище. Не пригодились твои советы…
Теперь, вытянув несчастливый жребий, Кирпичников сразу заскучал, издалека повел с Боровиковым тонкий разговор.
— Дудки! — сказал Боровиков. — Я сам театрал: уже в четырнадцать лет без билета на балкон пробирался… Что передать твоей зазнобе?
Боровиков побрился, достал из чемодана парадную гимнастерку с орденом и медалями. Прислушиваясь к шороху платья за занавеской, сел пришивать свежий подворотничок. Шура вышла, не глядя товарищам в глаза, напудренная, с неумело подкрашенными губами, в кремовых туфлях на высоком каблуке.
Сеня помог ей сойти с катера, серым воробышком прыгал рядом, восхищенно заглядывая Шуре в лицо. Идти в туфлях по пучкам бревен было нелегко. Шура зацепилась за проволоку, чуть не упала.
— Спешит как!.. — прошептал Боровиков и рывком стащил гимнастерку — только медали звякнули.
В машинном отделении грустный Кирпичников стоял у окна, смотрел в сторону клуба.
— Сальник сменил? — хмуро спросил Боровиков и подтолкнул приятеля к двери. — Беги к своей зазнобе, заждалась, поди.
Кирпичников обеими вымазанными в масле руками стиснул отмытую добела руку Боровикова, заспешил к выходу. Боровиков с места дал полный ход. Векшин чертыхнулся в переговорную трубку: чуть не налетели на баржу.
Когда вернулись за следующим возом, на катер прибежал Сеня: парнишка так хлопал в ладоши, что даже проголодался. Первое отделение концерта уже кончилось, больше всего Сене понравился фокусник. В антракте перед вторым отделением в клубе шли танцы.
— Наша Шура там самая красивая и танцует лучше всех! — с гордостью сообщил Сеня. — Она сегодня веселая, все время смеется. Кавалеров около нее — невпроворот!
— А механик? — глухо спросил Боровиков.
Сеня презрительно махнул рукой:
— Шура и внимания на него не обращает! Он с телефонисткой Зиной танцует.
Сеня намазал ломоть хлеба повидлом и убежал.
Возвращаясь на запань за последним возом, Боровиков с Векшиным увидели Шуру. Она одиноко сидела на краю сплоточного станка, свесив над водой ноги в светлых праздничных чулках. Концерт в клубе был в разгаре: ребятишки облепили окна, тонкое пиликанье скрипки далеко разносилось по реке.
Шура поднялась на катер, устало сказала Векшину:
— Хочешь — иди на берег, я постою у руля.
Векшин торопливо поплескал водой в лицо и, высоко вскидывая тонкие ноги, запрыгал с пучка на пучок.
Мастер запани предложил Шуре на выбор два воза: один объемом триста кубометров, другой — почти семьсот. «Вот он когда пришел, твой долгожданный тяжелый воз!» — горько подумала Шура. Из окна машинного отделения высунулся Боровиков. В первый раз они с Шурой оставались вдвоем на катере, и Боровикова подмывало совершить что-нибудь выдающееся.
— Бери семьсот, — предложил он. — Доведем.
— Семьсот так семьсот, — равнодушно согласилась Шура.
Катер медленно тащил длинный, грузный воз. Боровиков стоял у мотора, чутко прислушивался, наклонив ухо. После регулировки клапанов мотор работал ровно, без стука. Боровикову почему-то казалось, что если они благополучно доведут этот большой воз до формировочного рейда, то и у них с Шурой все пойдет на лад.
Когда на фоне зеленого острова зажелтела песчаная коса, Боровиков вылез из машинного отделения, подошел к рубке.
— Поведем воз правым рукавом, — строго сказал он, смотря мимо Шуры на скучный отлогий берег. — Ты только держи катер по-над самым песком, а то в протоку затащит. Как косу обойдешь — сразу круто поворачивай на фарватер, не смотри, что воз за песком остался: его течением развернет… Ну, а если прозеваешь или мотор заглохнет — сидеть нам с тобой на острове, как робинзонам. Поняла?
Шура коротко кивнула головой, проводила глазами сутулую, неласковую спину Боровикова.
Катер шел возле самой косы, впритирку. И только Боровиков успел одобрительно шепнуть: «Молодец, Шурка, ой, молодец!» — как катер нудно заскрипел днищем о песок и стал. Боровиков, не ожидая сигнала, дал задний ход. Шура выбежала из рубки, уперлась багром в мелкое дно. Течение медленно разворачивало воз, тащило его в протоку. У Шуры трещало в руках тонкое багровище, побелели от напряжения ногти. Боровиков прибавил газ. Винт тугой бурой струей гнал разжиженный песок. Катер тяжело подался назад, качнулся с борта на борт и вышел на чистую воду. Шура кинулась в рубку, направила катер в обход мели.
Течение стремительно несло в протоку заднюю половину воза. Если хвостовые пучки захлестнет за мыс острова — катер станет, не в силах вытащить бревна против течения из протоки. Шура затаила дыхание, Боровиков до отказа открыл дроссельную заслонку.
Кусты орешника на острове ползли назад все тише и тише. Долгую, томительную минуту кусты стояли на месте и снова, набирая скорость, поползли назад. Сомнений быть не могло: катер двигался!
Боровиков благодарно погладил нагретый бок мотора.
Шура обернулась на скрип двери. На потной щеке Боровикова блестело свежее маслянистое пятно. Оно неожиданно делало замкнутого насмешливого моториста похожим на замарашку Сеню.
Во время беготни с багром у Шуры растрепалась праздничная прическа, и сейчас — раскрасневшаяся, оживленная, с потемневшими от недавнего возбуждения глазами — она показалась Боровикову особенно красивой.
Они встретились глазами, сказали друг другу без слов «Ай да мы!» и одновременно улыбнулись — без всякой причины, просто так, от победоносного и чуть-чуть хвастливого ощущения своей силы и умения. Шура вдруг решила, что Боровиков совсем не такой, каким она его считала раньше, и поспешно отвернулась, чтобы тот много о себе не воображал.
— Зря мотор ремонтировали, — с напускным огорчением сказала она, чтобы поддеть Боровикова. — Узнает инженер, как мы без аварий такие большие возы водим, — ни за что не переведет на дизельный катер!
Боровиков беззаботно махнул рукой.
— Ну и шут с ним, с дизельным. Мы и на своем самоваре утрем нос другим командам. Ты только посмотри, как он идет, красавец наш. Что твой крейсер!
Непривычная тревожная радость распирала Боровикова. Хотелось хвастаться, показывать свою удаль. Боясь выдать себя, он не смотрел на Шуру. В тесной рубке достаточно было лишь пошевелиться, чтобы дотронуться до нее, но именно потому, что это было так легко сделать, Боровиков стоял неподвижно и признательными, узкими от восхищения глазами разглядывал знакомый до мелочей, давно обжитый катер.
И хотя ничего военно-морского не было в старом газогенераторном «самоваре», который, вздрагивая всем корпусом от натуги, мирно тащил воз, Боровикову он показался вдруг и в самом деле похожим на боевой красавец крейсер.
Низко над рекой пролетали частые стайки диких уток — готовились к близкому осеннему перелету. Неяркое стеклянное солнце краем коснулось воды. Шура зябко повела плечами.
— Пойду закурю… — пробормотал Боровиков и головой вперед нырнул в кубрик.
Он скоро вернулся, напоказ дымя папиросой и стыдливо прижимая локтем к боку ватную телогрейку.
— Захватил заодно, — сердитой скороговоркой сказал Боровиков, накидывая телогрейку Шуре на плечи. — А то простудишься— таскай тогда для тебя порошки, пилюли… Хлопот не оберешься!
На формировочный рейд тяжелый воз доставили благополучно. Только на хвостовых пучках от удара в берег перекосилась обвязочная проволока.
Выходной день


воскресенье Семен Григорьевич проснулся ровно в шесть утра, как и в обычные будничные дни. Не зажигая света, привычным движением руки снял со стены холодные радионаушники. Вытянувшись во весь свой невеликий рост, он лежал неподвижно на спине и слушал последние известия с таким видом, будто принимал отчет со всех концов земли.
О заводе, на котором работал Семен Григорьевич, сегодня ничего не передавали. Сначала это огорчило старого мастера, но потом он резонно рассудил, что нельзя же каждый день прославлять один и тот же завод. «Надо и других порадовать, чтоб не закисли от зависти!» — решил Семен Григорьевич, и ему
самому понравилось, что человек он справедливый и смотрит на все с государственной точки зрения.
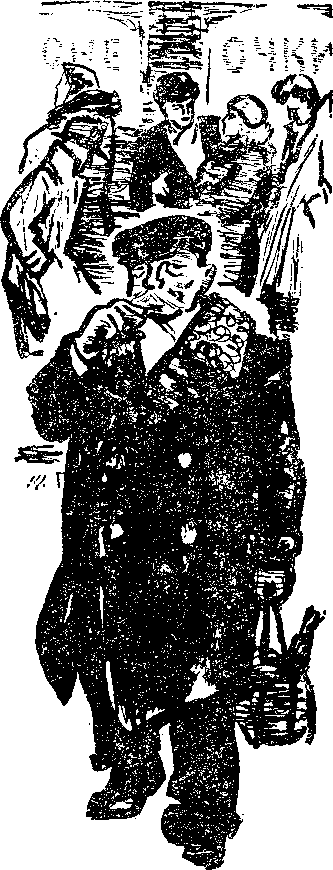
Захотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, но Екатерина Захаровна — подруга жизни — что-то не на шутку разоспалась сегодня. Семен Григорьевич обиженно кашлянул и стал бесшумно одеваться. Он представил, как устыдится жена, когда, проснувшись, увидит его уже на ногах, и почувствовал себя отомщенным.
До завтрака Семен Григорьевич работал по хозяйству: припаял ручку к кастрюле и подвинтил в двух стульях ослабшие шурупы.
Вся мебель в квартире была старая, но благодаря заботам хозяина еще держалась и выглядела вполне прилично. Как и он сам, вещи, окружающие Семена Григорьевича, успели уже вдоволь поработать на своем веку, вид имели скромный и заслуженный.
После завтрака Семен Григорьевич сел писать письмо младшему сыну в Москву. Сын учился на последнем курсе института, был круглым отличником и собирался на будущий год поступать в аспирантуру. И хотя солидное строгое слово «аспирантура» крепко пришлось по душе Семену Григорьевичу, который питал стариковскую слабость к словам ученым и не совсем понятным, хотя ему приятно было думать, что родной Васютка очень даже просто может заделаться профессором, — но для пользы дела мастер переборол свою отцовскую гордость и написал сыну: «
Мой тебе совет — поработай сперва годика два-три на производстве, стань инженером не только по диплому, а и на деле. А тогда уж со спокойным сердцем шагай себе и в аспирантуру…»
Писал Семен Григорьевич не спеша, подолгу обдумывая каждое слово, прежде чем проставить его на бумаге крупным ученическим почерком. Часто заглядывал в орфографический словарик — чтобы сыну не стыдно было за своего отца перед образованной женой и друзьями-студентами.
В дверях, посмеиваясь, маячила Екатерина Захаровна. Очень уж ей смешно было смотреть, как роется в маленькой книжечке ее старик, шевеля губами от напряжения. Семен Григорьевич осуждающе косился на жену, но злополучного словарика из рук не выпускал.
— Собери белье, — сказал он, надписывая конверт.
— И охота тебе каждый выходной в баню переться? — запротестовала Екатерина Захаровна. — Есть, кажется, ванна: напусти воды и мойся хоть целый день!
— Напусти сама и мойся, — беззлобно посоветовал Семен Григорьевич, давно уже привыкший к подобным разговорам. — Тесно в твоей ванне, как в мышеловке, а настоящее мытье простора требует, чтобы веником было где помахать, попотеть всласть. В ванне только детей купать, а взрослому человеку баня необходима: там он душой добреет. Жизнь прожила, а такой простой вещи не понимаешь… Собери-ка белье!
Жена сокрушенно покачала головой, вышла из комнаты и сейчас же вернулась с кошелкой, из которой воинственно высовывался кончик березового веника. Вернулась она очень быстро, ибо давно уже было собрано, заботливо завернуто в газету и помещено в кошелку белье, мочалка и все, что требуется человеку, предполагающему добреть душой.
Екатерина Захаровна проводила мужа до двери, подняла ему воротник пальто. Семен Григорьевич неодобрительно пошевелил своими запорожскими усами, упрямо опустил воротник и бойко зашагал по улице, помахивая кошелкой, — маленький, стройный, самый красивый для Екатерины Захаровны во всем мире.
У почтового ящика, опуская письмо, Семен Григорьевич встретил главного инженера завода.
— Хорошо, что свиделись! — обрадовался мастер. — Непорядок у нас в цеху с токарными станками: до сих пор не разделили на черновые и чистовые. Вот потеряем точность — тогда хватимся, а сейчас всем недосуг…
Главный инженер заверил Семена Григорьевича, что завтра же лично займется токарными станками, и, завистливо покосившись на кошелку с веником, полюбопытствовал:
— В баньку?.. Составил бы компанию, да на завод надо. Вы уж вылейте за мое здоровье шаечку-другую!
Семен Григорьевич обещал уважить просьбу: главный инженер был тоже не дурак попариться.
В вестибюле бани на вешалке номерка Семену Григорьевичу не дали: его старомодное драповое пальто с наружным карманом на груди здесь слишком хорошо знали, чтобы спутать с чьим-либо другим.
С вожделением поглядывая на дверь, ведущую в банное отделение, Семен Григорьевич занял очередь в парикмахерскую. Перед ним стоял толстый лысый мужчина с буйной иссиня-черной щетиной на щеках. Волосами со щек ему с излишком хватило бы покрыть всю лысину. «Эк у тебя волосы неудачно распределились!» — посочувствовал Семен Григорьевич.
Когда толстяк оказался в очереди первым, он вдруг забеспокоился: начал поминутно просовывать голову в парикмахерскую, сердито засопел.
— Вот невезение! — пожаловался он Семену Григорьевичу. — Придется идти к пигалице. Чует мое сердце: исцарапает она всего, изрежет… Нет, уж если ты женщина, — убежденно заявил толстяк, — так занимайся разными там маникюрами, а в мужскую парикмахерскую не суйся!
Но толстяк ошибся. К «пигалице» пришлось идти не ему, а Семену Григорьевичу.
— Какую стрижку, папаша, — под польку, полубокс? — профессиональной скороговоркой осведомилась мастерица.
«Ишь, дочка нашлась!» — подивился Семен Григорьевич, нахмурил клочковатые брови и сказал наставительно:
— А это уж вам лучше знать. Сделайте что-нибудь… соответственное.
И Семен Григорьевич неопределенно покрутил растопыренными пальцами перед своим лицом. «Пигалица» усмехнулась.
Пока она трудилась над его волосами, Семен Григорьевич успел хорошо рассмотреть ее. Мастерица была молодая, рыжеватая. У нее были большие строгие глаза и прохладные быстрые пальцы.
Лысый толстяк стал громко жаловаться своему мастеру-мужчине на тупую бритву, и Семен Григорьевич злорадно подумал, что толстяк прогадал: «пигалица» была отличной работницей. Ловкие ножницы, щебеча и пришепетывая, так и порхали над головой. Семен Григорьевич сидел неподвижно и только глазами моргал, боясь, как бы бойкая мастерица не отхватила ему, чего доброго, половину уха.
— А бриться я вам советую после бани, — сказала «пигалица», снимая простыню. И, предупреждая замечание Семена Григорьевича об очереди, добавила — Прямо ко мне идите, без всякой очереди.
Подозревая подвох, Семен Григорьевич начал было хмуриться и даже пустил в дело знаменитые свои усы, но вдруг неожиданно для себя самого согласился.
— Только я нескоро, — предупредил он. И, понизив голос, объяснил доверительно: — Я париться люблю…
Семен Григорьевич строго придерживался выработанного годами порядка мытья в бане. Раздевшись, он первым делом пошел париться «насухую».
В парной стоял добрый пар, но Семену Григорьевичу этого было мало. Он до отказа открыл кран с паром и, чтобы сделать пар пожестче, вылил шайку холодной воды на раскаленный радиатор. Кругом зароптали, но Семен Григорьевич плеснул на радиатор еще шайку и, радостно крякая, полез на полок. Навстречу ему, чертыхаясь, с полка скатилось несколько человек.
Пока веник парился в шайке с кипятком, Семен Григорьевич сидел на скамье, потел и, покряхтывая от удовольствия, растирал заросшую седым волосом грудь. Пар был такой резкий, что все входящие в парную сразу пригибались к полу, словно кланялись Семену Григорьевичу, торжественно восседающему на самом верху полка.
— Это черт знает, что такое! Форменный произвол! — возмущался давешний толстяк, шаром выкатываясь из парной.
— Явился банный король! — крикнул мастер Зыков — дружок и одногодок Семена Григорьевича, перебираясь со своей шайкой поближе к двери.
Семен Григорьевич сначала хотел было спуститься вниз и поздороваться с приятелем за руку, но потом засомневался, прилично ли голым людям пожимать друг другу руки, и лишь помахал издали потяжелевшим веником, приглашая Зыкова к себе наверх. Тот приглашения не принял. По выполнению производственного плана мастера-одногодки шли вровень, не намного отставал Зыков от дружка и в освоении скоростных методов резания, но в банном жестоком деле даже и во сне не подумывал он тягаться с Семеном Григорьевичем — знал свое место…
Когда все тело покрылось потом и стало приятно теснить грудь, Семен Григорьевич намылился и подпустил еще пару.
Начиналось самое главное.
Приплясывая, Семен Григорьевич принялся стегать себя огненным веником по бокам, спине, животу. Он стегал себя все сильней и сильней, словно был своим самым заклятым врагом. От наслаждения Семен Григорьевич ухал, издавал нечленораздельные звуки, даже стонал слегка.
Один за другим выбегали из парной люди, а Семен Григорьевич все хлестал себя и хлестал. Он парил веник в горячей воде, студил в холодной, намыливал его, сам намыливался и обливался водой. Были испробованы все комбинации, какие только можно составить из веника, мыла, пара, холодной и горячей воды.
Под конец в парной осталось всего два человека: Семен Григорьевич и молодой, ладно скроенный парень с синим якорем-татуировкой на груди и большим белым пятном шрама на красном распаренном боку. Парень упрямо не хотел признать себя побежденным и хотя спустился на самый низ, но окончательно не сдавался, не уходил из парной. А Семена Григорьевича обуял спортивный азарт, и он все больше и больше подпускал пару.
Стены, скамейки, пол накалились до такой степени, что к ним больно было прикоснуться. Воздух обжигал. Приплясывая и напевая себе под нос что-то такое, что никак невозможно передать ни словами, ни музыкой, Семен Григорьевич время от времени поглядывал на паренька, опасаясь, как бы тот не свалился. В богатой банной практике Семена Григорьевича подобные случаи бывали.
Парень сидел у самой двери, бессильно опустив руки, тяжело дыша раскрытым ртом.
— Ну и чертов старик! — сказал он, перехватив сочувствующий взгляд Семена Григорьевича, и, пошатываясь, вышел из парной.
В гордом одиночестве старый мастер долго еще добрел душой.
Наконец, когда уже совсем истрепался многострадальный веник и все тело горело, как ошпаренное, Семен Григорьевич закрутил трубу с паром и покинул парную — весь красный, всклокоченный, торжествующий. Целых десять минут валил от него пар— так много вобрал он в себя тепла.
Отыскав в углу скамейку поукромнее, Семен Григорьевич улегся и пролежал на ней с полчаса. Свободно дышала вся кожа, ощущение было такое, будто он заново народился. Семен Григорьевич даже вздремнул маленько.
Потом он мылся, тер себя мочалкой, лил на себя, не жалея, шайку за шайкой. Приятели Семена Григорьевича не шутя говорили, что для бани он — прямое разорение.
Краны сегодня не брызгались кипятком, как раньше, и Семен Григорьевич понял, что не зря он в прошлое воскресенье указывал банщику на эту неисправность. Мастер искоса посмотрел на своих соседей: не догадываются ли они, кто тут за них старается? Но все были заняты неотложными банными делами, и никто не обращал на него внимания. «Мойтесь на здоровье, загорелые!» — великодушно разрешил Семен Григорьевич.
Напоследок он еще раз зашел в парную — чтобы чистым потом прошибло. Оттуда направился под душ и перестоял там всех, так что занявшие за ним очередь сильно прогадали, но Семен Григорьевич никакой вины за собой не чуял: он своевременно предупреждал, что освободит душ не скоро.
Накинув на плечи простыню, Семен Григорьевич выпил кружку пива, принесенную из буфета знакомым банщиком, который поздравил его с легким паром и остановился поблизости, ожидая, не будет ли сегодня каких замечаний от строгого клиента. Сперва Семен Григорьевич хотел было указать на дырявые шайки, но рассудил, что в воспитательных целях лучше будет промолчать, чтобы отучить банщиков работать по чужой указке. После ремонта кранов они и сами должны были заметить худые шайки. А не заметят — так впереди у Семена Григорьевича еще много таких же, как сегодня, воскресений, и он найдет время подстегнуть нерадивых банщиков.
Когда он появился в парикмахерской, «пигалица» сказала:
— Долго же вы моетесь, папаша!
— Долго… — согласился Семен Григорьевич, усаживаясь в кресло и закрывая глаза: его сильно клонило ко сну.
Мастерица ловко поработала помазком, направила бритву. Семен Григорьевич опять невольно залюбовался ее умелыми руками. Бритва у нее была острая, прямо бархатная — он даже не чувствовал ее прикосновения. «Пигалица» не лезла к нему с вечным вопросом других парикмахеров: «Не беспокоит?» — и, хотя бритва совсем не успела затупиться, она снова взялась за ремень, и бритва стала скользить еще бархатней. Только и слышалось: шурш… шурш…
С бритьем было покончено, а Семену Григорьевичу даже не захотелось вставать, и он позволил обрызгать себя одеколоном и даже попудрить. Но когда ободренная мастерица стала подбираться к его бровям, Семен Григорьевич запротестовал: это было уж слишком! Он так поспешно вскочил, что девушка фыркнула.
В дверях парикмахерской Семен Григорьевич обернулся. На его месте восседал уже новый клиент весьма сердитого вида. И внезапно Семену Григорьевичу стало чего-то жаль. Вот человек проявил свое мастерство, сделал его моложе, красивее, а он уйдет сейчас, и рыженькая так и не узнает, что он любовался ее работой, что работа эта порадовала его. Когда они у себя на заводе досрочно выполнят план, сэкономят материал или заставят быстрей оборачиваться средства, их премируют, награждают, газеты и радио по всей стране их славу разносят. А здесь всякие лысые толстяки обзывают хорошего работника пигалицей… Несправедливо!
Рассеянный взгляд Семена Григорьевича задержался на объявлении «Жалобная книга в кассе».
— Дайте жалобную книгу, — сказал он кассирше, сам еще толком не зная, на кого будет жаловаться.
Кассирше очень не хотелось давать Семену Григорьевичу жалобную книгу.
— Чем вы недовольны? — выпытывала она.
— Дайте жалобную книгу! — упрямо повторил Семен Григорьевич с видом человека, который знает все порядки, сам их всегда соблюдает и требует того же от других.
Кассирша оскорбленно поджала губы и подала Семену Григорьевичу изрядно потрепанную книгу. Рыженькая мастерица, презрительно щурясь, в упор смотрела на него, дивясь такой черной неблагодарности. Помазок застыл у носа сердитого гражданина, и тот брезгливо воротил лицо.
Семен Григорьевич уселся за столик в комнате ожидания и перелистал потрепанную книгу. Все сплошь жалобы и жалобы. Он отыскал чистую страницу и, старательно выписывая каждое слово, а в затруднительных случаях забывчиво шаря по столу левой рукой в поисках спасительного орфографического словарика, начертал вот что:
«Сего числа я, нижеподписавшийся, посетил парикмахерскую, что при бане. Хочу отметить, что некоторые посетители неквалифицированно относятся к мастерам женского пола и даже обзывают их пигалицами. А это все неверно и самый настоящий поклеп. Меня обслуживала мастер-женщина, не знаю фамилии, но от окна крайняя. В работе она показала свое умение, как по прическе, так и по бритью. Кроме того: 1) свой станок, так называемое кресло, мастерица содержит в полном порядке; 2) все инструменты у нее 100 % годности, бритва заточена под правильным углом и зеркало не косоротит; 3) самое главное, руки у нее — просто золотые. За все вышеперечисленное большое ей спасибо, и очень даже приятно было наблюдать, как она работает.
Примечание. Может, таким записям и не место в жалобной книге, но, как никакой другой в наличности не оказалось, я записал здесь. Если против правил — прошу извинить. И уже пора заводить книги благодарностей, это мое предложение».
Семен Григорьевич перечитал, поправил закорючку в своей подписи и сдал жалобную книгу в кассу. Обиженная мастерица демонстративно повернулась к нему спиной. Семен Григорьевич представил, как удивится она, когда прочтет его запись, и вдруг почувствовал себя очень хитрым.
В темном коридоре он стряхнул пудру с лица, что-бы не так стыдно было, если встретит на улице кого-нибудь из знакомых, и вышел из бани.
Под ярким солнцем искрились груды снега. Расчищенный тротуар был посыпан веселым желтым песочком — дворники не сидели сложа руки, пока мылся Семен Григорьевич. После недавней осенней грязи улица выглядела принаряженной, словно тоже побывала в бане и переменила белье. Пахло распаренным березовым листом и чистым незатоптанным снегом.
Помахивая кошелкой, Семен Григорьевич шел мелким щеголеватым шагом. Украдкой от прохожих он посматривал в каждое встречное окно, чтобы поймать там на миг свое отражение. Никому в целом мире не признался бы сейчас Семен Григорьевич, что сам себе нравится. Новая прическа молодила его, хотя и не была такая бесстыжая — бокс, что ли, называется, — какую в последнее время завел себе мастер Зыков курам на смех.
Подобревшая после бани душа Семена Григорьевича особенно остро, в каком-то радостном и немного детском свете первооткрытия воспринимала все, что происходило вокруг.
На краю мостовой, приткнувшись к тротуару, стояла легковая машина. Шофер копался в открытом моторе. По виноватому выражению фар и косолапо, внутрь, повернутым передним колесам Семен Григорьевич хорошо видел, что машине очень стыдно за позорную свою остановку. Десятка полтора любопытных терпеливо следили за шофером и со знанием дела обменивались мнениями насчет сравнительных достоинств «Победы» и «Москвича». Больше всего было тут стариков, судя по виду — пенсионеров, и школьников того опасного возраста, когда они начинают изучать таблицу умножения и на них не напасешься одежды и обуви. У самого радиатора стоял мальчишка на деревянных самодельных коньках и ел мороженое. Он так вкусно облизывался, что Семен Григорьевич поспешно отвернулся, боясь соблазниться на легкомысленную покупку мороженого зимой.
Прежде чем оставить мальчишек и любопытных пенсионеров, Семен Григорьевич на всякий случай прикинул, не помешает ли аварийная машина уличному движению, — решил, что не помешает, и, успокоенный, двинулся своей дорогой.
Рота солдат в новых шапках-ушанках догнала Семена Григорьевича, и добрых четверть часа он шел рядом с солдатами, машинально шагая в ногу и стараясь не отставать от рослого старшины, замыкающего строй.
На углу улицы внимание Семена Григорьевича привлекли парень с девушкой в лыжных костюмах. Пережидая поток машин, они стояли рядышком и старательно смотрели в разные стороны. С первого взгляда на парочку было видно, что это — влюбленные, но какие-то последние, решающие слова еще не сказаны ими. Под стать друг другу, они были молоды, красивы, и Семен Григорьевич осуждающе покосился на парня и сказал ему мысленно: «Что же ты тянешь, растяпа? Непорядок!»
Бережно прижимая к груди рулон ватманской бумаги, торопливо прошел милиционер в своей красивой форме, при всех ремнях и пистолете. Семен Григорьевич проводил его задумчивым взглядом. Он никак не мог решить, зачем милиционеру понадобился ватман. Мелькнула мысль: возможно, милиционер состоит членом редколлегии стенгазеты и спешит сейчас выпускать очередной номер? Но Семен Григорьевич не был уверен, существуют ли в отделениях милиции стенгазеты, и, положив при первом же случае в точности разузнать это, продолжал свой путь.
С четырехэтажного дома строители снимали леса с тем хорошо знакомым Семену Григорьевичу радостным и гордым видом, какой бывает у людей, когда они заканчивают удачную работу. Мастер на минуту остановился полюбоваться фасадом.
Большой высокий дом менял весь привычный облик улицы. Рядом с ним неприглядными казались соседние низкорослые строения. «Придется сносить», — авторитетно решил Семен Григорьевич и хозяйским глазом окинул улицу. Некоторые дома давно уже просились на слом, но стояли среди них и почти новые, воздвигнутые в последние годы. «Эх, не строили сразу по единому плану!» — с таким горьким сожалением подумал Семен Григорьевич, будто был он председателем горсовета и допустил в свое время оплошность.
Румяный парнишка в форме ремесленного училища посторонился, уступая ему дорогу, и сначала это понравилось Семену Григорьевичу, а потом он сообразил, что ремесленник уступил ему дорогу как старику, — значит, и молодая прическа никого уже не обманывает. Быстро она все-таки проходит, жизнь эта самая! Но даже и такая невеселая мысль не могла испортить Семену Григорьевичу приподнятого настроения, да и не впервые повстречался он с нею…
Солнце стояло высоко и каждым лучом своим стреляло в Семена Григорьевича. Оно сулило ему долгие часы заслуженного недельным трудом воскресного отдыха, а переливающаяся по жилам нерастраченная сила обещала мастеру еще многие дни здоровья и работы.
Неразменное счастье
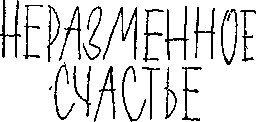

ркестр на катке играл его любимый вальс, когда Петя Сорокин впервые увидел Зину. Петя сразу же почувствовал всю важность этой встречи и взглянул на часы. Было ровно семь минут восьмого.
На катке знакомятся быстро, и уже через полчаса Пете казалось, будто он знает Зину целую вечность. С ней было легко и просто, а главное, совсем не надо было хитрить и притворяться солидным, что всегда плохо удавалось Пете.

Покинув многолюдный круг, они катались в дальней глухой аллейке. Запушенные снегом молодые пихты дружелюбно прятали их от посторонних глаз. Видно было, что пихты сочувствуют им всеми своими ветвями, до самой последней иголки, — потому, наверно, что сами тоже были молодыми.
Петя с Зиной пробовали танцевать на льду, и у них ничего не получилось, но от этого стало только веселей. Затем они пошли в буфет. Чайных ложек в буфете не оказалось, пришлось размешивать сахар вилкой. Никогда бы раньше Петя не поверил, что чай, припахивающий селедкой и винегретом, может быть таким вкусным.
Буфетчица дала им семь мятных пряников на тарелке с зелеными розами. Они съели по три пряника, и никто не хотел брать последний. Петя нашел выход: разломил пряник пополам. Зина сказала, что Петя сообразительный и с ним не пропадешь.
Когда они выходили из буфета, оркестр опять заиграл его любимый вальс, и Петя стал объяснять, почему он называет этот вальс «Неразменным счастьем». Он и знать не хочет, как назвал свой вальс композитор. Все дело в том, что для него, Петра Сорокина, вальс этот — «Неразменное счастье».
— Какой вы! — удивилась Зина и с. новым интересом посмотрела на Петю.
И только для них играла музыка, сверкал лед, вспыхивали разноцветные огни прожекторов.
В десять часов Зина сказала, что ей пора домой. Петя обиделся: юные ремесленники и те еще катаются, а она собирается уходить. Или ей не нравится сегодняшняя погода?
Юные ремесленники ей не указ, — самолюбиво ответила Зина. У нее в институте завтра зачет по анатомии, а она еще целый раздел не повторила. Учитывая, однако, что… погода такая замечательная, она, так и быть, покатается еще полчаса, но потом сразу же уйдет — пусть Петя даже и не пробует ее уговаривать.
Петя обратил Зинино внимание на то, что в половине часа содержится лишь тридцать минут или всего-навсего тысяча восемьсот секунд, а в целом часе всей этой мелкой начинки вмещается ровно в два раза больше, в чем Зина и сама сможет убедиться, стоит только ей пробыть на катке этот короткий отрезок времени.
— А вы хорошо считаете в уме! — похвалила Зина. — Но остаться на катке я никак не могу: очень трудный зачет…
Мимо них лихо промчалась девушка в свитере, полосатом как матрац. Петя невольно повернул голову в ее сторону.
— Легко вам жить на свете! — осудила Зина его легкомыслие. — Вот вы головой крутите, а того не знаете, что шея ваша держится на семи позвонках!
— Неужели на семи? — виновато спросил Петя.
— Вот вам и неужели!.. Вижу, вы все-таки хотите, чтобы я завтра провалилась на зачете.
Петя с жаром стал уверять, что он не такой негодяй, чтобы желать этого.
Через три тысячи секунд они вошли в раздевалку. Высокой молодой женщине, стоящей перед ними в очереди, гардеробщица подала шинель с капитанскими погонами, и Петя забоялся: вдруг Зине тоже подадут какую-нибудь строгую шинель и окажется, что она совсем не студентка медицинского института, а какой-нибудь прославленный инструктор парашютного спорта, который посмеялся сегодня над ним — незаметным счетоводом. Но гардеробщица протянула Зине легонькое пальтецо самого что ни на есть студенческого вида, и Петя сразу успокоился.
— Будем до конца вежливы! — воскликнул Петя, выхватывая у гардеробщицы невесомое Зинино пальто. Он что-то напутал с рукавами, но в конце концов все сошло довольно благополучно, и Зина так и не узнала, что Петя впервые в жизни орудует в нелегкой роли кавалера.
На трамвайной остановке Петя загадал: если сначала подойдет трамвай с четным номером, то при расставанье они с Зиной договорятся о следующей встрече. Подъехала семерка, но так как ранее Петя уже неоднократно убеждался, что цифра семь благоволит к нему, он и на этот раз не стал особенно падать духом.
— До свидания, — сказала Зина. — Это мой трамвай.
— Какое совпаденье! — удивился Петя. — Это и мой трамвай. Вот интересно получается!
Зина с великим сомнением посмотрела на Петю, но промолчала. Они не вошли в вагон, хотя там были свободные места, а остались на промерзлой площадке. Петя нарочно расстегнул свое теплое пальто, чтобы и ему было так же холодно, как Зине. Нос у Зины посинел, губы стали фиолетовые, а глаза блестели, и Петя вдруг понял, что вот такая, озябшая, она дорога ему еще больше.
— На следующей остановке мне сходить, — объявила Зина. — Не вздумайте говорить, что и вам тоже: все равно не поверю!
— Зачем мне врать? — обиделся Петя. — Я сойду на второй остановке, если только… — голос у Пети дрогнул, — если только вы не позволите проводить вас домой.
— Нет, не позволю! — выпалила Зина, наслаждаясь новым для нее чувством своей власти над Петей. — И вообще, это пережиток — провожать девушек.
— Бывают очень хорошие пережитки! — вздохнув, сказал Петя.
На прощанье он спросил, когда же они еще встретятся.
— Право, не знаю, — озабоченно ответила Зина. — Я сейчас усиленно занимаюсь перед практикой.
Но Петя резонно возразил: нашла же она сегодня время, несмотря на усиленные занятия, заглянуть на каток.
— Это нечестно, — запротестовала Зина. Видимо, он все же хочет, чтобы она стала двоечницей?
— Избави боже! — возмутился Петя. Но ведь должны они еще хоть разик встретиться? Ведь должны же?.. И потом, насколько ему известно, хотя он, конечно, не медик, гигиена умственного труда требует перерыва в занятиях, а зимой нет лучшего отдыха, чем каток. Разве ей так уж плохо было сегодня на катке?
Зина с большим вниманием выслушала сообщение о гигиене умственного труда и, пристально разглядывая мохнатое от инея окно, сказала виноватым голосом, что совсем выпустила из виду гигиену и теперь, когда Петя напомнил о ней, она согласна прервать свою напряженную учебу и приехать на каток в следующее воскресенье, в семь часов вечера.
Она пожала Пете руку и спрыгнула с подножки. Свесившись с площадки, Петя провожал Зину глазами — чуть не вывихнул шею со всеми ее позвонками. С трамвая он сошел, как и обещал Зине, на второй остановке. Но вместо того, чтобы куда-либо идти, Петя дождался встречной семерки и поехал обратно, ибо квартира его находилась на противоположном конце города. Дома он нарочно не мыл рук, чтобы подольше сохранить ощущение Зининого рукопожатия.
Шесть дней Петя жил надеждами на встречу. Чтобы выглядеть более мужественно, он вставал теперь утром на полчаса раньше прежнего и старательно проделывал физкультурную зарядку — два раза подряд и по самой трудной программе. Опасаясь пропустить свидание из-за какого-нибудь несчастного случая, Петя целую неделю соблюдал все правила уличного движения и на радость работникам ОРУДа переходил улицу только по сигналу светофора.
Все сослуживцы заметили, что с Петей творится что-то необыкновенное, и осторожный главбух, во избежание путаницы, лично проверял Петины разноски и вычисления. Никаких ошибок он не нашел, но обнаружил одно непонятное Петино пристрастие. Влюбленная рука счетовода плодила семерки, смахивающие на великолепных мушкетеров: гордо развевались пышные шляпы-загогулины, на боку воинственно торчали шпаги-поперечины…
А в ночь с субботы на воскресенье нежданно грянула беда: массы теплого воздуха ворвались в частную жизнь Пети Сорокина. Утром в воскресенье, глянув в окно, Петя обмер. Зимы не было и в помине. С погребальным грохотом срывались последние сосульки. Вода проснулась от зимней спячки и — живая, озорно-игривая — капала с крыш, булькала, журчала с неудержимой весенней силой. Мартовским сверхмажорным маршем гремели водосточные трубы. В глубоком, ярко-синем небе ухмылялось лучистое рыжее солнце.
Прощай, каток! Как он теперь найдет Зину? Что он о ней знает? Она — студентка медицинского института, и зовут ее Зина. Да там, может быть, целая сотня Зин!
Полдня Петя сидел у окна, курил и смотрел на термометр, спущенный на веревочке в фортку. Когда ртутный столбик достиг семи градусов выше нуля, кончились папиросы. Петя лег на кровать и, подражая одному знакомому начинающему поэту, стал заунывным голосом декламировать самые печальные стихи, какие только знал. Сосед постучал в стенку и осведомился, что с Петей, не заболел ли он. Петя попросил оставить его в покое, ибо никакие соседи, даже самые чуткие, помочь ему не в состоянии.
В шесть часов вечера Петя взял коньки и вышел из дому. В трамвае Петины коньки обратили на себя всеобщее вниманье. Многие пассажиры испробовали на них свое остроумие. Скрепя сердце Петя вытерпел и это.
Еще издали, подходя к катку, Петя увидел на входных дверях большой тяжелый замок, бульдожьей хваткой вцепившийся в петли. На сердце своем почувствовал Петя этот хищный замок.
Он сел в сквере на скамейку, откуда был виден вход на каток. Мимо Пети, беспричинно смеясь, проходили счастливые парочки, безучастные к его горю. Над головой каркали вороны — громко, по-весеннему сырыми голосами. Петя не выдержал их замогильного карканья и вскочил со скамейки. От голого куста до смятой папиросной коробки «Казбек» один раз оказалось восемь шагов, в другой раз — семь. Петя для проверки смерил в третий раз и насчитал четырнадцать шагов: кто-то из прохожих сбил коробку с места.
— Эх, люди! — пробормотал Петя, дивясь вероломству своих современников, и кулем повалился на скамейку.
Семь часов семь минут… Ровно неделю назад он впервые увидел Зину. Петя попробовал в уме высчитать, сколько в неделе минут, но сбился. С непонятным для самого себя упорством, словно от правильности подсчета зависело, встретится он с Зиной или нет, Петя достал блокнот и занялся вычислением.
А когда, покончив с арифметикой, Петя вскинул голову, то прямо перед собой увидел Зину. Она неуверенно подходила к нему с газетным свертком под мышкой, в легоньком своем пальтеце — милая и родная.
— Пришла! — шепотом крикнул Петя, зажмурился, как от сильного света, и шагнул ей навстречу.
Он так порывисто пожал руку Зине, что та уронила сверток. Из газеты в растоптанную снежную кашу вывалились коньки.
— Понимаешь, — скороговоркой зачастила Зина, не замечая, что переходит на «ты», — сегодня так заучилась, совсем о погоде забыла. А сюда приехала, вижу: весна…
Она говорила что-то еще, объясняя свой приезд, но Петя не слушал ее больше: это невольное «ты» и коньки сказали ему всю правду. Зина тоже считала дни, оставшиеся до воскресенья, так же, как и он, целую неделю соблюдала правила уличного движения и на каток поехала только для того, чтобы встретиться с ним. И лишь в трамвае над ней не смеялись, ибо никто из остроумцев не знал, что находится в свертке.
Петя упаковывал Зинины коньки в газету и счастливо улыбался.
— Ох и глупый у тебя сейчас вид! — бессильно злясь на Петю, сказала Зина: по женской своей природе она жалела уже, что так опрометчиво выдала себя.
Защищая свою независимость, Зина отвернулась от Пети, поправила волосы, достала носовой платок и старательно вытерла сухие губы. Петя вдохновенно шуршал газетой и снизу вверх смотрел на Зину весенними хмельными глазами.
— Та-ак! Та-ак! Та-ак!.. — одобрительно каркали вороны — самые расчудесные птицы на всем белом свете.
Пахучий мартовский ветерок принес далекие звуки музыки. И хотя никак нельзя было разобрать, что именно поет репродуктор, но Пете почудилось, будто по радио передают его любимый вальс. Петя хотел, чтобы это было «Неразменное счастье», — а значит, так оно и было.
Оглавление
Старший возраст
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мачеха
Тяжелый воз
1
2
3
4
Выходной день
Неразменное счастье



 умно и весело было раньше у Федуновых. Дети характером удались в отца, Семена Григорьевича, росли общительными и компанейскими. У каждого из них было по нескольку неразлучных друзей, и с незапамятных времен повелось почему-то так, что не они ходили в гости к своим приятелям, а те — к ним. В целом году дня не выпадало спокойного, все — гвалт, топот, игры да песни. Весной и осенью дородная Екатерина Захаровна жаловалась, что гости много грязи наносят в комнаты, и предлагала отвадить для начала хотя бы тех, кто ходит без калош. Но Семен Григорьевич уверял жену, что гости красят жизнь, а калоши — вещь наживная, и все продолжалось по-прежнему.
умно и весело было раньше у Федуновых. Дети характером удались в отца, Семена Григорьевича, росли общительными и компанейскими. У каждого из них было по нескольку неразлучных друзей, и с незапамятных времен повелось почему-то так, что не они ходили в гости к своим приятелям, а те — к ним. В целом году дня не выпадало спокойного, все — гвалт, топот, игры да песни. Весной и осенью дородная Екатерина Захаровна жаловалась, что гости много грязи наносят в комнаты, и предлагала отвадить для начала хотя бы тех, кто ходит без калош. Но Семен Григорьевич уверял жену, что гости красят жизнь, а калоши — вещь наживная, и все продолжалось по-прежнему.
 А потом дети выросли, выучились на инженеров и агрономов, обзавелись своими семьями и разъехались кто куда. В родном городе остался лишь старший сын Петр, работающий в коммунхозе начальником над всем городским водопроводом. Уже и после женитьбы Петр долгое время жил в отчем доме, но года два назад ему дали в центре города хорошую квартиру — близко от места работы, все удобства, солнечная сторона, — и он переехал. Наиболее осведомленные из соседок поговаривали, будто истинной причиной переезда были не преимущества новой квартиры, а нелады, возникшие у Петровой жены со свекровью. Одни соседи винили во всем самолюбивую Екатерину Захаровну, другие — неуживчивую невестку. Кто из них был прав, решить трудно — недаром в китайской письменности иероглиф «ссора» рисуют в виде двух женщин под одной крышей.
После переезда сына Семен Григорьевич и Екатерина Захаровна снова остались одни-одинешеньки, как тридцать семь лет назад, когда соединили свои судьбы. И просторной же показалась им теперь их старая, еще недавно тесноватая квартира!
Петр навещал родителей не часто, ссылаясь на занятость срочными водопроводными делами. Еще реже писали письма другие дети, и письма эти выходили у них почему-то обидно куцыми, по схеме: «Здравствуйте, милые! Как поживаете? У меня все в порядке. Целую…»
Дочь Вера, бывшая замужем за директором крупного сибирского завода, каждый месяц присылала по двести рублей, забывая, однако, черкнуть хотя бы строчку на обороте почтового перевода. Семен Григорьевич пристыдил как-то директоршу, и после этого Вера стала посылать деньги телеграфными переводами, в которых нет места для письма.
Екатерина Захаровна говорила Семену Григорьевичу, будто кладет Верочкины деньги в сберкассу, а сама тайком переправляла их младшему сыну, студенту, вдобавок к тем деньгам, что отец уделял ему из каждой получки. Семен Григорьевич нашел как-то разоблачительные квитанции в укромном месте, на комоде за зеркалом, все понял, но жене ничего не сказал и только иногда, посмеиваясь, заводил вдруг речь о том, как привольно заживут они с Екатериной Захаровной, когда проценты с отложенных капиталов достигнут солидной суммы.
Письма короче воробьиного носа, редкие приходы Петра, неудачная семейная фотография, где Семен Григорьевич вышел почему-то сердитым, а Екатерина Захаровна имела вид испуганный, да еще закапанная чернилами клеенка на столе, за которым дети готовили когда-то школьные уроки, — вот и все, пожалуй, что напоминало старикам об их сыновьях и дочерях.
С недавнего времени Семен Григорьевич стал замечать, что хитрая Екатерина Захаровна особенно внимательно слушает сводки погоды по радио. Ее радовало, что в сводках часто упоминают те города и области, где живут их дети. Когда писем не было очень уж долго, Семен Григорьевич, приходя с работы, спрашивал обычно:
— Ну как там… погода?
И Екатерина Захаровна незамедлительно вещала:
— У Веры двадцать градусов мороза, должно быть валенки уже надела. У Васи ветер умеренный, без существенных осадков. Про Гришу ничего сегодня не передавали. У Фени дождь, наверно опять насморк схватит. А Саша до сих пор в летнем костюмчике разгуливает: семнадцать тепла, умней всех устроился!..
— Большая, однако, у нас страна! — каждый раз наново удивлялся Семен Григорьевич и, успокоенный, садился обедать с таким чувством, будто от всех детей получил весточки.
При всем том Семен Григорьевич особенно на детей не обижался и считал, что в общем все идет правильно, как оно давно уже в мире заведено: были дети малыми — нуждались в родительской помощи, а теперь оперились, взвалили на собственные плечи нелегкий житейский груз, сами детей воспитывают, — где уж тут много о стариках думать, в сутках ведь только двадцать четыре часа.
Прежние гости — и те, кто носил калоши, и те, кто, к неудовольствию Екатерины Захаровны, обходился без них, — после отъезда молодых не заглядывали больше к Федуновым. Желанная тишина наконец-то установилась в доме, но не радовала она Екатерину Захаровну. Не веселили ее душу и незапятнанные полы: чистота их была какая-то скучная, неживая.
Лишь несколько человек навещали теперь Федуновых.
По воскресным дням приходил старый врач Кондрат Иванович, живущий в соседнем доме, некогда бесплатно лечивший всех детей Семена Григорьевича и до сих пор помнящий, кто из них болел корью, а кто — скарлатиной. Суетясь гораздо больше, чем надо для приема одного гостя, Екатерина Захаровна подавала на стол чай. Семен Григорьевич пил чай крепкой заварки и вприкуску, а Кондрат Иванович — внакладку и слабый, чтобы не попортить цвет лица. Они пили чай и неторопливо беседовали о погоде, международном положении и озеленении родной улицы. Выпив две чашки, Семен Григорьевич долго и тщательно вытирал усы и потом предлагал небрежно:
— Что ж, сразимся?
Кондрат Иванович доставал из жилетного кармана массивные серебряные часы фирмы «Павел Буре, поставщик двора его императорского величества» и говорил нерешительно:
— Неплохо бы, да вот беда — спешить мне надо…
— Одну-то партию можно сыграть! — убеждал Семен Григорьевич и, соблазняя врача, рассыпал по столу звонкие шашки.
— Разве что одну… — соглашался Кондрат Иванович, прятал «Павла Буре» и играл пять, а то и десять партий, совершенно позабыв, что ему надо спешить.
Долгое время трудно было определить, кто из них играет лучше: то врач одолевал мастера, то мастер — врача. Но с годами Семен Григорьевич как-то приловчился и стал выигрывать раз за разом. Несмотря на старинное их знакомство, Кондрату Ивановичу, как человеку с высшим образованием, стыдно было проигрывать малообразованному соседу. Утешая себя, он говорил, что шашки — игра примитивная, и все норовил подбить Семена Григорьевича обучаться благородным и высокоумным шахматам. Однако Семен Григорьевич на старости лет не хотел рисковать своим чемпионством и резонно возражал, что на шахматной доске тесно от фигур, а он простор любит. То ли дело разлюбезные шашки — тут вся доска насквозь просматривается, все шашки на виду, и никакого тебе обману…
По большим праздникам являлся мастер Зыков — дружок и одногодок Семена Григорьевича, работающий на одном с ним заводе. Озеленением улиц и международными вопросами молчаливый Зыков не интересовался, в шашки тоже не любил играть, и с ним Семен Григорьевич коротал время совершенно иным образом.
Каждый раз Зыков приносил пол-литра водки и молча ставил на стол. По долгу гостеприимства Екатерине Захаровне приходилось ухаживать за гостем, подавать закуску и говорить разные любезные слова, вроде: «Селедочку попробуйте! Неужели вам наша капуста не нравится?» — и прочее в том же духе, а если б ее вольная воля, она Зыкова с водкой и на порог не пустила бы. Четверть века назад у Екатерины Захаровны спился двоюродный брат; с тех пор она считала, что все мужчины как бы ходят по краю пропасти, и, оберегая семейный очаг, везде, где только могла, непроходимой стеной становилась между мужем и водкой.
Сперва Зыков наведывался лишь Седьмого ноября и Первого мая, а потом стал приходить и на рождество с пасхой. Никакого стариковского поворота к религии у него не произошло, просто ему нужен был повод, чтобы выпить. Выпивку без достаточного основания строгий мастер не признавал, считая ее признаком душевной слабости и самым обыкновенным пьянством.
С годами зыковский круг праздников расширился. После войны дружки стали отмечать День победы — в отдельности разгром Германии и капитуляцию Японии. А в самые последние годы, когда дети Зыкова тоже разлетелись из-под родной крыши, он стал заглядывать к Семену Григорьевичу, вдобавок ко всем прежним праздникам, еще Восьмого марта и на троицу.
Иногда Семена Григорьевича навещали и молодые рабочие, его ученики. Они входили к мастеру с торжествующим сиянием глаз и с тем беспорядком в прическе и одежде, которые за версту выдавали счастливых изобретателей, только что обогативших отечественную технику открытием невероятной важности. Ребята извлекали из карманов мятые крошечные листки чертежей, размеры которых были обратно пропорциональны гениальности замысла, или приносили модели резцов, бережно завернутые в носовые платки холостяцкой чистоты и вырезанные, за неимением под рукой другого материала, из обыкновенной картошки, — и тогда Екатерина Захаровна ворчала, что теперь ей понятно, почему на рынке подорожали фрукты-овощи. Чаще всего молодые изобретатели уходили восвояси опустив головы и, мстя себе за незадачливость, пешком тащились в свое общежитие через весь город, из презрения к себе отказываясь от услуг легко доступного по вечерам городского транспорта. Но попадались среди них и такие, кого Семен Григорьевич хлопал по плечу небольшой тяжелой рукой, бормоча растроганно:
— Порадовал старика, комсомол!.. Варит котелок, варит!..
Случалось, что «комсомол» являлся и без всяких чертежей и моделей. В беседе тогда какой-нибудь парнишка долго бродил вокруг да около, пока Семен Григорьевич не спрашивал, потеряв терпение:
— В чем неувязка? Выкладывай!
И в ответ слышал робкое:
— По личному я…
Ребята знали, что Семен Григорьевич не разболтает их секретов, и охотно советовались с ним в затруднительных случаях, доверяясь житейскому опыту и природному такту старого мастера, — к великому удивлению Екатерины Захаровны, которая с незапамятных, времен придерживалась того мнения, что муженек ее, может быть, и понимает кое-что в своем производстве, но зато ни бельмеса не смыслит в тонких сердечных делах.
Из молодых рабочих к Семену Григорьевичу чаще других приходили тихий, не по годам спокойный токарь Коля Савин и веселый фрезеровщик Кирюшка.
А потом дети выросли, выучились на инженеров и агрономов, обзавелись своими семьями и разъехались кто куда. В родном городе остался лишь старший сын Петр, работающий в коммунхозе начальником над всем городским водопроводом. Уже и после женитьбы Петр долгое время жил в отчем доме, но года два назад ему дали в центре города хорошую квартиру — близко от места работы, все удобства, солнечная сторона, — и он переехал. Наиболее осведомленные из соседок поговаривали, будто истинной причиной переезда были не преимущества новой квартиры, а нелады, возникшие у Петровой жены со свекровью. Одни соседи винили во всем самолюбивую Екатерину Захаровну, другие — неуживчивую невестку. Кто из них был прав, решить трудно — недаром в китайской письменности иероглиф «ссора» рисуют в виде двух женщин под одной крышей.
После переезда сына Семен Григорьевич и Екатерина Захаровна снова остались одни-одинешеньки, как тридцать семь лет назад, когда соединили свои судьбы. И просторной же показалась им теперь их старая, еще недавно тесноватая квартира!
Петр навещал родителей не часто, ссылаясь на занятость срочными водопроводными делами. Еще реже писали письма другие дети, и письма эти выходили у них почему-то обидно куцыми, по схеме: «Здравствуйте, милые! Как поживаете? У меня все в порядке. Целую…»
Дочь Вера, бывшая замужем за директором крупного сибирского завода, каждый месяц присылала по двести рублей, забывая, однако, черкнуть хотя бы строчку на обороте почтового перевода. Семен Григорьевич пристыдил как-то директоршу, и после этого Вера стала посылать деньги телеграфными переводами, в которых нет места для письма.
Екатерина Захаровна говорила Семену Григорьевичу, будто кладет Верочкины деньги в сберкассу, а сама тайком переправляла их младшему сыну, студенту, вдобавок к тем деньгам, что отец уделял ему из каждой получки. Семен Григорьевич нашел как-то разоблачительные квитанции в укромном месте, на комоде за зеркалом, все понял, но жене ничего не сказал и только иногда, посмеиваясь, заводил вдруг речь о том, как привольно заживут они с Екатериной Захаровной, когда проценты с отложенных капиталов достигнут солидной суммы.
Письма короче воробьиного носа, редкие приходы Петра, неудачная семейная фотография, где Семен Григорьевич вышел почему-то сердитым, а Екатерина Захаровна имела вид испуганный, да еще закапанная чернилами клеенка на столе, за которым дети готовили когда-то школьные уроки, — вот и все, пожалуй, что напоминало старикам об их сыновьях и дочерях.
С недавнего времени Семен Григорьевич стал замечать, что хитрая Екатерина Захаровна особенно внимательно слушает сводки погоды по радио. Ее радовало, что в сводках часто упоминают те города и области, где живут их дети. Когда писем не было очень уж долго, Семен Григорьевич, приходя с работы, спрашивал обычно:
— Ну как там… погода?
И Екатерина Захаровна незамедлительно вещала:
— У Веры двадцать градусов мороза, должно быть валенки уже надела. У Васи ветер умеренный, без существенных осадков. Про Гришу ничего сегодня не передавали. У Фени дождь, наверно опять насморк схватит. А Саша до сих пор в летнем костюмчике разгуливает: семнадцать тепла, умней всех устроился!..
— Большая, однако, у нас страна! — каждый раз наново удивлялся Семен Григорьевич и, успокоенный, садился обедать с таким чувством, будто от всех детей получил весточки.
При всем том Семен Григорьевич особенно на детей не обижался и считал, что в общем все идет правильно, как оно давно уже в мире заведено: были дети малыми — нуждались в родительской помощи, а теперь оперились, взвалили на собственные плечи нелегкий житейский груз, сами детей воспитывают, — где уж тут много о стариках думать, в сутках ведь только двадцать четыре часа.
Прежние гости — и те, кто носил калоши, и те, кто, к неудовольствию Екатерины Захаровны, обходился без них, — после отъезда молодых не заглядывали больше к Федуновым. Желанная тишина наконец-то установилась в доме, но не радовала она Екатерину Захаровну. Не веселили ее душу и незапятнанные полы: чистота их была какая-то скучная, неживая.
Лишь несколько человек навещали теперь Федуновых.
По воскресным дням приходил старый врач Кондрат Иванович, живущий в соседнем доме, некогда бесплатно лечивший всех детей Семена Григорьевича и до сих пор помнящий, кто из них болел корью, а кто — скарлатиной. Суетясь гораздо больше, чем надо для приема одного гостя, Екатерина Захаровна подавала на стол чай. Семен Григорьевич пил чай крепкой заварки и вприкуску, а Кондрат Иванович — внакладку и слабый, чтобы не попортить цвет лица. Они пили чай и неторопливо беседовали о погоде, международном положении и озеленении родной улицы. Выпив две чашки, Семен Григорьевич долго и тщательно вытирал усы и потом предлагал небрежно:
— Что ж, сразимся?
Кондрат Иванович доставал из жилетного кармана массивные серебряные часы фирмы «Павел Буре, поставщик двора его императорского величества» и говорил нерешительно:
— Неплохо бы, да вот беда — спешить мне надо…
— Одну-то партию можно сыграть! — убеждал Семен Григорьевич и, соблазняя врача, рассыпал по столу звонкие шашки.
— Разве что одну… — соглашался Кондрат Иванович, прятал «Павла Буре» и играл пять, а то и десять партий, совершенно позабыв, что ему надо спешить.
Долгое время трудно было определить, кто из них играет лучше: то врач одолевал мастера, то мастер — врача. Но с годами Семен Григорьевич как-то приловчился и стал выигрывать раз за разом. Несмотря на старинное их знакомство, Кондрату Ивановичу, как человеку с высшим образованием, стыдно было проигрывать малообразованному соседу. Утешая себя, он говорил, что шашки — игра примитивная, и все норовил подбить Семена Григорьевича обучаться благородным и высокоумным шахматам. Однако Семен Григорьевич на старости лет не хотел рисковать своим чемпионством и резонно возражал, что на шахматной доске тесно от фигур, а он простор любит. То ли дело разлюбезные шашки — тут вся доска насквозь просматривается, все шашки на виду, и никакого тебе обману…
По большим праздникам являлся мастер Зыков — дружок и одногодок Семена Григорьевича, работающий на одном с ним заводе. Озеленением улиц и международными вопросами молчаливый Зыков не интересовался, в шашки тоже не любил играть, и с ним Семен Григорьевич коротал время совершенно иным образом.
Каждый раз Зыков приносил пол-литра водки и молча ставил на стол. По долгу гостеприимства Екатерине Захаровне приходилось ухаживать за гостем, подавать закуску и говорить разные любезные слова, вроде: «Селедочку попробуйте! Неужели вам наша капуста не нравится?» — и прочее в том же духе, а если б ее вольная воля, она Зыкова с водкой и на порог не пустила бы. Четверть века назад у Екатерины Захаровны спился двоюродный брат; с тех пор она считала, что все мужчины как бы ходят по краю пропасти, и, оберегая семейный очаг, везде, где только могла, непроходимой стеной становилась между мужем и водкой.
Сперва Зыков наведывался лишь Седьмого ноября и Первого мая, а потом стал приходить и на рождество с пасхой. Никакого стариковского поворота к религии у него не произошло, просто ему нужен был повод, чтобы выпить. Выпивку без достаточного основания строгий мастер не признавал, считая ее признаком душевной слабости и самым обыкновенным пьянством.
С годами зыковский круг праздников расширился. После войны дружки стали отмечать День победы — в отдельности разгром Германии и капитуляцию Японии. А в самые последние годы, когда дети Зыкова тоже разлетелись из-под родной крыши, он стал заглядывать к Семену Григорьевичу, вдобавок ко всем прежним праздникам, еще Восьмого марта и на троицу.
Иногда Семена Григорьевича навещали и молодые рабочие, его ученики. Они входили к мастеру с торжествующим сиянием глаз и с тем беспорядком в прическе и одежде, которые за версту выдавали счастливых изобретателей, только что обогативших отечественную технику открытием невероятной важности. Ребята извлекали из карманов мятые крошечные листки чертежей, размеры которых были обратно пропорциональны гениальности замысла, или приносили модели резцов, бережно завернутые в носовые платки холостяцкой чистоты и вырезанные, за неимением под рукой другого материала, из обыкновенной картошки, — и тогда Екатерина Захаровна ворчала, что теперь ей понятно, почему на рынке подорожали фрукты-овощи. Чаще всего молодые изобретатели уходили восвояси опустив головы и, мстя себе за незадачливость, пешком тащились в свое общежитие через весь город, из презрения к себе отказываясь от услуг легко доступного по вечерам городского транспорта. Но попадались среди них и такие, кого Семен Григорьевич хлопал по плечу небольшой тяжелой рукой, бормоча растроганно:
— Порадовал старика, комсомол!.. Варит котелок, варит!..
Случалось, что «комсомол» являлся и без всяких чертежей и моделей. В беседе тогда какой-нибудь парнишка долго бродил вокруг да около, пока Семен Григорьевич не спрашивал, потеряв терпение:
— В чем неувязка? Выкладывай!
И в ответ слышал робкое:
— По личному я…
Ребята знали, что Семен Григорьевич не разболтает их секретов, и охотно советовались с ним в затруднительных случаях, доверяясь житейскому опыту и природному такту старого мастера, — к великому удивлению Екатерины Захаровны, которая с незапамятных, времен придерживалась того мнения, что муженек ее, может быть, и понимает кое-что в своем производстве, но зато ни бельмеса не смыслит в тонких сердечных делах.
Из молодых рабочих к Семену Григорьевичу чаще других приходили тихий, не по годам спокойный токарь Коля Савин и веселый фрезеровщик Кирюшка.


 горка бесшумно слез с печки, постоял у окна, водя пальцем по морозным узорам, полистал календарь на стене, проверяя, скоро ли день сравняется с ночью, и уже собирался тайком выскользнуть из избы, когда был остановлен строгим окриком тетки Елизаветы Фроловны:
— Ты куда? Уроки сделал? Не вздумай еще мачеху встречать!
Егорка вопросительно посмотрел на отца. Теперь все зависело от него: если отец и сам поедет на станцию встречать награжденных, то на тетку можно просто не обращать внимания; если же отец не поедет, то надо, чтобы он сейчас же решительно заступился за Егорку, и тогда тетка опять-таки останется с носом. Отец сидел у стола и просматривал свежий номер агрономического журнала. Переворачивать листы единственной левой рукой отцу было неудобно, он сидел боком к столу, и Егорке казалось поэтому, что отец читает невнимательно и думает совсем о другом.
— А хотя бы и встретил, — не поднимая головы от журнала, сказал отец. — Ведь не чужая она ему…
— «Не чужая»! — подхватила тетка. — Беги и ты встречать, чего сидишь? В первом ряду поставят, как же — муж Героини! Понимаешь: Героиня она, а ты при ней только муж. Эх, Павел, сподобился ты!..
Отец отодвинул журнал и решительно распахнул толстый том «Агробиологии», который из уважения к автору — академику Лысенко — был обернут газетой. «Агробиологию» отец читал ежедневно, не любил, когда его отрывали от чтения этой книги, и Егорка понял, что на станцию отец не поедет.
— «Не чужая»!.. — язвительно повторила Елизавета Фроловна, торжествуя победу. — Мачеха — она и есть мачеха, одно слово… Была бы жива родная мать, так ребенок не бегал бы в рубахе без пуговицы. Эх, Катя, Катя… — Тетка поднесла к сухим глазам кончик головного платка. — Иди сюда, милый, я тебе пуговицу пришью.
Егорка хотел было сказать, что пуговица оторвалась сегодня утром и мачеха никак не могла ее пришить, но, чтобы не злить тетку, промолчал и только покосился на ходики. Медный маятник налево и направо щедро разбрасывал секунды: ему и горюшка мало, что до отъезда на станцию осталось меньше четверти часа, а у Егорки еще и пуговица не пришита.
Дородная Елизавета Фроловна вооружилась иглой с длинной ниткой, надела очки, и лицо тетки сразу приняло несвойственное ей ученое выражение. Егорка подивился: он хорошо знал, что тетка книг никогда не читает, а когда раз в месяц посылает письма своим детям — Мите и Марусе, — то на конверте пишет «даплатное». Елизавета Фроловна согласилась пришивать пуговицу, не снимая с Егорки рубаху, но предварительно сунула ему тряпицу в рот — чтобы не зашить память.
Егорка сверху вниз смотрел на склоненную голову тетки и думал: когда же наконец Елизавета Фроловна уедет? Она приехала к ним погостить осенью, да с тех пор так и прижилась в доме. Незадолго перед ее приездом отец женился на мачехе. Втроем, без тетки, они жили дружно. Мачеха раздаивала на колхозной ферме коров, а Егорка по вечерам помогал ей составлять рационы: она диктовала, а он записывал самым красивым своим почерком, сколько какой корове давать сена, силоса, корнеплодов и концентратов.
Хорошее было время! Егорка в точности знал повадки всех десяти коров, закрепленных за мачехой, начиная от норовистой Снегурки и кончая спокойной Резедой. Он был своим человеком на ферме, а в школе всеми признавался непререкаемым авторитетом по животноводству: его даже прозвали тогда зоотехником. Самолюбие Егорки страдало лишь оттого, что мачеха считалась в колхозе второй дояркой, а первой — маленькая Настя Воронкова.
Но однажды он случайно подслушал, как председатель колхоза Матвей Васильевич распекал Настю за перерасход концентратов и ставил ей в пример мачеху. После этого Егорка уже снисходительно выслушивал всех, кто в его присутствии славил маленькую Настю.
Да, хорошее было время…
С приездом тетки все изменилось. Елизавета Фроловна сама напросилась готовить обеды и стирать белье, а потом тихо и незаметно прибрала к рукам весь дом. От тетки Егорка узнал, что мачеха не любит его, а только притворяется, о доме она тоже не заботится: все ферма да ферма, а когда же свое, родное? Да и сама забота о ферме, по мнению тетки, объяснялась не любовью мачехи к работе, а ее желанием во что бы то ни стало отличиться и этим унизить Егорку с отцом. Елизавета Фроловна рассказала племяннику, что мачеха была подругой его матери и еще до ее замужества любила отца. Тетку особенно возмущало, что мачеха ни за кого не вышла замуж после женитьбы отца, хотя в женихах недостатка не было: сам Матвей Васильевич тогда на нее заглядывался.
— Все хотела отцу твоему доказать, что от него не отступится, — объясняла тетка. — У, гордыня несусветная!.. Как змея подколодная притаилась и ждала своего часа. Виданное ли дело, ждать двенадцать лет? Я после смерти первого мужа поплакала-погоревала, да году не прошло и за второго вышла. Что ж тут ждать: бог дал — бог и взял…
Тетка готова была обвинить мачеху даже в смерти Егоркиной матери, хотя Егорка хорошо знал, что мать умерла во время войны от воспаления легких и мачеха тут была совсем ни при чем.
— Не отказалась и от однорукого! — осуждала мачеху тетка. — Дождалась-таки своего…
На робкие возражения Егорки, что мачеха добрая, тетка говорила сокрушенно:
— Святая простота! Дайте только срок, она вам с отцом доброту свою в полный рост выкажет. Вот увидишь: она еще отомстит за свое долгое ожиданье. Такие гордые этого никогда не прощают…
Егорка верил тетке и не верил, но уважать мачеху по-прежнему уже не мог. Он избегал оставаться с ней наедине, перестал ходить на ферму и по вечерам писать под ее диктовку рационы. В школе его уже больше никто не называл зоотехником, и авторитетом по животноводству считался теперь дружок Егорки — Олег. Несколько раз Егорка видел мачеху с заплаканными глазами и однажды слышал, как отец говорил ей, оправдываясь:
— Не могу же я Лизавету из дому выгнать. Ведь родная сестра!
Угодить тетке было очень трудно. Когда мачеха давала Егорке деньги на кино или сладости, Елизавета Фроловна говорила племяннику:
— Задабривает она тебя, к рукам прибрать хочет. Не поддавайся, Егорушка!..
Если же мачеха забывала дать денег пасынку, тетка обвиняла ее в жадности:
— Копейку пожалела знатная доярка! Без материнской ласки растешь ты, сиротиночка…
Не один раз тетка собиралась уезжать в город к своим детям — Мите и Марусе, которые, по клятвенному уверению Елизаветы Фроловны, хотя и не писали писем, но так сильно любили свою мать, что даже начинали худеть, когда долго ее не видели. Тетка переносила из кладовой в кухню тяжелый, вечно запертый зеленый сундук и не спеша приступала к сборам в дорогу. Но каждый раз случалось как-то так, что тетка все-таки не уезжала, тяжелый зеленый сундук водворялся на старое место, в кладовую, и все оставалось по-прежнему. Егорка не шутя опасался, что от любящих Мити и Маруси скоро останутся только кожа да кости…
Теткина рука с иглой, пришивая пуговицу, мелькала перед самым носом Егорки. Нитка была длинная, и руку тетка отводила далеко в сторону отца, как бы приглашая Егорку брать с него пример: отец отказался встречать мачеху — не встречай и ты. Егорке смертельно захотелось насолить чем-нибудь Елизавете Фроловне. Рискуя на всю жизнь остаться без памяти, он незаметно вытащил изо рта тряпку и забросил ее в дальний угол. Отец заметил его проделку, но ничего не сказал.
По твердому убеждению Егорки, отцу сильно не повезло в жизни. Почти всю войну отец провел в далеком тылу на охране крупного железнодорожного моста, а когда на исходе войны его часть направили на фронт, то эшелон попал под бомбежку, не доехав до передовой. Отца ранило, в госпитале ему отрезали руку, и он вернулся в родное село, так и не убив ни одного фашиста. Не повезло отцу и в мирной жизни: до войны он считался лучшим в колхозе бригадиром полеводческой бригады, а после войны его поставили завхозом, а на этой работе, как известно, хлопот много, а славы мало.
Колхоз под руководством расторопного Матвея Васильевича набирал силу, богател, год от году росло в нем число награжденных, а на парадной гимнастерке Егоркиного отца по-прежнему одиноко висела привезенная с войны медаль.
Десятки раз отец просил Матвея Васильевича определить его на «живую» работу.
— Потерпи, Фролович, — отвечал председатель. — Это ничего, что ты у нас без орденов ходишь. Не за горами время, когда будут награждать и завхозов: пользы от тебя нашей артели больше, чем от любого бригадира…
И отец соглашался. Но в глубине души он все еще надеялся поработать бригадиром и целые вечера просиживал над новыми агротехническими книгами, чтобы не отстать от жизни…
Тетка перекусила нитку, и Егорка, приплясывая от нетерпения, быстро напялил на себя шубейку и шапку, боясь, что отец раздумает и не пустит его из избы. Елизавета Фроловна осуждающе покачала головой и жалостливо сказала вслед выбегающему племяннику:
— Несчастный сиротинка!..
А «сиротинка», ничуть нечувствуя себя несчастным, кубарем скатился с лестницы и вихрем помчался к правлению колхоза.
На улице перед правлением стояло трое празднично разукрашенных саней и колхозный грузовик, на борту которого полыхал кумачовый плакат «Привет землякам — Героям Социалистического Труда!». Егорка поспел как раз вовремя: отъезжающие на станцию усаживались по местам, и шофер дядя Гриша пробовал носком сапога, туго ли надуты скаты. На миг Егорка заколебался: что предпочесть — сани или грузовик? В кабине грузовика сидел сам председатель Матвей Васильевич, на борту кумач и, что ты там ни говори, а грузовик все-таки машина, почти легковая. Но и сани не были обыкновенными санями: на дугах нетерпеливо звякали бубенцы, обещая серебристый перезвон в дороге, а конские гривы были так густо увиты пестрыми лентами, что лошади избегали встречаться с Егоркой глазами, стыдясь своего щегольства. Дядя Гриша дал долгий прощальный гудок, и гудок этот решил дело: Егорка проворно перемахнул через борт грузовика, сам себе удивляясь, как мог он еще сомневаться — ведь у саней гудка не было!
В кузове у передней стенки уже сидел Егоркин дружок — Олег, тот самый, который после приезда Елизаветы Фроловны стал считаться школьным авторитетом по животноводству.
— Садись рядом, — сказал Олег. — Здесь меньше трясет!
Егорка и сам знал, что поближе к кабине трясет меньше. Он давно уже заметил, что дружок любит говорить общеизвестные вещи. Олег был на полтора месяца старше Егорки и по этой причине относился к приятелю покровительственно, хотя и не стыдился списывать у него трудные задачки.
Пятнадцать километров до станции мчались «с ветерком», оставив далеко позади нарядные сани с дедовскими бубенцами. Егорка окончательно решил, что когда вырастет большим, то обязательно станет шофером, а не конюхом, как он опрометчиво надумал летом, когда тайком пробирался на конюшню дергать из конских хвостов волос для лески.
На станции, в зале ожидания, было людно: из соседних колхозов тоже приехали встречать своих награжденных. Егорка и Олег с трудом нашли свободное место в углу между бригадой плотников с пилами и топорами, обернутыми мешковиной, и человеком с толстым брезентовым портфелем, с каким в Егоркин колхоз приезжали заготовители из района. Заготовитель, наверно, был очень занятой человек, так как за весь день не успел прочитать газету дома и теперь читал ее на вокзале.
— Держи место! — начальническим тоном сказал Олег, отошел к стене и долго морщил нос, разглядывая расписание, а потом, вернувшись к Егорке, объявил таинственным шепотом, что московский поезд прибывает через полчаса, о чем Егорка к тому времени и сам уже знал из разговора соседей-плотников.
Из вокзальной парикмахерской вышел председатель колхоза имени Чкалова. Стоящий невдалеке от ребят Матвей Васильевич провел рукой по щеке и, хотя ему вполне можно было еще не бриться, тоже пошел в парикмахерскую, не желая ни в чем уступать чкаловцам, с которыми Егоркин колхоз соревновался.
Олег разузнал, что в буфете есть чай — дешевый и сладкий, — и, явно подражая кому-то, предложил пойти «погреться горяченьким». Егорка еще ни разу в жизни не пил чай в железнодорожном буфете и согласился.
В буфете Егорке понравилось. Старый седой официант принес им на блестящем медном подносе два стакана чаю в высоких подстаканниках и обращался с Егоркой и Олегом так почтительно-вежливо, будто не видел, что перед ним дети, а принимал их за самых настоящих взрослых пассажиров, которые едут куда-то очень далеко — например, в город Владивосток.
Матвей Васильевич и председатель колхоза имени Чкалова тоже заглянули в буфет. Они подошли к стойке, и все Егоркины односельчане и чкаловские колхозники, какие находились в буфете, как по команде замолчали, оторвались от своих кружек и стаканов и стали смотреть, что будут делать их председатели. Матвей Васильевич для начала распахнул свой дубленый полушубок, чтобы все желающие могли беспрепятственно любоваться орденом Ленина, полученным в прошлом году за развитие колхозного животноводства, и тремя фронтовыми орденами Славы, которые косо, по-морскому, висели вдоль лацкана пиджака. Но чкаловский председатель тоже не остался в долгу, хотя был на целую голову ниже Матвея Васильевича и далеко не такой бравый на вид, как тот. Он медленно раздвинул полы зимнего пальто с барашковым воротником, и все увидели у него на бархатной тужурке тоже орден Ленина, полученный за высокие урожаи зерна, и орден Отечественной войны первой степени, которым чкаловский председатель был награжден за хорошую работу колхоза в военные годы.
Матвей Васильевич заказал у буфетчика две стопки водки и, перед тем как выпить, проговорил:
— Будем здоровы!
А чкаловский председатель сказал:
— Дай бог не последнюю! — и, осушив свою стопку, вкусно крякнул.
Председатели закусили красными яблоками, которые буфетчик из уважения к знатным клиентам так долго тер чистым полотенцем, что Егорка опасался, как бы он не сорвал с яблок кожуру. Чкаловский председатель достал из кармана пальто коробку папирос «Казбек» и гостеприимно распахнул ее перед Матвеем Васильевичем. Тот из вежливости взял папиросу, хотя Егорка хорошо знал, что их председатель не курит. Чкаловский председатель подмигнул своим колхозникам и заказал две стопки коньяку. Чкаловцы одобрительно загудели, а колхозники из Егоркиной деревни тревожно переглянулись. Но Матвей Васильевич знаком успокоил односельчан, выпил коньяк, довольно удачно для некурящего человека пустил кольцо дыма и твердым голосом попросил буфетчика открыть бутылку шампанского. Кто-то из чкаловцев ахнул от удивления, а их председатель растерянно заморгал и, пока буфетчик снимал с верхней полки давно уже стоявшую там, судя по толстому слою пыли, нарядную бутылку шампанского в серебряной шапочке, обежал глазами весь буфет, но не нашел ничего, чем можно было бы перещеголять Матвея Васильевича.
— Женский это напиток… — осудил чкаловский председатель шампанское, но бокал с пенящимся вином принял обеими руками.
— Что ж, будем здоровы, — сказал свое неизменное Матвей Васильевич.
— Будем здоровы… — послушно, как эхо, повторил побежденный чкаловский председатель.
…Когда до прихода поезда оставалось пять минут, Егорка с Олегом вышли из буфета. На перроне было пусто, лишь в багажной возле весов возился старик, очень похожий на колхозного пасечника деда Никифора, — только у Никифора взгляд был, как у всех пасечников, тихий и умиленный, а у весовщика — быстрый и недоверчивый. Прошли два носильщика в новых необмятых фартуках, а вслед за ними пролетели два воробья — по-зимнему пухлые, озабоченные, будто и они встречали кого-то с поездом. Потом из вокзала вышел дежурный в красной фуражке, и тотчас же, словно только его и дожидался, за поворотом дороги затрубил паровоз.
На перрон высыпали колхозники, вышел раскрасневшийся, с блестящими глазами Матвей Васильевич, на ходу застегивая полушубок. Рядом с Матвеем Васильевичем шагал секретарь райкома, легковую машину которого Егорка видел из окна буфета.
Паровоз обдал Егорку машинным теплом, вагоны, сбавляя ход, заскрипели тормозами. Все вагоны были похожи друг на друга, и определить по внешнему виду, в каком из них приехала мачеха, было никак невозможно.
— Айда вперед! — сказал Олег. — Наши ближе к паровозу будут.
— А может, сзади? — предположил Егорка.
— Награжденные — и сзади? Эх ты, зоотехник! — презрительно сказал Олег и побежал вдогонку за паровозом.
Егорка из упрямства остался на месте. Кто-то положил на плечо ему тяжелую руку. Егорка вскинул голову и увидел рядом с собой председателя колхоза. От Матвея Васильевича пахло вином и одеколоном.
— Что ж отец не приехал встречать? — спросил председатель. — Нехорошо…
Вдоль всего поезда, от паровоза к хвосту, прокатился раскатистый лязг буферов, и состав остановился. На площадку вагона, немного наискось от Егорки, вышла Настя Воронкова. На груди доярки, приколотая прямо к пальто, сияла звездочка Героя. С золотой звездочкой на груди маленькая Настя стала выше ростом и красивей. Она так торжествующе смотрела с высоты площадки на односельчан, пришедших ее встречать, как будто и не было у нее никогда перерасхода концентратов. За Настей показалась сестра Олега, хотя она была награждена только медалью «За трудовую доблесть» и, по мнению Егорки, могла бы посидеть в вагоне, пока не выйдут все Герои.
Потом стали сходить чкаловцы. Егорка не знал, кто из них чем награжден, и, чтобы понапрасну не обидеть людей, не стал их осуждать, как Олегову сестру.
Мачеха вышла предпоследней. В руке она держала маленький чемоданчик, золотой звездочки поверх пальто видно не было. Сначала Егорке не понравилось, что мачеха скромничает, но потом он решил: когда сам вырастет большим и заработает свои ордена, — тоже воздержится выставлять их напоказ. Все будут знать, что награды у него есть, а носить их он не станет — так даже интересней!.. Мачеха быстрым ищущим взглядом окинула толпу. Егорка, чтобы попасть ей на глаза, приподнялся на цыпочки. Заметив Егорку, мачеха рассеянно улыбнулась, поискала еще кого-то в толпе, не нашла, и по лицу ее скользнула тень. Егорка догадался: «Отца ищет», вспомнил слова тетки: «Двенадцать лет ждала» — и огорченно вздохнул, обиженный на отца. И почему он не поехал на станцию?
Олег протиснулся сквозь толпу к Егорке. Вид у Олега был такой же независимый, как и раньше, будто он оказался прав и награжденные ехали в самом первом от паровоза вагоне.
Председатель сельсовета пошептался о чем-то с усатым проводником, взобрался на верхнюю ступеньку вагона и начал говорить приветственную речь. Председатель был молод, еще год назад заведовал колхозным клубом и всем от мала до велика был известен как Павлуша-избач. Да и теперь Павлом Тихоновичем его величали лишь злостные неплательщики налогов и другие нарушители закона, а все честные люди звали его Павлушей-председателем.
Имя Олеговой сестры, когда подошла очередь и ее приветствовать, Павлуша-председатель произнес громко и с большим чувством. Никто из колхозников этому не удивился, так как все знали, что сестра Олега — Павлушина невеста. Всем было известно также, что у Павлуши плохая память на цифры, и поэтому никто тоже не удивился, когда он достал из кармана узкий листок и стал читать, сколько каждая из награжденных доярок надоила за год. Но секретарь райкома, видимо, не знал всего этого, и Егорка заметил, как при появлении бумажки секретарь нахмурился. А усатый проводник, заслушав высокие цифры удоев, стал молодцевато подкручивать усы, словно и он имел какое-нибудь отношение к успехам доярок.
Из окна вагона, расплющив о стекло нос, на Егорку с Олегом с завистью смотрел мальчик одних с ними лет в синей матросской курточке. Рядом с ним стояла строгая женщина в пенсне, при виде которой Егорке почему-то захотелось вслух произнести холодные и непонятные слова вокзальных объявлений — такие, как «плацкарта» или «транзит». Олег показал мальчику в матроске язык, и тот тайком от женщины в пенсне очень умело ответил ему тем же, после чего Олег самыми доходчивыми знаками стал вызывать его из вагона подраться, но мальчик в матроске сделал вид, что не понимает, и отошел от окна.
А секретарь райкома хмурился все больше и больше, и когда Павлуша дошел до характеристики работы Олеговой сестры и сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в грудь, секретарь перебил его:
— Дорогой товарищ, зачем же людей на морозе держать?
Павлуша пробормотал: «Какой же это мороз, всего десять градусов…» — и начал снимать рукавицы, чтобы доказать, что никакого мороза нету. Но секретарь райкома не стал ждать, пока Павлуша-председатель снимет рукавицы. Коротко, не называя цифр, он поздравил доярок с наградой, поблагодарил их за то, что они на всю страну прославили район, и в заключение предложил подвезти Героев на своей машине.
На заднее сиденье райкомовской «эмки» сели Настя Воронкова и мачеха. Секретарь поместился впереди, рядом с шофером.
— Татьяна Ивановна, возьми своего мальца, — сказал Матвей Васильевич мачехе. — Я по его носу вижу, ему до зарезу хочется прокатиться на легковой машине!
Егорка подивился, как это Матвей Васильевич умеет читать по носу, чего хочет человек, и храбро полез в «эмку». Шофер покосился на его валенки, но ничего не сказал.
Олег остался на улице, и Егорка из машины с торжеством посмотрел на дружка, но тот ответил ему таким равнодушно-снисходительным взглядом, словно по меньшей мере тысячу раз ездил в «эмке» и это ему порядком уже надоело. Задетый за живое, Егорка вспомнил безошибочный способ Матвея Васильевича, внимательней присмотрелся к носу приятеля и сразу увидел, что равнодушие Олега напускное и тот ему сильно завидует.
Машина тронулась, и Егорка закачался на мягком сиденье. Настя Воронкова начала рассказывать секретарю, как ей вручали награду, а Егорка тихо попросил мачеху:
— Можно, я звездочку посмотрю?
Татьяна Ивановна расстегнула пальто, и на ее вязаной кофточке неярко блеснула золотая звездочка — точь-в-точь такая же, как ее рисуют на плакатах.
Егорка бережно погладил звездочку мизинцем, а потом снизу вверх приподнял на цепочке, пробуя на вес. Звездочка была теплая и тяжелая.
— А орден Ленина где? — совсем расхрабрившись, спросил Егорка требовательным шепотом.
— В коробочке… — также шепотом ответила мачеха, привлекла пасынка к себе и провела рукой по его волосам — густым и мягким, как у отца.
Не избалованный лаской, Егорка шумно засопел и уткнулся лицом в плечо Татьяны Ивановны. Ему сильно хотелось порадовать чем-нибудь мачеху — например, сказать ей, что теперь он каждый день будет приходить на ферму, а по вечерам писать рационы. Но в носу у него предательски защипало, а с глазами стало твориться что-то и совсем уж неладное, и Егорка сидел тихо и смирно, боясь оторваться от теплого спасительного плеча…
Секретарь райкома довез их до самой избы. Маленький легкий чемоданчик Егорка с мачехой внесли с улицы вместе, крепко держась за него руками. Елизавета Фроловна презрительно усмехнулась при виде такой дружбы.
Отец сидел на старом месте, раскрытый том «Агробиологии» лежал перед ним на столе. Но смотрел отец не в книгу, а прямо перед собой, словно увидел на стене что-то новое, никогда не замечаемое прежде. Когда Татьяна Ивановна сняла пальто, отец встал из-за стола и шагнул к ней. Пустой правый рукав рубашки качнулся и повис вдоль тела. Избегая смотреть на золотую звездочку, отец сказал глухо:
— Прости, Таня, что не встретил… Блажь какая-то пришла в голову, одолела на время… Прости!
— Ну что ты, что ты! — растерянно сказала мачеха и покраснела, как девушка.
Глаза ее стали лучистыми, и в них засветилась такая давняя всепрощающая любовь к отцу, что Егорке почему-то даже неловко было смотреть на нее, и он поспешно шагнул к стенному календарю, чтобы еще раз проверить, когда же наконец день обгонит ночь. А тетка открыла рот, собираясь сказать что-то обычное свое, ехидное, но, увидев глаза мачехи, поперхнулась и сердито загремела в печи ухватом.
Татьяна Ивановна достала из чемоданчика подарки: цигейковую шапку мужу, кожаную куртку с блестящими застежками Егорке и шаль для Елизаветы Фроловны. Тетка примерила шаль и, хотя та сидела на ней лучше некуда, сказала, поджав тонкие губы:
— Короткие нынче шали делают… — и так посмотрела на Татьяну Ивановну, будто подозревала, что она отрезала кусок от ее шали.
Егорка мигом облачился в кожаную куртку и сразу стал похож на летчика. Для полноты сходства он взобрался на печку, чтобы смотреть на все сверху, как бы с самолета.
А мачеха сняла праздничную кофточку, повесила ее в шкаф и надела старый ватник, в котором всегда ходила на ферму.
— Ради такого дня могла бы и дома посидеть, — обиженно сказал отец. — Позаботятся на ферме о твоих коровах!
— Я на одну минутку, Паша. Узнаю только, как тут без меня Снегурка жила: очень уж она норовистая… — виновато сказала Татьяна Ивановна и уже в дверях добавила — Сегодня в правлении вечер будет по поводу… Ну, сам знаешь… Сначала торжественная часть, потом ужин. Матвей Васильевич просил, чтобы ты обязательно пришел.
— Раз приглашали — так приду: кто же от выпивки отказывается! — деланно веселым голосом сказал отец, но Егорка с печки видел, что ему совсем не весело.
Отцу было стыдно перед мачехой, он хотел быстрее загладить вину, но не знал, как за это взяться. Егорка впервые в жизни почувствовал свое превосходство: отец еще не понимал, как легко и просто можно помириться с мачехой, если уткнуться в ее плечо…
— Уже заискиваешь, братец? — тоненьким голоском спросила Елизавета Фроловна, когда мачеха вышла. — Погоди, это только цветочки, ягодки еще впереди! Что бы ты теперь ни сделал, о тебе будут говорить: муж Героини… Пропала твоя самостоятельность!
— Слушай, сестра, — тихо сказал отец, — а не загостилась ли ты у нас? Ведь тебя ждут не дождутся Митя с Марусей, стыдно так обижать любимых детей!
— Это как же понимать? — громким шепотом спросила Елизавета Фроловна. — Родную сестру выгоняешь?
— Выгоняю! — твердо сказал отец и пояснил: — От тебя вовремя не избавишься — так ты нас всех разгонишь!
Егорка одобрительно хихикнул и сел на краю печи, чтобы в случае нужды быстро оттолкнуться от борта печки-самолета и затяжным прыжком прийти отцу на помощь. Тетка бросила кухонную тряпку на пол, ударила по пей каблуком и закричала:
— Ноги моей здесь никогда больше не будет! Просить, умолять станешь — все равно не приеду!
— Сделай милость, не приезжай, — устало сказал отец.
Елизавета Фроловна схватила с лавки дареную шаль, подержала ее на весу, как бы раздумывая, не швырнуть ли шаль на пол вслед за кухонной тряпкой. Егорка по лицу тетки видел, что искушение бросить шаль было очень велико. Но Елизавета Фроловна переборола себя, сунула подарок под мышку и, гордо вскинув подбородок, вышла из комнаты, завозилась с тяжелым сундуком в кладовой. Отыгралась тетка на двери: так хлопнула ею, что у Егорки добрых пять минут шум стоял в ушах, а за печкой сразу, как подкошенный, затих сверчок и молчал потом целую неделю.
Отец обошел комнату вдоль стен, остановился возле шкафа и воровато осмотрелся вокруг. Егорка притаился на печи, будто его там и не было. Отец рывком распахнул дверцу. В полутьме шкафа на кофточке мачехи тепло сияла золотая звездочка. Рядом с кофточкой висела парадная отцова гимнастерка с медалью. Переводя глаза с золотой звездочки на свою единственную медаль, отец долго неподвижно стоял у раскрытого шкафа. Потом он легко вздохнул и точно так же, как недавно Егорка в райкомовской «эмке», бережно погладил звездочку мизинцем.
горка бесшумно слез с печки, постоял у окна, водя пальцем по морозным узорам, полистал календарь на стене, проверяя, скоро ли день сравняется с ночью, и уже собирался тайком выскользнуть из избы, когда был остановлен строгим окриком тетки Елизаветы Фроловны:
— Ты куда? Уроки сделал? Не вздумай еще мачеху встречать!
Егорка вопросительно посмотрел на отца. Теперь все зависело от него: если отец и сам поедет на станцию встречать награжденных, то на тетку можно просто не обращать внимания; если же отец не поедет, то надо, чтобы он сейчас же решительно заступился за Егорку, и тогда тетка опять-таки останется с носом. Отец сидел у стола и просматривал свежий номер агрономического журнала. Переворачивать листы единственной левой рукой отцу было неудобно, он сидел боком к столу, и Егорке казалось поэтому, что отец читает невнимательно и думает совсем о другом.
— А хотя бы и встретил, — не поднимая головы от журнала, сказал отец. — Ведь не чужая она ему…
— «Не чужая»! — подхватила тетка. — Беги и ты встречать, чего сидишь? В первом ряду поставят, как же — муж Героини! Понимаешь: Героиня она, а ты при ней только муж. Эх, Павел, сподобился ты!..
Отец отодвинул журнал и решительно распахнул толстый том «Агробиологии», который из уважения к автору — академику Лысенко — был обернут газетой. «Агробиологию» отец читал ежедневно, не любил, когда его отрывали от чтения этой книги, и Егорка понял, что на станцию отец не поедет.
— «Не чужая»!.. — язвительно повторила Елизавета Фроловна, торжествуя победу. — Мачеха — она и есть мачеха, одно слово… Была бы жива родная мать, так ребенок не бегал бы в рубахе без пуговицы. Эх, Катя, Катя… — Тетка поднесла к сухим глазам кончик головного платка. — Иди сюда, милый, я тебе пуговицу пришью.
Егорка хотел было сказать, что пуговица оторвалась сегодня утром и мачеха никак не могла ее пришить, но, чтобы не злить тетку, промолчал и только покосился на ходики. Медный маятник налево и направо щедро разбрасывал секунды: ему и горюшка мало, что до отъезда на станцию осталось меньше четверти часа, а у Егорки еще и пуговица не пришита.
Дородная Елизавета Фроловна вооружилась иглой с длинной ниткой, надела очки, и лицо тетки сразу приняло несвойственное ей ученое выражение. Егорка подивился: он хорошо знал, что тетка книг никогда не читает, а когда раз в месяц посылает письма своим детям — Мите и Марусе, — то на конверте пишет «даплатное». Елизавета Фроловна согласилась пришивать пуговицу, не снимая с Егорки рубаху, но предварительно сунула ему тряпицу в рот — чтобы не зашить память.
Егорка сверху вниз смотрел на склоненную голову тетки и думал: когда же наконец Елизавета Фроловна уедет? Она приехала к ним погостить осенью, да с тех пор так и прижилась в доме. Незадолго перед ее приездом отец женился на мачехе. Втроем, без тетки, они жили дружно. Мачеха раздаивала на колхозной ферме коров, а Егорка по вечерам помогал ей составлять рационы: она диктовала, а он записывал самым красивым своим почерком, сколько какой корове давать сена, силоса, корнеплодов и концентратов.
Хорошее было время! Егорка в точности знал повадки всех десяти коров, закрепленных за мачехой, начиная от норовистой Снегурки и кончая спокойной Резедой. Он был своим человеком на ферме, а в школе всеми признавался непререкаемым авторитетом по животноводству: его даже прозвали тогда зоотехником. Самолюбие Егорки страдало лишь оттого, что мачеха считалась в колхозе второй дояркой, а первой — маленькая Настя Воронкова.
Но однажды он случайно подслушал, как председатель колхоза Матвей Васильевич распекал Настю за перерасход концентратов и ставил ей в пример мачеху. После этого Егорка уже снисходительно выслушивал всех, кто в его присутствии славил маленькую Настю.
Да, хорошее было время…
С приездом тетки все изменилось. Елизавета Фроловна сама напросилась готовить обеды и стирать белье, а потом тихо и незаметно прибрала к рукам весь дом. От тетки Егорка узнал, что мачеха не любит его, а только притворяется, о доме она тоже не заботится: все ферма да ферма, а когда же свое, родное? Да и сама забота о ферме, по мнению тетки, объяснялась не любовью мачехи к работе, а ее желанием во что бы то ни стало отличиться и этим унизить Егорку с отцом. Елизавета Фроловна рассказала племяннику, что мачеха была подругой его матери и еще до ее замужества любила отца. Тетку особенно возмущало, что мачеха ни за кого не вышла замуж после женитьбы отца, хотя в женихах недостатка не было: сам Матвей Васильевич тогда на нее заглядывался.
— Все хотела отцу твоему доказать, что от него не отступится, — объясняла тетка. — У, гордыня несусветная!.. Как змея подколодная притаилась и ждала своего часа. Виданное ли дело, ждать двенадцать лет? Я после смерти первого мужа поплакала-погоревала, да году не прошло и за второго вышла. Что ж тут ждать: бог дал — бог и взял…
Тетка готова была обвинить мачеху даже в смерти Егоркиной матери, хотя Егорка хорошо знал, что мать умерла во время войны от воспаления легких и мачеха тут была совсем ни при чем.
— Не отказалась и от однорукого! — осуждала мачеху тетка. — Дождалась-таки своего…
На робкие возражения Егорки, что мачеха добрая, тетка говорила сокрушенно:
— Святая простота! Дайте только срок, она вам с отцом доброту свою в полный рост выкажет. Вот увидишь: она еще отомстит за свое долгое ожиданье. Такие гордые этого никогда не прощают…
Егорка верил тетке и не верил, но уважать мачеху по-прежнему уже не мог. Он избегал оставаться с ней наедине, перестал ходить на ферму и по вечерам писать под ее диктовку рационы. В школе его уже больше никто не называл зоотехником, и авторитетом по животноводству считался теперь дружок Егорки — Олег. Несколько раз Егорка видел мачеху с заплаканными глазами и однажды слышал, как отец говорил ей, оправдываясь:
— Не могу же я Лизавету из дому выгнать. Ведь родная сестра!
Угодить тетке было очень трудно. Когда мачеха давала Егорке деньги на кино или сладости, Елизавета Фроловна говорила племяннику:
— Задабривает она тебя, к рукам прибрать хочет. Не поддавайся, Егорушка!..
Если же мачеха забывала дать денег пасынку, тетка обвиняла ее в жадности:
— Копейку пожалела знатная доярка! Без материнской ласки растешь ты, сиротиночка…
Не один раз тетка собиралась уезжать в город к своим детям — Мите и Марусе, которые, по клятвенному уверению Елизаветы Фроловны, хотя и не писали писем, но так сильно любили свою мать, что даже начинали худеть, когда долго ее не видели. Тетка переносила из кладовой в кухню тяжелый, вечно запертый зеленый сундук и не спеша приступала к сборам в дорогу. Но каждый раз случалось как-то так, что тетка все-таки не уезжала, тяжелый зеленый сундук водворялся на старое место, в кладовую, и все оставалось по-прежнему. Егорка не шутя опасался, что от любящих Мити и Маруси скоро останутся только кожа да кости…
Теткина рука с иглой, пришивая пуговицу, мелькала перед самым носом Егорки. Нитка была длинная, и руку тетка отводила далеко в сторону отца, как бы приглашая Егорку брать с него пример: отец отказался встречать мачеху — не встречай и ты. Егорке смертельно захотелось насолить чем-нибудь Елизавете Фроловне. Рискуя на всю жизнь остаться без памяти, он незаметно вытащил изо рта тряпку и забросил ее в дальний угол. Отец заметил его проделку, но ничего не сказал.
По твердому убеждению Егорки, отцу сильно не повезло в жизни. Почти всю войну отец провел в далеком тылу на охране крупного железнодорожного моста, а когда на исходе войны его часть направили на фронт, то эшелон попал под бомбежку, не доехав до передовой. Отца ранило, в госпитале ему отрезали руку, и он вернулся в родное село, так и не убив ни одного фашиста. Не повезло отцу и в мирной жизни: до войны он считался лучшим в колхозе бригадиром полеводческой бригады, а после войны его поставили завхозом, а на этой работе, как известно, хлопот много, а славы мало.
Колхоз под руководством расторопного Матвея Васильевича набирал силу, богател, год от году росло в нем число награжденных, а на парадной гимнастерке Егоркиного отца по-прежнему одиноко висела привезенная с войны медаль.
Десятки раз отец просил Матвея Васильевича определить его на «живую» работу.
— Потерпи, Фролович, — отвечал председатель. — Это ничего, что ты у нас без орденов ходишь. Не за горами время, когда будут награждать и завхозов: пользы от тебя нашей артели больше, чем от любого бригадира…
И отец соглашался. Но в глубине души он все еще надеялся поработать бригадиром и целые вечера просиживал над новыми агротехническими книгами, чтобы не отстать от жизни…
Тетка перекусила нитку, и Егорка, приплясывая от нетерпения, быстро напялил на себя шубейку и шапку, боясь, что отец раздумает и не пустит его из избы. Елизавета Фроловна осуждающе покачала головой и жалостливо сказала вслед выбегающему племяннику:
— Несчастный сиротинка!..
А «сиротинка», ничуть нечувствуя себя несчастным, кубарем скатился с лестницы и вихрем помчался к правлению колхоза.
На улице перед правлением стояло трое празднично разукрашенных саней и колхозный грузовик, на борту которого полыхал кумачовый плакат «Привет землякам — Героям Социалистического Труда!». Егорка поспел как раз вовремя: отъезжающие на станцию усаживались по местам, и шофер дядя Гриша пробовал носком сапога, туго ли надуты скаты. На миг Егорка заколебался: что предпочесть — сани или грузовик? В кабине грузовика сидел сам председатель Матвей Васильевич, на борту кумач и, что ты там ни говори, а грузовик все-таки машина, почти легковая. Но и сани не были обыкновенными санями: на дугах нетерпеливо звякали бубенцы, обещая серебристый перезвон в дороге, а конские гривы были так густо увиты пестрыми лентами, что лошади избегали встречаться с Егоркой глазами, стыдясь своего щегольства. Дядя Гриша дал долгий прощальный гудок, и гудок этот решил дело: Егорка проворно перемахнул через борт грузовика, сам себе удивляясь, как мог он еще сомневаться — ведь у саней гудка не было!
В кузове у передней стенки уже сидел Егоркин дружок — Олег, тот самый, который после приезда Елизаветы Фроловны стал считаться школьным авторитетом по животноводству.
— Садись рядом, — сказал Олег. — Здесь меньше трясет!
Егорка и сам знал, что поближе к кабине трясет меньше. Он давно уже заметил, что дружок любит говорить общеизвестные вещи. Олег был на полтора месяца старше Егорки и по этой причине относился к приятелю покровительственно, хотя и не стыдился списывать у него трудные задачки.
Пятнадцать километров до станции мчались «с ветерком», оставив далеко позади нарядные сани с дедовскими бубенцами. Егорка окончательно решил, что когда вырастет большим, то обязательно станет шофером, а не конюхом, как он опрометчиво надумал летом, когда тайком пробирался на конюшню дергать из конских хвостов волос для лески.
На станции, в зале ожидания, было людно: из соседних колхозов тоже приехали встречать своих награжденных. Егорка и Олег с трудом нашли свободное место в углу между бригадой плотников с пилами и топорами, обернутыми мешковиной, и человеком с толстым брезентовым портфелем, с каким в Егоркин колхоз приезжали заготовители из района. Заготовитель, наверно, был очень занятой человек, так как за весь день не успел прочитать газету дома и теперь читал ее на вокзале.
— Держи место! — начальническим тоном сказал Олег, отошел к стене и долго морщил нос, разглядывая расписание, а потом, вернувшись к Егорке, объявил таинственным шепотом, что московский поезд прибывает через полчаса, о чем Егорка к тому времени и сам уже знал из разговора соседей-плотников.
Из вокзальной парикмахерской вышел председатель колхоза имени Чкалова. Стоящий невдалеке от ребят Матвей Васильевич провел рукой по щеке и, хотя ему вполне можно было еще не бриться, тоже пошел в парикмахерскую, не желая ни в чем уступать чкаловцам, с которыми Егоркин колхоз соревновался.
Олег разузнал, что в буфете есть чай — дешевый и сладкий, — и, явно подражая кому-то, предложил пойти «погреться горяченьким». Егорка еще ни разу в жизни не пил чай в железнодорожном буфете и согласился.
В буфете Егорке понравилось. Старый седой официант принес им на блестящем медном подносе два стакана чаю в высоких подстаканниках и обращался с Егоркой и Олегом так почтительно-вежливо, будто не видел, что перед ним дети, а принимал их за самых настоящих взрослых пассажиров, которые едут куда-то очень далеко — например, в город Владивосток.
Матвей Васильевич и председатель колхоза имени Чкалова тоже заглянули в буфет. Они подошли к стойке, и все Егоркины односельчане и чкаловские колхозники, какие находились в буфете, как по команде замолчали, оторвались от своих кружек и стаканов и стали смотреть, что будут делать их председатели. Матвей Васильевич для начала распахнул свой дубленый полушубок, чтобы все желающие могли беспрепятственно любоваться орденом Ленина, полученным в прошлом году за развитие колхозного животноводства, и тремя фронтовыми орденами Славы, которые косо, по-морскому, висели вдоль лацкана пиджака. Но чкаловский председатель тоже не остался в долгу, хотя был на целую голову ниже Матвея Васильевича и далеко не такой бравый на вид, как тот. Он медленно раздвинул полы зимнего пальто с барашковым воротником, и все увидели у него на бархатной тужурке тоже орден Ленина, полученный за высокие урожаи зерна, и орден Отечественной войны первой степени, которым чкаловский председатель был награжден за хорошую работу колхоза в военные годы.
Матвей Васильевич заказал у буфетчика две стопки водки и, перед тем как выпить, проговорил:
— Будем здоровы!
А чкаловский председатель сказал:
— Дай бог не последнюю! — и, осушив свою стопку, вкусно крякнул.
Председатели закусили красными яблоками, которые буфетчик из уважения к знатным клиентам так долго тер чистым полотенцем, что Егорка опасался, как бы он не сорвал с яблок кожуру. Чкаловский председатель достал из кармана пальто коробку папирос «Казбек» и гостеприимно распахнул ее перед Матвеем Васильевичем. Тот из вежливости взял папиросу, хотя Егорка хорошо знал, что их председатель не курит. Чкаловский председатель подмигнул своим колхозникам и заказал две стопки коньяку. Чкаловцы одобрительно загудели, а колхозники из Егоркиной деревни тревожно переглянулись. Но Матвей Васильевич знаком успокоил односельчан, выпил коньяк, довольно удачно для некурящего человека пустил кольцо дыма и твердым голосом попросил буфетчика открыть бутылку шампанского. Кто-то из чкаловцев ахнул от удивления, а их председатель растерянно заморгал и, пока буфетчик снимал с верхней полки давно уже стоявшую там, судя по толстому слою пыли, нарядную бутылку шампанского в серебряной шапочке, обежал глазами весь буфет, но не нашел ничего, чем можно было бы перещеголять Матвея Васильевича.
— Женский это напиток… — осудил чкаловский председатель шампанское, но бокал с пенящимся вином принял обеими руками.
— Что ж, будем здоровы, — сказал свое неизменное Матвей Васильевич.
— Будем здоровы… — послушно, как эхо, повторил побежденный чкаловский председатель.
…Когда до прихода поезда оставалось пять минут, Егорка с Олегом вышли из буфета. На перроне было пусто, лишь в багажной возле весов возился старик, очень похожий на колхозного пасечника деда Никифора, — только у Никифора взгляд был, как у всех пасечников, тихий и умиленный, а у весовщика — быстрый и недоверчивый. Прошли два носильщика в новых необмятых фартуках, а вслед за ними пролетели два воробья — по-зимнему пухлые, озабоченные, будто и они встречали кого-то с поездом. Потом из вокзала вышел дежурный в красной фуражке, и тотчас же, словно только его и дожидался, за поворотом дороги затрубил паровоз.
На перрон высыпали колхозники, вышел раскрасневшийся, с блестящими глазами Матвей Васильевич, на ходу застегивая полушубок. Рядом с Матвеем Васильевичем шагал секретарь райкома, легковую машину которого Егорка видел из окна буфета.
Паровоз обдал Егорку машинным теплом, вагоны, сбавляя ход, заскрипели тормозами. Все вагоны были похожи друг на друга, и определить по внешнему виду, в каком из них приехала мачеха, было никак невозможно.
— Айда вперед! — сказал Олег. — Наши ближе к паровозу будут.
— А может, сзади? — предположил Егорка.
— Награжденные — и сзади? Эх ты, зоотехник! — презрительно сказал Олег и побежал вдогонку за паровозом.
Егорка из упрямства остался на месте. Кто-то положил на плечо ему тяжелую руку. Егорка вскинул голову и увидел рядом с собой председателя колхоза. От Матвея Васильевича пахло вином и одеколоном.
— Что ж отец не приехал встречать? — спросил председатель. — Нехорошо…
Вдоль всего поезда, от паровоза к хвосту, прокатился раскатистый лязг буферов, и состав остановился. На площадку вагона, немного наискось от Егорки, вышла Настя Воронкова. На груди доярки, приколотая прямо к пальто, сияла звездочка Героя. С золотой звездочкой на груди маленькая Настя стала выше ростом и красивей. Она так торжествующе смотрела с высоты площадки на односельчан, пришедших ее встречать, как будто и не было у нее никогда перерасхода концентратов. За Настей показалась сестра Олега, хотя она была награждена только медалью «За трудовую доблесть» и, по мнению Егорки, могла бы посидеть в вагоне, пока не выйдут все Герои.
Потом стали сходить чкаловцы. Егорка не знал, кто из них чем награжден, и, чтобы понапрасну не обидеть людей, не стал их осуждать, как Олегову сестру.
Мачеха вышла предпоследней. В руке она держала маленький чемоданчик, золотой звездочки поверх пальто видно не было. Сначала Егорке не понравилось, что мачеха скромничает, но потом он решил: когда сам вырастет большим и заработает свои ордена, — тоже воздержится выставлять их напоказ. Все будут знать, что награды у него есть, а носить их он не станет — так даже интересней!.. Мачеха быстрым ищущим взглядом окинула толпу. Егорка, чтобы попасть ей на глаза, приподнялся на цыпочки. Заметив Егорку, мачеха рассеянно улыбнулась, поискала еще кого-то в толпе, не нашла, и по лицу ее скользнула тень. Егорка догадался: «Отца ищет», вспомнил слова тетки: «Двенадцать лет ждала» — и огорченно вздохнул, обиженный на отца. И почему он не поехал на станцию?
Олег протиснулся сквозь толпу к Егорке. Вид у Олега был такой же независимый, как и раньше, будто он оказался прав и награжденные ехали в самом первом от паровоза вагоне.
Председатель сельсовета пошептался о чем-то с усатым проводником, взобрался на верхнюю ступеньку вагона и начал говорить приветственную речь. Председатель был молод, еще год назад заведовал колхозным клубом и всем от мала до велика был известен как Павлуша-избач. Да и теперь Павлом Тихоновичем его величали лишь злостные неплательщики налогов и другие нарушители закона, а все честные люди звали его Павлушей-председателем.
Имя Олеговой сестры, когда подошла очередь и ее приветствовать, Павлуша-председатель произнес громко и с большим чувством. Никто из колхозников этому не удивился, так как все знали, что сестра Олега — Павлушина невеста. Всем было известно также, что у Павлуши плохая память на цифры, и поэтому никто тоже не удивился, когда он достал из кармана узкий листок и стал читать, сколько каждая из награжденных доярок надоила за год. Но секретарь райкома, видимо, не знал всего этого, и Егорка заметил, как при появлении бумажки секретарь нахмурился. А усатый проводник, заслушав высокие цифры удоев, стал молодцевато подкручивать усы, словно и он имел какое-нибудь отношение к успехам доярок.
Из окна вагона, расплющив о стекло нос, на Егорку с Олегом с завистью смотрел мальчик одних с ними лет в синей матросской курточке. Рядом с ним стояла строгая женщина в пенсне, при виде которой Егорке почему-то захотелось вслух произнести холодные и непонятные слова вокзальных объявлений — такие, как «плацкарта» или «транзит». Олег показал мальчику в матроске язык, и тот тайком от женщины в пенсне очень умело ответил ему тем же, после чего Олег самыми доходчивыми знаками стал вызывать его из вагона подраться, но мальчик в матроске сделал вид, что не понимает, и отошел от окна.
А секретарь райкома хмурился все больше и больше, и когда Павлуша дошел до характеристики работы Олеговой сестры и сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха в грудь, секретарь перебил его:
— Дорогой товарищ, зачем же людей на морозе держать?
Павлуша пробормотал: «Какой же это мороз, всего десять градусов…» — и начал снимать рукавицы, чтобы доказать, что никакого мороза нету. Но секретарь райкома не стал ждать, пока Павлуша-председатель снимет рукавицы. Коротко, не называя цифр, он поздравил доярок с наградой, поблагодарил их за то, что они на всю страну прославили район, и в заключение предложил подвезти Героев на своей машине.
На заднее сиденье райкомовской «эмки» сели Настя Воронкова и мачеха. Секретарь поместился впереди, рядом с шофером.
— Татьяна Ивановна, возьми своего мальца, — сказал Матвей Васильевич мачехе. — Я по его носу вижу, ему до зарезу хочется прокатиться на легковой машине!
Егорка подивился, как это Матвей Васильевич умеет читать по носу, чего хочет человек, и храбро полез в «эмку». Шофер покосился на его валенки, но ничего не сказал.
Олег остался на улице, и Егорка из машины с торжеством посмотрел на дружка, но тот ответил ему таким равнодушно-снисходительным взглядом, словно по меньшей мере тысячу раз ездил в «эмке» и это ему порядком уже надоело. Задетый за живое, Егорка вспомнил безошибочный способ Матвея Васильевича, внимательней присмотрелся к носу приятеля и сразу увидел, что равнодушие Олега напускное и тот ему сильно завидует.
Машина тронулась, и Егорка закачался на мягком сиденье. Настя Воронкова начала рассказывать секретарю, как ей вручали награду, а Егорка тихо попросил мачеху:
— Можно, я звездочку посмотрю?
Татьяна Ивановна расстегнула пальто, и на ее вязаной кофточке неярко блеснула золотая звездочка — точь-в-точь такая же, как ее рисуют на плакатах.
Егорка бережно погладил звездочку мизинцем, а потом снизу вверх приподнял на цепочке, пробуя на вес. Звездочка была теплая и тяжелая.
— А орден Ленина где? — совсем расхрабрившись, спросил Егорка требовательным шепотом.
— В коробочке… — также шепотом ответила мачеха, привлекла пасынка к себе и провела рукой по его волосам — густым и мягким, как у отца.
Не избалованный лаской, Егорка шумно засопел и уткнулся лицом в плечо Татьяны Ивановны. Ему сильно хотелось порадовать чем-нибудь мачеху — например, сказать ей, что теперь он каждый день будет приходить на ферму, а по вечерам писать рационы. Но в носу у него предательски защипало, а с глазами стало твориться что-то и совсем уж неладное, и Егорка сидел тихо и смирно, боясь оторваться от теплого спасительного плеча…
Секретарь райкома довез их до самой избы. Маленький легкий чемоданчик Егорка с мачехой внесли с улицы вместе, крепко держась за него руками. Елизавета Фроловна презрительно усмехнулась при виде такой дружбы.
Отец сидел на старом месте, раскрытый том «Агробиологии» лежал перед ним на столе. Но смотрел отец не в книгу, а прямо перед собой, словно увидел на стене что-то новое, никогда не замечаемое прежде. Когда Татьяна Ивановна сняла пальто, отец встал из-за стола и шагнул к ней. Пустой правый рукав рубашки качнулся и повис вдоль тела. Избегая смотреть на золотую звездочку, отец сказал глухо:
— Прости, Таня, что не встретил… Блажь какая-то пришла в голову, одолела на время… Прости!
— Ну что ты, что ты! — растерянно сказала мачеха и покраснела, как девушка.
Глаза ее стали лучистыми, и в них засветилась такая давняя всепрощающая любовь к отцу, что Егорке почему-то даже неловко было смотреть на нее, и он поспешно шагнул к стенному календарю, чтобы еще раз проверить, когда же наконец день обгонит ночь. А тетка открыла рот, собираясь сказать что-то обычное свое, ехидное, но, увидев глаза мачехи, поперхнулась и сердито загремела в печи ухватом.
Татьяна Ивановна достала из чемоданчика подарки: цигейковую шапку мужу, кожаную куртку с блестящими застежками Егорке и шаль для Елизаветы Фроловны. Тетка примерила шаль и, хотя та сидела на ней лучше некуда, сказала, поджав тонкие губы:
— Короткие нынче шали делают… — и так посмотрела на Татьяну Ивановну, будто подозревала, что она отрезала кусок от ее шали.
Егорка мигом облачился в кожаную куртку и сразу стал похож на летчика. Для полноты сходства он взобрался на печку, чтобы смотреть на все сверху, как бы с самолета.
А мачеха сняла праздничную кофточку, повесила ее в шкаф и надела старый ватник, в котором всегда ходила на ферму.
— Ради такого дня могла бы и дома посидеть, — обиженно сказал отец. — Позаботятся на ферме о твоих коровах!
— Я на одну минутку, Паша. Узнаю только, как тут без меня Снегурка жила: очень уж она норовистая… — виновато сказала Татьяна Ивановна и уже в дверях добавила — Сегодня в правлении вечер будет по поводу… Ну, сам знаешь… Сначала торжественная часть, потом ужин. Матвей Васильевич просил, чтобы ты обязательно пришел.
— Раз приглашали — так приду: кто же от выпивки отказывается! — деланно веселым голосом сказал отец, но Егорка с печки видел, что ему совсем не весело.
Отцу было стыдно перед мачехой, он хотел быстрее загладить вину, но не знал, как за это взяться. Егорка впервые в жизни почувствовал свое превосходство: отец еще не понимал, как легко и просто можно помириться с мачехой, если уткнуться в ее плечо…
— Уже заискиваешь, братец? — тоненьким голоском спросила Елизавета Фроловна, когда мачеха вышла. — Погоди, это только цветочки, ягодки еще впереди! Что бы ты теперь ни сделал, о тебе будут говорить: муж Героини… Пропала твоя самостоятельность!
— Слушай, сестра, — тихо сказал отец, — а не загостилась ли ты у нас? Ведь тебя ждут не дождутся Митя с Марусей, стыдно так обижать любимых детей!
— Это как же понимать? — громким шепотом спросила Елизавета Фроловна. — Родную сестру выгоняешь?
— Выгоняю! — твердо сказал отец и пояснил: — От тебя вовремя не избавишься — так ты нас всех разгонишь!
Егорка одобрительно хихикнул и сел на краю печи, чтобы в случае нужды быстро оттолкнуться от борта печки-самолета и затяжным прыжком прийти отцу на помощь. Тетка бросила кухонную тряпку на пол, ударила по пей каблуком и закричала:
— Ноги моей здесь никогда больше не будет! Просить, умолять станешь — все равно не приеду!
— Сделай милость, не приезжай, — устало сказал отец.
Елизавета Фроловна схватила с лавки дареную шаль, подержала ее на весу, как бы раздумывая, не швырнуть ли шаль на пол вслед за кухонной тряпкой. Егорка по лицу тетки видел, что искушение бросить шаль было очень велико. Но Елизавета Фроловна переборола себя, сунула подарок под мышку и, гордо вскинув подбородок, вышла из комнаты, завозилась с тяжелым сундуком в кладовой. Отыгралась тетка на двери: так хлопнула ею, что у Егорки добрых пять минут шум стоял в ушах, а за печкой сразу, как подкошенный, затих сверчок и молчал потом целую неделю.
Отец обошел комнату вдоль стен, остановился возле шкафа и воровато осмотрелся вокруг. Егорка притаился на печи, будто его там и не было. Отец рывком распахнул дверцу. В полутьме шкафа на кофточке мачехи тепло сияла золотая звездочка. Рядом с кофточкой висела парадная отцова гимнастерка с медалью. Переводя глаза с золотой звездочки на свою единственную медаль, отец долго неподвижно стоял у раскрытого шкафа. Потом он легко вздохнул и точно так же, как недавно Егорка в райкомовской «эмке», бережно погладил звездочку мизинцем.


 ура положила руку на штурвал и крикнула в переговорную трубку:
— Полный вперед!
За кормой катера дружно заклокотала вода. Рывком взмыл затопленный тяговый трос; повисшая на нем тонкая водяная пленка радужно сверкнула на солнце. Пучки бревен грузно зашевелились, вытягиваясь вдоль троса. У передней кромки головных пучков вскипал невысокий бурливый вал.
Катер работал на буксировке древесины от сплоточной запани к формировочному рейду, расположенному в четырех километрах ниже по течению реки. На рейде загорелые, жадные до работы формировщики составляли из поступающих катерных возов транзитные плоты.
Свежий ветер гулял по реке. Шура запахнула полы просторной брезентовой куртки. Катер повиновался каждому движению ее руки, и от этого ощущения власти над послушным мощным механизмом Шурой овладело горделивое чувство собственной силы.
Она заглянула в накладную, разочарованно поморщилась: всего лишь триста десять кубометров. Шуре, хотелось провести длинный тяжелый воз, утереть нос старшему рулевому Векшину и мотористу Боровикову — насмешнику и зубоскалу. На катере Шура работала всего лишь вторую неделю, и ей казалось, что новые товарищи все еще присматриваются к ней, прикидывают, на что она способна.
Обмелевшая река на всем протяжении до формировочного рейда пестрела частыми песчаными косами, и осторожный Векшин больше четырехсот кубометров не брал. «Попрошу мастера составить воз кубометров на шестьсот — и проведу, — решила Шура. — Пусть знают, с кем имеют дело!»
Впереди зазеленел густо заросший кустарником остров. Это был самый трудный участок пути. Против острова поперек реки вытянулась изогнутая серпом бурая песчаная коса. Левый проход был широкий и мелкий, а правый, по-над самым островом, — узкий и глубокий. Второй проход был опасен быстрым боковым течением в протоку, и Шура водила здесь катер только холостым рейсом.
Катер уже обогнул слева косу, когда вдруг вздрогнул всем корпусом, будто споткнулся. Шура выглянула из рубки: сосна со сломанной верхушкой маячила на берегу против катера, как привязанная. Воз не двигался — держали севшие на мель хвостовые пучки.
— Самый полный! — крикнула Шура в машинное отделение.
Взвихренная винтом вода бурлила за кормой, скрипел туго натянутый трос, но пучки не трогались с места. Шура осаживала катер назад, пробовала взять рывком, но безуспешно: проклятые пучки сидели как вкопанные.
По песку отмели прогуливалась сытая важная ворона. Склонив голову набок, она внимательно посмотрела на Шуру, осуждающе качнула хвостом и неторопливой обидной раскачкой пошла прочь, словно хотела сказать: «Что на тебя смотреть! Легкий воз не смогла провести, а туда же, расхвасталась: подавайте ей шестьсот кубометров!»
Векшин с учеником Сеней вылезли из кубрика. Сеня сочувственно шмыгнул носом, рулевой уныло пробасил:
— Как же ты так? Ведь говорил: держись подальше от песка.
Появился Боровиков. Шура настороженно поправила косынку. Хотя официально капитаном команды считался рулевой Векшин, но верховодил всеми делами на катере придирчивый моторист Боровиков. Сейчас его должно было радовать, что она опозорилась, дала повод для насмешек.
Боровиков зевнул, сказал Сене:
— Ступай расшлаговывай, — и скрылся в кубрике.
По всем признакам, моторист должен был ругать Шуру, а он даже не глянул в ее сторону. Зря пропадали все заранее приготовленные возражения и колкие слова. Сначала Шура растерялась, а потом еще больше озлилась на Боровикова. «Снисходительность проявляет!»
Прыгая по зыбким пучкам, Сеня добрался до хвоста воза и снял трос с пучков, севших на мель.
— Шесть пучков застряло, — доложил он, вернувшись на катер.
— Считай: сорок кубометров! — мрачно сказал Векшин и сплюнул за борт.
ура положила руку на штурвал и крикнула в переговорную трубку:
— Полный вперед!
За кормой катера дружно заклокотала вода. Рывком взмыл затопленный тяговый трос; повисшая на нем тонкая водяная пленка радужно сверкнула на солнце. Пучки бревен грузно зашевелились, вытягиваясь вдоль троса. У передней кромки головных пучков вскипал невысокий бурливый вал.
Катер работал на буксировке древесины от сплоточной запани к формировочному рейду, расположенному в четырех километрах ниже по течению реки. На рейде загорелые, жадные до работы формировщики составляли из поступающих катерных возов транзитные плоты.
Свежий ветер гулял по реке. Шура запахнула полы просторной брезентовой куртки. Катер повиновался каждому движению ее руки, и от этого ощущения власти над послушным мощным механизмом Шурой овладело горделивое чувство собственной силы.
Она заглянула в накладную, разочарованно поморщилась: всего лишь триста десять кубометров. Шуре, хотелось провести длинный тяжелый воз, утереть нос старшему рулевому Векшину и мотористу Боровикову — насмешнику и зубоскалу. На катере Шура работала всего лишь вторую неделю, и ей казалось, что новые товарищи все еще присматриваются к ней, прикидывают, на что она способна.
Обмелевшая река на всем протяжении до формировочного рейда пестрела частыми песчаными косами, и осторожный Векшин больше четырехсот кубометров не брал. «Попрошу мастера составить воз кубометров на шестьсот — и проведу, — решила Шура. — Пусть знают, с кем имеют дело!»
Впереди зазеленел густо заросший кустарником остров. Это был самый трудный участок пути. Против острова поперек реки вытянулась изогнутая серпом бурая песчаная коса. Левый проход был широкий и мелкий, а правый, по-над самым островом, — узкий и глубокий. Второй проход был опасен быстрым боковым течением в протоку, и Шура водила здесь катер только холостым рейсом.
Катер уже обогнул слева косу, когда вдруг вздрогнул всем корпусом, будто споткнулся. Шура выглянула из рубки: сосна со сломанной верхушкой маячила на берегу против катера, как привязанная. Воз не двигался — держали севшие на мель хвостовые пучки.
— Самый полный! — крикнула Шура в машинное отделение.
Взвихренная винтом вода бурлила за кормой, скрипел туго натянутый трос, но пучки не трогались с места. Шура осаживала катер назад, пробовала взять рывком, но безуспешно: проклятые пучки сидели как вкопанные.
По песку отмели прогуливалась сытая важная ворона. Склонив голову набок, она внимательно посмотрела на Шуру, осуждающе качнула хвостом и неторопливой обидной раскачкой пошла прочь, словно хотела сказать: «Что на тебя смотреть! Легкий воз не смогла провести, а туда же, расхвасталась: подавайте ей шестьсот кубометров!»
Векшин с учеником Сеней вылезли из кубрика. Сеня сочувственно шмыгнул носом, рулевой уныло пробасил:
— Как же ты так? Ведь говорил: держись подальше от песка.
Появился Боровиков. Шура настороженно поправила косынку. Хотя официально капитаном команды считался рулевой Векшин, но верховодил всеми делами на катере придирчивый моторист Боровиков. Сейчас его должно было радовать, что она опозорилась, дала повод для насмешек.
Боровиков зевнул, сказал Сене:
— Ступай расшлаговывай, — и скрылся в кубрике.
По всем признакам, моторист должен был ругать Шуру, а он даже не глянул в ее сторону. Зря пропадали все заранее приготовленные возражения и колкие слова. Сначала Шура растерялась, а потом еще больше озлилась на Боровикова. «Снисходительность проявляет!»
Прыгая по зыбким пучкам, Сеня добрался до хвоста воза и снял трос с пучков, севших на мель.
— Шесть пучков застряло, — доложил он, вернувшись на катер.
— Считай: сорок кубометров! — мрачно сказал Векшин и сплюнул за борт.

 воскресенье Семен Григорьевич проснулся ровно в шесть утра, как и в обычные будничные дни. Не зажигая света, привычным движением руки снял со стены холодные радионаушники. Вытянувшись во весь свой невеликий рост, он лежал неподвижно на спине и слушал последние известия с таким видом, будто принимал отчет со всех концов земли.
О заводе, на котором работал Семен Григорьевич, сегодня ничего не передавали. Сначала это огорчило старого мастера, но потом он резонно рассудил, что нельзя же каждый день прославлять один и тот же завод. «Надо и других порадовать, чтоб не закисли от зависти!» — решил Семен Григорьевич, и емусамому понравилось, что человек он справедливый и смотрит на все с государственной точки зрения.
воскресенье Семен Григорьевич проснулся ровно в шесть утра, как и в обычные будничные дни. Не зажигая света, привычным движением руки снял со стены холодные радионаушники. Вытянувшись во весь свой невеликий рост, он лежал неподвижно на спине и слушал последние известия с таким видом, будто принимал отчет со всех концов земли.
О заводе, на котором работал Семен Григорьевич, сегодня ничего не передавали. Сначала это огорчило старого мастера, но потом он резонно рассудил, что нельзя же каждый день прославлять один и тот же завод. «Надо и других порадовать, чтоб не закисли от зависти!» — решил Семен Григорьевич, и емусамому понравилось, что человек он справедливый и смотрит на все с государственной точки зрения.
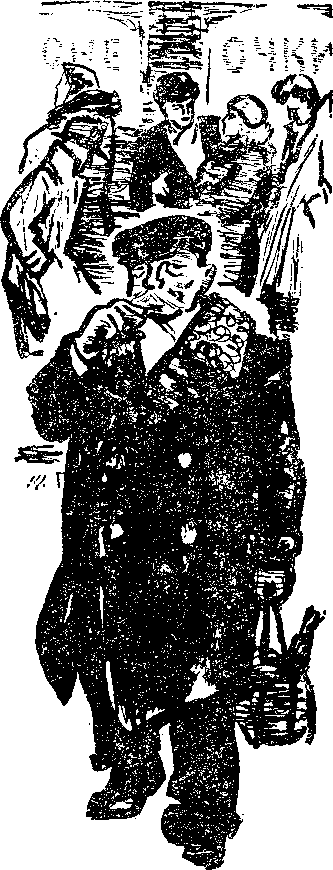 Захотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, но Екатерина Захаровна — подруга жизни — что-то не на шутку разоспалась сегодня. Семен Григорьевич обиженно кашлянул и стал бесшумно одеваться. Он представил, как устыдится жена, когда, проснувшись, увидит его уже на ногах, и почувствовал себя отомщенным.
До завтрака Семен Григорьевич работал по хозяйству: припаял ручку к кастрюле и подвинтил в двух стульях ослабшие шурупы.
Вся мебель в квартире была старая, но благодаря заботам хозяина еще держалась и выглядела вполне прилично. Как и он сам, вещи, окружающие Семена Григорьевича, успели уже вдоволь поработать на своем веку, вид имели скромный и заслуженный.
После завтрака Семен Григорьевич сел писать письмо младшему сыну в Москву. Сын учился на последнем курсе института, был круглым отличником и собирался на будущий год поступать в аспирантуру. И хотя солидное строгое слово «аспирантура» крепко пришлось по душе Семену Григорьевичу, который питал стариковскую слабость к словам ученым и не совсем понятным, хотя ему приятно было думать, что родной Васютка очень даже просто может заделаться профессором, — но для пользы дела мастер переборол свою отцовскую гордость и написал сыну: «Мой тебе совет — поработай сперва годика два-три на производстве, стань инженером не только по диплому, а и на деле. А тогда уж со спокойным сердцем шагай себе и в аспирантуру…»
Писал Семен Григорьевич не спеша, подолгу обдумывая каждое слово, прежде чем проставить его на бумаге крупным ученическим почерком. Часто заглядывал в орфографический словарик — чтобы сыну не стыдно было за своего отца перед образованной женой и друзьями-студентами.
В дверях, посмеиваясь, маячила Екатерина Захаровна. Очень уж ей смешно было смотреть, как роется в маленькой книжечке ее старик, шевеля губами от напряжения. Семен Григорьевич осуждающе косился на жену, но злополучного словарика из рук не выпускал.
— Собери белье, — сказал он, надписывая конверт.
— И охота тебе каждый выходной в баню переться? — запротестовала Екатерина Захаровна. — Есть, кажется, ванна: напусти воды и мойся хоть целый день!
— Напусти сама и мойся, — беззлобно посоветовал Семен Григорьевич, давно уже привыкший к подобным разговорам. — Тесно в твоей ванне, как в мышеловке, а настоящее мытье простора требует, чтобы веником было где помахать, попотеть всласть. В ванне только детей купать, а взрослому человеку баня необходима: там он душой добреет. Жизнь прожила, а такой простой вещи не понимаешь… Собери-ка белье!
Жена сокрушенно покачала головой, вышла из комнаты и сейчас же вернулась с кошелкой, из которой воинственно высовывался кончик березового веника. Вернулась она очень быстро, ибо давно уже было собрано, заботливо завернуто в газету и помещено в кошелку белье, мочалка и все, что требуется человеку, предполагающему добреть душой.
Екатерина Захаровна проводила мужа до двери, подняла ему воротник пальто. Семен Григорьевич неодобрительно пошевелил своими запорожскими усами, упрямо опустил воротник и бойко зашагал по улице, помахивая кошелкой, — маленький, стройный, самый красивый для Екатерины Захаровны во всем мире.
У почтового ящика, опуская письмо, Семен Григорьевич встретил главного инженера завода.
— Хорошо, что свиделись! — обрадовался мастер. — Непорядок у нас в цеху с токарными станками: до сих пор не разделили на черновые и чистовые. Вот потеряем точность — тогда хватимся, а сейчас всем недосуг…
Главный инженер заверил Семена Григорьевича, что завтра же лично займется токарными станками, и, завистливо покосившись на кошелку с веником, полюбопытствовал:
— В баньку?.. Составил бы компанию, да на завод надо. Вы уж вылейте за мое здоровье шаечку-другую!
Семен Григорьевич обещал уважить просьбу: главный инженер был тоже не дурак попариться.
В вестибюле бани на вешалке номерка Семену Григорьевичу не дали: его старомодное драповое пальто с наружным карманом на груди здесь слишком хорошо знали, чтобы спутать с чьим-либо другим.
С вожделением поглядывая на дверь, ведущую в банное отделение, Семен Григорьевич занял очередь в парикмахерскую. Перед ним стоял толстый лысый мужчина с буйной иссиня-черной щетиной на щеках. Волосами со щек ему с излишком хватило бы покрыть всю лысину. «Эк у тебя волосы неудачно распределились!» — посочувствовал Семен Григорьевич.
Когда толстяк оказался в очереди первым, он вдруг забеспокоился: начал поминутно просовывать голову в парикмахерскую, сердито засопел.
— Вот невезение! — пожаловался он Семену Григорьевичу. — Придется идти к пигалице. Чует мое сердце: исцарапает она всего, изрежет… Нет, уж если ты женщина, — убежденно заявил толстяк, — так занимайся разными там маникюрами, а в мужскую парикмахерскую не суйся!
Но толстяк ошибся. К «пигалице» пришлось идти не ему, а Семену Григорьевичу.
— Какую стрижку, папаша, — под польку, полубокс? — профессиональной скороговоркой осведомилась мастерица.
«Ишь, дочка нашлась!» — подивился Семен Григорьевич, нахмурил клочковатые брови и сказал наставительно:
— А это уж вам лучше знать. Сделайте что-нибудь… соответственное.
И Семен Григорьевич неопределенно покрутил растопыренными пальцами перед своим лицом. «Пигалица» усмехнулась.
Пока она трудилась над его волосами, Семен Григорьевич успел хорошо рассмотреть ее. Мастерица была молодая, рыжеватая. У нее были большие строгие глаза и прохладные быстрые пальцы.
Лысый толстяк стал громко жаловаться своему мастеру-мужчине на тупую бритву, и Семен Григорьевич злорадно подумал, что толстяк прогадал: «пигалица» была отличной работницей. Ловкие ножницы, щебеча и пришепетывая, так и порхали над головой. Семен Григорьевич сидел неподвижно и только глазами моргал, боясь, как бы бойкая мастерица не отхватила ему, чего доброго, половину уха.
— А бриться я вам советую после бани, — сказала «пигалица», снимая простыню. И, предупреждая замечание Семена Григорьевича об очереди, добавила — Прямо ко мне идите, без всякой очереди.
Подозревая подвох, Семен Григорьевич начал было хмуриться и даже пустил в дело знаменитые свои усы, но вдруг неожиданно для себя самого согласился.
— Только я нескоро, — предупредил он. И, понизив голос, объяснил доверительно: — Я париться люблю…
Семен Григорьевич строго придерживался выработанного годами порядка мытья в бане. Раздевшись, он первым делом пошел париться «насухую».
В парной стоял добрый пар, но Семену Григорьевичу этого было мало. Он до отказа открыл кран с паром и, чтобы сделать пар пожестче, вылил шайку холодной воды на раскаленный радиатор. Кругом зароптали, но Семен Григорьевич плеснул на радиатор еще шайку и, радостно крякая, полез на полок. Навстречу ему, чертыхаясь, с полка скатилось несколько человек.
Пока веник парился в шайке с кипятком, Семен Григорьевич сидел на скамье, потел и, покряхтывая от удовольствия, растирал заросшую седым волосом грудь. Пар был такой резкий, что все входящие в парную сразу пригибались к полу, словно кланялись Семену Григорьевичу, торжественно восседающему на самом верху полка.
— Это черт знает, что такое! Форменный произвол! — возмущался давешний толстяк, шаром выкатываясь из парной.
— Явился банный король! — крикнул мастер Зыков — дружок и одногодок Семена Григорьевича, перебираясь со своей шайкой поближе к двери.
Семен Григорьевич сначала хотел было спуститься вниз и поздороваться с приятелем за руку, но потом засомневался, прилично ли голым людям пожимать друг другу руки, и лишь помахал издали потяжелевшим веником, приглашая Зыкова к себе наверх. Тот приглашения не принял. По выполнению производственного плана мастера-одногодки шли вровень, не намного отставал Зыков от дружка и в освоении скоростных методов резания, но в банном жестоком деле даже и во сне не подумывал он тягаться с Семеном Григорьевичем — знал свое место…
Когда все тело покрылось потом и стало приятно теснить грудь, Семен Григорьевич намылился и подпустил еще пару.
Начиналось самое главное.
Приплясывая, Семен Григорьевич принялся стегать себя огненным веником по бокам, спине, животу. Он стегал себя все сильней и сильней, словно был своим самым заклятым врагом. От наслаждения Семен Григорьевич ухал, издавал нечленораздельные звуки, даже стонал слегка.
Один за другим выбегали из парной люди, а Семен Григорьевич все хлестал себя и хлестал. Он парил веник в горячей воде, студил в холодной, намыливал его, сам намыливался и обливался водой. Были испробованы все комбинации, какие только можно составить из веника, мыла, пара, холодной и горячей воды.
Под конец в парной осталось всего два человека: Семен Григорьевич и молодой, ладно скроенный парень с синим якорем-татуировкой на груди и большим белым пятном шрама на красном распаренном боку. Парень упрямо не хотел признать себя побежденным и хотя спустился на самый низ, но окончательно не сдавался, не уходил из парной. А Семена Григорьевича обуял спортивный азарт, и он все больше и больше подпускал пару.
Стены, скамейки, пол накалились до такой степени, что к ним больно было прикоснуться. Воздух обжигал. Приплясывая и напевая себе под нос что-то такое, что никак невозможно передать ни словами, ни музыкой, Семен Григорьевич время от времени поглядывал на паренька, опасаясь, как бы тот не свалился. В богатой банной практике Семена Григорьевича подобные случаи бывали.
Парень сидел у самой двери, бессильно опустив руки, тяжело дыша раскрытым ртом.
— Ну и чертов старик! — сказал он, перехватив сочувствующий взгляд Семена Григорьевича, и, пошатываясь, вышел из парной.
В гордом одиночестве старый мастер долго еще добрел душой.
Наконец, когда уже совсем истрепался многострадальный веник и все тело горело, как ошпаренное, Семен Григорьевич закрутил трубу с паром и покинул парную — весь красный, всклокоченный, торжествующий. Целых десять минут валил от него пар— так много вобрал он в себя тепла.
Отыскав в углу скамейку поукромнее, Семен Григорьевич улегся и пролежал на ней с полчаса. Свободно дышала вся кожа, ощущение было такое, будто он заново народился. Семен Григорьевич даже вздремнул маленько.
Потом он мылся, тер себя мочалкой, лил на себя, не жалея, шайку за шайкой. Приятели Семена Григорьевича не шутя говорили, что для бани он — прямое разорение.
Краны сегодня не брызгались кипятком, как раньше, и Семен Григорьевич понял, что не зря он в прошлое воскресенье указывал банщику на эту неисправность. Мастер искоса посмотрел на своих соседей: не догадываются ли они, кто тут за них старается? Но все были заняты неотложными банными делами, и никто не обращал на него внимания. «Мойтесь на здоровье, загорелые!» — великодушно разрешил Семен Григорьевич.
Напоследок он еще раз зашел в парную — чтобы чистым потом прошибло. Оттуда направился под душ и перестоял там всех, так что занявшие за ним очередь сильно прогадали, но Семен Григорьевич никакой вины за собой не чуял: он своевременно предупреждал, что освободит душ не скоро.
Накинув на плечи простыню, Семен Григорьевич выпил кружку пива, принесенную из буфета знакомым банщиком, который поздравил его с легким паром и остановился поблизости, ожидая, не будет ли сегодня каких замечаний от строгого клиента. Сперва Семен Григорьевич хотел было указать на дырявые шайки, но рассудил, что в воспитательных целях лучше будет промолчать, чтобы отучить банщиков работать по чужой указке. После ремонта кранов они и сами должны были заметить худые шайки. А не заметят — так впереди у Семена Григорьевича еще много таких же, как сегодня, воскресений, и он найдет время подстегнуть нерадивых банщиков.
Когда он появился в парикмахерской, «пигалица» сказала:
— Долго же вы моетесь, папаша!
— Долго… — согласился Семен Григорьевич, усаживаясь в кресло и закрывая глаза: его сильно клонило ко сну.
Мастерица ловко поработала помазком, направила бритву. Семен Григорьевич опять невольно залюбовался ее умелыми руками. Бритва у нее была острая, прямо бархатная — он даже не чувствовал ее прикосновения. «Пигалица» не лезла к нему с вечным вопросом других парикмахеров: «Не беспокоит?» — и, хотя бритва совсем не успела затупиться, она снова взялась за ремень, и бритва стала скользить еще бархатней. Только и слышалось: шурш… шурш…
С бритьем было покончено, а Семену Григорьевичу даже не захотелось вставать, и он позволил обрызгать себя одеколоном и даже попудрить. Но когда ободренная мастерица стала подбираться к его бровям, Семен Григорьевич запротестовал: это было уж слишком! Он так поспешно вскочил, что девушка фыркнула.
В дверях парикмахерской Семен Григорьевич обернулся. На его месте восседал уже новый клиент весьма сердитого вида. И внезапно Семену Григорьевичу стало чего-то жаль. Вот человек проявил свое мастерство, сделал его моложе, красивее, а он уйдет сейчас, и рыженькая так и не узнает, что он любовался ее работой, что работа эта порадовала его. Когда они у себя на заводе досрочно выполнят план, сэкономят материал или заставят быстрей оборачиваться средства, их премируют, награждают, газеты и радио по всей стране их славу разносят. А здесь всякие лысые толстяки обзывают хорошего работника пигалицей… Несправедливо!
Рассеянный взгляд Семена Григорьевича задержался на объявлении «Жалобная книга в кассе».
— Дайте жалобную книгу, — сказал он кассирше, сам еще толком не зная, на кого будет жаловаться.
Кассирше очень не хотелось давать Семену Григорьевичу жалобную книгу.
— Чем вы недовольны? — выпытывала она.
— Дайте жалобную книгу! — упрямо повторил Семен Григорьевич с видом человека, который знает все порядки, сам их всегда соблюдает и требует того же от других.
Кассирша оскорбленно поджала губы и подала Семену Григорьевичу изрядно потрепанную книгу. Рыженькая мастерица, презрительно щурясь, в упор смотрела на него, дивясь такой черной неблагодарности. Помазок застыл у носа сердитого гражданина, и тот брезгливо воротил лицо.
Семен Григорьевич уселся за столик в комнате ожидания и перелистал потрепанную книгу. Все сплошь жалобы и жалобы. Он отыскал чистую страницу и, старательно выписывая каждое слово, а в затруднительных случаях забывчиво шаря по столу левой рукой в поисках спасительного орфографического словарика, начертал вот что:
«Сего числа я, нижеподписавшийся, посетил парикмахерскую, что при бане. Хочу отметить, что некоторые посетители неквалифицированно относятся к мастерам женского пола и даже обзывают их пигалицами. А это все неверно и самый настоящий поклеп. Меня обслуживала мастер-женщина, не знаю фамилии, но от окна крайняя. В работе она показала свое умение, как по прическе, так и по бритью. Кроме того: 1) свой станок, так называемое кресло, мастерица содержит в полном порядке; 2) все инструменты у нее 100 % годности, бритва заточена под правильным углом и зеркало не косоротит; 3) самое главное, руки у нее — просто золотые. За все вышеперечисленное большое ей спасибо, и очень даже приятно было наблюдать, как она работает.
Примечание. Может, таким записям и не место в жалобной книге, но, как никакой другой в наличности не оказалось, я записал здесь. Если против правил — прошу извинить. И уже пора заводить книги благодарностей, это мое предложение».
Семен Григорьевич перечитал, поправил закорючку в своей подписи и сдал жалобную книгу в кассу. Обиженная мастерица демонстративно повернулась к нему спиной. Семен Григорьевич представил, как удивится она, когда прочтет его запись, и вдруг почувствовал себя очень хитрым.
В темном коридоре он стряхнул пудру с лица, что-бы не так стыдно было, если встретит на улице кого-нибудь из знакомых, и вышел из бани.
Под ярким солнцем искрились груды снега. Расчищенный тротуар был посыпан веселым желтым песочком — дворники не сидели сложа руки, пока мылся Семен Григорьевич. После недавней осенней грязи улица выглядела принаряженной, словно тоже побывала в бане и переменила белье. Пахло распаренным березовым листом и чистым незатоптанным снегом.
Помахивая кошелкой, Семен Григорьевич шел мелким щеголеватым шагом. Украдкой от прохожих он посматривал в каждое встречное окно, чтобы поймать там на миг свое отражение. Никому в целом мире не признался бы сейчас Семен Григорьевич, что сам себе нравится. Новая прическа молодила его, хотя и не была такая бесстыжая — бокс, что ли, называется, — какую в последнее время завел себе мастер Зыков курам на смех.
Подобревшая после бани душа Семена Григорьевича особенно остро, в каком-то радостном и немного детском свете первооткрытия воспринимала все, что происходило вокруг.
На краю мостовой, приткнувшись к тротуару, стояла легковая машина. Шофер копался в открытом моторе. По виноватому выражению фар и косолапо, внутрь, повернутым передним колесам Семен Григорьевич хорошо видел, что машине очень стыдно за позорную свою остановку. Десятка полтора любопытных терпеливо следили за шофером и со знанием дела обменивались мнениями насчет сравнительных достоинств «Победы» и «Москвича». Больше всего было тут стариков, судя по виду — пенсионеров, и школьников того опасного возраста, когда они начинают изучать таблицу умножения и на них не напасешься одежды и обуви. У самого радиатора стоял мальчишка на деревянных самодельных коньках и ел мороженое. Он так вкусно облизывался, что Семен Григорьевич поспешно отвернулся, боясь соблазниться на легкомысленную покупку мороженого зимой.
Прежде чем оставить мальчишек и любопытных пенсионеров, Семен Григорьевич на всякий случай прикинул, не помешает ли аварийная машина уличному движению, — решил, что не помешает, и, успокоенный, двинулся своей дорогой.
Рота солдат в новых шапках-ушанках догнала Семена Григорьевича, и добрых четверть часа он шел рядом с солдатами, машинально шагая в ногу и стараясь не отставать от рослого старшины, замыкающего строй.
На углу улицы внимание Семена Григорьевича привлекли парень с девушкой в лыжных костюмах. Пережидая поток машин, они стояли рядышком и старательно смотрели в разные стороны. С первого взгляда на парочку было видно, что это — влюбленные, но какие-то последние, решающие слова еще не сказаны ими. Под стать друг другу, они были молоды, красивы, и Семен Григорьевич осуждающе покосился на парня и сказал ему мысленно: «Что же ты тянешь, растяпа? Непорядок!»
Бережно прижимая к груди рулон ватманской бумаги, торопливо прошел милиционер в своей красивой форме, при всех ремнях и пистолете. Семен Григорьевич проводил его задумчивым взглядом. Он никак не мог решить, зачем милиционеру понадобился ватман. Мелькнула мысль: возможно, милиционер состоит членом редколлегии стенгазеты и спешит сейчас выпускать очередной номер? Но Семен Григорьевич не был уверен, существуют ли в отделениях милиции стенгазеты, и, положив при первом же случае в точности разузнать это, продолжал свой путь.
С четырехэтажного дома строители снимали леса с тем хорошо знакомым Семену Григорьевичу радостным и гордым видом, какой бывает у людей, когда они заканчивают удачную работу. Мастер на минуту остановился полюбоваться фасадом.
Большой высокий дом менял весь привычный облик улицы. Рядом с ним неприглядными казались соседние низкорослые строения. «Придется сносить», — авторитетно решил Семен Григорьевич и хозяйским глазом окинул улицу. Некоторые дома давно уже просились на слом, но стояли среди них и почти новые, воздвигнутые в последние годы. «Эх, не строили сразу по единому плану!» — с таким горьким сожалением подумал Семен Григорьевич, будто был он председателем горсовета и допустил в свое время оплошность.
Румяный парнишка в форме ремесленного училища посторонился, уступая ему дорогу, и сначала это понравилось Семену Григорьевичу, а потом он сообразил, что ремесленник уступил ему дорогу как старику, — значит, и молодая прическа никого уже не обманывает. Быстро она все-таки проходит, жизнь эта самая! Но даже и такая невеселая мысль не могла испортить Семену Григорьевичу приподнятого настроения, да и не впервые повстречался он с нею…
Солнце стояло высоко и каждым лучом своим стреляло в Семена Григорьевича. Оно сулило ему долгие часы заслуженного недельным трудом воскресного отдыха, а переливающаяся по жилам нерастраченная сила обещала мастеру еще многие дни здоровья и работы.
Захотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, но Екатерина Захаровна — подруга жизни — что-то не на шутку разоспалась сегодня. Семен Григорьевич обиженно кашлянул и стал бесшумно одеваться. Он представил, как устыдится жена, когда, проснувшись, увидит его уже на ногах, и почувствовал себя отомщенным.
До завтрака Семен Григорьевич работал по хозяйству: припаял ручку к кастрюле и подвинтил в двух стульях ослабшие шурупы.
Вся мебель в квартире была старая, но благодаря заботам хозяина еще держалась и выглядела вполне прилично. Как и он сам, вещи, окружающие Семена Григорьевича, успели уже вдоволь поработать на своем веку, вид имели скромный и заслуженный.
После завтрака Семен Григорьевич сел писать письмо младшему сыну в Москву. Сын учился на последнем курсе института, был круглым отличником и собирался на будущий год поступать в аспирантуру. И хотя солидное строгое слово «аспирантура» крепко пришлось по душе Семену Григорьевичу, который питал стариковскую слабость к словам ученым и не совсем понятным, хотя ему приятно было думать, что родной Васютка очень даже просто может заделаться профессором, — но для пользы дела мастер переборол свою отцовскую гордость и написал сыну: «Мой тебе совет — поработай сперва годика два-три на производстве, стань инженером не только по диплому, а и на деле. А тогда уж со спокойным сердцем шагай себе и в аспирантуру…»
Писал Семен Григорьевич не спеша, подолгу обдумывая каждое слово, прежде чем проставить его на бумаге крупным ученическим почерком. Часто заглядывал в орфографический словарик — чтобы сыну не стыдно было за своего отца перед образованной женой и друзьями-студентами.
В дверях, посмеиваясь, маячила Екатерина Захаровна. Очень уж ей смешно было смотреть, как роется в маленькой книжечке ее старик, шевеля губами от напряжения. Семен Григорьевич осуждающе косился на жену, но злополучного словарика из рук не выпускал.
— Собери белье, — сказал он, надписывая конверт.
— И охота тебе каждый выходной в баню переться? — запротестовала Екатерина Захаровна. — Есть, кажется, ванна: напусти воды и мойся хоть целый день!
— Напусти сама и мойся, — беззлобно посоветовал Семен Григорьевич, давно уже привыкший к подобным разговорам. — Тесно в твоей ванне, как в мышеловке, а настоящее мытье простора требует, чтобы веником было где помахать, попотеть всласть. В ванне только детей купать, а взрослому человеку баня необходима: там он душой добреет. Жизнь прожила, а такой простой вещи не понимаешь… Собери-ка белье!
Жена сокрушенно покачала головой, вышла из комнаты и сейчас же вернулась с кошелкой, из которой воинственно высовывался кончик березового веника. Вернулась она очень быстро, ибо давно уже было собрано, заботливо завернуто в газету и помещено в кошелку белье, мочалка и все, что требуется человеку, предполагающему добреть душой.
Екатерина Захаровна проводила мужа до двери, подняла ему воротник пальто. Семен Григорьевич неодобрительно пошевелил своими запорожскими усами, упрямо опустил воротник и бойко зашагал по улице, помахивая кошелкой, — маленький, стройный, самый красивый для Екатерины Захаровны во всем мире.
У почтового ящика, опуская письмо, Семен Григорьевич встретил главного инженера завода.
— Хорошо, что свиделись! — обрадовался мастер. — Непорядок у нас в цеху с токарными станками: до сих пор не разделили на черновые и чистовые. Вот потеряем точность — тогда хватимся, а сейчас всем недосуг…
Главный инженер заверил Семена Григорьевича, что завтра же лично займется токарными станками, и, завистливо покосившись на кошелку с веником, полюбопытствовал:
— В баньку?.. Составил бы компанию, да на завод надо. Вы уж вылейте за мое здоровье шаечку-другую!
Семен Григорьевич обещал уважить просьбу: главный инженер был тоже не дурак попариться.
В вестибюле бани на вешалке номерка Семену Григорьевичу не дали: его старомодное драповое пальто с наружным карманом на груди здесь слишком хорошо знали, чтобы спутать с чьим-либо другим.
С вожделением поглядывая на дверь, ведущую в банное отделение, Семен Григорьевич занял очередь в парикмахерскую. Перед ним стоял толстый лысый мужчина с буйной иссиня-черной щетиной на щеках. Волосами со щек ему с излишком хватило бы покрыть всю лысину. «Эк у тебя волосы неудачно распределились!» — посочувствовал Семен Григорьевич.
Когда толстяк оказался в очереди первым, он вдруг забеспокоился: начал поминутно просовывать голову в парикмахерскую, сердито засопел.
— Вот невезение! — пожаловался он Семену Григорьевичу. — Придется идти к пигалице. Чует мое сердце: исцарапает она всего, изрежет… Нет, уж если ты женщина, — убежденно заявил толстяк, — так занимайся разными там маникюрами, а в мужскую парикмахерскую не суйся!
Но толстяк ошибся. К «пигалице» пришлось идти не ему, а Семену Григорьевичу.
— Какую стрижку, папаша, — под польку, полубокс? — профессиональной скороговоркой осведомилась мастерица.
«Ишь, дочка нашлась!» — подивился Семен Григорьевич, нахмурил клочковатые брови и сказал наставительно:
— А это уж вам лучше знать. Сделайте что-нибудь… соответственное.
И Семен Григорьевич неопределенно покрутил растопыренными пальцами перед своим лицом. «Пигалица» усмехнулась.
Пока она трудилась над его волосами, Семен Григорьевич успел хорошо рассмотреть ее. Мастерица была молодая, рыжеватая. У нее были большие строгие глаза и прохладные быстрые пальцы.
Лысый толстяк стал громко жаловаться своему мастеру-мужчине на тупую бритву, и Семен Григорьевич злорадно подумал, что толстяк прогадал: «пигалица» была отличной работницей. Ловкие ножницы, щебеча и пришепетывая, так и порхали над головой. Семен Григорьевич сидел неподвижно и только глазами моргал, боясь, как бы бойкая мастерица не отхватила ему, чего доброго, половину уха.
— А бриться я вам советую после бани, — сказала «пигалица», снимая простыню. И, предупреждая замечание Семена Григорьевича об очереди, добавила — Прямо ко мне идите, без всякой очереди.
Подозревая подвох, Семен Григорьевич начал было хмуриться и даже пустил в дело знаменитые свои усы, но вдруг неожиданно для себя самого согласился.
— Только я нескоро, — предупредил он. И, понизив голос, объяснил доверительно: — Я париться люблю…
Семен Григорьевич строго придерживался выработанного годами порядка мытья в бане. Раздевшись, он первым делом пошел париться «насухую».
В парной стоял добрый пар, но Семену Григорьевичу этого было мало. Он до отказа открыл кран с паром и, чтобы сделать пар пожестче, вылил шайку холодной воды на раскаленный радиатор. Кругом зароптали, но Семен Григорьевич плеснул на радиатор еще шайку и, радостно крякая, полез на полок. Навстречу ему, чертыхаясь, с полка скатилось несколько человек.
Пока веник парился в шайке с кипятком, Семен Григорьевич сидел на скамье, потел и, покряхтывая от удовольствия, растирал заросшую седым волосом грудь. Пар был такой резкий, что все входящие в парную сразу пригибались к полу, словно кланялись Семену Григорьевичу, торжественно восседающему на самом верху полка.
— Это черт знает, что такое! Форменный произвол! — возмущался давешний толстяк, шаром выкатываясь из парной.
— Явился банный король! — крикнул мастер Зыков — дружок и одногодок Семена Григорьевича, перебираясь со своей шайкой поближе к двери.
Семен Григорьевич сначала хотел было спуститься вниз и поздороваться с приятелем за руку, но потом засомневался, прилично ли голым людям пожимать друг другу руки, и лишь помахал издали потяжелевшим веником, приглашая Зыкова к себе наверх. Тот приглашения не принял. По выполнению производственного плана мастера-одногодки шли вровень, не намного отставал Зыков от дружка и в освоении скоростных методов резания, но в банном жестоком деле даже и во сне не подумывал он тягаться с Семеном Григорьевичем — знал свое место…
Когда все тело покрылось потом и стало приятно теснить грудь, Семен Григорьевич намылился и подпустил еще пару.
Начиналось самое главное.
Приплясывая, Семен Григорьевич принялся стегать себя огненным веником по бокам, спине, животу. Он стегал себя все сильней и сильней, словно был своим самым заклятым врагом. От наслаждения Семен Григорьевич ухал, издавал нечленораздельные звуки, даже стонал слегка.
Один за другим выбегали из парной люди, а Семен Григорьевич все хлестал себя и хлестал. Он парил веник в горячей воде, студил в холодной, намыливал его, сам намыливался и обливался водой. Были испробованы все комбинации, какие только можно составить из веника, мыла, пара, холодной и горячей воды.
Под конец в парной осталось всего два человека: Семен Григорьевич и молодой, ладно скроенный парень с синим якорем-татуировкой на груди и большим белым пятном шрама на красном распаренном боку. Парень упрямо не хотел признать себя побежденным и хотя спустился на самый низ, но окончательно не сдавался, не уходил из парной. А Семена Григорьевича обуял спортивный азарт, и он все больше и больше подпускал пару.
Стены, скамейки, пол накалились до такой степени, что к ним больно было прикоснуться. Воздух обжигал. Приплясывая и напевая себе под нос что-то такое, что никак невозможно передать ни словами, ни музыкой, Семен Григорьевич время от времени поглядывал на паренька, опасаясь, как бы тот не свалился. В богатой банной практике Семена Григорьевича подобные случаи бывали.
Парень сидел у самой двери, бессильно опустив руки, тяжело дыша раскрытым ртом.
— Ну и чертов старик! — сказал он, перехватив сочувствующий взгляд Семена Григорьевича, и, пошатываясь, вышел из парной.
В гордом одиночестве старый мастер долго еще добрел душой.
Наконец, когда уже совсем истрепался многострадальный веник и все тело горело, как ошпаренное, Семен Григорьевич закрутил трубу с паром и покинул парную — весь красный, всклокоченный, торжествующий. Целых десять минут валил от него пар— так много вобрал он в себя тепла.
Отыскав в углу скамейку поукромнее, Семен Григорьевич улегся и пролежал на ней с полчаса. Свободно дышала вся кожа, ощущение было такое, будто он заново народился. Семен Григорьевич даже вздремнул маленько.
Потом он мылся, тер себя мочалкой, лил на себя, не жалея, шайку за шайкой. Приятели Семена Григорьевича не шутя говорили, что для бани он — прямое разорение.
Краны сегодня не брызгались кипятком, как раньше, и Семен Григорьевич понял, что не зря он в прошлое воскресенье указывал банщику на эту неисправность. Мастер искоса посмотрел на своих соседей: не догадываются ли они, кто тут за них старается? Но все были заняты неотложными банными делами, и никто не обращал на него внимания. «Мойтесь на здоровье, загорелые!» — великодушно разрешил Семен Григорьевич.
Напоследок он еще раз зашел в парную — чтобы чистым потом прошибло. Оттуда направился под душ и перестоял там всех, так что занявшие за ним очередь сильно прогадали, но Семен Григорьевич никакой вины за собой не чуял: он своевременно предупреждал, что освободит душ не скоро.
Накинув на плечи простыню, Семен Григорьевич выпил кружку пива, принесенную из буфета знакомым банщиком, который поздравил его с легким паром и остановился поблизости, ожидая, не будет ли сегодня каких замечаний от строгого клиента. Сперва Семен Григорьевич хотел было указать на дырявые шайки, но рассудил, что в воспитательных целях лучше будет промолчать, чтобы отучить банщиков работать по чужой указке. После ремонта кранов они и сами должны были заметить худые шайки. А не заметят — так впереди у Семена Григорьевича еще много таких же, как сегодня, воскресений, и он найдет время подстегнуть нерадивых банщиков.
Когда он появился в парикмахерской, «пигалица» сказала:
— Долго же вы моетесь, папаша!
— Долго… — согласился Семен Григорьевич, усаживаясь в кресло и закрывая глаза: его сильно клонило ко сну.
Мастерица ловко поработала помазком, направила бритву. Семен Григорьевич опять невольно залюбовался ее умелыми руками. Бритва у нее была острая, прямо бархатная — он даже не чувствовал ее прикосновения. «Пигалица» не лезла к нему с вечным вопросом других парикмахеров: «Не беспокоит?» — и, хотя бритва совсем не успела затупиться, она снова взялась за ремень, и бритва стала скользить еще бархатней. Только и слышалось: шурш… шурш…
С бритьем было покончено, а Семену Григорьевичу даже не захотелось вставать, и он позволил обрызгать себя одеколоном и даже попудрить. Но когда ободренная мастерица стала подбираться к его бровям, Семен Григорьевич запротестовал: это было уж слишком! Он так поспешно вскочил, что девушка фыркнула.
В дверях парикмахерской Семен Григорьевич обернулся. На его месте восседал уже новый клиент весьма сердитого вида. И внезапно Семену Григорьевичу стало чего-то жаль. Вот человек проявил свое мастерство, сделал его моложе, красивее, а он уйдет сейчас, и рыженькая так и не узнает, что он любовался ее работой, что работа эта порадовала его. Когда они у себя на заводе досрочно выполнят план, сэкономят материал или заставят быстрей оборачиваться средства, их премируют, награждают, газеты и радио по всей стране их славу разносят. А здесь всякие лысые толстяки обзывают хорошего работника пигалицей… Несправедливо!
Рассеянный взгляд Семена Григорьевича задержался на объявлении «Жалобная книга в кассе».
— Дайте жалобную книгу, — сказал он кассирше, сам еще толком не зная, на кого будет жаловаться.
Кассирше очень не хотелось давать Семену Григорьевичу жалобную книгу.
— Чем вы недовольны? — выпытывала она.
— Дайте жалобную книгу! — упрямо повторил Семен Григорьевич с видом человека, который знает все порядки, сам их всегда соблюдает и требует того же от других.
Кассирша оскорбленно поджала губы и подала Семену Григорьевичу изрядно потрепанную книгу. Рыженькая мастерица, презрительно щурясь, в упор смотрела на него, дивясь такой черной неблагодарности. Помазок застыл у носа сердитого гражданина, и тот брезгливо воротил лицо.
Семен Григорьевич уселся за столик в комнате ожидания и перелистал потрепанную книгу. Все сплошь жалобы и жалобы. Он отыскал чистую страницу и, старательно выписывая каждое слово, а в затруднительных случаях забывчиво шаря по столу левой рукой в поисках спасительного орфографического словарика, начертал вот что:
«Сего числа я, нижеподписавшийся, посетил парикмахерскую, что при бане. Хочу отметить, что некоторые посетители неквалифицированно относятся к мастерам женского пола и даже обзывают их пигалицами. А это все неверно и самый настоящий поклеп. Меня обслуживала мастер-женщина, не знаю фамилии, но от окна крайняя. В работе она показала свое умение, как по прическе, так и по бритью. Кроме того: 1) свой станок, так называемое кресло, мастерица содержит в полном порядке; 2) все инструменты у нее 100 % годности, бритва заточена под правильным углом и зеркало не косоротит; 3) самое главное, руки у нее — просто золотые. За все вышеперечисленное большое ей спасибо, и очень даже приятно было наблюдать, как она работает.
Примечание. Может, таким записям и не место в жалобной книге, но, как никакой другой в наличности не оказалось, я записал здесь. Если против правил — прошу извинить. И уже пора заводить книги благодарностей, это мое предложение».
Семен Григорьевич перечитал, поправил закорючку в своей подписи и сдал жалобную книгу в кассу. Обиженная мастерица демонстративно повернулась к нему спиной. Семен Григорьевич представил, как удивится она, когда прочтет его запись, и вдруг почувствовал себя очень хитрым.
В темном коридоре он стряхнул пудру с лица, что-бы не так стыдно было, если встретит на улице кого-нибудь из знакомых, и вышел из бани.
Под ярким солнцем искрились груды снега. Расчищенный тротуар был посыпан веселым желтым песочком — дворники не сидели сложа руки, пока мылся Семен Григорьевич. После недавней осенней грязи улица выглядела принаряженной, словно тоже побывала в бане и переменила белье. Пахло распаренным березовым листом и чистым незатоптанным снегом.
Помахивая кошелкой, Семен Григорьевич шел мелким щеголеватым шагом. Украдкой от прохожих он посматривал в каждое встречное окно, чтобы поймать там на миг свое отражение. Никому в целом мире не признался бы сейчас Семен Григорьевич, что сам себе нравится. Новая прическа молодила его, хотя и не была такая бесстыжая — бокс, что ли, называется, — какую в последнее время завел себе мастер Зыков курам на смех.
Подобревшая после бани душа Семена Григорьевича особенно остро, в каком-то радостном и немного детском свете первооткрытия воспринимала все, что происходило вокруг.
На краю мостовой, приткнувшись к тротуару, стояла легковая машина. Шофер копался в открытом моторе. По виноватому выражению фар и косолапо, внутрь, повернутым передним колесам Семен Григорьевич хорошо видел, что машине очень стыдно за позорную свою остановку. Десятка полтора любопытных терпеливо следили за шофером и со знанием дела обменивались мнениями насчет сравнительных достоинств «Победы» и «Москвича». Больше всего было тут стариков, судя по виду — пенсионеров, и школьников того опасного возраста, когда они начинают изучать таблицу умножения и на них не напасешься одежды и обуви. У самого радиатора стоял мальчишка на деревянных самодельных коньках и ел мороженое. Он так вкусно облизывался, что Семен Григорьевич поспешно отвернулся, боясь соблазниться на легкомысленную покупку мороженого зимой.
Прежде чем оставить мальчишек и любопытных пенсионеров, Семен Григорьевич на всякий случай прикинул, не помешает ли аварийная машина уличному движению, — решил, что не помешает, и, успокоенный, двинулся своей дорогой.
Рота солдат в новых шапках-ушанках догнала Семена Григорьевича, и добрых четверть часа он шел рядом с солдатами, машинально шагая в ногу и стараясь не отставать от рослого старшины, замыкающего строй.
На углу улицы внимание Семена Григорьевича привлекли парень с девушкой в лыжных костюмах. Пережидая поток машин, они стояли рядышком и старательно смотрели в разные стороны. С первого взгляда на парочку было видно, что это — влюбленные, но какие-то последние, решающие слова еще не сказаны ими. Под стать друг другу, они были молоды, красивы, и Семен Григорьевич осуждающе покосился на парня и сказал ему мысленно: «Что же ты тянешь, растяпа? Непорядок!»
Бережно прижимая к груди рулон ватманской бумаги, торопливо прошел милиционер в своей красивой форме, при всех ремнях и пистолете. Семен Григорьевич проводил его задумчивым взглядом. Он никак не мог решить, зачем милиционеру понадобился ватман. Мелькнула мысль: возможно, милиционер состоит членом редколлегии стенгазеты и спешит сейчас выпускать очередной номер? Но Семен Григорьевич не был уверен, существуют ли в отделениях милиции стенгазеты, и, положив при первом же случае в точности разузнать это, продолжал свой путь.
С четырехэтажного дома строители снимали леса с тем хорошо знакомым Семену Григорьевичу радостным и гордым видом, какой бывает у людей, когда они заканчивают удачную работу. Мастер на минуту остановился полюбоваться фасадом.
Большой высокий дом менял весь привычный облик улицы. Рядом с ним неприглядными казались соседние низкорослые строения. «Придется сносить», — авторитетно решил Семен Григорьевич и хозяйским глазом окинул улицу. Некоторые дома давно уже просились на слом, но стояли среди них и почти новые, воздвигнутые в последние годы. «Эх, не строили сразу по единому плану!» — с таким горьким сожалением подумал Семен Григорьевич, будто был он председателем горсовета и допустил в свое время оплошность.
Румяный парнишка в форме ремесленного училища посторонился, уступая ему дорогу, и сначала это понравилось Семену Григорьевичу, а потом он сообразил, что ремесленник уступил ему дорогу как старику, — значит, и молодая прическа никого уже не обманывает. Быстро она все-таки проходит, жизнь эта самая! Но даже и такая невеселая мысль не могла испортить Семену Григорьевичу приподнятого настроения, да и не впервые повстречался он с нею…
Солнце стояло высоко и каждым лучом своим стреляло в Семена Григорьевича. Оно сулило ему долгие часы заслуженного недельным трудом воскресного отдыха, а переливающаяся по жилам нерастраченная сила обещала мастеру еще многие дни здоровья и работы.
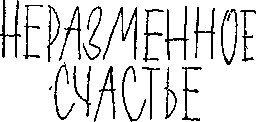
 ркестр на катке играл его любимый вальс, когда Петя Сорокин впервые увидел Зину. Петя сразу же почувствовал всю важность этой встречи и взглянул на часы. Было ровно семь минут восьмого.
На катке знакомятся быстро, и уже через полчаса Пете казалось, будто он знает Зину целую вечность. С ней было легко и просто, а главное, совсем не надо было хитрить и притворяться солидным, что всегда плохо удавалось Пете.
ркестр на катке играл его любимый вальс, когда Петя Сорокин впервые увидел Зину. Петя сразу же почувствовал всю важность этой встречи и взглянул на часы. Было ровно семь минут восьмого.
На катке знакомятся быстро, и уже через полчаса Пете казалось, будто он знает Зину целую вечность. С ней было легко и просто, а главное, совсем не надо было хитрить и притворяться солидным, что всегда плохо удавалось Пете.
 Покинув многолюдный круг, они катались в дальней глухой аллейке. Запушенные снегом молодые пихты дружелюбно прятали их от посторонних глаз. Видно было, что пихты сочувствуют им всеми своими ветвями, до самой последней иголки, — потому, наверно, что сами тоже были молодыми.
Петя с Зиной пробовали танцевать на льду, и у них ничего не получилось, но от этого стало только веселей. Затем они пошли в буфет. Чайных ложек в буфете не оказалось, пришлось размешивать сахар вилкой. Никогда бы раньше Петя не поверил, что чай, припахивающий селедкой и винегретом, может быть таким вкусным.
Буфетчица дала им семь мятных пряников на тарелке с зелеными розами. Они съели по три пряника, и никто не хотел брать последний. Петя нашел выход: разломил пряник пополам. Зина сказала, что Петя сообразительный и с ним не пропадешь.
Когда они выходили из буфета, оркестр опять заиграл его любимый вальс, и Петя стал объяснять, почему он называет этот вальс «Неразменным счастьем». Он и знать не хочет, как назвал свой вальс композитор. Все дело в том, что для него, Петра Сорокина, вальс этот — «Неразменное счастье».
— Какой вы! — удивилась Зина и с. новым интересом посмотрела на Петю.
И только для них играла музыка, сверкал лед, вспыхивали разноцветные огни прожекторов.
В десять часов Зина сказала, что ей пора домой. Петя обиделся: юные ремесленники и те еще катаются, а она собирается уходить. Или ей не нравится сегодняшняя погода?
Юные ремесленники ей не указ, — самолюбиво ответила Зина. У нее в институте завтра зачет по анатомии, а она еще целый раздел не повторила. Учитывая, однако, что… погода такая замечательная, она, так и быть, покатается еще полчаса, но потом сразу же уйдет — пусть Петя даже и не пробует ее уговаривать.
Петя обратил Зинино внимание на то, что в половине часа содержится лишь тридцать минут или всего-навсего тысяча восемьсот секунд, а в целом часе всей этой мелкой начинки вмещается ровно в два раза больше, в чем Зина и сама сможет убедиться, стоит только ей пробыть на катке этот короткий отрезок времени.
— А вы хорошо считаете в уме! — похвалила Зина. — Но остаться на катке я никак не могу: очень трудный зачет…
Мимо них лихо промчалась девушка в свитере, полосатом как матрац. Петя невольно повернул голову в ее сторону.
— Легко вам жить на свете! — осудила Зина его легкомыслие. — Вот вы головой крутите, а того не знаете, что шея ваша держится на семи позвонках!
— Неужели на семи? — виновато спросил Петя.
— Вот вам и неужели!.. Вижу, вы все-таки хотите, чтобы я завтра провалилась на зачете.
Петя с жаром стал уверять, что он не такой негодяй, чтобы желать этого.
Через три тысячи секунд они вошли в раздевалку. Высокой молодой женщине, стоящей перед ними в очереди, гардеробщица подала шинель с капитанскими погонами, и Петя забоялся: вдруг Зине тоже подадут какую-нибудь строгую шинель и окажется, что она совсем не студентка медицинского института, а какой-нибудь прославленный инструктор парашютного спорта, который посмеялся сегодня над ним — незаметным счетоводом. Но гардеробщица протянула Зине легонькое пальтецо самого что ни на есть студенческого вида, и Петя сразу успокоился.
— Будем до конца вежливы! — воскликнул Петя, выхватывая у гардеробщицы невесомое Зинино пальто. Он что-то напутал с рукавами, но в конце концов все сошло довольно благополучно, и Зина так и не узнала, что Петя впервые в жизни орудует в нелегкой роли кавалера.
На трамвайной остановке Петя загадал: если сначала подойдет трамвай с четным номером, то при расставанье они с Зиной договорятся о следующей встрече. Подъехала семерка, но так как ранее Петя уже неоднократно убеждался, что цифра семь благоволит к нему, он и на этот раз не стал особенно падать духом.
— До свидания, — сказала Зина. — Это мой трамвай.
— Какое совпаденье! — удивился Петя. — Это и мой трамвай. Вот интересно получается!
Зина с великим сомнением посмотрела на Петю, но промолчала. Они не вошли в вагон, хотя там были свободные места, а остались на промерзлой площадке. Петя нарочно расстегнул свое теплое пальто, чтобы и ему было так же холодно, как Зине. Нос у Зины посинел, губы стали фиолетовые, а глаза блестели, и Петя вдруг понял, что вот такая, озябшая, она дорога ему еще больше.
— На следующей остановке мне сходить, — объявила Зина. — Не вздумайте говорить, что и вам тоже: все равно не поверю!
— Зачем мне врать? — обиделся Петя. — Я сойду на второй остановке, если только… — голос у Пети дрогнул, — если только вы не позволите проводить вас домой.
— Нет, не позволю! — выпалила Зина, наслаждаясь новым для нее чувством своей власти над Петей. — И вообще, это пережиток — провожать девушек.
— Бывают очень хорошие пережитки! — вздохнув, сказал Петя.
На прощанье он спросил, когда же они еще встретятся.
— Право, не знаю, — озабоченно ответила Зина. — Я сейчас усиленно занимаюсь перед практикой.
Но Петя резонно возразил: нашла же она сегодня время, несмотря на усиленные занятия, заглянуть на каток.
— Это нечестно, — запротестовала Зина. Видимо, он все же хочет, чтобы она стала двоечницей?
— Избави боже! — возмутился Петя. Но ведь должны они еще хоть разик встретиться? Ведь должны же?.. И потом, насколько ему известно, хотя он, конечно, не медик, гигиена умственного труда требует перерыва в занятиях, а зимой нет лучшего отдыха, чем каток. Разве ей так уж плохо было сегодня на катке?
Зина с большим вниманием выслушала сообщение о гигиене умственного труда и, пристально разглядывая мохнатое от инея окно, сказала виноватым голосом, что совсем выпустила из виду гигиену и теперь, когда Петя напомнил о ней, она согласна прервать свою напряженную учебу и приехать на каток в следующее воскресенье, в семь часов вечера.
Она пожала Пете руку и спрыгнула с подножки. Свесившись с площадки, Петя провожал Зину глазами — чуть не вывихнул шею со всеми ее позвонками. С трамвая он сошел, как и обещал Зине, на второй остановке. Но вместо того, чтобы куда-либо идти, Петя дождался встречной семерки и поехал обратно, ибо квартира его находилась на противоположном конце города. Дома он нарочно не мыл рук, чтобы подольше сохранить ощущение Зининого рукопожатия.
Шесть дней Петя жил надеждами на встречу. Чтобы выглядеть более мужественно, он вставал теперь утром на полчаса раньше прежнего и старательно проделывал физкультурную зарядку — два раза подряд и по самой трудной программе. Опасаясь пропустить свидание из-за какого-нибудь несчастного случая, Петя целую неделю соблюдал все правила уличного движения и на радость работникам ОРУДа переходил улицу только по сигналу светофора.
Все сослуживцы заметили, что с Петей творится что-то необыкновенное, и осторожный главбух, во избежание путаницы, лично проверял Петины разноски и вычисления. Никаких ошибок он не нашел, но обнаружил одно непонятное Петино пристрастие. Влюбленная рука счетовода плодила семерки, смахивающие на великолепных мушкетеров: гордо развевались пышные шляпы-загогулины, на боку воинственно торчали шпаги-поперечины…
А в ночь с субботы на воскресенье нежданно грянула беда: массы теплого воздуха ворвались в частную жизнь Пети Сорокина. Утром в воскресенье, глянув в окно, Петя обмер. Зимы не было и в помине. С погребальным грохотом срывались последние сосульки. Вода проснулась от зимней спячки и — живая, озорно-игривая — капала с крыш, булькала, журчала с неудержимой весенней силой. Мартовским сверхмажорным маршем гремели водосточные трубы. В глубоком, ярко-синем небе ухмылялось лучистое рыжее солнце.
Прощай, каток! Как он теперь найдет Зину? Что он о ней знает? Она — студентка медицинского института, и зовут ее Зина. Да там, может быть, целая сотня Зин!
Полдня Петя сидел у окна, курил и смотрел на термометр, спущенный на веревочке в фортку. Когда ртутный столбик достиг семи градусов выше нуля, кончились папиросы. Петя лег на кровать и, подражая одному знакомому начинающему поэту, стал заунывным голосом декламировать самые печальные стихи, какие только знал. Сосед постучал в стенку и осведомился, что с Петей, не заболел ли он. Петя попросил оставить его в покое, ибо никакие соседи, даже самые чуткие, помочь ему не в состоянии.
В шесть часов вечера Петя взял коньки и вышел из дому. В трамвае Петины коньки обратили на себя всеобщее вниманье. Многие пассажиры испробовали на них свое остроумие. Скрепя сердце Петя вытерпел и это.
Еще издали, подходя к катку, Петя увидел на входных дверях большой тяжелый замок, бульдожьей хваткой вцепившийся в петли. На сердце своем почувствовал Петя этот хищный замок.
Он сел в сквере на скамейку, откуда был виден вход на каток. Мимо Пети, беспричинно смеясь, проходили счастливые парочки, безучастные к его горю. Над головой каркали вороны — громко, по-весеннему сырыми голосами. Петя не выдержал их замогильного карканья и вскочил со скамейки. От голого куста до смятой папиросной коробки «Казбек» один раз оказалось восемь шагов, в другой раз — семь. Петя для проверки смерил в третий раз и насчитал четырнадцать шагов: кто-то из прохожих сбил коробку с места.
— Эх, люди! — пробормотал Петя, дивясь вероломству своих современников, и кулем повалился на скамейку.
Семь часов семь минут… Ровно неделю назад он впервые увидел Зину. Петя попробовал в уме высчитать, сколько в неделе минут, но сбился. С непонятным для самого себя упорством, словно от правильности подсчета зависело, встретится он с Зиной или нет, Петя достал блокнот и занялся вычислением.
А когда, покончив с арифметикой, Петя вскинул голову, то прямо перед собой увидел Зину. Она неуверенно подходила к нему с газетным свертком под мышкой, в легоньком своем пальтеце — милая и родная.
— Пришла! — шепотом крикнул Петя, зажмурился, как от сильного света, и шагнул ей навстречу.
Он так порывисто пожал руку Зине, что та уронила сверток. Из газеты в растоптанную снежную кашу вывалились коньки.
— Понимаешь, — скороговоркой зачастила Зина, не замечая, что переходит на «ты», — сегодня так заучилась, совсем о погоде забыла. А сюда приехала, вижу: весна…
Она говорила что-то еще, объясняя свой приезд, но Петя не слушал ее больше: это невольное «ты» и коньки сказали ему всю правду. Зина тоже считала дни, оставшиеся до воскресенья, так же, как и он, целую неделю соблюдала правила уличного движения и на каток поехала только для того, чтобы встретиться с ним. И лишь в трамвае над ней не смеялись, ибо никто из остроумцев не знал, что находится в свертке.
Петя упаковывал Зинины коньки в газету и счастливо улыбался.
— Ох и глупый у тебя сейчас вид! — бессильно злясь на Петю, сказала Зина: по женской своей природе она жалела уже, что так опрометчиво выдала себя.
Защищая свою независимость, Зина отвернулась от Пети, поправила волосы, достала носовой платок и старательно вытерла сухие губы. Петя вдохновенно шуршал газетой и снизу вверх смотрел на Зину весенними хмельными глазами.
— Та-ак! Та-ак! Та-ак!.. — одобрительно каркали вороны — самые расчудесные птицы на всем белом свете.
Пахучий мартовский ветерок принес далекие звуки музыки. И хотя никак нельзя было разобрать, что именно поет репродуктор, но Пете почудилось, будто по радио передают его любимый вальс. Петя хотел, чтобы это было «Неразменное счастье», — а значит, так оно и было.
Покинув многолюдный круг, они катались в дальней глухой аллейке. Запушенные снегом молодые пихты дружелюбно прятали их от посторонних глаз. Видно было, что пихты сочувствуют им всеми своими ветвями, до самой последней иголки, — потому, наверно, что сами тоже были молодыми.
Петя с Зиной пробовали танцевать на льду, и у них ничего не получилось, но от этого стало только веселей. Затем они пошли в буфет. Чайных ложек в буфете не оказалось, пришлось размешивать сахар вилкой. Никогда бы раньше Петя не поверил, что чай, припахивающий селедкой и винегретом, может быть таким вкусным.
Буфетчица дала им семь мятных пряников на тарелке с зелеными розами. Они съели по три пряника, и никто не хотел брать последний. Петя нашел выход: разломил пряник пополам. Зина сказала, что Петя сообразительный и с ним не пропадешь.
Когда они выходили из буфета, оркестр опять заиграл его любимый вальс, и Петя стал объяснять, почему он называет этот вальс «Неразменным счастьем». Он и знать не хочет, как назвал свой вальс композитор. Все дело в том, что для него, Петра Сорокина, вальс этот — «Неразменное счастье».
— Какой вы! — удивилась Зина и с. новым интересом посмотрела на Петю.
И только для них играла музыка, сверкал лед, вспыхивали разноцветные огни прожекторов.
В десять часов Зина сказала, что ей пора домой. Петя обиделся: юные ремесленники и те еще катаются, а она собирается уходить. Или ей не нравится сегодняшняя погода?
Юные ремесленники ей не указ, — самолюбиво ответила Зина. У нее в институте завтра зачет по анатомии, а она еще целый раздел не повторила. Учитывая, однако, что… погода такая замечательная, она, так и быть, покатается еще полчаса, но потом сразу же уйдет — пусть Петя даже и не пробует ее уговаривать.
Петя обратил Зинино внимание на то, что в половине часа содержится лишь тридцать минут или всего-навсего тысяча восемьсот секунд, а в целом часе всей этой мелкой начинки вмещается ровно в два раза больше, в чем Зина и сама сможет убедиться, стоит только ей пробыть на катке этот короткий отрезок времени.
— А вы хорошо считаете в уме! — похвалила Зина. — Но остаться на катке я никак не могу: очень трудный зачет…
Мимо них лихо промчалась девушка в свитере, полосатом как матрац. Петя невольно повернул голову в ее сторону.
— Легко вам жить на свете! — осудила Зина его легкомыслие. — Вот вы головой крутите, а того не знаете, что шея ваша держится на семи позвонках!
— Неужели на семи? — виновато спросил Петя.
— Вот вам и неужели!.. Вижу, вы все-таки хотите, чтобы я завтра провалилась на зачете.
Петя с жаром стал уверять, что он не такой негодяй, чтобы желать этого.
Через три тысячи секунд они вошли в раздевалку. Высокой молодой женщине, стоящей перед ними в очереди, гардеробщица подала шинель с капитанскими погонами, и Петя забоялся: вдруг Зине тоже подадут какую-нибудь строгую шинель и окажется, что она совсем не студентка медицинского института, а какой-нибудь прославленный инструктор парашютного спорта, который посмеялся сегодня над ним — незаметным счетоводом. Но гардеробщица протянула Зине легонькое пальтецо самого что ни на есть студенческого вида, и Петя сразу успокоился.
— Будем до конца вежливы! — воскликнул Петя, выхватывая у гардеробщицы невесомое Зинино пальто. Он что-то напутал с рукавами, но в конце концов все сошло довольно благополучно, и Зина так и не узнала, что Петя впервые в жизни орудует в нелегкой роли кавалера.
На трамвайной остановке Петя загадал: если сначала подойдет трамвай с четным номером, то при расставанье они с Зиной договорятся о следующей встрече. Подъехала семерка, но так как ранее Петя уже неоднократно убеждался, что цифра семь благоволит к нему, он и на этот раз не стал особенно падать духом.
— До свидания, — сказала Зина. — Это мой трамвай.
— Какое совпаденье! — удивился Петя. — Это и мой трамвай. Вот интересно получается!
Зина с великим сомнением посмотрела на Петю, но промолчала. Они не вошли в вагон, хотя там были свободные места, а остались на промерзлой площадке. Петя нарочно расстегнул свое теплое пальто, чтобы и ему было так же холодно, как Зине. Нос у Зины посинел, губы стали фиолетовые, а глаза блестели, и Петя вдруг понял, что вот такая, озябшая, она дорога ему еще больше.
— На следующей остановке мне сходить, — объявила Зина. — Не вздумайте говорить, что и вам тоже: все равно не поверю!
— Зачем мне врать? — обиделся Петя. — Я сойду на второй остановке, если только… — голос у Пети дрогнул, — если только вы не позволите проводить вас домой.
— Нет, не позволю! — выпалила Зина, наслаждаясь новым для нее чувством своей власти над Петей. — И вообще, это пережиток — провожать девушек.
— Бывают очень хорошие пережитки! — вздохнув, сказал Петя.
На прощанье он спросил, когда же они еще встретятся.
— Право, не знаю, — озабоченно ответила Зина. — Я сейчас усиленно занимаюсь перед практикой.
Но Петя резонно возразил: нашла же она сегодня время, несмотря на усиленные занятия, заглянуть на каток.
— Это нечестно, — запротестовала Зина. Видимо, он все же хочет, чтобы она стала двоечницей?
— Избави боже! — возмутился Петя. Но ведь должны они еще хоть разик встретиться? Ведь должны же?.. И потом, насколько ему известно, хотя он, конечно, не медик, гигиена умственного труда требует перерыва в занятиях, а зимой нет лучшего отдыха, чем каток. Разве ей так уж плохо было сегодня на катке?
Зина с большим вниманием выслушала сообщение о гигиене умственного труда и, пристально разглядывая мохнатое от инея окно, сказала виноватым голосом, что совсем выпустила из виду гигиену и теперь, когда Петя напомнил о ней, она согласна прервать свою напряженную учебу и приехать на каток в следующее воскресенье, в семь часов вечера.
Она пожала Пете руку и спрыгнула с подножки. Свесившись с площадки, Петя провожал Зину глазами — чуть не вывихнул шею со всеми ее позвонками. С трамвая он сошел, как и обещал Зине, на второй остановке. Но вместо того, чтобы куда-либо идти, Петя дождался встречной семерки и поехал обратно, ибо квартира его находилась на противоположном конце города. Дома он нарочно не мыл рук, чтобы подольше сохранить ощущение Зининого рукопожатия.
Шесть дней Петя жил надеждами на встречу. Чтобы выглядеть более мужественно, он вставал теперь утром на полчаса раньше прежнего и старательно проделывал физкультурную зарядку — два раза подряд и по самой трудной программе. Опасаясь пропустить свидание из-за какого-нибудь несчастного случая, Петя целую неделю соблюдал все правила уличного движения и на радость работникам ОРУДа переходил улицу только по сигналу светофора.
Все сослуживцы заметили, что с Петей творится что-то необыкновенное, и осторожный главбух, во избежание путаницы, лично проверял Петины разноски и вычисления. Никаких ошибок он не нашел, но обнаружил одно непонятное Петино пристрастие. Влюбленная рука счетовода плодила семерки, смахивающие на великолепных мушкетеров: гордо развевались пышные шляпы-загогулины, на боку воинственно торчали шпаги-поперечины…
А в ночь с субботы на воскресенье нежданно грянула беда: массы теплого воздуха ворвались в частную жизнь Пети Сорокина. Утром в воскресенье, глянув в окно, Петя обмер. Зимы не было и в помине. С погребальным грохотом срывались последние сосульки. Вода проснулась от зимней спячки и — живая, озорно-игривая — капала с крыш, булькала, журчала с неудержимой весенней силой. Мартовским сверхмажорным маршем гремели водосточные трубы. В глубоком, ярко-синем небе ухмылялось лучистое рыжее солнце.
Прощай, каток! Как он теперь найдет Зину? Что он о ней знает? Она — студентка медицинского института, и зовут ее Зина. Да там, может быть, целая сотня Зин!
Полдня Петя сидел у окна, курил и смотрел на термометр, спущенный на веревочке в фортку. Когда ртутный столбик достиг семи градусов выше нуля, кончились папиросы. Петя лег на кровать и, подражая одному знакомому начинающему поэту, стал заунывным голосом декламировать самые печальные стихи, какие только знал. Сосед постучал в стенку и осведомился, что с Петей, не заболел ли он. Петя попросил оставить его в покое, ибо никакие соседи, даже самые чуткие, помочь ему не в состоянии.
В шесть часов вечера Петя взял коньки и вышел из дому. В трамвае Петины коньки обратили на себя всеобщее вниманье. Многие пассажиры испробовали на них свое остроумие. Скрепя сердце Петя вытерпел и это.
Еще издали, подходя к катку, Петя увидел на входных дверях большой тяжелый замок, бульдожьей хваткой вцепившийся в петли. На сердце своем почувствовал Петя этот хищный замок.
Он сел в сквере на скамейку, откуда был виден вход на каток. Мимо Пети, беспричинно смеясь, проходили счастливые парочки, безучастные к его горю. Над головой каркали вороны — громко, по-весеннему сырыми голосами. Петя не выдержал их замогильного карканья и вскочил со скамейки. От голого куста до смятой папиросной коробки «Казбек» один раз оказалось восемь шагов, в другой раз — семь. Петя для проверки смерил в третий раз и насчитал четырнадцать шагов: кто-то из прохожих сбил коробку с места.
— Эх, люди! — пробормотал Петя, дивясь вероломству своих современников, и кулем повалился на скамейку.
Семь часов семь минут… Ровно неделю назад он впервые увидел Зину. Петя попробовал в уме высчитать, сколько в неделе минут, но сбился. С непонятным для самого себя упорством, словно от правильности подсчета зависело, встретится он с Зиной или нет, Петя достал блокнот и занялся вычислением.
А когда, покончив с арифметикой, Петя вскинул голову, то прямо перед собой увидел Зину. Она неуверенно подходила к нему с газетным свертком под мышкой, в легоньком своем пальтеце — милая и родная.
— Пришла! — шепотом крикнул Петя, зажмурился, как от сильного света, и шагнул ей навстречу.
Он так порывисто пожал руку Зине, что та уронила сверток. Из газеты в растоптанную снежную кашу вывалились коньки.
— Понимаешь, — скороговоркой зачастила Зина, не замечая, что переходит на «ты», — сегодня так заучилась, совсем о погоде забыла. А сюда приехала, вижу: весна…
Она говорила что-то еще, объясняя свой приезд, но Петя не слушал ее больше: это невольное «ты» и коньки сказали ему всю правду. Зина тоже считала дни, оставшиеся до воскресенья, так же, как и он, целую неделю соблюдала правила уличного движения и на каток поехала только для того, чтобы встретиться с ним. И лишь в трамвае над ней не смеялись, ибо никто из остроумцев не знал, что находится в свертке.
Петя упаковывал Зинины коньки в газету и счастливо улыбался.
— Ох и глупый у тебя сейчас вид! — бессильно злясь на Петю, сказала Зина: по женской своей природе она жалела уже, что так опрометчиво выдала себя.
Защищая свою независимость, Зина отвернулась от Пети, поправила волосы, достала носовой платок и старательно вытерла сухие губы. Петя вдохновенно шуршал газетой и снизу вверх смотрел на Зину весенними хмельными глазами.
— Та-ак! Та-ак! Та-ак!.. — одобрительно каркали вороны — самые расчудесные птицы на всем белом свете.
Пахучий мартовский ветерок принес далекие звуки музыки. И хотя никак нельзя было разобрать, что именно поет репродуктор, но Пете почудилось, будто по радио передают его любимый вальс. Петя хотел, чтобы это было «Неразменное счастье», — а значит, так оно и было.