Анатолий Кузнецов
Огонь
Роман

Глава 1
Известие о самоубийстве Димы Образцова ошеломило Павла.
Даже сейчас, сидя пятый час в междугородном автобусе, перечитав все газеты, перекусив и даже поспав, он не мог отвлечься от мрачных мыслей. Его мозг упрямо вспоминал давешние похороны и пытался что-нибудь понять в этой истории.
Может, это была иллюзия, что он пытается что-то понять, но, во всяком случае, еще ни одна смерть, с которой приходилось ему сталкиваться в жизни, не потрясла его так конкретно. Так свирепо, реально своим… Чем, да, чем? Бессмыслием? Или, наоборот, таким глубоко лежащим смыслом, какого простому смертному средь тьмы забот и суеты просто не понять? И, кажется, непостижимость…
А было так. Дима Образцов поехал на Север писать очерк о каком-то комбинате. Уезжал бодрый, грозился привезти не только очерк, заказанный центральной газетой, но, если удастся, книгу. Очень веселый и полный планов уезжал.
Никто не мог рассказать, что с ним произошло, потому что он жил там один, остановился в гостинице, ходил по комбинату, по стройкам, к, рыбакам… Вдруг в редакцию газеты пришла телеграмма, что корреспондент умер, и спрашивалось, что с ним делать. То есть не с ним, а с телом.
Его нашла утром горничная. Она долго стучала, но открыть дверь не могла, потому что изнутри крепко застрял ключ. Дверь взломали, обнаружили жильца мертвым, уже закоченевшим. Вскрытие показало, что он принял большое количество таблеток очень сильного снотворного — совершенно непонятно, где он столько достал и почему имел с собой. А может, он просто не мог уснуть и перебрал слишком много таблеток? Может быть, это было вовсе и не самоубийство, а несчастный случай? Но кто знает? Свидетелей тому не было.
Около недели длилась различная переписка, исполнение многих формальностей, потому что, как выяснилось, существует целый свод правил перевозки покойника. Наконец тело доставили — в большом запаянном цинковом ящике; и, учитывая, что оно, вероятно, имело уже непривлекательный вид, было решено хоронить Диму в этом ящике, не вскрывая.
Никто больше не увидел лица Димы. Участвовавшим в похоронах был представлен только его портрет — очень хорошая увеличенная фотография, на которой Димка был молод, женственно красив, оптимистично смотрел вдаль. В последние годы Димка был явно не таков, но льстивая эта фотография времен учебы Димки в институте и стала толчком, вогнавшим Павла в странное состояние: заставляла она многое припомнить.
Дело в том, что Павел и Дима некогда поступали в институт вместе. Одинаково боялись, наберут ли нужные баллы, зубрили одни и те же учебники, сообща заготавливали шпаргалки, даже, кажется, отметки у них получились одинаковые.
Потом в общежитии пять лет спали на соседних койках, и не раз приходилось делить на двоих последнюю сайку.
Дима Образцов родился и вырос в деревне. Он пришел в институт, имея тощенький стаж работы в районной газете и буквально космическую тягу все узнать, понять, увидеть. Город его ошеломил и сильно подхлестнул А были у Димки прекрасные, большие и вопрошающие глаза, действительно что-то женственное. Он очень тонко чувствовал погоду, поражал всех точными предсказаниями… Пожалуй, что-то в нем было этакое есенинское, трогательное, что очень располагало к нему.
Как парень способный, он вскоре стал отлично учиться. Удачно писал разные заметки, которые все чаще печатались, и каждый раз он приходил в восторг и очень мило, забавно гордился.
Потом Павел стал замечать, что Димка иногда слишком уж задирает нос. Появились в нем нотки самоуверенности, он рассуждал все безапелляционнее, научился покрикивать и обрывать на полуслове всех, кого, видимо, считал глупее себя.
Статьи его стали наступательно-воинствующими, и случалось несколько раз, что его материалами газеты открывали на своих страницах целые дискуссии.
Сам он словно бы подрос, распрямил плечи, ходил широким, уверенным шагом, ни над каким вопросом больше двух секунд не задумывался, особенно отвечая на записки при встречах с читателями. Да, он очень полюбил эти встречи, и надо признать, что говорил он остро, напористо, убежденно, задиристо, а это слушателям всегда нравилось.
Скорее всего ему хотелось походить на Маяковского, но, возможно, потому, что талант был не тот, Павел не раз с тревогой замечал, как Димка в общем-то убежденно толчет воду в ступе. Да еще подозрительно часто повторяется, и не лучшим образом.
Видел Павел это лишь от случая к случаю, потому что, окончив институт, Павел и Дима стали работать в разных редакциях, к тому же в разных концах города, и встречались не часто. Павла всегда, всю жизнь отталкивали самоуверенные люди, которым кажется, будто они все на свете уже понимают. На эту тему они, помнится, не раз и не два крепко поговорили с Димкой, но тот ни с чем не согласился, а только, похоже, обиделся. Так и вышло, что они стали по полгода не видеться.
Однажды дошел до Павла слух, что Дима Образцов сильно пьянствует. Спутался с компанией алкоголиков и неудачников. Напиваясь, костит всех и вся и почему-то особенно его, Павла. Однажды ночью вдруг явился к Павлу домой, угрюмый, злой, разбудил Павла и попросил рубль. Рубля не нашлось, Павел дал ему пять и, сколько ни уговаривал остаться, Димка и ухом не повел: хлопнул дверью и как провалился, даже спасибо не сказал.
Вдруг Дима исчез. Как выяснилось, уехал на родину, в деревню. Не слышно о нем было примерно год. Снова приехал, опять бодрый, безапелляционно рассуждающий, косяками выдавал материалы, которые писал неизвестно когда, потому что продолжал жестоко пить.
И вот наконец поездка на Север — и это снотворное…
За окном автобуса пятый час тянулась одна и та же однообразная картина. Плоская, как стол, равнина до горизонта, изредка заваленный снегом городишко или быстро мелькнувшая деревня — и снова равнина, равномерно покрытая снегами. Вдоль шоссе тянулись, то взлетая, то опадая, провода; на обледеневших столбах изредка сидели нахохленные вороны, ветер ерошил их перья.
Глядя на них, съеживающихся под пронзительным ветром, он с особым удовольствием думал, что автобус попался уютный да теплый. Печки грели что надо: откуда-то из-под сиденья так и пыхало жарким воздухом. Сиденья были в точности как в самолете, откидывающиеся, покрытые белоснежными чехольчиками, окно можно было задернуть занавеской — все это располагало к разморенной лени и сну. Пассажиров было мало, во всяком случае, и место рядом с Павлом и оба места по другую сторону прохода были пусты. Аналогию с полетом создавали еще мощный гул и лихая скорость, с которой этот серебряный венгерский «Икарус» буквально пожирал равнину, одним махом, небрежно обгоняя все, что ни попадалось на пути, — грузовик ли, легковушка ли.
Павел посмотрел на часы: перевалило за четыре, — значит, скоро начнет темнеть. Его беспокоила гостиница, и вообще это было не очень умно — выезжать на ночь глядя. Но срочное дело подгоняло, а с утра пришлось быть на похоронах, и Павел не простил бы себе, если бы не проводил друга в последний путь.
Срочное дело было следующее. Задувалась крупная домна. Мало сказать крупная — по тем временам крупнейшая в мире, сверхмощная доменная печь. Заметка об этом случайно попалась Павлу на глаза — короткая информация ТАСС в пять строк.
Внимание его остановило не то, что домна крупнейшая в мире. Их у нас строится много, и все крупнейшие, и мы уже привыкли к тому. Удивило его, что это должно произойти в поселке под названием Косолучье.
Павел знал Косолучье, как свои пять пальцев. Там он мальчишкой жил, остались друзья, там даже случилась его первая любовь.
Неприметный был поселок, пустяковый — и вдруг «крупнейшая в мире»… В мире — это все-таки значит: на всем земном шаре!
Тот период жизни был не такой уж долгий: примерно от его десяти до шестнадцати лет. Отца перевели на Урал. От Косолучья в памяти остались равнины, лыжи, коньки да первый в жизни велосипед. Открытое всем ветрам и хлябям неуютное поселение да над грязной речкой, лишенной рыбы, дряхлый металлургический завод, истоки зарождения которого уходили в петровские времена.
Осталась в памяти драка. Жуткая, безобразная драка, как говорится, на почве ревности — из-за той девочки. Не до первой крови, а до полного изнеможения сил. С Федькой… Как же его фамилия? Простая, невыразительная такая фамилия, чуть ли не Иванов. Пожалуй, что так и есть. Иванов… Дураки были оба, а ведь здоровые уже были лбы.
Сейчас у Павла получилось «окно». Типография безбожно задержала гранки его последнего романа. Новую законченную повесть пока только читали члены редколлегии уважаемого журнала, с уважаемыми карандашами в руках. Написанный для газеты рассказ лежал пока «под вопросом». Уныло справляясь о его судьбе, Павел увидел эту самую тассовскую заметку в пять строк. Похвастался, что сам из Косолучья. Дальше было просто. Он подумал: «А почему не съездить на день-два? Время как раз есть».
Будущий очерк (все с натуры: как задували домну, как дали первый металл) под далеко не оригинальным названием «Рождение гиганта» (условно, только условно!) был тут же вставлен в план, а Павел пошел оформлять командировку.
Здесь время сказать, что о домнах он имел понятие весьма скромное. Чтобы не сказать никакое. Впрочем, для того, чтобы написать очерк с натуры, это не могло иметь решающего значения, и он храбро взялся.
Конечно, Павел знал о домнах то, что знают все добрые люди: «Встав на предпраздничную вахту, металлурги…» Подобно другим зрителям в кинотеатре, скучал, глядя ту часть журнала «Новости дня», где льется металл, бушует пламя, сыплются искры и мужественные металлурги в рыбацких шляпах непременно шуруют длинными кочергами в огне.
Но в конце концов невозможно нынче человеку знать устройство и технологию всего на свете. Телевизор у каждого в комнате куда ближе, чем домна, а многие ли в нем понимают? Ознакомиться с домной Павел решил на месте, впрочем, ведь и не в устройстве дело: для очерка важнее всего люди. В людях Павел более или менее мог разбираться, по крайней мере иногда в это сам верил. Одним из его правил при этом было: не спешить выносить суждение. Он не любил сам много говорить — любил больше слушать. Не любил, когда предлагали поверить на слово, — предпочитал увидеть дело. Древние, как мир, простые правила эти, как ни странно, не так уж популярны среди людей. На словах — о, да! Но на деле… Многие коллеги Павла недоумевали, откуда у него в книгах и то и се, критика писала о секрете его особенного видения жизни. Секрета не было.
Дату и час пуска этой сверхмощной домны так и не удалось выяснить. Сколько ни звонил на завод, оттуда отвечали: «Да вот сейчас… Сейчас уже не сегодня-завтра. Вот-вот!» И Павел тревожился, как бы не опоздать. Вот почему он выехал на ночь глядя, да и на похоронах все возвращался мыслью к этой домне.
Похороны должны были кончиться рано. Назначили на девять утра, но пока прощались, собирались, задержки разные — автобусы выехали только в половине одиннадцатого. Ехали по городу, одолевая заторы, задерживаясь перед светофорами, приехали куда-то на другой конец города.
Если бы спросили Павла, где он находится, он бы не смог сориентироваться, он никогда прежде об этом кладбище не слышал. Но кладбище было настоящее: мощная стена, широкие ворота, неизбежный магазинчик похоронных принадлежностей, мастерская по сооружению памятников, контора, облепленная прейскурантами различных кладбищенских услуг, старушки, бойко торгующие цветами.
Павел нес один из венков. Он неблагоразумно оставил в редакции перчатки, руки его искололись и закоченели. Мерзли ноги в легких ботинках, и все вокруг пританцовывали, стучали ногой о ногу.
Напарник Павла по венку, совершенно незнакомый мужчина, пошел в контору узнавать, а Павел, нахохлившись, грел руки в карманах и подпирал венок плечом, благо тот был предусмотрительно сделан на тонких палках-ножках. Редактор литературного отдела, который нес впереди процессии Димкин портрет, тоже замерз. Он поставил портрет в снег, прислонив к стене.
Так все и ждали: Димка, оптимистично глядя вдаль; провожающие друзья, колотя ногой о ногу; тихо плачущие мать и сестра, специально приехавшие на похороны из деревни… Прибежал напарник, сообщил, что могила в таком-то квадрате; все поспешно построились и двинулись. Тяжелый цинковый ящик понесли на плечах восемь человек.
Возле ямы сняли ящик с плеч, поставили, начали говорить речи.
Все стояли закоченевшие, с посинелыми лицами, ждали. Не вынося больше неподвижности, Павел выбрался на аллею, прошелся по ней немного, миновал десятка два памятников — и ноги его приросли к земле: на черной гранитной полированной глыбе были золотом написаны полностью его фамилия, имя и отчество.
В первый миг Павел ничегошеньки не понял, только почувствовал себя до идиотизма странно. Приблизился и вчитался: его фамилия, имя, отчество, но другой год рождения… и смерти. Это был другой человек, тезка, он родился лет за десять до Павла и умер в прошлом году. «От безутешной жены и детей». Павел постоял, потом медленно вернулся. В сущности, обычная, нормальная вещь, но ощущение такое, будто свой собственный памятник посмотрел.
Прибежали трое могильщиков, потные, запыхавшиеся. Подняли ящик на пасы. Заголосили мать и сестра. Ящик провалился, гулко стукнув о дно ямы, все бросились швырять комья мерзлой земли, которые забарабанили, словно сыпали из мешка картошку.
С кладбища не шли — бежали, все до последнего закоченевшие, не могли отогреться в автобусе, а, приехав в редакцию, где в задней комнате были накрыты столы — поминки в складчину, — жадно накинулись на водку, чтоб согреться, и только потом начались положенные: «Эх, Дима, Дима…», «Вот так, был Дима — и нету…».
…Круто затормозил автобус. Павла кинуло вперед, и, взглянув в окно, он увидел, что уже темно, а автобус идет по городу со светящимися витринами и вывесками. Сделав великолепный разворот, «Икарус» ловко подрулил к освещенному зданию автовокзала, и зашипели, открываясь, двери. Приехали.
Автовокзал стоял в центре площади — широкое приземистое здание с некрупными, подслеповатыми окнами и высокой остроконечной крышей, как пряничная избушка. По прихоти архитектора избушка эта имела роскошную, выступающую полукругом ротонду, по бокам ее — две широкие лестницы с какими-то курортными балясинами, а входная дверь в избушку хоть и была тесна, обрамлялась зато двумя дорическими колоннами.
Внутри же было тепло, светло, современно: сплошные стеклянные кубы касс, обтекаемые пластиковые диваны для ожидания, светящиеся, мигающие табло и схемы — и бодрый голос диктора: «Автобус семьдесят два — двенадцать рейсом на Павлихино отправляется!»
Практично Павел все осмотрел, пластиковые диваны (на случай, если придется ночевать) одобрил и пошел на площадь. Мороз так и вцепился в лицо. Светила полная луна. Небо чистое, без единого облака, обдающее землю черным космическим холодом. У людей, топтавшихся на стоянке такси, вываливались, как у лошадей, клубы пара изо ртов.
Освещаемая больше луной, чем фонарями, площадь была Павлу совсем незнакома. Незнакомы были высокие здания, обрамлявшие ее. Прежний город (из Косолучья сюда ездили трамваем) вспоминался Павлу низеньким, распластанным, сплошь купеческие особняки да косопузые деревянные домишки. Этого нового города он не знал. Скорее всего новые кварталы, местные «Черемушки». И, как это сплошь и рядом бывает, кварталы за этой площадью резко обрывались: стоял последний дом, и за ним ничего, тьма.
Именно на последнем доме светилась вывеска гостиницы, и Павел, почти бегом перейдя площадь, задохнувшись от мороза, нырнул в ее дверь. В вестибюле был скандал. Швейцар с галунами защищал вход в ресторан от шумной, нельзя сказать чтобы трезвой, компании. За полированной ореховой стойкой читала журнал «Здоровье» полная, цветущая администраторша. Павел пошарил глазами, отыскивая привычную табличку «Мест нет», иногда писанную серебром, иногда бронзой, но такой не оказалось. Это его поразило.
Администраторша бегло взглянула на его командировочное удостоверение, сказала: «Давайте паспорт», — и через три минуты он, не веря сам себе, ехал в лифте на пятый этаж. Лифт шел рывками, скрипел и попискивал, перекашиваясь, хотя и лифт и сам дом были явно новыми, но этот скрип показался Павлу истинной музыкой.
Отведенный ему номер находился в конце коридора, уютный и скромный: деревянная кровать, стенной шкаф, письменный стол, телефон. В углу — раковина умывальника.
— Туалет в том конце, — сказала горничная. — Ванна тоже там.
— А! — сказал Павел. — Хорошо…
Минуту он постоял, привыкая. Выглянул в окно. К сожалению, оно выходило, не на площадь, а на противоположную сторону, в поле. Вглядываясь, Павел не смог увидеть ничего, кроме белеющей под луной плоской равнины до самого горизонта. Ветер ударял в стекла, заставляя их вздрагивать, и сквозь микроскопические невидимые щели несло ледяным холодом, но батарея под окном была раскаленной, казалось, чуть не докрасна, и Павел ощутил прилив отличного настроения, готовность немедленно ехать на завод. Не снимая пальто, он кинулся к телефону, достал записную книжку с номерами. Долго ему не отвечал ни один телефон, наконец доменный цех откликнулся сонным женским голосом. Нет, домну не задували, нет, и не ожидается, еще не скоро… Когда? А леший его знает, говорят, вот-вот.
Оптимистично Павел подумал, что и это к лучшему: пока задержки, он успеет освоиться. Он повесил пальто в шкаф, достал из чемоданчика мыло, умылся, посмотрел в зеркало: не побриться ли? Нет, вроде не зарос. Лень. Бумаги рассовал по ящикам стола, положил на чернильный прибор две шариковые авторучки.
«Отлично! — думал он, потирая руки. — Все складывается просто отлично! Хорошо!..»
И вдруг перед его глазами ярко встала — как удар грома, как наяву увидел — черная глыба с золотыми буквами.
«Зачем понес меня черт именно в ту сторону? — встревожившись, подумал он. — Теперь, гляди, еще сниться будет, А займемся-ка мы очерком!»
Еще когда он ходил по кабинетам, оформлял командировку, получал аванс, у него сложились вступительные фразы, вернее, сами мысли, которые, очевидно, должны были открывать очерк.
Разложив по столу чистые листы, он подумал и стал набрасывать:
«Черная металлургия — основа основ индустриальной мощи страны. Чугун — это хлеб промышленности… Организуя и подчиняя себе огненную стихию, человек переплавляет сырье, получаемое от природы, в нужный ему металл. По уровню выплавки металла судят о степени развития наций. Современный металлургический комбинат с его сверхмощными печами ныне один дает такую реку металла, какую прежде выплавляли печи всей огромной Российской империи, взятые вместе».
Написал и задумался. Все было очень правильно. Настолько правильно, что даже подозрительно. Павел сложил листок вчетверо, сунул в ящик и решил подойти иначе, с плана:
«1. Общая картина. Люди у домны.
2. Задувка со всеми деталями. Люди уверены, но волнуются. Напряженное ожидание.
3. Но вот брызнул первый металл. У горнового слезы на глазах (конечно, „от жара“).
4. И вот идет этот металл, из которого будут созданы станки и комбайны, автомобили и ракеты, мясорубки и перья для школьников…»
Он перечитал этот шедевр мысли и почувствовал себя совсем неважно. Машинально скомкал лист, бросил в корзину под столом. «Одна головня в поле не горит. В поле не горит. В поле не горит», — написала его рука. Он опомнился и теперь уже всерьез испугался. Потрогал лоб — вроде нормальный, не горячий.
«Нужен кофе, — подумал он. — Чашку крепкого черного кофе, вот чего мне не хватало с самого утра, конечно же!»
Посмеиваясь, что затор в мозгах так просто объясняется, Павел спустился в скрипучем лифте на первый этаж, немного пообъяснялся со швейцаром, утверждавшим, что нет мест, и прошел в ресторан.
Там было весело, шумно, дымно. Действительно, ни единого свободного стула. Сплошь загроможденные бутылками и обильной пищей столы, и все люди старательно ели. На низенькой эстраде коренастый певец, стриженный, как боксер, выкрикивал:
Эх, Одесса, кр-расавица А-де-са!..
Ближайшие столики дружно хлопали ему в такт. Стрельнуло шампанское, и мимо уха Павла с жужжанием пронеслась пробка. Посмеиваясь, он поймал официантку, спросил кофейник с собой в номер. К сожалению, сказала она, номера не обслуживаются: не хватает штата. Это Павел предвидел и сказал, что обслужит сам себя.
— Нельзя, — сказала официантка, начиная нервничать. — Кофейники в номера нельзя.
— Я оставлю залог.
— Нельзя все равно. Хотите кофе — садитесь за столик, вас обслужат в порядке очереди.
Павел посмотрел на битком набитый зал, плюнул с досады и долго путался между столиками, пока не нашел заведующего. Тот, этакий видный, солидный джентльмен, охотно разъяснил, что кофейников мало, в номера нельзя, это снижает оборачиваемость кофейников.
— Вот если вы принесете свою посуду, я дам указание отпустить, — смилостивился он и стал смотреть по сторонам, как человек, которого отвлекли по пустякам.
Павел поехал на пятый этаж, попросил у дежурной кастрюльку или хотя бы банку, все равно из-под чего. Это ее здорово озадачило. Видя, что человек отчаивается, она его пожалела, пошла на другой этаж, долго ходила и принесла блестящий электрочайник, однако испорченный и без шнура.
«Отлично!» — сказал себе Павел и снова поехал в лифте. Внизу он отыскал заведующего, тот распорядился отпустить ему кофе, Павел постоял в очереди в кассу вместе с официантками, которые над ним похихикали, отшучиваясь, сдал в окно свой чек и подождал, пока кофе сварят. «Поменьше и покрепче, двойной, тройной!» — просил он, и все же сварили много и жидко. Торжествуя, повез чайник наверх.
Он залпом выпил сразу полстакана кофе, и ему захотелось немедленно написать статью под рубрикой «Как вас обслуживают?», а в ней примерно такие слова:
«Люди, измученные ожиданием, не орите на официантов: те не виноваты. Это все система гипертрофированной ответственности. Приняв ваш заказ, официант сам делает заказы, стоит в очереди в кассу, в буфет, на кухню — удивительно, как они ухитряются вообще нас обслуживать».
Что-то очень знакомое почудилось ему в собственных словах. Не то сам писал, не то читал. Димкин стиль! Остро, наступательно, проблемно — по воробьям! Да, Димка писал о том, как плохо обслуживают в молодежном кафе, о безобразных затягиваниях сроков пошивочным ателье, поднимал дискуссии о проблемах свободного времени, восторженно сообщал о хорошем водителе троллейбуса, который рассказывает в микрофон о достопримечательностях города, с такой же легкостью брался за беды совхозного планирования и новшества в системе комсомольской политучебы.
Павел заходил по комнате, как по клетке. Прижался лбом к стеклу и посмотрел в поле, ровное, гладкое, холодно белеющее под луной.
«„От безутешной жены и детей“… — машинально подумал Павел. — Он родился на десять лет раньше меня, умер в прошлом году. Вот странно, если бы мы были похожи. Он был таким, как я, потом еще прожил десять лет… Тьфу, бред, а если он просто попал в автомобильную катастрофу? Нестарый человек, а… Закончил все».
Он присел за стол, отхлебнул остывшего кофе, потер глаза руками, подпер голову и задумался. Зачем распускать мысли? Есть конкретная, большая задача: домна. Сосредоточиться на этом, сосредоточиться и думать о домне.
Но сосредоточиться ему помешали.
Дверь без стука отворилась, и вошел Дима Образцов, уставший, растрепанный, с красными от бессонницы глазами.
— Ты тоже сидишь? — сказал он. — Мне не спится: угловой номер, два окна, несет, как из трубы, и холод собачий.
— Сделай, как я, — посоветовал Павел. — Задерни занавес и подоткни поверх батареи, тогда тепло идет внутрь.
— Это все неважно, — сказал Димка. — Дело не в том. Понимаешь, они все говорят…
— Кто?
— Вещи.
— Какие вещи? Что ты бормочешь?
— Понимаешь, я гашу свет, ложусь, и они начинают разговаривать. Все: мой костюм, пуговицы, бритва, тумбочка, телефон…
— О чем они говорят?
— О многом. О какой-то шахте, где что-то утеряно, о погасших на аэродроме огнях. Очень интересно: обвиняют меня, будто я сам погасил. Хочешь, проверь. Погаси свет.
Павел послушно выключил лампу, но, странно, в номере не стало темнее.
— А вот! — воскликнул Димка, протягивая палец. — Слышишь?
Телефон взорвался отчаянным, невероятным звоном. Павлу захотелось зажать уши, так нестерпим был этот звон. С большим усилием он открыл глаза, понял, что задремал за столом, но телефон действительно звонил. Павел схватил трубку. Сначала не понял. Ему показалось, что говорят нечто жуткое.
— Диспетчерская? — допытывался голос.
— Нет, вы ошиблись, — сказал Павел и положил трубку.
Глава 2
Пятнадцать лет тому назад между Косолучьем и городом ползал по одноколейному пути трамвайчик № 3 — «тройка». Старые, дребезжащие вагончики бежали от разъезда к разъезду чуть ли не час в один конец, особенно зимой, потому что линия шла полем и ее на каждом шагу заносило.
Неожиданности начались для Павла с остановки: «тройка» сохранилась точнехонько такой, как была. Еще в гостинице он узнал, что в Косолучье можно ехать и автобусом, быстрее, но он пошел на трамвай.
Было утро, по городу бежали люди на работу, на остановках стояла черная толпа, Когда подползла дребезжащая, помятая и облупленная «тройка» с прицепом, толпа осадила ее так, что, казалось, сейчас или с рельсов снесут, или опрокинут. Павел хотел назад из толпы выбраться, не тут-то было. Его буквально внесли в узкую дверь. Работая локтями и изгибаясь, он пробился в угол площадки, его припрессовали к стене.
И едва завибрировал под ногами пол, затряслись стекла, а кондукторша закричала, чтоб проходили вперед, на Павла вдруг дохнуло запахами юности, и словно враз открылись какие-то шлюзы памяти, одно за другим стало вспоминаться: и как этим трамвайчиком на елку в город ездили, и как с уроков «пасовали», и опять же таки на трамвайчик и в кино. Всплыли лица друзей, разговоры, проблемы, страсти!..
Едущие в трамвае разговаривали, многие знали друг друга, здоровались через весь вагон. Утренний трамвай — явление особое. На остановках его осаждали новые толпы, и никто не сходил, а все только втискивались, втискивались, прямо колдовство какое-то: кажется, уж лезвие ножа не просунуть, а снаружи стучат по стенкам: «Уплотнитесь маненько!» Еще пять душ вошло, веселеют, здороваются, подключаются к беседе о нарядах, прогрессивках, простоях… Трамвайчик крякает, тужится, бежит. Потом уплотнение кончилось: колея пошла по голой снежной равнине; по крыше барабанил, гудя, ветер. На редких разъездах трамвай подолгу замирал, поджидая встречного, и тогда особенно слышен был ветер и особенно громко звучал говор.
Да, да, конечно, звали его Федей Ивановым, того паренька, с которым они так влюбились в Женьку и потом дрались. Павел ярко увидел этого Федю, как и других, словно вчера с ними расстался. От воспоминаний ему стало тепло и загудело внутри что-то протяжно… Он прикрыл веки, чтоб лучше видеть.
ФЕДЯ ИВАНОВ добродушный был, спокойный, увалень такой, а здоров и силен, ну, медведь, как схватил тогда в драке — кости трещали. Только не умел он сознавать свою силу, точнее, не научился ее применять во зло.
Был он из какой-то очень уж многодетной семьи, жили в бараке под косогором. Остротой ума не отличался, звезд с неба не хватал. Обноски старших братьев вечно донашивал. Однажды пришел в школу — башмаки проволокой подвязаны. Что-то ему выписывали, помнится, помощь какую-то.
А в общем, серый был, малоспособный ученик, как говорят, середняк середняком. И, пожалуй, больше всего шансов встретить в Косолучье именно его. Такие трудятся и трудятся себе мирно, на месте. По логике жизни, пожалуй, он сколотил себе домишко, огород при нем, поросенок в хлеву. А то взял участок в общественном саду. В получку выпивает и ссорится с женой, в остальное время она его пилит. Покупает по два-три билета лотерей, ходит проверять, но выиграл только однажды рубль. Премий не получает, на досках почета не висит. Ему всегда с таким трудом вдалбливалось то, что другие схватывали на лету.
ВИТЯ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — вот кто схватывал все с лета. Был самой яркой личностью класса, если не школы. Парень из хорошей, культурной семьи, единственный сын, всегда очень ухоженный, чисто и модно одетый, изящный, с легким налетом этакого молодежного снобизма XX века.
Мама у него была очень начитанная, интересовалась искусством и сыну усердно прививала любовь к нему. Он всегда был в курсе самых свежих новинок, самых модных веяний, удивлял знанием последних достижений культуры. Единственный из всего класса читал Норберта Винера, хорошо уже тогда знал живопись Пикассо, имел записи Стравинского и Бени Гудмана. Для тех, кто с ним общался, он был просто клад новостей.
Папа его, значительный специалист металлургии, построил небольшую дачку в бору, километрах в шести от поселка, но так как был вечно занят, то на эту дачку родители выезжали редко, а Витька тут-таки и воспользовался этим на полную катушку. «Гнездо культуры века» там образовалось, как он сам назвал.
Он выпросил у матери и перевез туда прекрасный по тем временам приемник «Минск» с приставным моторчиком собственного изготовления. Далее, целый ящик пластинок, половина импортные — папа понавез. Магнитофоны тогда только-только выходили, так у Витьки уже было какое-то страшное чудовище, однодорожечная запись, скорость — девятнадцать, и он ночами сидел, ловил по приемнику джазы и писал. И сочинял страшно сложные, глубокие стихи.
Компания сложилась по принципу велосипедному. Ребята, у кого были велосипеды, закатывались к Витьке в «гнездо», бывало, каждый вечер подряд, слушали, смотрели, спорили до ночи. Дача эта была просто клад. Кричали до хрипоты, а то и кулаками начинали махать.
Потому что компания собиралась весьма разношерстная. Например, тот же Федька Иванов — совсем чужеродное тело. Другие при нем говорили, щеголяли терминами, именами — он только рот разевал. Но приезжал часто, старательно на едва живом, насквозь проржавевшем велосипеде брата, с такими ветхими камерами, что каждые пятнадцать минут надо было останавливаться и подкачивать их.
К огорчению мамы, Виктор увлекался физикой и математикой. И надо сказать, что способности у него ко всему были блестящие. Пропасть талантов, сплошные таланты. Когда он говорил, все моментально затихали и слушали. Решающее слово в спорах принадлежало ему.
Никто не сомневался, что Виктор Белоцерковский будет выдающимся человеком — может, знаменитым ученым, физиком, исследователем, блестящим философом, а то, гляди, и поэтом…
Павел с признательностью подумал сейчас, что ведь он многим обязан Витьке: имена Ренуара, Гогена, Мане, понятие о новейших стилях и направлениях в музыке, литературе, архитектуре — все это впервые он узнавал в «гнезде». Что же было с Белоцерковским дальше? Очень странно, что до сих пор его имя нигде не появилось в печати, например. А может, как это теперь часто бывает, гремит он в какой-то узкой области, где только специалисты знают друг друга.
СЛАВА СЕЛЕЗНЕВ был самым преданным другом Виктора. Он вроде был и помоложе на годок, тоненький такой, как девочка, с ломающимся голоском, слабачок — в драках только зритель-болельщик, и в довершение всего отчаянно картавил. Одна его фраза стала в компании поговоркой, едва только садились на велосипеды: «Гебята! Гванем чегез гогу!» Он не обижался, смеялся вместе со всеми.
Вот Славка, этот был просто влюблен в Виктора. Слушал его, разинув рот. Дневал и ночевал бы у него. Трогательно было видеть их нежную дружбу.
Безграничный оптимист, всем улыбающийся и готовый услужить, добряк Славка был, к сожалению, лишен абсолютно всяких талантов. И, может, потому он был жестоко уязвим. Что Белоцерковский усваивал играючи, то Селезнев постигал ценой отчаянной долбежки. А к чему Белоцерковский прилагал усилие, то Селезневу было вовсе не по плечу…
А ему очень хотелось быть значительным. Он из кожи лез, чтобы быть хорошим учеником. Лебезил перед учителями. Не раз был уличен в ябедничестве. Охотно брался за все, где можно заслужить похвалу. На него стали взваливать разные нагрузки, стенгазеты там, металлолом и прочее — ни от чего не отказывался. Полюбил заседать, первый тянул руку выступать.
Какой-нибудь сбор бумажной макулатуры — Славка первый тут как тут, как главный организатор и приемщик. Сажают деревья — Слава мечется, весь мокрый, размахивает руками, указывает, где и какие ямы копать.
Впрочем, надо отдать справедливость, один своеобразный талант у него был: выпускать стенгазету. Он обожал ее выпускать и в этом смысле был находкой для класса, потому что обычно никто не хотел писать заметки. Славка и не просил: он писал сам. И рисовал стенгазету запоем. Именно рисовал, потому что главной ее частью всегда был заголовок на пол-листа. Стенгазета выходила пунктуально ко всем праздникам, это нравилось директору, ставилось классу в заслугу.
Так вышло, что имя Славы Селезнева стало неизменно упоминаться на общих собраниях — пусть не как отличника, но зато как лучшего школьного активиста.
МИША РЯБИНИН, четвертый велосипедист, парень, приятный во всех отношениях. На таких людях, как на китах, пожалуй, земля держится.
Умницй, рассудительный, не вспыльчивый, он был прочным отличником. И не потому, что, как некоторые, пыхтел ночами до седьмого пота, а потому, что имел добрую голову на плечах.
Когда в «гнезде» особенно закручивались споры, рождалась истеричная перебранка и пахло дракой, Миша Рябинин неизменно выступал на сцену и сразу всех мирил. Как истый реалист, он говорил: «Братцы-кролики, жизнь сложна, и не нам с ходу распутать все узлы. Терпение — и распутаем. А тем временем нужно принимать жизнь, какая она есть. Уясним себе, какой это трудный орешек!»
И был он феноменальный математик. Встречаются люди с такими способностями. Если кому-нибудь лень было умножать в столбик, скажем, 319 на 29, он спрашивал Рябинина, и тот, бровью не поведя, моментально отвечал: «Девять тысяч двести пятьдесят один». Старенький учитель математики Кирилл Прокофьич, качая головой, поговаривал: «Ты, Рябинин, если не свихнешься, далеко пойдешь. Глядите на него, это будущий Гаусс! Лобачевский! Не скалься! Учись!»
А Мишка вправду скалился. Не весьма ценил свой дар, не задавался, и это было очень в нем симпатично. Сколько раз глухими зимними ночами, озверев от синусов и тангенсов, Павел завидовал Мишке Рябинину! Сам Павел был в математике чурбан чурбаном, таблицу умножения — и ту без запинки не выучил.
Смешно теперь вспомнить, а тогда было не до смеха. Сколько сил отняла математика, но обиднее всего, что после школы вся начисто забылась. Сейчас Павел ни за что не решил бы самую пустячную алгебраическую задачку, а ведь было время — решал, сидел до утра, в глазах зеленело, а решал, потому что лез в отличники. Он был старательный до одержимости, и он стал отличником, однако не показывая виду, чего это ему стоило. Зайдет речь, спросит кто, он так небрежно: «Да пятак схватил, сам не знаю за что». И все она, любовь распроклятая. Он любил девочку, которая принципиально считала, что настоящий человек — он учится элегантно и легко, получая пятерки, как нечто само собой разумеющееся…
ЖЕНЯ ПАВЛОВА — звали эту девочку. Была она подлинным украшением команды велосипедистов. Отчаянная девчонка — живая, как ртуть, умница, веселая, бесстрашная.
Сам Виктор Белоцерковский иногда позорно пасовал перед ней в спорах, она была единственной, чью правоту он соглашался признать, конечно, только если уж очень она его к стенке припрет неотразимым аргументом.
Женькино присутствие неизменно возбуждало и вдохновляло всех остальных. И когда она мчалась по поселку впереди всех на своем мужском велосипеде — в лихих истрепанных брюках, в полосатой блузчонке, напоминающей тельняшку, с развевающимися по ветру патлами, а за ней усердно жали на педали целых пятеро рыцарей, это была картина.
Стоит ли добавлять, что все пятеро, кто по уши, кто по ноздри, кто по гроб жизни, были в нее влюблены, за что ее и ненавидела половина девчонок класса.
Кто-то сказал за спиной Павла:
— Споем, что ли, русскую народную кирпичную?..
Два голоса затянули было что-то непонятное, но, не получив поддержки, скисли. А трамвай все тарахтел, дребезжал, и люди как-то утряслись, каждый нашел себе естественное положение, Павла перестали впрессовывать в стену, так что он покрутился, как винт, оказался лицом к окну, продышал во льду оконце и посмотрел.
Снежная равнина тянулась до горизонта, по ней шагали опоры высоковольтной линии. Одноколейка порой ныряла в такие сугробы, что они достигали окон, и трамвай шел, как по тоннелю.
Голоса вокруг гипнотически зудели, равномерное попрыгивание колес по стыкам убаюкивало, а дырка, которую Павел продышал, моментально покрылась тонкими узорами, похожими на листья ископаемых папоротников.
Павел прикрыл глаза — и снова нахлынуло…
— Вы темные, жалкие, беспросветные люди! Ослы! Человек, не понимающий новейших стихов и музыки, не может считаться полноценным человеком, ибо он невежда! Если ты говоришь: «Не понимаю», — то только из-за твоего невежества, необразованности и духовной лени, да, духовной лени!
— Было бы чего понимать! Кривлянье!
— Мальчики, мальчики! Я понимаю, когда в музыке красота, душа, мелодия. Моцарт, Бах, Чайковский — я это понимаю. Но то, что мы сейчас слышали, — это же ужас!
— Правильно! С жиру бесятся. Уродство!
— Когда Бизе написал «Кармен», она провалилась, все говорили: «Уродство!» Когда появился Скрябин, кричали, что это конец музыки. Джаз был воспринят многими как ужасная, уродливая «музыка толстых», по определению Горького.
— Все равно джаз — у-род-ство!
— Нет, неверно, надо разделять: смотря какой джаз.
— Вон Федька не любит джаз. Федька, что ты все молчишь? Скажи веское слово: ты любишь джаз?
— Да ну… Пускай. Бывает ничего себе… Я вообще песни люблю.
— Дайте слово Пашке!
— Товарищи! Я согласен с Витькой. Мы все дико некультурны. Я думаю, что для того, чтоб отвергать, надо сперва знать.
— Правильно! Правильно!
— Товарищи, товарищи! Дайте докончить… Черти, кто поджег покрывало?! Гасите скорее!.. Я говорю: а почему обязательно надо противопоставлять? Народные песни прекрасны. Симфония, и симфоджаз, и джаз — у меня один критерий: чтобы это было талантливо!
— Это всеядность, плюгавая бесхребетность, вот что я вам скажу, мальчики. И вообще выше Чайковского нет никого!
— Нет, Пашка прав, а ты, старушка, ослица. И все вы ослы, вы мне надоели. Уши длинные, а не слышите. Я выключаю. Хватит метать бисер.
— Слышь, а как я тебе врежу! Так сказать, по нашему, по-простому. С позиций упомянутого осла!
— Тише, тише! Ну, Бетховен, ну, Шостакович, пущай. А в рыло-то зачем? Поставь, будь друг, Бунчикова, где он тут у тебя? Или Шульженко.
«Это поразительно, — думал Павел, — какие мы уже тогда были разные. Чертовски интересно, кто же куда за эти годы ушел. Следы можно разыскать, узнать. Наибольшая вероятность встретить Федора Иванова, а он, может, знает об остальных…»
Пошевелив локтями, он ощутил достаточное пространство, чтобы достать из одного кармана записную книжку, а из другого ручку, и принялся суммировать в сжатую схему основные черты участников споров в «гнезде».
К очерку это не имело никакого отношения, но было нужно лично ему самому. Он сделал попытку предсказать: кто кем является теперь?
Кое-как, косо-криво, но разборчиво (а опыт у него был, приходилось постоянно записывать и в кузове грузовика, и на штормующем сейнере, и в кромешной темноте) соорудил следующее подобие ведомости:
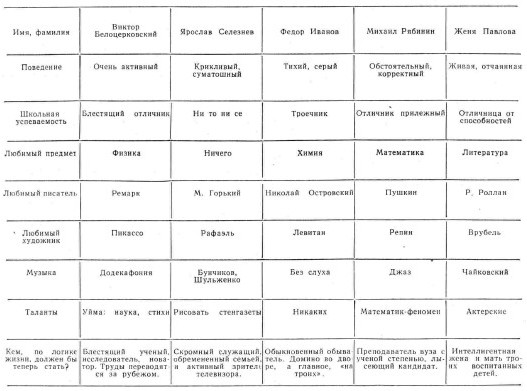
Табличка предназначалась только «для себя», для проверки своих способностей разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти.
Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении.
Хотя и многие вундеркинды выросли в гениев, хотя и большинство недоумков так и осталось недоумками.
Иной в юности гремит, блестяще идет в институт, там все ему прочат великое будущее… И вдруг хлоп! Исчез, как сквозь землю провалился. И забыли, что такой-то гремел!… Лишь случайно можно обнаружить его где-нибудь за столом, в тихом скромном углу, с девяти до шести с часовым обеденным перерывом: он уже ни на что не претендует, не будоражит умы, не горит. Выгорел.
Существует категория людей с коротким запалом, которого хватает лишь, чтобы с блеском готовиться, а придет пора действовать, ради которой-то и была подготовка, весь этот сыр-бор и блеск, они выгорели…
Обидная картина. Уверенно предсказать будущее человека в наш кибернетический век все так же невозможно, как и при скифах.
…Кондукторша закричала:
— Комбинат, конечная! — И Павел вместе со всеми повалился вперед, так бурно трамвай затормозил.
Он выбрался из вагона. Оторопело огляделся. В первые секунды ему показалось, что он напутал и приехал не туда.
Он ничего не узнал.
Глава 3
Во времена детства Павла завод представлял собой скопление мрачных, закопченных зданий красного кирпича, внутри которых не прекращался гул, звон и стук, и среди них небольшая, дряхлая домна, сильно дымившая, а по ночам озарявшая небо красными отблесками.
Вокруг раскинулся беспорядочный поселок — невероятные домишки, сарайчики, облупленные бараки, мусорные свалки. В порядке борьбы с этим хаосом тогда была проложена первая настоящая улица, названная Советской; ее от начала до конца застроили прекрасными двухэтажными домами с острыми крышами, античными портиками и множеством алебастровых украшений.
Дома эти казались тогда фантастически красивыми, богатыми — прямо прообраз города будущего, хотя строились медленно, стоили дорого, и получить в них квартиру считалось делом тоже фантастическим: в каждом было всего восемь квартир.
Озираясь и все еще подозревая, что заехал не туда, Павел рассмотрел наконец красные кирпичные цехи, знакомые с детства, но, бог ты мой, какие же они были крохотные, совсем потерялись, словно какие-то подсобные хибарки в циклопическом новом заводе!
Огромнейшие цехи, такие длинные, что не всегда можно видеть, где они кончаются, закрыли
серыми кубами территорию до самого горизонта. Неизвестно, куда пропала речка, склоны и вообще что-либо от естественной природы. Сплошные громады, переплетения металлических конструкций, целые зенитные батареи труб всех диаметров и мастей. Над всем возвышались три домны с обоймами кауперов — одна пониже, дымящая, другая повыше, тоже дымящая, а третья такой невероятной высоты, что Павлу пришлось задрать голову и придержать шапку. Третья домна не дымила; он сразу узнал в ней крупнейший в мире гигант, потому что не узнать было невозможно.
Они закрывали собою полнеба, эти домны с непрерывно работающими подъемными механизмами, оплетенные коленчатыми трубопроводами, напоминающими сочленения рыцарских доспехов, с всякими ажурными мостиками, лесенками, галереями.
Все это глухо гудело, грохотало так, что казалось, дрожит сама земля, временами раздавался оглушительный лязг, свистки паровозов, тревожные звонки кранов, клокочущее змеиное шипение…
И все дымило.
В безветренном морозном воздухе поднимались к небу дымы — серые, черные, бурые, оранжевые, желтоватые, голубоватые, ослепительно белые. Одни поднимались прозрачными пеленами, как испарения, другие вулканически извергались адскими клубами, третьи тонко струились дымком оставленной в пепельнице сигареты, а четвертые можно было заметить лишь по колебаниям раскаленного воздуха.
«Ого-го…» — только и подумал Павел, чувствуя, как грохот гулко отдается в груди, и по спине у него прошел морозец.
Что же это ты соорудил, человек, да как же это ты сумел?..
Новое Косолучье потрясло Павла не менее, чем завод. Опять он ничего не узнавал. Стояли до горизонта косыми рядами многоэтажные дома, эти самые новые, типовые близнецы, отличающиеся разве лишь разноцветными балконами. Прежняя Советская потерялась и скромно съежилась, и несовременные двухэтажные домики ее выглядели приземистыми и жалкими, как выглядит какой-нибудь облупившийся купеческий особнячок рядом с упирающимся в тучи стеклянно-алюминиевым отелем,
Прежних бараков и хибар след простыл. Опять-таки до горизонта тянулись аккуратными прямоугольными кварталами частные каменные домики, густо обсаженные садами.
Получились три ярко выраженные группы. Глядящий в будущее массив многоэтажных зданий, дружно-пестрый клан частных застройщиков, а между ними приунывшая двухэтажная улочка, явно получившая нокаут.
Все это показалось Павлу чрезвычайно интересным: не исключено, что в облике Косолучья отражалось нечто гораздо большее, чем просто строительство жилищ, и если подумать, то можно прийти к значительным, а может, и неожиданным выводам. Но важнее всего было то, что завод и Косолучье выросли в десятки раз. Сколько же это тысяч человек? И судеб?..
Здание заводоуправления было построено в одном ансамбле с улицей Советской и в те времена как бы венчало ее: мощное, тяжеловесное, с колоннадой, лепными наличниками и розетками, оно имело величественную парадную лестницу с двумя гипсовыми статуями по бокам.
Тогда эти статуи казались очень впечатляющими, весь поселок бегал смотреть на них, снимали их для газет и кино, одно время среди новобрачных была мода сниматься на их фоне.
Это были два металлурга, высотой каждый в три с половиной метра, но скульптор изобразил, пожалуй, не столько людей, сколько, на радость кладовщикам, их неуклюжую спецовку.
В вестибюле управления Павел задохнулся от душного тепла. Только тут он по-настоящему понял, какой на улице мороз и сколько холода накопилось в его туфлях, пальто, шапке. Отопление Косолучья всегда славилось раскаленными батареями, хоть яичницу на них поджаривай, потому что трубы шли прямо с завода.
Вдоль стен стояли многочисленные доски приказов и объявлений. Павел, оттаивая, бегло посмотрел, и у него зарябило в глазах от названий организаций, сооружающих домну:
Металлургстрой
Гипромез
Центроэлектромонтаж
Металлургуглестрой
Союзтеплострой
Энергочермет
Металлургпрокатмонтаж
Стальмонтаж
Мосшахтострой
Центромонтажавтоматика
Мосбассдорстрой
Спецподземшахтострой
И еще и еще, все такие же слова-монстры, которые неизвестно каким чудом терпит русский язык, и сами эти коллективы людей, наверное, умеющих работать хорошо, строить чудеса, наверное, и остроумных, и веселых, и грустных, и любящих, и озабоченных, и вдохновенных — и называющих себя «спецподземшахтостроевцами»… И еще некие слова встречались в приказах на каждом шагу: «субподрядные организации», — от них щека Павла сама дернулась, словно от зубной боли.
Направившись было, как положено, в дирекцию, Павел заметил вдруг на одной из дверей броскую вывеску: «ПОСТ СОДЕЙСТВИЯ СТРОЙКЕ ДОМНЫ (ПССД)». Не долго думая, он постучал и вошел.
Сперва ему показалось, что он попал в кладовую. Есть такие кладовые, где хранятся плакаты, транспаранты и разные декорации к демонстрациям и вообще на все случаи жизни. Довольно просторная комната была завалена чуть не до потолка такими декорациями, хаотично разбросанными листами фанеры, рулонами бумаги, кистями и красками, кипами плакатов печатных и рисованных от руки, некоторые из которых можно было прочесть: «ТРУДИСЬ С ОГОНЬКОМ», «НЕ ДОПУСТИМ СРЫВА ГРАФИКА РАБОТ ПО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ ЛИТЕЙНОГО ДВОРА!», «ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ! ВАША ЗАДАЧА — КАЧЕСТВЕННО УЛОЖИТЬ 28-КМ КАБЕЛЯ И УСТАНОВИТЬ 5 500 CВЕТОТОЧЕК! БОРИТЕСЬ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!»
Запах клея и краски в этом помещении въедался в нос. У окна стоял залитый чернилами и красками стол с двумя телефонами на нем, и, отодвинув обрезки бумаг, двое молчаливых людей играли в шахматы — настолько углубленно, что даже не подняли голов.
Один игрок был худой, с длинным красным носом, похожим на клюв, одет в крайне запачканный синий халат. Другой игрок был, наоборот, полный, цветущий, с кудрявыми золотистыми волосами, в чистом костюме, при галстуке и белом воротничке.
Видя, что создавшийся на доске эндшпиль не обещает скорого окончания, Павел размахнулся и крепко хлопнул ладонью меж лопаток шахматиста, что был полнее. Тот возмущенно вскинулся, уставился на Павла и восторженно закричал, так мило, так забыто-знакомо картавя, когда волнуется:
— Ба-ба-ба, Павка, бгатец ты мой догогой! Глазам не вегю! А я ведь за тобой сколько лет следил!
— Что ты тут делаешь? — спросил Павел, когда прошла волна первых восторгов и восклицаний.
— Как что? Пгивет! Я тут начальник поста — член завкома, ведаю соревнованием и наглядной агитацией.
— Ты?!
— Да, я.
— Ну, даешь!
— А что? Это наш пост, это, знакомься, художник. Работа кипит! — хохоча, сказал Славка, смахивая шахматы и складывая фигурки в коробку с поспешностью, которая заставляла подозревать, что его собственная позиция в данной партии не была выигрышной.
Ярослав Селезнев здорово раздобрел, как-то выхолился и округлился, но энергия в нем оставалась прежняя, так и била ключом.
— Да-да-да! — восторженно закричал он. — Это же великолепно, я два года этого жду! Очерк в центральную печать — слава на весь мир! Все, ты в моих руках! Не смей ни с кем больше общаться! Я лично ввожу тебя в курс дела, как самый главный ге-не-гал! А это наш художник, да познакомьтесь же!
Унылый художник, печально глядя мимо лица Павла, вяло подал потную и липкую от красок ладонь, затем он отвернулся, перекладывая картоны, и в дальнейшем участия не принимал.
— Все понятно, нужен общий обзор, — бодро сказал Славка. — Считай, что бог на свете есть, он меня тебе послал — и лучше выдумать не мог! Спешим! Время дорого! Идем, я покажу тебе чудеса тгу-дово-го ге-го-изма!
Он быстро облачился в толстое пальто с меховым воротником, нахлобучил огромную мохнатую шапку, кивнул художнику:
— Ну, работай! На звонки отвечай: я на домне, вернусь к началу заседания. Ах, мой до-ро-гой, ах, мой молодец ты, что приехал!
В приливе чувств Славка горячо и нежно обнял Павла, отстранил от себя, полюбовался и снова обнял, отчего Павлу стало, хочешь не хочешь, приятно, он подумал, что это и в самом деле отлично получилось, что Слава Селезнев первый встретился ему.
Действительно — послало небо!
Если уже на некотором расстоянии завод производил оглушающее впечатление, то на его территории Слава и Павел как бы совсем потерялись и перестали слышать собственные голоса.
Вокруг нестерпимо лязгало и грохотало, и где-то вырывался пар с таким свистом, что звенело в ушах. Слава потянул Павла, толкнул, они едва успели отскочить от паровоза, который провез два внушительных ковша на платформах, вероятно, с металлом, потому что от них так и пахнуло жаром.
Домна нависла над их головами так, как, наверное, бочка нависает над ползающим у ее подножия муравьем.
Вокруг было сплошное столпотворение металлических конструкций, черных, поражающих циклопическими размерами, и этот грохот, грохот, дрожание земли…
Пытаясь перекричать грохот, Слава Селезнев, надрывая голос, принялся добросовестно исполнять обязанности гида:
— Те две доменки — пустяк, уже старье. Эта будет величайшей в мире, к сожалению, недолго, потому что у нас же, в СССР, заканчивается стройка сразу трех еще больших! Записывай: в сутки в нее будет загружаться десять эшелонов. В месяц даст столько металла, что можно построить три таких комплекса. Ты это обязательно отрази! Пиши, пиши! Люди — гиганты. Отрази! При закладке фундамента был поставлен мировой рекорд: вместо семидесяти двух часов забетонировали за пятьдесят!
Он вел Павла напрямик, через рельсы, кучи балок, бетонных блоков. Павел посапывал и, размахивая руками, только и глядел, как бы куда не загреметь.
Обошли домну и оказались среди нескончаемых лент транспортеров, которые шли и так и этак, ныряли друг под друга. Целое царство транспортеров, впрочем, неподвижных пока.
— Бункерная эстакада! — гордо показал Слава. — Смонтирована в самый трескучий мороз. Ветер свищет, руки к металлу примерзают, а ребята дают — с огоньком!.. Я пришел, хочу «молнию» повесить: невозможно повесить, поверишь, ветер рвет. К чему привесить? Поплевал, прижал к металлу — моментально примерзла, висит! Вот так-то!
Они прошли гигантский наклонный тоннель, четырехугольный, с окошками, по которому вверх, в немыслимую даль уходили неподвижные ленты транспортеров. Спустились в какие-то катакомбы и оказались в теплом каменном помещении.
У железной печки, раскаленной докрасна, сидели человек десять рабочих в ватниках, шапках-ушанках. Сосредоточенно обедали, постелив газеты на земляном полу.
— Здорово, орлы! — воскликнул Слава, делая рукой общий привет. — Вот это и есть они, эти ге-ро-и! Как оно ра-ботается?
— Помаленьку, — добродушно ответил самый пожилой, по всей видимости, бригадир. — Летят рукавицы, Ярослав Пахомович, — беда.
— Видал? — повернулся к Павлу Славка. — Во, руки рабочие — рукавицы так и горят! На сколько выполняем, дядь Федь?
— Двести в общем…
— Орлы! Орлы! Слышишь, Паш, двести процентов, записать и отразить! Значит, скоро пустим, дядь Федь?
— Да вроде бы… говорят: вот-вот, — осторожно сказал бригадир, стреляя глазом на Павла: мол, что оно, важная ли шишка, или так болтается, бродят тут… — Нам бы, главное, рукавицы, Ярослав Пахомович!
— Дядь Федь, — сделал Славка жалобное лицо. — Мы обращались к администрации — они сказали, что вы выбрали все, что положено, и боле того. Есть же стандартные нормы.
— А я не знаю! — вдруг злобно сказал бригадир. — Али рукавицы гнилые, али стандарты — липа. Я требоваю!
— Ну, знаете! — вдруг, тоже вмиг рассвирепев, заорал Славка. — Эту пластинку я уже сто лет слышу! Сказано, нет! И не положено!
— А работать как?
— Аккуратней надо! И вообще — перемените пластинку!
Наступило молчание. Раздался осторожный стук: кто-то лупил яичко. Славка оглядел голые кирпичные стены, и вдруг глаза его панически округлились, как если бы он увидел привидение, хотя красные стены с застывшим в щелях раствором были совсем пусты.
— А стенгазета где? — хрипло спросил Славка.
Все тоже удивленно уставились на стену.
— Вон, — радостно закричал кто-то. — Завалилась!
Полезли за кучу деталей, вытащили упавший за нее добротно сколоченный щит на фанерной раме.
— Тьфу ты, костыль выпал!
— Подай молоток!
— Придержи! Нажми! Колоти! Теперь не упадет… Хар-рош!
Дружно-весело они примонтировали щит к стене, как если бы ставили стальной бандаж.
Стенгазета представляла собой дивный образец декоративно-фанерного искусства: лобзиком выпиленные и наклеенные аппликацией трубы, гидростанции, знамена, комбайны, роскошный, в золотой пудре, заголовок «За коммунистический монтаж» — все это заняло две трети щита, а пониже, разделенные планками, были наклеены четыре куцых полоски заметок. Первая называлась «Пустим бункерную эстакаду к 15 января», а на последнюю материала не хватило, и там был изображен темно-синий почтовый ящик.
— Устарело, — вздохнул Слава. — Уж и двадцатое прошло, а не пустили…
— Ну, это к Новому году выпускали!
— Вот-вот, я и говорю, что новую надо, пора!
Все промолчали. При виде столь красивой стенгазеты Слава забыл свой гнев, пошутил о том, о сем, тронул Павла за рукав:
— Ну, мы пошли! Новых вам подвигов! Работайте! Работайте!
— А теперь навестим Федьку Иванова! — кричал Слава, ведя Павла по немыслимым трапам среди железных стен и шипящих труб; они ползали тут, как мухи, и, останься Павел один, он бы, пожалуй, и выхода сразу не нашел.
— Он на заводе? — закричал Павел, чувствуя легкий толчок удовлетворения, что «предсказание» насчет Иванова сбылось.
— Ага, обер-мастер доменного цеха! Держи карман!
Они нырнули в железную дверь и очутились в огромном, как дворец спорта, цехе, но в отличие от дворцов темном, закопченном, полном едкого дыма.
Одна стена его была полукруглая, выступающая, как бочка, и Павел понял, что это бок домны, что цех пристроен к ней. В самом низу этой бочки имелось ослепительное отверстие, из которого в канаву лилась белая жидкость.
— Хорошо попали, как раз плавку дают! Вон он, вон он!
У канавы в сизом дыму стояли несколько человек в поблескивающих робах, болтали. Ослепительный металл бежал и бежал себе, домна словно истекала неторопливо. Все было очень прозаично, только дым уж очень ел глаза. Но ничего общего с виденными Павлом киножурналами, никаких снопов искр, шурующих металлургов в войлочных шляпах, сдвинутых на самую спину. Наоборот, все были в простых ушанках, только очень уж затрепанных. И на гигантов не походили: жиденькие такие, невзрачные мужички.
Подошли ближе. Федор Иванов охнул, и они с Павлом обнялись.
О, как Федор за эти годы катастрофически повзрослел! Чтобы не говорить, постарел… Лицо у него и прежде было своеобразное: близко поставленные маленькие глаза, крупный нос, большой рот, выступающие скулы и торчащие уши. Теперь глаза совсем провалились под нависшие, кустистые брови, нос стал красный, рот еще больше растянулся и окружился складками, и лоб весь в морщинах, и на переносице глубокие морщины — признак вечной озабоченности. А уши торчали, как бурые жеваные оладьи, и из них росли кустики волос.
Одет он был не лучше. Ватная телогрейка, на голове бесформенный блин кепки, блестевшей так, что она казалась металлической. На ногах рыжие, сбитые сапожищи, в которые заправлены штаны.
— Пошли, что ли, в красный уголок? — пробормотал Федор, и Павел со Славкой охотно поспешили за ним, потому что тут от дыма у них уже подкатывало к горлу.
Прошли через будку мастеров, где на циферблатах дрожали стрелки, ползли валики самописцев, торчали внушительные рычаги, и вдруг оказались в длинном низком зальчике со сценой, рядами скамей, разными знаменами и вымпелами по стенам и кумачовым плакатом над сценой «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства».
— О! Стенгазету так и не сменили! — с порога завелся Слава.
— Гм… Я им говорил, — почесал затылок Федор Иванов. — От… мудрецы…
— Слаба, слаба стенгазета! Нет, так дело не пойдет: полное отставание! — разорялся Слава, и уже кто-то побежал кого-то звать, искали ему какие-то сведения.
— Ну, вот так, значит… — сказал Федор угрюмо; он огляделся, сел посреди зала на скамью, и Павел сел, чувствуя себя так, словно скоро начнется кино. — Да, ты все такой же, Паша, возмужал приятно.
— Ты тоже возмужал.
— Старею я…
— Все стареем. Это потому ты такой мрачный?
— Да не-е… Извини, настроение испортили, печь расстроили… мудрецы.
— А!
— Ты его обязательно отрази! — крикнул издали Слава Селезнев. — Орел! Гигант! Во всех газетах портреты! Большой человек!
Федор Иванов смущенно-криво улыбнулся, передернул плечами, как бы от холода.
— Да ну… врет все! Работа, как везде. Ты надолго приехал?
— Пока домну пустите.
— Ага, ну да… Ну, тогда еще увидимся.
— Слушай, ты ведь кончал что-то для этой работы?
— Политехнический.
— Институт?
— Ну да, наш. Потом сразу сюда… Что они там делают, мудрецы, что они там делают?! — воскликнул он, прислушиваясь. — Извини…
— Беги, беги, понимаю!
— Понимаешь, такая работа… Балет сплошной! — виновато сказал Федор и поспешно убежал.
«Уставший, тупой, узко заспециализировавшийся, — с болью подумал Павел. — Домино во дворе, пожалуй, исключается… Такая работа: балет! Гм…»
Ему уже было совестно и неловко, что они вообще со Славкой сюда явились. Там печь расстроили, а тут изволь беседовать. Эту сторону журналистской деятельности он терпеть не мог: отрывать людей от дела, задавать им вопросы, записывать в блокнот; чувствовал себя в таких случаях чем-то вроде тунеядца.
— …В каждой графе подробные сведения, не просто прочерк или «да — нет», а укажите, сколько, когда, почему, — втолковывал Славка парню, слушавшему с видом жертвы.
Павел потянул его за плечи, и они пошли вон. Над канавой с бегущим металлом стояла ругань. Правда, когда Славка и Павел проходили мимо, ругань прекратилась. Славка сделал всем общий привет:
— Ну, мы пошли! Желаем удач! Работайте!
Уже пролезая в железную дверь на свежий воздух, Павел уловил, как возле канавы посыпался раскатами трех- и четырехэтажный мат.
— Ну, теперь героиня наша, Домна Ивановна! — кричал Слава, продолжая обязанности гида. — Тут, брат, только обойти комбинат — неделю надо. Считай: доменный цех, литейный, сталеплавильный, кузнечный, механический, прокатный, электроремонтный, кислородный, водоснабжения, электростанция, паровоздуходувная, агломерационная фабрика… Один комплекс только одной этой домны — восемьдесят шесть объектов! Ну-ка, отрази!
Павел только головой крутил. Он ощутил полную беспомощность, у него возникли сомнения насчет будущего очерка: сможет ли он когда-нибудь разобраться хотя бы в одной этой домне? Техника, техника века, человек тонет в ней…
Опять нырнули в железную дверь и оказались в чем-то таком беспредельном, что Павел остановился, потрясенный.
Это был тоже доменный цех, но раза в три больше того, который они только что оставили. Под потолком горело несколько звездно-ярких ламп, но отсюда они казались тусклыми, — и дальние углы этого черного зала терялись во мгле. Здесь можно было бы устраивать хоккей или футбольные матчи, собирая под крышей десятки тысяч зрителей.
Выпуклая, бочкообразная стена домны поражала размерами. Сперва цех показался Павлу безлюдным, потом он разглядел множество людских фигурок, только они не замечались сразу, они были как соринки по корпусу домны.
На огромной трубе, опоясывавшей домну, висел белый плакат, издали казавшийся приколотым к ней листком из блокнота:
ДАДИМ МЕТАЛЛ 20 ЯНВАРЯ!
— Плакат устарел, — сказал Павел.
— Эх, чер-рт! — рассвирепел Славка. — Кричи-кричи, говори-говори — все как об стенку! Подожди меня, я сейчас им всыплю! Стыд!
И он убежал, а Павел прислонился к железной колонне, и в голове у него уже творился полный кавардак, калейдоскоп от всех этих шумов, дымов, циклопических размеров…
«Выплавка металла, — подумал он, — во все века была таинством, почти колдовством. Были умельцы, были секреты. Могла быть „легкая рука“ мастера и наоборот… Но теперь это… это черт знает что! Это ни с чем не сравнимо. Прозаическое, реальное, научное… сверхколдовство! Если растут, как грибы, такие вот домны, то это означает не просто количественный рост промышленности. Это серьезнее, ибо количество переходит в качество…»
Он вспомнил кедринское стихотворение о хлебе и железе. Кедрин писал с любовью о хлебе, а о железе — зло.
Но, не будь железа, была бы цивилизация? Цивилизация не может быть злом.
— Один только ноль переделаешь в шестерку! — говорил Слава Селезнев, ведя какого-то долговязого парня. — Вместо «20» «26» — очень легко! Понял?
— Понятно.
— Как оно у вас вообще? Работа идет?
— Да работаем…
— Ну, работайте, работайте!
Славка потащил Павла прочь, спохватившись, что уже опаздывает на заседание. Он был все так же возбужден, весело потирал руки, полный радостной энергии и жизнедеятельности, кругленький и розовощекий, но Павел поймал себя на том, что не чувствует к нему симпатии.
— Кого еще из наших? — сказал Славка. — Постой, дай вспомнить… Северухина ты не знал? Нет. Мишка Рябинин. Ты его должен, конечно, помнить. Математик-то наш — повар! Да, да, повар столовой. Здесь у нас несколько столовых — и на заводе, и на стройке, и еще городские. Вот тут на стройке в одной из них Мишка шефом работает. Вон она, хреновая столовка, каждый день жалобы, драим ее, драим — как об стенку!.. Женька Павлова — та сейчас в библиотеке технической, в управлении, на втором этаже. Выходила замуж, неудачно, черт их разберет, что там случилось. В общем, живет одна, учти. Настроение у нее вечно этакое ин-тел-лекту-альное, высокие материи и печаль… Да, вижу иногда Белоцерковского, конечно, этот в городской газете молодежной, не то литработник, не то фотограф, не то сволочь. Кажется, все вместе! Вот кого я, Паша, ненавижу!.. Ух, видеть его харю не могу! Опустился, спился, алкаш законченный, гад и мерзавец.
— Витька Белоцерковский? — не поверил ушам Павел.
— Извини, не могу о нем говорить спокойно, спроси кого-нибудь другого, а то я буду необъективен. Я бы таких на месте стрелял!
— Ну и ну!.. — пробормотал Павел, прекращая расспросы; от таких характеристик его прямо покоробило, но со своими выводами он не хотел спешить.
В комнате поста содействия стройке печальный художник играл в шахматы с каким-то лохматым и чумазым типом, отпустившим пейсики до самого подбородка. При виде Селезнева тип нехотя поднялся, расставив ноги, раскачиваясь и заложив руки в карманы.
— Ну, зачем вызывали?
— Ага, явился! Почему вчера не вышел на работу?
— Квартиру искал.
— Полюбуйтесь! Квартиру ищут в нерабочее время!
— А мне жить негде!
— Ты ведь жил у какой-то бабки?
— А я с ней поругался.
— Ну вот, ты с бабкой ругаешься, а я тебе что, квартиру ищи? Ну и что ж теперь?
— В сарае ночевал.
— Так помирись!
— Не помирюсь. У нее взгляды отсталые.
— Ладно… — вздохнул Слава. — Пиши заявление, отдашь Коблицевой, я поддержу… Бежим, Пашка, умоемся, как черти мы стали. Сажа эта, пыль от аглофабрики, подсчитали, ежедневно четыреста тонн вылетает в отход.
— Четыреста тонн?
— Четыреста тонн в атмосферу. Можешь этого не записывать и не отражать; никакой редактор не пропустит.
Уборная была в конце коридора, и там никого не оказалось, только бурно бежала вода из скрученного крана. На двери выделялось глубоко процарапанное химическим карандашом сообщение: «Николай Зотов, старший горновой. Твоя жена гуляет с Ризо, а ты, дурак, ходишь с ней по ресторанам».
— Ноги гудят, — признался Славка. — Вот так набегаешься туда-обратно!
— Ты бы со своим постом переселился поближе к домне, что ли.
— А мы и так близко. Первый этаж, первая дверь.
— Да, да… — сказал Павел. — Сейчас ты на завком?
— Да, я член завкома. Извини, я тебя не приглашаю, — сказал Слава виновато. — Там будут одни недостатки… сор из избы. В общем… Я откровенно!
— Я и не собирался, — заверил Павел. — Мне нужно что-нибудь почитать, ибо я смотрю и хлопаю ушами. Возьму учебник, проработаю.
— Ну, работай, работай! — одобрил Слава.
Глава 4
От библиотеки веяло суховатой технической строгостью. Хотя в ней, как и во всем здании, было тепло и даже жарко, уюта при этом не ощущалось. Голые учебные столы стояли в три длинных ряда, за каждым зачем-то по два стула, — расчет на уйму народа, но во всем зале был один-единственный читатель, да и тот забился в дальний угол, сложив на подоконник пальто.
Дубовый барьер отделял читальный зал от собственно библиотеки, стеллажи которой с несметными книгами уходили в тьму. За барьером сидела и что-то писала Женя Павлова. Она подняла глаза, и Павел споткнулся, зацепившись за половик.
Он ожидал всего: что она постарела, располнела, возмужала, поблекла — все, что угодно, но, чтобы она стала ослепительной красавицей, не ждал.
Была прежде этакая здоровая, упругая девочка с мальчишескими ухватками, с вечно запачканными руками, оторванными пуговицами, в царапинах и синяках, потому что всюду лезла очертя голову, а сейчас из-за барьера, широко раскрывая глаза, поднималась ему навстречу изящнейшая, тонкая, законченная женщина. Именно филигранная законченность была в ней, та законченность, которую драгоценный камень приобретает после шлифовки мастера.
Она была яркая, словно сошла с цветной обложки модного журнала. Черные, как смоль, волосы, уложенные по самой последней моде; большие голубые глаза — редкое сочетание; очень нежный цвет лица; ярко очерченные малиновой помадой губы; пурпурное платье с глубоким вырезом; и в этом вырезе, вокруг изящной, точеной шеи, бронзовое ожерелье с позеленевшими подвесками, словно вчера выкопанное в каком-нибудь древнем кургане. Ошеломленный Павел в первую минуту говорил какие-то слова, Женя радостно улыбалась, и он радостно улыбался, но все это без участия его сознания, которое тем временем панически барахталось.
— Да, да, — говорил он, смеясь, — запиши меня в число читателей.
— Надолго ты?
— Не знаю сам.
— Послушай, сколько ж это лет?
— Славка сказал, что ты в библиотеке…
— Где ты остановился? Или еще нет? Я спрашиваю, потому что у тебя никто не спросит, а у меня знакомые…
— Нет, я в гостинице, спасибо, это все уже в порядке.
— Ну, я рада!
— Я тоже рад, — сказал он, все еще не отрывая от нее глаз, но уже приходя в себя. — Так ярко помню все: велосипеды, разговоры, споры, а ты готова драться была за Чайковского…
— Чайковский — выше всех.
— Что, и сейчас?
— Конечно!
— Вот где постоянство!
— Я все твое читала. В одной книге есть на обложке справка: родился там-то, вырос в Косолучье.
— Скажи мне о себе! Я вспомнил: волосы каштановые были…
— Ну! Крашусь десять лет.
— Очень идет, ты стала прямо как кинозвезда.
— Спасибо. Только счастья не приносит.
— Ты все мечтала быть актрисой, потом геологом: Тянь-Шань, Памир, восток Сибири…
Женя грустно улыбнулась.
— Кто не мечтал!
— Да, ты ж ведь и стихи писала. Помнишь, нам читала? И мы орали от восторга, по траве катались. Они сохранились?
— Да ну тебя! — вдруг с досадой сказала Женя, и в глазах ее мелькнуло раздражение. — Давно я ничего не пишу и ни о чем не мечтаю.
— Привет. Что значит «ни о чем»?
— Нет, вру. Мечтаю. Хочу поехать за границу по туристской путевке.
— Жень! — сказал он, вспомнив. — А почему ты здесь, в библиотеке, как это вышло?
— Как? Очень просто. Закончила наш «пед», потом Ильин сюда устроил.
— Какой Ильин?
— Ну, мужа брат… Да, ты же не знаешь.
— Не знаю…
И вдруг все оборвалось. Оба замолчали, и неприятно замолчали, причем Павел начал понимать, что он тому причиной, напомнив, кажется, не то, что нужно, и спрашивая не то, что надо.
— Тебя записать? — спросила Женя, помолчав.
— Да… Понимаешь, мне писать о домне. А в этом деле я профан профаном… Ты можешь дать мне что-нибудь такое, как для школьника, «от печки»?
— Давай твой паспорт.
— У, как строго!
— Ну, по всей форме… Тебе ведь все равно, а мне — число читателей.
— Все так, — весело сказал он, отдавая паспорт, и все-таки почувствовал укол обиды.
— Ты случайно зашел? Или знал, что я здесь?
— А мне Славка Селезнев сказал.
— Мне неприятен этот тип, Славка. Ты начал уже с ним водиться?
— Полдня ходили по заводу. Я только ведь приехал…
— Да, — сказала она рассеянно. — Заполни эту вот анкетку.
Тут пришел из дальнего угла читатель, стал требовать какие-то таблицы, непременно «Металлургиздата», последнее издание, потому что все другие «похабно устарели», и Женя поспешно, слишком поспешно, чуть ли не угодливо бросилась искать, а Павел машинально заполнил анкетку, получил обратно паспорт и спохватился, что не понаблюдал, как его Женя листала, потому что когда женщине попадает в руки мужской паспорт, она непременно хоть мельком взглянет на некоторые страницы.
Он хотел еще говорить с ней, но читатель мешал. Женя небрежно сунула Павлу растрепанное «Доменное производство», продолжая заниматься с читателем, лицо ее вытянулось, став непроницаемо-усталым. Павел покрутил в руках книгу, постоял. Грохнула дверь, ворвались два чрезвычайно пижонистых молодых инженера, чуть не с порога потребовавших срочно-пожарно что-то о флюсах… А сами смотрели на Женю оценивающе-жадными глазами. Она изящно ходила, чуть покачивая бедрами, вдоль стеллажей, прекрасно зная, что на нее смотрят, и как на нее смотрят, и каково от нее впечатление, и что от флюсов треп перекинется на темы, от металлургии далекие.
Павел выбрал себе стол, устроился у окна с раскаленной батареей под ним. Окно выходило на площадь перед заводскими воротами, пустынную в этот час. Пошел снег, густо повалил хлопьями, значит, потеплеет. Павел развернул книгу и принялся за работу.
Книга была толковая, и видно было, что написана она доступно, популярно, но половину текста Павел все-таки не понимал. Читал глазами слова, предложения, перечитывал и все равно не понимал, как если бы книгу эту писали люди на другой планете. Такие же люди, как у нас, но… на другой планете.
Воюя с текстом, он иногда забывался, глаза скользили по строчкам, а мысли текли в другую сторону. Области людской деятельности расходились из одной точки, как лучи, и все длиннее, шире, и все дальше друг от друга. Кажется, последний, кто еще мог охватить хотя бы самые главные эти лучи, был Леонардо да Винчи. Но теперь… Едва хватает жизни человеческой, чтоб охватить информацию и стать специалистом одной узкой, строго очерченной линии. Некоторые линии требуют, чтоб человек посвящал себя им уже с раннего детства. Цирковая акробатка и ученый-генетик, физик-атомник и лингвист, всю жизнь разрабатывая только свою линию, расходятся так далеко друг от друга, что поговорить между собой могут разве лишь о погоде и спорте.
Однажды Павел был в гостях у конструктора счетно-вычислительных машин. Когда темы погоды, последних фильмов и книг были исчерпаны, Павел попросил хозяина растолковать ему суть кибернетики. Но только просто, предельно просто, как пятилетнему ребенку. Мучительно выбирая самые понятные слова, упрощая, как для ребенка, конструктор говорил полчаса. Павел ничего не понял. «Но проще уже невозможно», — сказал, обидевшись, конструктор. Павлу тогда удалось взять относительный реванш, заговорив о потрясающих записках Аввакума; выяснилось, что конструктор и не слышал, что был такой протопоп.
Все это было бы забавно, если бы стихийный и необратимый этот процесс имел какие-нибудь границы, но он безграничен, и к тому же мы вступили лишь в самую начальную фазу его… Что будет дальше? Уже сейчас, если не будет найден способ убыстрения учебы или не будет вдвое, вчетверо, впятеро продлена человеческая жизнь, встает угроза, что человеку придется только учиться с пеленок до гроба, овладевая пропастью информации одной только узкой, специальной линии, а на новые открытия и действия не останется времени. Сейчас это — еще преувеличение, но что будет дальше, если и сейчас уже обыкновенная выплавка металла становится сложна, как вычисление орбиты спутника?
— …Что? — сказала Женя, собирая по столам журналы. — Ты что-то сказал?
То ли от густого снега, то ли от приближения сумерек в читальном зале стало темно. Читатели ушли.
— Если бы я был царь, — сказал Павел, — я бы издал указ, чтоб все думали над продлением человеческой жизни. И если бы в моем царстве была академия, я бы всем академикам, от самого важного до самого глупого, повелел бы работать над этим…
— Зачем?
— Не хватает этой жизни. Просто не хватает…
— Некоторые не знают, что и с такой жизнью делать. Сделали два выходных, так многие знаешь что? Спят. Говорят: скука. Устраиваются все эти дискуссии о проблеме свободного времени.
— Ты куда собралась?
— Обедать. Сиди, я оставлю тебе ключ, запрись и работай, я быстро — в столовую.
— Нет! Я тоже, — сказал Павел.
Он подал ей пальто, снова поразившись тому чуду совершенствования, которое случилось с ней. Но она застегнула пальто — и вдруг словно погасла. Словно выключила свет.
Пальто было старое, сильно заношенное, совершенно не в комплекте с пурпурным платьем. Закутавшись в платок, подняв линялый воротник, Женя в один миг превратилась в прозаичную, задерганную заботами, усталую служащую, и даже, казалось, лицо ее приобрело забитое выражение. Парадный вид у нее, оказывается, был один: за стойкой среди книг.
— Мишу Рябинина ты видел? — спросила она, запирая дверь.
— Нет.
— Тогда пойдем к нему в столовую. Что-что, а столовая у него знаменитая!
Знаменитая столовая внутри представляла собой вопиюще большой, светлый, но какой-то неуютный зал, хаотично заставленный тьмой одинаковых голых столов на трубчатых ножках и таких же стульев, и все они были заняты, так что шум голосов, звяканье ложек, звон посуды сливались в один мощный звук, слышимый даже снаружи, как если бы тут работала какая-то необъятная машина. Это был крупный, поточный, массовый блок питания. Один за другим от стойки шли едоки, осторожно неся подносы с тарелками, стараясь ни с кем не столкнуться и не поскользнуться на гладком кафельном полу, который казался жирным.
Дух в этом зале стоял типично «столовский», пресный.
Раздаточных стоек было три, но работала почему-то только одна, и к ней стоял такой длинный и закрученный хвост, что Павел испугался, но Женя успокоила, что очередь пройдет быстро. Тут все по конвейеру.
Собственно, помещение само по себе было неплохое, и при желании его можно бы сделать приятнее, если бы кого-нибудь это интересовало: чтоб окна не были просто дырами, например, а стены не так свирепо голы, но, к сожалению, единственным украшением стен была стенгазета «Пищевик», висевшая как раз над головами очереди.
Как и та, которую Павел видел давеча у монтажников, она была из фанеры и аппликаций, вся в знаменах, золотой и серебряной пудре, но на нее никто не обращал внимания, и Павел оказался, кажется, единственным читателем из всей очереди.
Передовая статья «За отличное обслуживание!» начиналась с анализа международного положения, переходила к достижениям нашего общества за пятьдесят лет в области промышленности, сельского хозяйства и культуры, а в конце было сказано, что работники общественного питания, «как и весь наш многомиллионный народ, должны еще более настойчиво бороться за достижение новых успехов, внедрять прогрессивные методы труда».
— А вон и сам он! — сказала Женя, указывая на кухню, которая вся была видна сквозь этажерки стоек.
— Рябинин! — заорал Павел сквозь стойку.
Тот узнал, расцвел, подбежал с той стороны, протягивая руку.
— Ста-рик! Пашка! Глазам не верю! Какими судьбами? Да что это вы, с ума сошли, в очереди стоите? Идите в ту дверь! Хотя стоп… нет. Совещание как раз кончилось… Вот черт! Минут пятнадцать подождете?
И вдруг Павел буквально затылком ощутил холодок людей, стоявших вокруг в очереди, они даже как будто отодвинулись от него.
— Брось ты, что ты!.. — пробормотал он. — Мы здесь. Перестань!
Но Рябинину, наоборот, очень хотелось угодить, и он продолжал уговаривать, крича, что там чисто, и тихо, и надо ведь поговорить, и ах, как неудачно, что там сейчас полно.
— Стоп! — воскликнул Рябинин. — Я сейчас распоряжусь вам без очереди… Фрося, подайте вот этим двоим!
— Не надо! — зло остановил его Павел, не зная уже, куда и деваться. — Не надо, сказал!
Женя вмешалась и выручила:
— Миша, оставь! Ему, как человеку пишущему, надо знать, как люди живут, пусть постоит, как все.
— Ах ты, человек мой пишущий, — сияя, говорил Рябинин, — как же я рад тебя видеть! Ну, извини, извини… там приемка как раз… Не надо, Фрося!.. Я к вам еще подойду!
Он бодро ушел, а Павел, чувствуя, как у него горит лицо, не смел взглянуть на очередь, и Женя тоже не смотрела на него.
К счастью, черед их скоро подошел. Меню выбора не представляло: в нем было тринадцать названий, но большинство вычеркнуто. Из первых только «щи из кваш. кап. с/м». Была это мутная белесая болтушка, в которой все разварилось, но плавал небольшой, аккуратный квадратик мяса.
Парень, который стоял за Павлом, охотно объяснил, хотя его никто не спрашивал (вероятно, в расчете на то, что «человек пишущий»):
— «С/м» — с мясом значит. Варят щи отдельно, мясо отдельно. Потом по кубику на тарелку, сверху заливают. А без кубика, то уже будет «б/м».
На второе были котлеты с синевато-сизым картофельным пюре. На третье — компот из сухофруктов. Правда, и стоило это совсем недорого.
Балансируя с подносами, Женя и Павел долго были озабочены поисками места, но им повезло: освободились два стула у стенки, они только немного подождали, пока уборщица собрала гору посуды.
Павел быстренько отнес подносы, прихватил по паре алюминиевых, почему-то погнутых ложек и вилок. Походил между столами, поискал соль, потому что щи оказались совершенно несолеными. Посмотрел на часы — все процессы самообслуживания заняли всего каких-нибудь тридцать минут. Отлично!
— Так! — весело сказал он, принимаясь за щи. — Расскажи о себе. За все эти годы… Я почти ничего не знаю.
— А какое «почти» ты знаешь? — спросила она.
— Что ты разошлась с мужем, что-то там случилось… Живешь одна. Настроение у тебя сложное…
— Прекрасная информация, — сказала она.
— Извини, — сказал он. — Я задаю вопрос не из одного любопытства… Мне это надо. Как тут живут? Чем тут живут? Если не хочешь, не надо, давай о другом…
— Нет, почему?.. Живу я хорошо. Ни на что не жалуюсь.
— Ты очень изменилась, очень.
— В чем?
— Например, вокруг тебя стоят прочные стеклянные стенки, ты их поставила. Может, это только по первому впечатлению, но…
— Нет. Это точно. А мне так надо. Во всяком случае, спокойно.
— Погоди, спокойно — разве это надо?
— Очень надо, Паша, — осторожно, почти незаметно вздохнула она. — Очень.
— Потому ты живешь одна, больше замуж не выходишь?
— Кому я нужна!
— Перестань. На недостаток успеха ты не можешь жаловаться. Не так?
— Господи, какой это успех! Какой? Нет, причина другая, проще. Женщин у нас больше, чем мужчин. Должны же оставаться какие-то женщины одни. До того дошло, в песенках по радио поют: «На десять девчонок по статистике девять ребят». Я десятая.
— Что-то не верю, — признался Павел. — Ты красивая. В форме, как говорят пижоны, очень в форме.
— Тряпки и косметика, все это умеют, много она мне стоит, эта «форма».

Тут только он, пристальнее вглядевшись, заметил на ее шее поперечные морщины, которые искусно скрывало зеленоватое ископаемое ожерелье. Лицо ее было свежо и молодо, но выдавали руки — сухонькие, желтые, в той обильной микроскопической сети морщинок, которую упорное смазывание кремами, кажется, только усугубляет. И когда он это увидел, в нем что-то дрогнуло. Стеклянная стенка вдруг стала мягкой.
— Ты красива, — упорно сказал он. — И не лги, одна ты не потому.
— Я по идейным соображениям, — сказала она, смеясь.
— О! Это уже что-то!
— Да, по идейным… Слушай, ты не женщина, вам это трудно понять. Но знаешь ли, что сотворила эта статистика, когда ее объявили, эти самые песенки?.. Мужчины моментально приняли это к сведению, женщины тоже. Мы перепугались, а вы, особенно молодежь, вы стали такими самоуверенными! Куда же: «Мы дефицитные мужчины, мы ценность!» Жена говорит мужу: «Я от тебя уйду». Он отвечает: «Уходи, десять других найду». А как сейчас ведут себя парни? Они хамят, грубят, издеваются, девчонки терпят, хихикают, словно так и надо: ведь это к ним снисходят, одаряют вниманием!
— Допустим, девчонки ныне сами… такие хамоватые.
— Это защита! От страха и борьбы за жизнь, а иначе ведь с вами пропадешь! Так и вылетишь в десятые.
— Гм…
— Они только не знают, что и в девятке остаться не великое счастье. Современный этот самоуверенный нахал, превратившийся в мужа…
— А, в этом и причина, что ты решила быть одна?
— Что ты, конечно, нет.
— Не понимаю.
— Я нарочно завела этот разговор, чтоб ты перестал проникать мне в душу: стеклянные стенки, видишь ли, и прочее…
— Извини еще раз.
— Все в порядке. Я думаю, это была последняя война, когда так выбили мужчин. В новой войне мы уже будем гибнуть одинаково: мужчины, женщины, дети, так что все выровняется.
— Ты так безнадежно говоришь, словно война завтра…
— О, я ничего не знаю!.. Была у нас читательская встреча в цехе. Я пошла посмотреть плавку — красиво. Стою, думаю: вот, как вы пишете, из этого металла будут тракторы и комбайны. И ракеты. Может, я стою над этим ручьем, а это льется как раз та самая ракета, и я смотрю на свою смерть. Вот так, тут, возле домны начиналась.
— Наши с тобой смерти плавятся скорее всего где-нибудь в Руре, — заметил Павел. — Но ты не бойся: у нас есть чем защититься от их ракет!
— Слушай! — вдруг, склонившись к его уху, быстро спросила она. — Я точно еще не старая? Скажи только правду! Очень прошу тебя! Я пригляделась, сама себя уже не вижу. Ты вот… свежим взглядом… Я старею?
— Господь с тобой…
— Только не лги! Пашка!
— Женька! Все хорошо, — улыбаясь, искренне сказал Павел. — Я, знаешь, как тебя увидел, просто был… ну, повержен. Да.
— Спасибо. Ты сам не знаешь, как меня утешаешь!.. О боже мой, столько в этой жизни чудовищного: болезни, заботы, холод, старость, смерть, — а они еще — эти ракеты, бомбы, ракеты, бомбы!.. И чем же это мы, люди, занимаемся, вот ответь ты мне, писатель?
Ты оптимист или пессимист?
— Помесь, — сказал Павел. — Сложный оптимист, по Ромену Роллану: сквозь тернии к радости, с окровавленными ногами, но обязательно к радости. Насколько я помню, Ромен Роллан был твой любимый писатель.
— Был… Забавно, на госэкзамене в пединституте он мне достался…
— Почему ты не стала преподавать?
— Я два года преподавала.
— Ну и что?
— Не умею. Вернее, не то. Школа требует долбежки. Я этого не смогла.
— Долбежки не надо.
— Ну, это идеально, так все и говорят, но когда доходит до дел… Вероятно, я была неопытная, поддалась панике. В общем, ушла в библиотеку — тут в сто раз спокойнее.
— Опять спокойнее?
— Ладно. Давай о другом.
— Где ты живешь?
— Литейная, семь, квартира семь. Счастливые цифры.
— Я не о том. Это отдельная квартира?
— Нет, коммунальная. У меня комната. Любопытные соседки.
— Не очень приятно.
— Я привыкла, не обращаю внимания.
Он представил себе на миг ее жизнь: приходит с работы, готовит что-нибудь на общей кухне, потом закрывается в комнате, лежит, читает книги. Иногда приходят знакомые, мужчины; соседки подслеживают и злословят.
— А твои актерские способности? Забросила?
— Ага.
— В самодеятельности не пытаешься?
— Да ну!.. Расстраиваться?
— Тогда я не понимаю, чем ты живешь…
— Чем живут многие. Надеждами. Инерцией.
— Ну, братцы, едва вырвался! — раздалось над столом.
Рябинин пришел прямо в колпаке, в замызганном фартуке, с закатанными рукавами на мощных, поросших рыжими волосами ручищах.
— Что ж, давай обнимемся?.. Рад тебя видеть, босяк, без веревки на шее! Значит, первое: ты обязательно должен прийти ко мне. И уж там-то я тебя накормлю!
— Не этим, ты хочешь сказать? — иронически спросил Павел, отодвигая свою тарелку.
Рябинин засмеялся охотно.
— Вот там, дома, поймешь, что значит настоящий повар.
— А ты по крайней мере откровенный, черт! — сказал Павел.
Рябинин радостно улыбался.
— Эх, братцы, братцы, а помните наши встречи? Велосипеды! Музыку как слушали, спорили до ночи? Пашка, ты приходи, угощу тебя джазом. Теперь у меня стереофоническая радиола, два магнитофона, семьдесят кассет, я тебе такие джазы выдам, каких ты и у себя в Москве не слышал. Женя, скажи?
— Правда, это так, — сказала Женя, не глядя ни на кого.
— Приходи завтра!
— Не знаю, как у меня сложится. Но буду еще несколько дней.
— Прекрасно! Договорились в принципе. Дураки, не могли подождать, задняя комната уже свободна.
— Вот наконец спрошу специалиста, — сказал Павел. — Меня мучает давно один пустячный кулинарный вопрос. Чепуха, но никак не могу понять.
— Давай хоть сто вопросов!
— Почему в столовых такие котлеты?
— То есть… а как ты хотел?
— Подожди, я объясню! Приезжаешь в Улан-Удэ или в какой-нибудь поселок, которого на карте нет, заходишь в столовую. Привет! Котлеты точно такие, цвет, вкус, подливка, как где-нибудь на Таганке в Москве. Ну, прямо, как домой попал!
— Технология общая.
— Это что, у вас в учебниках такая технология, что ли: чтоб брать продукт — и переводить? Нет, черт возьми, это же надо учиться, это же надо специально стараться, чтоб из хороших продуктов сделать такую дрянь! В чем ваш профессиональный секрет, скажи?
— У нас калькуляция, раскладка, — сказал Рябинин, добродушно улыбаясь. — Общий стандарт, точно все отмерено, не беспокойся, без воровства.
— Ладно, калькуляции, раскладки, стандарты… Тогда скажи мне: как вы изловчаетесь гробить просто картошку?
— А ты что, фельетон будешь писать? Напиши!
— Нет, — сказал Павел, смеясь, — это я для себя хочу уяснить.
— Ах, чудак, чудак! — сказал Рябинин. — Приходи ко мне домой, я покажу тебе свое умение.
— Да я прочел вашу стенгазету, видишь ли…
— Это я писал, — гордо сказал Рябинин.
— Ты?!
— Я! — Рябинин весело смеялся, этакий довольный, жирный, благодушный, почесывая волосатые руки. — Конечно, не все сам, с «Блокнота агитатора» содрал… А что ж ты думал; только вы одни строчите? Ну, ладно, так договорились, я тебя жду.
Он вскочил и убежал, потому что его давно уже звали из-за стойки; помахал рукой, улыбающийся, довольный, трясущий пузом.
— Ты что, в самом деле к нему пойдешь? — спросила Женя.
— Все очень странно… Вы все.
— Рябинин явление, пойди, посмотри, как он живет! Это, может, и серьезнее домны… Строить домны до неба мы, в общем-то, умеем… Я тебе книгу правильно выбрала? Доволен?
— Да, да, хорошая, — рассеянно сказал Павел. — Я даже срисовал…
— Покажи.
Он достал записную книжку. Косо-криво — схема, упрощенная.

— А это что рядом? Домик для сравнения?
— Да, — сказал Павел, чувствуя себя как чертежник несколько смущенно, — а этот прямоугольник слева — тридцатиэтажный дом.
Глава 5
Так валит толпа с футбольного матча в Лужниках. Все шли только к заводу, ни одна душа навстречу. Ледяной воздух, казалось, вибрировал от сплошного шороха и скрипа ног по снегу. Площадь перед входом была беспорядочно забита маленькими пузатыми автобусами, которые, сигналя, рассекали толпу, высаживали кучки приехавших из города и окрестных поселков, вливающиеся в общий поток.
Автобусы только высаживали, трамвай только высаживал, ворота только ненасытно проглатывали.
Вокруг была мгла, туман опустился с ночи, скрывая горизонты, начисто скрыв завод, и даже крыша управления терялась в тумане.
Только из-за ворот, из мглы долетал приглушенный грохот, гул и свист — картина фантастическая, поскольку глаз видел только море людей, куда-то идущих из мглы во мглу.
В дороге Павел промерз, у него забило дыхание тяжелым холодным воздухом, а может, и от этой, такой невероятной картины, — ничего подобного он не видел прежде, он подумал, что, окажись на его месте гениальный режиссер, как Эйзенштейн, Антониони, он бы это снял…
Был предпусковой день, 25 января.
Накануне Павел уехал с таким пузатым автобусом: ему сказали, что это удобно, он вскочил, а потом в городе не знал, куда себя девать, досадуя и не понимая, зачем уехал, слонялся в одиночестве, осмотрел здешние новые «Черемушки», театр, цирк.
Зато утром Павел уже знал, где ловить рабочий автобус, втиснулся, быстро доехал, хотя всю дорогу пришлось стоять, согнувшись, зато было весело, все шутили, парни прижимали девчонок, а старики толковали о расценках.
Павел сразу не пошел в ворота, а, выбравшись из толпы, вбежал по лестнице управления, подергал запертую дверь поста содействия стройке, подумал, что это даже к лучшему, что там никого нет, и направился наверх.
Он вошел в партком в тот момент, когда там кипел великий спор.
За столом стоял пожилой, худой и длинный, как жердь, человек с узким длинноносым лицом, пронзительно взглядывающими зелеными глазами, но, пожалуй, главной и забавной его особенностью была растительность на голове. Он сильно облысел, макушка так и блестела гладким полушарием, но вокруг нее волосы продолжали расти и держаться крепко, густыми кустами, и над центром лба упрямо сохранился спутанный, сильно прореженный клок, этакий наглый, бессовестный остаток прежней роскоши, неизвестно, что с ним делать: сбривать смешно, стричь нечего, а ходить с такой пародией на кок — тоже не фонтан.
Автоматически приглаживая рукою кок, парторг увлеченно и страстно спорил по телефону. Вокруг стояли люди и тоже спорили между собой, разделившись на двойки и тройки.
Двое махнули рукой и ушли, яростно хлопнув дверью, но тут же поспешно вернулись, крича новые аргументы, которые, видимо, пришли им в голову там, за дверью.
Тема дискуссии была: свалились сметы, которые неизвестно какой головотяп составлял, неведомо где и кто утверждал, в которых перепутаны божий дар с яичницей, которые надо немедленно пересоставлять, так как они режут без ножа под корень, и это не укладывается в голове, не лезет ни в какие ворота и что в механическом цехе четвертый раз срываются политзанятия.
Виновник срыва, маленький лысый толстячок, покаянно вздыхал, кивал головой, охотно и сразу признавая свою вину.
Но парторга, видимо, это не устраивало: ему нужно было спорить как следует, чтобы сперва ему возражали, потом оправдывались и лишь потом признали свою неправоту.
Павел постоял, послушал, решил выручить лысого толстячка и протянул парторгу свое удостоверение.
Тот машинально взял его сухими, жилистыми руками с длинными пальцами, стал читать, быстро успокаиваясь, протянул руку Павлу.
— Иващенко, Матвей Кириллович, очень приятно. — И тут же пустил в лысого толстячка еще одну стрелу: — Пожалуйста, товарищ из газеты, я вот дам ему факты о вас, прославитесь на всю страну!
Толстячок совсем уж покаянно сник, готовый и к славе на всю страну. Другие спор прекратили и как-то быстренько, боком стали рассасываться из кабинета.
— Пуск домны, как я понял, завтра? — прежде всего спросил Павел.
— Кто вам это сказал? — удивленно спросил Иващенко.
— Да ребята с поста содействия стройке. На домне даже плакат висит…
Парторг хмыкнул:
— Гм… Может, они и пустят завтра… гм. Чего же вы тогда у меня спрашиваете? Они сказали — пусть и задувают.
— Но когда же? — немного испуганно спросил Павел.
— А вот это если бы кто-нибудь мне самому сказал… Скоро уже! Вот-вот. Тут голова во-от таким кругом идет. Извините, давайте в темпе ваши вопросы, в темпе, в темпе!
— Ну, естественно, я прошу подсказать, — заторопился Павел, — на что главное стоит обратить внимание, прежде всего на каких людей?
— Ясно. Назвать вам список передовиков?
— Ну, хотя бы…
— Поразительно! — закричал Иващенко, воздевая руки к потолку. — Просто поразительно, как вы начинаете с этого и только за этим идете ко мне! А вы пойдите, а вы посидите, а вы потрудитесь, а вы разберитесь, а вы составьте список свой, свой, свой!
И на Павла обрушился тот самый неизрасходованный запас стрел, от которого он так непредусмотрительно заслонил лысого толстячка:
— Па-ни-ма-ете! Изволь им завтра пустить домну! Немедленно! Они спешат! Дайте им список передовиков и факты героизма! Может, мне еще писать за вас? А?
Саркастически задав этот убийственный вопрос, он на секунду замолчал. И в этот момент в тишине раст творилась дверь, пропуская стройного, модно одетого мужчину с фотоаппаратурой на боку. Ничего не подозревая, широко улыбаясь, он направился к столу.
— Вот! — торжествующе закричал Иващенко, указывая на него. — Вот и второй за списком! Стой!
Мужчина так и застыл, широко улыбаясь.
— Не, не, не, я не к вам, Матвей Кириллович, бог свидетель, я не к вам, я вот за ним! — воскликнул он. — Витьку Белоцерковского-то хоть вспомнишь, Павлушка? Я услышал: ты здесь… Нет, нет, мне не надо списков, Матвей Кириллович!
— Вы должны ходить ногами, вы должны смотреть, изучать жизнь! — гневно кричал Иващенко. — По кабинетам нечего ошиваться!
— Ого, начальство сегодня не с той ноги! — сказал Белоцерковский. — Ночью во сне вас, видно, на бюро драили, Матвей Кириллович?
— Вот я тебя продраю!
— Один только фактик, Матвей Кириллович! По старой дружбе!
— Иди, иди! К людям идите! Убирайтесь с богом!
— Извините меня, — искренне сказал Павел, — я думал… так лучше.
— А у нас не лучше! — ударил ладонями по столу парторг, так что подскочили телефоны.
— Бежим! — схватил Павла за плечи Белоцерковский. — Пока в шею не дали. Дочке привет, Матвей Кириллович! Как у ней зачеты?
— Выперли. Нормально, — сказал Белоцерковский в коридоре, обнимая Павла. — Вижу, я вовремя явился. Не обижайся на него, он добрый старик, но должность беспокойная. Иной раз и покричит, а в целом ничего, живой, на днях в клуб автолюбителей записался, говорит: «Как меня из-за всех вас прогонят, уйду на пенсию, куплю „Запорожца“, кто мне его будет водить?»
— Что он на журналистов зол?
— Да это я его замучил. Иной раз неохота по территории шляться, идешь в партком, фамилии, цифры списал — информация готова. Ну, он терпел, терпел, видит, что я совсем обнаглел… Отлично, Пашка, что ты здесь, гульнем же мы с тобой!
— Я ненадолго.
— Все зависит от того, как насыщать время. Пустые полгода не стоят единого насыщенного дня… Слушай, а давай свернем вот тут за угол, отличнейший магазинчик, и продавщица знакомая, она нам и стаканчик даст.
— Ну, с утра пить…
— Как джентльмены! Только одну! Я сам не могу много, у меня машина, я за рулем.
— Тем более, — сказал Павел. — Я, понимаешь, если с утра выпью — потом весь день торчком летит.
— А! Это бывает. Ну, смотри… А то у меня тут пара бумажек завелась, контрабандный гонорар с радио, вне домашнего учета, прямо карман жгут… Пошли!
— Потом, потом.
— У тебя какие планы?
— Смотреть домну.
— Господи, это пара пустяков, домна как домна, чуть больше других, поглядишь, как задуют ее, опишешь дым, реку металла, озаренные лица горновых, мне ли тебя учить?
— Я хочу серьезно.
— Ну и дурак. Извини, я без зла.
— Значит, ты в газете?
— Да, сооружаю что угодно — от стишат до фоторепортажей.
— Знаешь, у меня до сих пор в памяти некоторые строчки из твоих тогдашних модерных стихов…
— О, Пашка, это я выбросил, начисто. И, кстати, не заговаривай со мной, даже не напоминай о стихах.
— Почему?
— Потому, что, как мы говорили в детстве, кончается на «у». Я знаю, что я с тобой сейчас сделаю. Идем вместе, и я в два счета открою тебе на этой домне самое главное, самую, так сказать, глубоко скрытую суть. Потому что у нас по редакции я к ней прикреплен, на ней зубы проел. Меня тебе сам дьявол послал. Радуйся! И быстренько освободимся.
Завод утопал во мгле. Из нее причудливо выступали коленчатые конструкции, а над головой было сплошное молоко. Туман смягчал грохоты и свисты, словно закладывал уши, но вздрагивание земли замечалось сильнее. Проехал, сильно дымя, паровозик с огненно-пышущими ковшами, но своими ватными клубами дыма ничего не добавил к окружающей мгле.
— Так вот, крупнейшая в мире домна-гигант! — закричал Белоцерковский. — И в сутки будет пожирать шихты примерно…
— Десять эшелонов!
— Совершенно верно, и эти эшелоны будут зеленой улицей мчаться по стальным магистралям, ведомые знатными машинистами-богатырями, под лозунгом «Все для руды!», и при нашей великолепной электрифицированной, самой протяженной в мире сети железных дорог это главное! Курская магнитная аномалия содержит глобальные запасы железа, потому эти чудовища будут расти, пока не станут впритык, и каждое — четыреста, пятьсот тонн пыли в воздух. Задачка для школьников: четыреста тонн умножить на икс, ответ в конце задачника. Ты это пиши, пиши! Отрази!
— У меня это уже записано, — улыбнулся Павел.
Тем временем они оказались в царстве неподвижных транспортеров, и Павел узнал это место: Белоцерковский вел его точно таким же путем, каким вчера шли с Селезневым.
— Бункерная эстакада, яркий пример трудового героизма! — торжественно объявил Белоцерковский.
Они подошли поближе. Вчерашняя бригада во главе с пожилым дядей, дружно навалясь, передвигала железные рамы. Белоцерковского приветствовали, как старого знакомого, весело, несколько иронично, а на Павла опять настороженно покосились.
— Становись, Михалыч, надо тебя снять, — велел Белоцерковский, открывая аппарат и лампу-вспышку. — Тьфу, вид у тебя, извини…
— Такая работа, — пробормотал смущенно бригадир.
— Небритый! На! — Белоцерковский достал из кармана бритву «Спутник», быстро накрутил ее. — Из-за вас, несознательных, специально бритву носи. Брейся и заодно отвечай — пишу. На сколько процентов?
— На двести.
— Пойдет. Кто отличается?
— Да все…
— Не пойдет. Конкретно три фамилии.
— Ну, давайте на этот раз… Кузькина, что ли? Петрухина, Сомова.
— Готово. Давай бритву. Шапку надо сменить. Павел, дай ему свою шапку. Ну вот, другое дело… Улыбка! Взгляд вперед и ввысь!
Белоцерковский несколько раз щелкнул, бригадир изо всех сил пыжился, ребята похохатывали над ним, скаля зубы, потом Павел получил обратно свою шапку, бригада снова навалилась на раму, а Белоцерковский весело сказал, направляясь к лесенке:
— Полста строк на первую страницу в кармане. С фотографией плюс. «Образцы вдохновенного труда показывает, ведя последние предпусковые работы, славный коллектив…»
— Ты гангстер пера, — сказал Павел. — Как же тебя в газете держат?
— А, брось! Кто не гангстер, тот тупой мул, как этот Михалыч, на котором ездят все, кому не лень. Или убежденный мул, как Федор Иванов.
— Как ты сказал — Федор Иванов?
— Убежденный мул. Такая жизненно необходимая категория. Без вопросов. На полном серьезе залит по уши своим металлом и, кроме металла, ничего в жизни не видит. Металлические мозги. А был когда-то простой, приятный мальчишка, слушал наши беседы…
— Да! — сказал Павел. — Скажи, долго еще у вас сохранялся кружок, когда я уехал?
— Нет, почти сразу и распался. Ты уехал, у Федора сломался велосипед. Он им в проволоку врезался, и рама — пополам, а сам в больнице лежал… А потом ведь все расползлись учиться, кто куда.
— Я вспоминаю наши встречи, словно это было вчера…
— Черт его знает, маленькие мы все прелесть, вероятно, потому, что все спрашиваем. А потом уже не спрашиваем, а утверждаем — и превращаемся в какие-то столбы.
— Себя ты к столбам не относишь?
— Себя я отношу к огородным пугалам. Но этим я горжусь, ибо пугало — это все-таки личность, неповторимая индивидуальность, и его ночной горшок на голове — личный горшок, совершенно не такой, как у других.
— А что случилось с Женькой? — спросил Павел.
— Женька отличная была девчонка, помнишь, блестящие глазки, стремления, мечты, кристальность. Теперь — непроницаемое лицо, глухая усталость от жизни плюс высокомерие. Ее личная жизнь не удалась — значит, виноваты во всем мужчины двадцатого века, злодеи. Она все поняла и решила жить в высокомерном одиночестве, под ручку не ходит, водку не пьет, гнусные предложения отметает. Ненавижу таких святых дур!
— Так злобно говоришь, — сказал Павел, — потому что это твои гнусные предложения отметены?
— Ладно, она женщина, не будем говорить о ней гадости. Самым человечным, реальным и остроумным оказался, как это ни странно, Миша Рябинин, любитель джаза. Все это, конечно, весьма относительно, но мыслит он трезво, хотя, к сожалению, дурак.
— У него были уникальные математические способности, что с ним стало?
— Ничего не стало. А он их применяет сейчас более чем остроумно. О, как применяет! Ух, торгаш, захапистый мужик, шкура! Я к нему иногда захожу, глушим коньяк. Мишка очень забавный, только жаль, что дурак, такой врожденный, без фантазии, и потому хоть и сволочь, но чересчур уж примитивная… Но кого я ненавижу по-настоящему, зверски — так это Селезнева Славку. Вот где мразь! Этакий розовощекий, бодренький трепач, фарисей, дармоед, лодырь, карьерист, лицемер, общественный благодетель!..
— Хватит! Стоп! — закричал Павел, дивясь. — Ты мне выдал целый зоопарк. Слушай, нельзя же так в конце концов односторонне и пристрастно…
— Ты не привык к моей манере, еще не то от меня услышишь, — небрежно, но не без кокетства возразил Белоцерковский. — Я именно тем и славлюсь, что говорю то, что думаю. Они балдеют, думают — шучу. Одни считают меня шутником, другие шизофреником, третьи неопасным дураком…
Среди строительного хаоса, примостившись у рельсов, закутанная тетушка в белом переднике продавала пирожки, словно в городе на углу; из алюминиевых кастрюль, накрытых марлей, шел вкусный пар.
— С чем пирожки? С котятами?
— С котятами, сынок!.. Гар-р-рячие, кому, с мясом!..
— Дайте шесть штук!
— Только бумаги у меня нету…
Они набрали пирожков, стали есть их, обжигаясь, измусолив руки. Полезли по трапу к железным дверям доменного цеха.
— Это верно, — сказал Белоцерковский, — я такой злой, потому что с утра не жрал. Но Селезнева ненавижу не меньше.
— Тогда вы особенно дружили. Он смотрел тебе в рот, души не чаял, был влюблен в тебя!
— А такие-то, братец, влюбленные потом становятся врагами насмерть!
Он показался Павлу еще более грандиозным, этот цех, а выпуклый бок домны еще внушительнее, чем вчера.
Туман проник сюда, стелился под потолком, и мощные лампы светили сквозь него мутными, в ореолах, шарами.
В отличие от вчерашнего у домны теперь не было ни души. Только белел плакат «Дадим металл 26 января!», причем ноль был так хорошо переделан в шестерку, что самый придирчивый глаз не заметил бы следов.
В полном безмолвии, спотыкаясь о разные железяки, громко переговариваясь, Белоцерковский и Павел полазили везде, как мальчишки, подобрались к дыре летки и посмотрели в нее.
Она невольно вызывала уважение: шутка ли, именно здесь будет литься огненная лавина, а сейчас так себе, просто дыра в кирпиче, немного заиндевевшая, да еще в нее гулко свистал, всасываясь в домну, воздух. Вдруг Павел заметил в черной глубине дыры какие-то световые блики. Что-то там, внутри печи, звякнуло, возился кто-то живой.
— Эге-ге-ей! — закричал в летку Белоцерковский. — Ку-ку!
— Бу-бу-бу!.. — ответил человек изнутри, как из преисподней.
И между ними состоялся такой короткий диалог:
— Алло! Задувка когда?
— Скоро!
— Как скоро, сегодня, завтра?
— Скоро, вот-вот.
— А что из работ осталось-то?
— Кой-чего осталось.
— Ну, бог в помощь!
— Бу-бу-бу!..
В летке зашуршало, и что-то полезло. Белоцерковский отскочил. Вылезла тонкая железная труба, покрутилась вокруг оси и замерла.
— Ясно, что ничего не ясно, — сказал Белоцерковский. — А поехали-ка мы домой. Закоченел я, как собака. Поверь моей интуиции, что задувка состоится через неделю, не раньше…
Глава 6
— Нет, нет, верный признак, — говорил Белоцерковский, живо ведя Павла к воротам, — если нет начальства и корреспондентов. Едем ко мне на хату, выпьем, вспомним былое, и это будет самое разумное. Ну, что ты можешь придумать умнее?
— Библиотека, учебник доменного дела…
— И-ди-от! — захохотал Белоцерковский. — Во-первых, Женька Павлова — это пас, полный пас! Во-вторых, лично я — кладезь местных знаний, я выдам столько, что никакой учебник не сравнится! Левое плечо вперед, сюда, вот это моя телега, ничего?
— Ничего.
— Все четыре колеса, только заводится несколько, гм, иррационально. В крайнем случае толкнем.
У заводских ворот, лихо заехав на тротуар, стоял заиндевевший «Москвич», старый, со следами царапин и вогнутостей. Белоцерковский открыл ключом дверцу, влезли внутрь, как в холодильник. Застывший мотор действительно долго не хотел заводиться. Белоцерковский открыл дверцу и кликнул парней, кучкой стоявших у проходной. Дружно, смеясь, они навалились и погнали машину по улице, к удовольствию прохожих и мальчишек. Павел, проваливаясь в снег и спотыкаясь, тоже изо всех сил толкал, а Белоцерковский из кабины кричал указания. Метров через пятьдесят драндулет затрясся, зачихал и завелся. Павел на ходу вскочил на переднее сиденье.
— Понимаешь, — сказал Белоцерковский, — у меня там шаром покати, ни крошки нет, так мы заедем в магазин, сделаем закупки, и для скорости предлагаю разделить: один — горючее, другой — закуску. Ты что берешь?
— Все равно.
— А мотор оставим работающим, не бойся, теперь уж не остановится до страшного суда.
Магазин, в который приехали, оказался великолепным, отделанным по последнему слову — сплошь стекло и дневной свет.
Белоцерковский развил бешеную деятельность, толкался у прилавков, лез без очереди в кассу с криком «Доплатить!», накупил целую охапку колбасы, сыру, конфет, камбалы в томате, шпротный паштет, голубцы в банке, всего, кроме вина. Он хотел коньяку, а его не оказалось.
Сложив покупки на заднее сиденье, отправились по дороге из Косолучья в город вдоль трамвайной линии, ехать было трудно, дорога скользкая, машину заносило, и водитель из Белоцерковского был дрянной. Сам он, впрочем, был другого мнения, кажется.
— Что не восторгаешься мною за рулем? — спросил он гордо. — Мечтал я о машине, считай, с пяти лет — и, кажется, это единственная моя мечта, которая исполнилась… Невольно станешь пессимистом в этом болотистом мире.
— Ты хочешь сказать, что ты законченный пессимист? — спросил Павел, насторожившись.
За какой-нибудь час-другой общения с Белоцерковским у него появилось почти физическое ощущение чего-то нечистоплотного. Он уже жалел, что поехал. Следовало остаться и посидеть над книгами. С другой стороны, отличный случай понять, что же такое теперь Белоцерковский. «Спокойнее, спокойнее, не спешить делать выводы. Смотреть, слушать», — приказал себе Павел.
— Пессимист не пессимист… Все сложнее, — продолжал говорить Белоцерковский. — Знаешь эти две притчи? Оптимист входит в театр и говорит: «Зал наполовину полон», — пессимист входит и говорит: «Зал наполовину пуст». Пессимист пьет коньяк, морщится и говорит: «Как пахнет клопами!», — оптимист давит на стенке клопа и говорит с удовольствием: «Коньячком пахнет!» Ну так вот. Я не подхожу ни под одну из этих схем. Я считаю, что зал уже наполовину, если не более, пуст, но клопов в нем развелось пропасть, и все пахнут коньяком!
Видимо, Белоцерковский раздразнил себя такими разговорами, потому что, приехав в город, заявил, что сейчас умрет, если не достанет коньяку.
Поехали в Заречье, в Кусково, обследовали «Черемушки», даже базар и два ресторана по пути, добрались до вокзала. Наконец из вокзального ресторана Белоцерковский выбежал с сияющим лицом. В каждой руке — по бутылке, завернутой в бумагу.
— С ума сойти: болгарская «Плиска»! Лишь потому, что директор знакомый. Я кретин, следовало сразу к нему, но я приберегал его уж как последний шанс. Хитрая лиса, всегда держит запас для особых гостей. Вот отрази-ка это ты в своих писаниях. Куда там, ведь не станешь, не возьмешься!
— Взяться можно, но дело не в том, — рассеянно сказал Павел. Ему уже в третий раз за эту поездку приходил на ум тот странный сон в номере с Димкой, жаловавшимся на разговоры вещей, — и вспомнилась черная глыба с золотыми буквами. Каким-то странным образом и этот сон и эта глыба имели прямое отношение к Белоцерковскому, ко всему происходящему сейчас, но Павел ни за что не смог бы объяснить, какое именно. Дима Образцов и Белоцерковский — что общего? Решительно ничего. Дима умер, лежит сейчас там, среди плит, далеко. А здесь затевается обыкновенная выпивка, и Белоцерковский говорит, говорит…
— Есть коньяк — теперь у меня настроение на сто делений вверх… Посиди минутку, мне еще надо позвонить.
Звонил он не минутку, а добрых полчаса. Истратил много монет, бегал по киоскам, меняя мелочь, снова упорно звонил, глядя в какие-то бумажки, записи. С кем-то подолгу говорил, улыбаясь и заискивая, то гневно ругался, швырял на рычаг трубку, то опять набирал номера, любезничал, убеждал. Павел совсем закоченел в машине, ожидая, но Белоцерковский пришел довольный, загадочно сказал:
— Боролся за радость бытия, прости, что долго. Поехали!
Машина углубилась в проулки, долго петляла и выехала на самую окраину города, за которой простиралось гладкое белое поле, точно такое же, как перед окном Павла в гостинице. Открытый всем ветрам, стоял последним в улице длинный, облупленный, баракоподобный дом, утонувший в сугробах, едва пробились к нему по скверно расчищенному проезду.
Белоцерковский посигналил, но это было лишнее, потому что из подъезда уже бежали две девушки, застегивая на ходу пальто.
Одна из них была высокая, с огромнейшей прической на голове, которую не смог целиком покрыть довольно объемистый платок, и она была ярко накрашена, как для выступления на эстраде. А другая, наоборот, совсем ненакрашенная, с круглым лицом, круглыми испуганными глазами, толстая, так что пальто на ней чуть не лопалось.
Потеснили провизию на заднем сиденье, втиснули девушек. Представились:
— Зоя.
— Таня.
— А он — писатель из Москвы, — важно сказал Белоцерковский. — Великолепно, имеем полный комплект. Теперь, Пашка, поедем на мою хату, дворец такой, какого сроду ты не видел!
«Хата» оказалась весьма далеко, за рекой, на противоположном конце города. С трудом, буксуя в снегу, въехали во двор, полный сугробов, обстроенный старыми каменными домами, готовыми, кажется, развалиться, возможно, доживающими последние сроки перед сносом. Во всяком случае, красно-бурые кирпичи так и вываливались из стен, дома выглядели как побитые снарядами и осколками. В глубине двора стояла такая же дряхлая, разваливающаяся церквушка с заколоченными оконными проемами, и вместо куполов торчали одни голые ребра каркасов, образуя ажурные луковицы.
Павел ничего не сказал, но про себя удивился, что Белоцерковский живет теперь в таком доме, но еще больше он удивился, когда тот повел всех не вверх на крыльцо, а куда-то под него, в полуподвал, по скользкой каменной лестнице, облитой помоями.
Миновали темный тамбур, заваленный хламом, о который все по очереди споткнулись, свалили что-то, загрохотавшее жестью. Белоцерковский нащупал щеколду, открыл низкую, перекошенную дверь, и за ней оказалось жарко натопленное просторное помещение, оно же и передняя, и кухня, и жилье, судя по вешалкам, плите с кипящими чугунками и топчаном с матрацем и подушками.
На топчане сидел густо заросший черной бородой, цыганского вида мужчина, латал валенок. Сухопарая старуха шуровала в топке. Они не очень приязненно ответили на приветствия, подозрительно-хмуро уставились почему-то на Павла.
Белоцерковский непринужденно болтал, распоряжался, помогая девушкам снимать пальто, а старуха метнулась в соседнюю комнату и выволокла оттуда за руки двух детей, мальчика и девочку.
С полными руками провизии, с бутылками все проследовали туда. Было это узкое, но длинное помещение с признаками попыток поддержать порядок: этажерка застлана старой газетой, вытертый коврик на стене. Но пол был совсем прогнивший, с огромными зияющими щелями, а стены бугристые, в клочках сизых обоев. Под длинной стенкой стояли в в ряд продавленный диван и узкая колченогая кровать с проржавевшими спинками. Свет в помещение едва проникал сквозь занесенные снегом полуподвальные окна, тусклая лампочка под потолком немного к тому добавляла.
Старуха вбежала, извиняясь, подобрала с пола куклу и игрушечный грузовичок без колеса, которыми, видимо, играли дети.
— Вот это и есть моя сногсшибательная хата, — объявил Белоцерковский, торжественно выставляя бутылки на шаткий стол, покрытый стертой и порезанной клеенкой. — Никто о ней не знает, особенно — леди и джентльмены, прошу учесть! — моя дражайшая жена. Только для посвященных!
— Мда-а… — сказал Павел, озадаченно оглядываясь. — Черт возьми, я думал, такие уже не сохранились. А оно… не завалится?
— Нас с тобой оно, конечно, не переживет, держится, как бы сказать, на пределе, но в том-то и экзотика, шик-модерн! И ужасно дешево снимаю, почти задаром, но все довольны. Я могу сюда в любой момент приехать. Да вы рассаживайтесь. Девочки, вы — дома. Погодите… Тут у меня для полного шумового эффекта…
Он полез под кровать и вытащил проигрыватель «Молодежный» с кипой пластинок и белых пленок, вырезанных из «Кругозора». Загремели ритмы. С помощью девушек закипела хозяйственная деятельность: принесли от хозяев кипу разномастных, надколотых блюдец, граненых стаканчиков, да заодно соленой капусты с огурцами. Резали колбасу, сыр, вскрывали банки, расставляли по столу. Белоцерковский распоряжался и торопился так, что, казалось, дрожал: одной рукой менял пластинку, а другой уже разливал коньяк.
— Взяли, леди и джентльмены. За английского короля! — возгласил он, молниеносно рассказал старый анекдот, и девушки охотно, несколько визгливо рассмеялись.
Павел выпил, надо сказать, с удовольствием, предвкушая тепло, последующее за сим, а закоченел он, пока сидел в машине, сильно, да и в подвале только сперва показалось тепло, а на самом деле чуть не пар изо ртов шел, особенно когда закрыли дверь из проходной комнаты с плитой.
Коньяк сработал быстро и вкрадчиво, распустив тепло до самых костей. Но настроение не хотело подниматься. Видимо, это было заметно, потому что Белоцерковский обиженно закричал:
— Вот уж мне эти сложные натуры, сидит с постной рожей! Ты веселись! Восторгайся!
— Чем?
— Коньяком, женщинами, хатой, мной, собой, наконец, чучело! Леди и джентльмены, давайте сразу, с ходу по следующей. За жизнь и за отсутствие в ней смысла!
— Послушай, Виктор, — сказал Павел. — Ты прикидываешься или ты в самом деле такой дремучий пошляк?
Виктор на секунду раскрыл рот, как бы задохнулся, все еще весело глядя на Павла, но в глазах его появились ледяные искры. Молча, залпом он выпил свою рюмку.
— Прикидываюсь, — криво улыбнувшись, не то сознался, не то сыронизировал он. — Ну, слушай, ну, нельзя же постоянно быть вечно серьезным, вечно умным. А куда глупость девать? Пьянка тем прекрасна, что всем глупостям дает выход. О, господи, я тебе еще не то выдам! Это я еще мудрый. «За отсутствие в жизни смысла» — разве это такая уж глупость?
— Махровая, — сказал Павел.
— Ах, смысл в жизни е-есть?! — кривляясь, закричал Белоцерковский. — Ах, мамочки-папочки, я-то думал, нет. А, оказывается, есть?
— Есть, — сказал Павел, не принимая его предложения перевести все в клоунаду. — Просто некоторые люди не всегда его видят.
— Ага. Это я. Я не вижу. Ни черта, никакого смысла. То есть он есть, условный, порой до того условный — лопнешь со смеху, то есть смешно до белого ужаса, поэтому я и условного подыскать не могу, как это ни печально.
— Ну, тогда на какого лешего ты живешь? — зло сказал Павел. — Что тебя тут, на земле, держит?
Белоцерковский перестал паясничать, вдруг сразу погрустнел.
— А я сам не знаю. Неизвестно, зачем, — просто сказал он. — Ничто не держит.
«Вот оно, значит, что, — подумал Павел. — Ну и ну!»
— Паршиво это, — мрачно сказал он.
— Да, паршиво… А что ты мне предложишь?
— Изложи сперва посылки. Популярно.
— Изволь! Популярно, как для школьников, от печки. Остап Бендер сказал: бога нет. Нет бога?
— Нет.
— Научный факт. Нет того света, нет рая, нет ада, ни черта нет.
— Ну и отлично.
— Отлично-то отлично, но что в нашем распоряжении? Нет, ты меня прости, но я по-школьному, от печки… В моем распоряжении смехотворный, юмористически короткий отрезок жизни на земле. Родился — покопошился — смерть. Весь отрезок.
— А неплохой отрезок! — заметил Павел. — Довольно большой, интересный, ну и… живи в нем.
— Я живу, живу. Дышу, ем, сплю, добываю блага, боюсь наказаний, развесив уши, слушаю ханжей и фарисеев, уверяющих кто в шутку, кто всерьез, что во всем этом есть какой-то смысл. Говорят: борись за добро, за какое-то гипотетическое светлое будущее, на черта оно мне, спрашивается, сдалось?
— Ну, знаешь, старик, позволь! — вскричал Павел. — Есть вещи для человечества святые, и если ты свинья и если ты хочешь ею быть, то я просто встаю и…
Тут даже девицы возмутились, закричали:
— Витя, не надо так, нельзя так! Сядьте, сядьте, не ссорьтесь!
— Не кричите так, хозяевам все слышно!
— Нет, я выскажусь! — еще громче закричал Белоцерковский, залпом выпивая коньяк. — Пейте все и слушайте. Ты спросил о посылках, так дай же мне высказаться!
Павел молча сел, весь кипя. «Не хотел я ездить, — думал он. — Но нет, ничего, пусть он высказывается. Слушать».
— Я считаю, — торжественно провозгласил Белоцерковский, — что живу в мире бессмысленном, жестоком, лживом и ханжеском. Ладно, черт с ним, крохотный отрезок жизни у каждого — пусть каждый переводит его, как хочет. Так нет. Выясняется, что даже в этом я не свободен, мне велят жить только так и этак, а не иначе.
— Ты живешь не один на каком-нибудь астероиде, ты живешь в обществе, — сказал Павел. — Но прошу не путать. Ты еще живешь в таком обществе, которое именно восстало против бессмыслия, жестокости, лжи, эксплуатации, ханжества. Общество это дает тебе великие цели, дает смысл, а ты, как паршивый поросенок, еще обливаешь его грязью. Это просто подло, наконец!
— Я хочу жить так, как я хочу, — упрямо и пьяно крикнул Белоцерковский. — Я хочу свободы!
— Какой свободы? Ходить с дубиной и бить всех по головам? Или скопить миллион золотых монет? Тогда ты просто опоздал родиться.
— Нет, свободы не отрезать себе нос, когда все вокруг отрезают себе носы. Ладно, пусть я опоздал родиться, я изгой. К счастью, у меня есть еще вот такая хата, и я могу в ней быть самим собой, высказываться в свое удовольствие, выпить в свое удовольствие, и вообще я чайник!
Он изобразил из себя чайник, усиленно улыбаясь.
— Такой прорвы пошлостей я, кажется, никогда не слышал, — сказал Павел с омерзением. — Я сейчас же ухожу. Мне противно все это слушать!
— Ну, ладно, ладно, прости, я сам виноват, завелся, сам не знаю, куда я заехал. Да, да, я глупости порю! Девочки вот наши совсем приуныли.
— Пластинка кончилась, — сказала Зоя. — Завели всякие разговоры… И на работе голова пухнет от этих разговоров.
— Кончили! Мы с тобой, Пашка, еще поговорим, в другое время. Сейчас надо пить. Наливайте! Дамы, подняли бокалы! Подняли, подняли!
— Не насилуй ты их.
— Да что ты? Им только дай кирнуть да погулять. На свои ведь не здорово разгуляешься, особенно если такие вот… чулочки. Где покупала?.. Они ведь, знаешь, кто? Продавщицы. Только жаль, в овощном магазине, бред собачий. Вот ты бы перешла в винный, а ты — в комиссионный! Тогда бы мы зажили… Пашка, не сердись и выпей, не будем больше о серьезных материях, выпей просто как друг. Мы же были друзья! Ну, отрежь мне язык, вот он, вот он, без костей.
«А, к черту, — подумал Павел. — Я тоже хорош. Он просто паясничает, а я воспринимаю все всерьез…» Павел налил себе полный бокал и выпил, сразу приведя этим Виктора в восторг. Стало еще теплее.
— Скоро танцевать? — нетерпеливо спрашивала Таня.
Проигрыватель зарыдал какой-то душу вынимающий мотив. Павел встал и пригласил Зою. Она была выше его на голову, худая, так что чувствовались все ребра. Она стеснялась своей длины, горбилась и приседала, виновато хлопая слипшимися от краски ресницами.
— Вы видели кинофильм «Леди Гамильтон»? — спросила она, делая глаза «с поволокой» и сильно сжимая его левую руку. — Когда его убили, я так плакала, смотреть не могла, все на меня оборачивались даже… А какая она, красивая, скажите?
— Да.
— А он, правда, был некрасивый? Я не люблю таких мужчин. Он был, смотрите, совсем калека, а она его любила, вот была любовь!..
— Сколько вам лет, Зоя?
— Девятнадцать.
— Сегодня у вас что, выходной?
— Ага, отгул.
Он подумал и не нашел ничего лучше, чем спросить:
— А что вы продаете?
— Картошку, — сказала она. — Ну, потом еще огурцы, лук, лимоны, а вы приходите, посмотрите. Ой, с этой картошкой намучишься так, что потом вся спина болит. Пойдешь в кино, посмотришь, как люди живут!..
— Самой так хочется?
— Кому не хочется? Да что ж, куда нам… Вы, правда, из Москвы?
— Да.
— А то, бывает, командировочный из Епифани какой-нибудь, выдает из себя, строит прынца иранского!.. В Москве вам хорошо, одних ресторанов сколько.
— Вы ошибаетесь. Совсем не в том дело…
— А в чем же, здрасте! У нас вон пойдешь, так тебе и нахамят и нагрубят, одно разочарование. Хорошо, что вот Витя хату снял!
— Он вас всегда зовет сюда, когда у него гость?
— Что вы! Что вы о нас думаете? Мы не такие!
Что-то случилось с Павлом. Как-то он вдруг сразу стал покладистее. Ему захотелось сказать этой девушке нечто чрезвычайно важное, что она жестоко ошибается, что неправ Белоцерковский, — но мозги у него стали словно ватные, а глаза пытались уставиться в одну точку. «Опьянел я, кажется, — тупо подумал он. — Хватит пить». Но тут же и забыл. Стал разглядывать всех и улыбаться.
Коньяк давно кончился, пили водку. Белоцерковский наливал, настойчиво вставлял в руку Павлу стопку, которую Павел машинально выпивал, не протестуя, не закусывая, но все силясь вспомнить что-то такое важное, важнее этой чертовщины, до боли, до крика важное и нужное, и ему казалось, что еще вот-вот, и он вспомнит.
Девицы куда-то уходили, возвращались, и вот оказалось, что уже и толстая Таня намазана и разукрашена. Почему-то полетела на пол и разбилась тарелка с капустой.
— Ты обещал рассказать про завод, подожди, — сказал Павел. — Подожди, ты обещал про завод, сядь.
— Что завод? — сказал Белоцерковский, тупо царапая клеенку вилкой. — Масса людей, объединенных тем, что тут за работу дают зарплату. Получить побольше, избежать нагоняя. Каждый в поте лица бьется за свой кусок,
— Ты что, в самом деле так думаешь? — сказал Павел. — Врешь, циник!
— А скажи, если б кусок можно было добыть, не ударяя пальцем о палец, строились бы эти домны?
— Да.
— Нет. Все бы сидели, не ударяя пальцем о палец! Но нужно загребать расплавленный металл, денежки-то платят за это, вот они и загребают.
— Погоди, — возражал. Павел. — А куда ты относишь радость творчества, радость созидания?
— А ты скажи, пошел бы кто-нибудь созидать, если б давали деньги просто так, ни за что? Просто каждому человеку такая стипендия, допустим, тысяча рублей в месяц? Работали бы?
— Да.
— Кто?!
— Я первый!
— Разве что ты… с жиру и скуки. Да, кое-кто пошел бы, чтоб еще одну тысячу дали.
— Ох, дура-ак ты, ох, дура-ак! — ошеломленно сказал Павел. — Интересно, что сказали бы тебе по этому поводу те, про кого ты тискаешь в газету «полста строк» и чьи фото сдаешь на первую полосу!
В этот момент хмель ударил в голову Павлу, будто обухом оглушил; он плохо слышал и старательно удерживал сознание, готовое провалиться в яму.
— За-бавно! — сказал кто-то, и Павел с трудом сообразил, что это говорит он сам. — За-бавно, как тебя такого держат в газете?
— А я пишу, — донесся издалека голос Белоцерковского, — то, что им надо. Специально выучился.
— Кому это — «им»?
— А черт его знает, неизвестно! Если начать доискиваться, честное слово, концов не найти! Никому это не надо. Никому не надо, ни мне, ни редактору, ни читателю.
Слова его показались Павлу отвратительными, он решил ударить Виктора и уйти, ибо еще минута, и он задохнется в этом дымном подвале,
— Ты… ты… — сказал он, — ты… хамелеон! Таких гадов не только к газете, к заводу близко подпускать нельзя. На твоих глазах вырос город, строятся такие домны, каких мир не видел, куда ни глянешь — люди работают, творят, созидают, а ты жрешь их хлеб и смердишь, смердишь…
Павел вскочил, шатаясь, прошел через кухню, где старики и дети испуганно на него посмотрели, высадил плечом дверь и очутился во дворе.
Он
распустил галстук, подставил лицо редким летающим снежинкам и стал жадно дышать, глотая воздух, как ключевую воду. Ему понравился живописный дворик, заваленный сугробами в человеческий рост, древняя церквушка, а ажурные остатки куполов умилили его до слез. У крыльца стояла прислоненная фанерная лопата, и, прежде чем уйти навсегда, Павел решил поработать и прочистить дорожку. Но руки и ноги совершенно не слушались его. Безрезультатно проскреб ямки там и сям, отказался от затеи и положил лопату на лестницу.
Ему стало грустно, невыразимо грустно. Он вспомнил девиц внизу, и его буквально передернуло. Ему хотелось бы поговорить с кем-нибудь умным, добрым и понимающим, поговорить так просто «за жизнь», без истерики, злобы и цинизма. С Женей Павловой, например, о которой этот сукин сын Белоцерковский говорил пакости.
Он приметил, что под стеной есть, кажется, скамейка с чем-то торчащим. Он ухватился за это торчащее и сдернул ржавый лист железа с шапкой снега. Под листом оказалась сухая скамейка. Он обрадовался, сел.
Стал лепить снежки и бросать в дерево. К удивлению, снежки попадали в дерево поразительно точно. Он даже удивился: откуда точность, если он так пьян, что голова болтается, как мячик? Он закрыл глаза, продолжая лепить и бросать, и странно: даже с закрытыми глазами он видел, как снежки попадают точно, так и лепятся в центр черного ствола. Уж это чудо он осмыслить никак не смог.
— Эй! Ты! Замерзнуть решил?
Белоцерковский стоял над ним, тормоша.
— Ты неправ, Димка, — сказал Павел, очнувшись. — С такими воззрениями страшно жить, вообще непонятно, зачем жить. Но зачем же до такого цинизма докатываться? Чтоб кончить самоубийством? Какой позор, как это человека недостойно!.. Димка, Димка!

Краем сознания он отметил, что вокруг совсем стемнело и светит фонарь. Значит, он просидел на скамье долго, но сколько, понятия не имел.
— Я не заметил, как ты смылся, — говорил Белоцерковский.
— Димка, брат, но в человеке должно же хоть что-нибудь гореть! — сказал Павел. — Солнце. Костер. Свечка, наконец, черт возьми!
— Ладно, ладно, твоими устами да мед пить, — добродушно говорил Белоцерковский, подталкивая его в дом. — Пошли одеваться. По-дурацки как-то напились. Во-первых, я не Димка…
Тут Павел потрясенно посмотрел на него. Действительно, это ведь не Димка. Того Димки нет, он умер. Есть Виктор Белоцерковский. Как это он спутал? Ну и напился! И возник вопрос: почему спутал? Они же ведь совсем непохожи… Или похожи? Погоди, как же это получается: та схема, таблица, составленная в трамвае, она предсказывала Белоцерковскому нечто совершенно великолепное, блестящий новатор, труды переводятся за рубежом… И вот этот жалкий, цинизм, неверие ни во что… Да, ведь этим, именно этим мертвый Димка и живой Виктор сходятся.
— С кем ты меня спутал?
— Да, это я сейчас не с тобой говорил, — сказал Павел. — Видишь ли, был один случай, в высшей степени непонятный случай. Теперь вот я смотрю на тебя и, пожалуй, начинаю что-то понимать. В огне все дело, понимаешь, в огне, и, глядя на тебя, я и тот странный случай понимаю.
— Чрезвычайно рад быть тебе полезным! — радостно сказал Белоцерковский. — Тихо, тихо, о корыто не споткнись.
При виде заваленного объедками стола Павла затошнило. Он плохо помнил, как оделись. Потом вышли, размещались в машине, а она не заводилась. Суета, было много суеты, хозяин толкал, девицы толкали, Павел толкал и упал в снег. Полежал с удовольствием. Следующий проблеск: ярко светя фарами, машина летит с бешеной скоростью по улице, и Белоцерковский, хохоча, говорит: «А вот с ветерком!»
— Витя, тебя сейчас остановят! — визжали девушки, хватаясь за него.
— Хотите на пари? У меня, брат, опыт! — смеялся Белоцерковский, нажимая на акселератор.
«Сейчас врежемся», — без страха подумал Павел, наблюдая, как столбы с фонарями бешено проносятся слева и справа. Он уселся плотнее, стараясь угадать, в какой столб они врежутся, но вдруг улицы кончились, и перед фарами не оказалось ничего, кроме черного неба и белого поля.
Белоцерковский один отвел девушек до двери баракоподобного дома. Павел подождал в кабине, вздремнул.
— Дамы остались тобой недовольны, — сказал Белоцерковский, усаживаясь за руль. — Надо же, как тебя разобрало, эх, не надо было водку с коньяком мешать.
— В гостиницу, пожалуйста, — сказал Павел, путая машину Белоцерковского с такси.
— Нет. Едем ко мне домой, в центр.
— Я не хочу. Довези меня до гостиницы.
— Нельзя, Паша, свинья ты будешь в таком случае. Я не развлекаться тебя везу, а для дела, как мужчину: для алиби перед женой. Понял? Мы были на вокзале в ресторане, пили «Плиску». Повтори!
— Пошел к черту.
— Ладно, я буду говорить, ты только кивай. Понимаешь, мне совсем не нужно, чтоб жена что-нибудь знала. Она мне пока верит… преданная такая, чудная жена.
Пока ехали к центру города, Павел немного поспал и опомнился.
Белоцерковский запер машину в гараже, и на этот раз поднялись по лестнице все-таки вверх.
Жена оказалась совершенно не такой, как ее представлял Павел. Это было существо тощенькое, хрупкое, казавшееся очень молоденьким. Кожица на лице и ручках ее была белой до синевы и, казалось, едва-едва обтягивала косточки. Довольно кривоватые ножки, тонкие, как спичечки, были в туфлях на очень высоких каблуках, она словно на цыпочках стояла, а когда шла, качалась; казалось: вот-вот ножки подломятся… Зато прическа была великолепна, волосы крашены отменно, а изящные очки в золотой полуоправе придавали личику весьма интеллигентный, утонченный вид.
— Явился, пропойца, ал-ко-го-лик, — четко выговаривая каждый слог, презрительно сказала она скрипучим, неожиданно властным голоском; знакомясь, она назвала имя, какое-то странное, нелюдское имя, которое Павел сразу же забыл.
— Вот это и есть Павлуша, я тебе ведь рассказывал, дорогая, золотая моя, — с трудом ворочая языком, приторно объяснялся Белоцерковский. — Понимаешь, столько лет… По городу, искали, искали коньяк, на вокзале нашли, болгарская «Плиска»… Извини, дорогая… извини… Я тебя люблю. Вот какая у меня женушка, Паша… Я ему говорю: поедем, непременно должен познакомиться!
— Са-пож-ни-ки. Свинь-и, — ледяным тоном, отнюдь не тая, сказало скрипучим голосом хрупкое существо. — Дать лимон?
— О, сделай, миленькая, ради бога сделай! О, как я тебя, дорогая, люблю!..
Она злобно оттолкнула его руки и ушла на кухню. Отпихиваясь от вешалки и стен, Павел ринулся за ней:
— Зоя!.. Таня!
— Луэллой ее звать, — подсказал Белоцерковский. — Луллочка!
— Где у вас кран?
Супруги впихнули Павла в ванную. Он наклонился над раковиной, Белоцерковский держал его обеими руками под желудок, приговаривая успокоительно:
— Страви, тебе легче будет.
Павлу действительно стало легче, он, содрогаясь, подумал: какая мерзость, явился к людям, вусмерть пьяный, с порога в ванную…
— …А ванную мы кафелем недавно сами обложили, — рассказывал Белоцерковский, как ни в чем не бывало. — Иди сюда. Вот книги отца, старина, золотой обрез, корешки. Собственно, мебель вся тоже его, только мелочишку подкупили. Он перед смертью сделал обмен квартир, все заботился, где нам с Луллочкой жить…
Квартира была просторная, добротная, состояла из многих комнат с высокими лепными потолками. Окна выходили на главную улицу, за ними мигали и вертелись огни реклам. Все вещи были старые, добротные, еще начала века: огромные, под потолок, книжные застекленные шкафы, беккеровский рояль, кресла, диваны, пуфы.
— Просторно живете, как боги, — одобрил Павел.
— Дом старый, еще дореволюционный, потолки три девяносто. Я не могу пожаловаться, для двоих — вот так. За излишки, однако, платим,
— Вы только вдвоем?
— Да! Небось, в Москве такого чуда не видал?
— А почему детей нет?
— О, на черта они? Себе хомут на шею.
— Нет, это невероятно! — воскликнул Павел. — Прости, но рассуждаешь ты, как скот.
— Не стесняйся и не извиняйся, я ведь жду этого, сам набиваюсь, — весело сказал Белоцерковский.
— Циник!
— Ага, на том стою.
Вошла Луэлла, неся два стакана с чем-то мутным, с не растворившимся на дне сахаром. Это был выдавленный лимон, разбавленный водой. Павел с наслаждением выпил, глотал и с каждым глотком трезвел, трезвел…
— Ну, я пойду, — сказал Павел.
— Постой, оставайся ночевать, места полно. Чего ты там, в гостинице, не видел?
— Я хочу побыть один, — признался Павел.
— Не нравится у меня?
— Квартира у тебя прекрасная, все нравится, но у меня потребность… подумать, кое-что записать, — придумал Павел.
— Запиши впечатления от меня, — с холодком сказал Белоцерковский. — Опубликуй. В негативном, конечно, плане, хотя можно и в позитивном, смотря какими фразами писать. Позитивный скорее пройдет, получишь быстро гонорар, вместе пропьем, а? Что-нибудь такое: «Строитель коммунизма Виктор Белоцерковский».
— Не юродствуй, хватит! — зло сказал Павел и бросился вон.
Осмотревшись и сообразив, куда идти, он побрел пешком — долго, медленно, чтобы успокоиться, выветрить спиртные пары.
Ввалился к себе в номер, бросил пальто и шапку на кровать, присел к столу и обхватил голову руками. Сколько ни вслушивался в себя, не мог обнаружить там ничего приятного: одна гнусь, словно вывалялся в невесть какой подлой помойной яме…
Подтянув стул, он сел, положил локти на подоконник. Задумавшись, посмотрел в окно на белые пустынные равнины.
Глава 7
Он проснулся среди ночи, обнаружив, что спит одетый. Ему показалось, что спал он долго, очень долго, что уже не та ночь, а следующая.
Часы на руке стояли. Это пустячное обстоятельство вызвало в Павле целую панику: раз часы остановились, значит, догадка верна, и он мог проспать до следующей ночи. Он включил свет и минут пять старательно, тупо, автоматически брился электробритвой, только потом спохватился, что по щетине мог бы определить, какие идут сутки, но не мог вспомнить, что именно он сбрил.
«Худо, — подумал он, поспешно умываясь, полный горечи и презрения к себе. — Какая гадость, пошлость, стыд… Напиваться, приводить себя в дикое состояние? Да неужто в жизни нет подлинных радостей?! Зачем мы пытаемся вызывать ложные подобия их какими-то допингами, снадобьями, как те дикари, жующие ядовитый корешок, чтоб озвереть? Да, напиваясь ради веселья, или для разрядки, или с горя, или от серости бытия, мы всего-навсего расписываемся в своем неумении жить подлинно. Расписываемся в своей бездарности!»
И так это у него хорошо получалось, это самобичевание, он даже начал успокаиваться и чуть было не дал себе знаменитую клятву: «В жизни больше пить не буду». Но вовремя спохватился и взялся за телефон.
Раз десять набирал номер, пока ответило Косолучье, потом минуты три не отвечала домна. Трубку взял глуховатый, по-видимому, дед, к тому же весьма некомпетентный.
— Работают, как же, — сказал он. — Все там.
— Да где там?
— Мое почтение! Где! В печи, ясно.
— В самой печи?
— Дровишки кладут.
— Зачем?
— Мое почтение! Зачем! Так печь разжигать.
Павел схватился за пальто.
С ума сойти! Доменную печь дровишками растапливать, как какой-нибудь самовар?.. Не спросил у деда: и лучины, что ли, колют?
Рассовав по карманам папиросы, блокнот, авторучки, не раздумывая, Павел выскочил из номера, пуговицы застегнул на ходу. Дежурная крепко спала на стульях, не стал будить, оставил ключ на столе. Швейцар внизу охотно вскочил, бросился открывать дверь, но она никак не поддавалась и открылась, лишь когда в руку швейцара перекочевали двадцать копеек.
— Что ж, недавно пришли да опять гулять, не отдохнули? — сказал швейцар, приподнимая картуз.
Павел махнул рукой, почувствовал радостное облегчение: ага, мол, это все-таки та же самая ночь, и как бы там ни было, он не опоздал, а домна еще не задута…
Площадь была абсолютно пуста.
По расчищенному обледенелому асфальту ветер гонял струйками колючую пыль. Не светилось ни единое окно в домах, отчего все они казались холодными, словно еще пусты, только что выстроены, подготовлены к сдаче, но не заселены. Даже автовокзал не сиял огнями, лишь над входом его тускло светила единственная лампочка.
А над всем этим был черный ледяной космос, в котором ледяным же, негреющим светильником висела полная луна с идеально круглым туманным кольцом ореола. Мороз стоял крепкий, прямо звонкий.
Павел поднял воротник, засунул руки поглубже в карманы, поплелся к стоянке такси.
На стоянке такси чернела одна-единственная машина с тусклым, но несомненно зеленым огоньком.
Мелко дрожа от холода, Павел постучал с одной стороны, постучал с другой: шофер, законопатившись, как рак-отшельник, долго не хотел просыпаться.
— В Косолучье не поеду, — покрутил он головой за стеклом и вознамерился опять уснуть, но Павел не дал ему этого сделать:
— И сверх счетчика накинем.
— Нет, — сказал, подумав, шофер. — Туда заедешь, обратно холостой.
Поняв, что его взяла за горло опытная рука и противиться бесполезно, Павел добавил уже невесело:
— Оплачу обратный проезд.
Тогда дверца распахнулась. Из нее вылетели клубы пара, и приятно было спастись от космоса хотя бы в эту теплую, уютную коробочку. Спросонья шофер погнал по улицам чересчур быстро, рискованно, но улицы-то были совершенно пусты, и автоматические светофоры напрасно мигали: такси лихо проскакивало и желтый и красный свет, шофер-ас не считал нужным сбавить скорость хотя бы для приличия.
Одним махом оставили позади город, вырвались в поле, на пустынное и темное, обледенелое шоссе. Ветер гудел в стеклах.
Горизонт прорисовался над снежной равниной сизо-розовой полосой. Засветилось небо. Полоса в считанные секунды разрослась в огромное малиновое зарево. Оно полыхало, играло театрально-неправдоподобно. На дальних облаках вспыхивали то кровавые, то желтые отблески, будто кто-то освещал их цветным фонарем. И снежная равнина стала красной.
По самой линеечке горизонта черными силуэтами виднелись корявые конструкции. Завод словно взорвался, словно горел.
— Плавку дают, — сказал шофер напрасно, потому что это и так было ясно. — Красиво плавят… У меня двоюродный на мартене, я ходил, смотрел, ну, знаешь, не то, что баранку вертеть; черти, ну, черти!
Потянулись окраины Косолучья, темные, широко разбросанные домишки, хотя до завода еще было порядком.
— Мне к управлению, — сказал Павел.
Завод вырос и выпрямился перед машиной во весь свой рост. Фантастические, провально-черные в ночи купола, трубы, эстакады, кое-где обтыканные точечками лампочек, исходящие паром и дымом. В воздухе над всем заводом светился плотный дымно-пыльный колпак.
А когда Павел вышел из машины, расплатившись, у него даже в ушах засверлило: такая была острая в ночной тишине какофония свистов, шипения, звонов, ударов…
Он постоял несколько секунд, посмотрел, даже передохнул. «Ох, чудище, ну, чудище!.. Много в мире настроил бородатый бог Жана Эффеля, много ему пакостил черт, но даже они такого придумать не смогли».
Глава 8
Совершенно другой была печь в эту ночь. У ее подножия протянули целую иллюминацию из дополнительных лампочек, но и они, впрочем, с трудом вырывали из тьмы черные циклопические конструкции. Десятки людей возились на площадке, перекликались, волокли шпалы, бревна, которых тут уже была навалена гора: и разные старые балки и просто неошкуренные древесные стволы. Еловая, березовая, сосновая кора хрустела под ногами. Дровишки…
В брюхе домны ярко светились два отверстия, в которые поминутно кто-нибудь пролезал или заглядывал. Это были размонтированы две фурмы, круглые металлические люки которых стояли тут же, прислоненные к стене.
Обер-мастер Федор Иванов ругался насчет каких-то лопат, о которых — мудрецы, артисты! — никто не позаботился.
— Ну, что? — Павел подошел к нему.
— Приступили! — с яростно-восторженным блеском в глазах сказал Иванов. — Теперь господи помоги, выноси, сивка-бурка!
— Задувать?
— Погоди, сперва полок соорудить. Оказывается, это, видите ли, мы. Мы — задерживаем! Тьфу!
— То есть как?
— А вот так. Селезнев примчался: вы такие-сякие, из-за вас все стоит, все вас ждут! Накричал, поднял, бросил клич. Что же, двинем, за полком дело не стало.
— А где Селезнев? — спросил Павел, оглядываясь.
— Где? Клич бросил, пошел спать!
Павел заглянул в отверстие. На уровне его внутри печи на протянутом проводе горела огромная ослепительная лампа. Такое впечатление, будто заглядываешь в цирк сквозь дыру где-то под куполом. Лампа освещала копошащиеся глубоко внизу фигурки людей с метлами и совками, они подметали пол, подняв несусветную пыль, которая клубами достигала до самой лампы. И поскольку пол, или, вернее, под, печи был абсолютно круглый, он действительно очень походил на цирковую арену, которую готовят к представлению.
Рядом с Павлом протиснулся пожилой замухрышистый дяденька в коробящемся брезентовом костюме с широким поясом, похоже, пожарник. С любопытством поглядел вниз, почесал затылок:
— Ох, здорова-а… тетушка Домна Ивановна!
Тут они оба вздрогнули и попятились. В отверстии прямо перед их носом выросла улыбающаяся потная рожа в ушанке. Крепко хватаясь руками, парень, пыхтя, полез сквозь фурму, спрыгнул, отряхнулся:
— Ну, Федор, лестницу арапы сколотили: в рай по такой лезть, упадешь, костей не соберешь. Принесли лопаты?
— Интересно, — задумчиво спросил пожарник, не обращаясь ни к кому конкретно, — а печь когда-нибудь чистят?
— Вот те раз! — весело-деловито сказал парень. — Пожарник, а такие вещи спрашиваешь. А как же! Каждую зиму. Видал, как бабы в деревне на рождество чистят? И тут точно так.
— Ну! — недоверчиво сказал пожарник. — Это ж надо становить…
— Ну? И становят, студят, и горновые метелками ее, вениками — только сажа столбом!
— Ох, мастера заливать!.. — пробормотал пожарник, отходя и неодобрительно крутя головой.
— Николай Зотов! Хватит травить! — прикрикнул Иванов. — Жми сам за лопатами, быстро!
Моментально у Павла всплыла в памяти надпись насчет жены, которую Зотов водит в рестораны, а она гуляет с Ризо. Он ужаснулся, что не стер ее тогда же, немедленно, хотя стереть, пожалуй, было бы мудрено: химический карандаш глубоко въелся в краску, разве со всей краской содрать…
— Кто он, Зотов? — спросил он у Федора, который напряженно размышлял над какой-то мятой замусоленной бумажкой.
— Зотов? — рассеянно сказал Федор, делая огрызком карандаша подсчеты. — Зотов — он старший горновой… мой лучший горновой… золото-человек… А, черт, мало!..
На бумажке у него был чертежик чего-то похожего на крынку с макаронами.
— Слушай, — сказал Федор, — смотри на эту схему и слушай, я тебе объясню один раз, и чтоб ты больше ко мне не приставал. Я занят, у меня голова задурена, понял?
— Понял.
— Ухватывай с одного раза и ни у кого больше не спрашивай, а то эти артисты тебе такого наплетут, они мастера!.. Домну, кстати, не чистят. Никогда. Разожгли — и на всю ее жизнь.
— Ну, это-то я знаю…
— Сейчас идет уборка. Вениками. Дальше под нужно засыпать чугунной стружкой. Лопатами. Дальше выстроить полок. Топорами.
— Механизация!
— А ты что думал? Смотри чертеж. Как начнется загрузка, сверху полетит черт те что целыми вагонами — разнесет и покалечит и лещадь, и летку, и фурмы, словом, горн. Создаем защиты, буфер, вот из этого леса: шпалы, шпалы, стояки, помост, снова стояки — это есть полок. Он примет на себя удар, заодно он же — дрова на растопку. Растопка обыкновенно… Печка как печка, только большая.
Тем временем Николай Зотов принес охапку лопат и, покрикивая «берегись!», стал швырять их в дыру. Был он высокий, стройный, с иронично-улыбчивым, добродушным лицом. Есть такие лица, которые кажутся улыбающимися, даже когда они очень серьезны.
— Спасибо, — сказал Павел. — Последняя просьба: возьми меня в свою смену покидать лопатой, согреться.
Федор удивленно, иронически осмотрел его с ног до головы, как бы раздумывая: что за баловство и стоит ли потакать?
— Бледный ты какой-то, как с перепоя.
— Замерз, — соврал Павел.
— Ладно, полезай, — неохотно согласился Федор, смягчил шуткой: — Первая настоящая помощь от корреспондента. Постой, Пашка, псих, постой, надень вот это!
Он достал из какого-то железного сундука тужурку — сплошной пух лохмотьев, забрал пальто Павла, положил в сундук. Павел облачился.
— Ха-рош! — с удовлетворением сказал Федор, осмотрев его. — Полезай, только держись крепко, шею не сверни! Отвечай потом за вас!
И сразу же отвернулся, побежал с криком:
— Тише, вы, артисты, базар развели, не туда, к шлаковой давай неси!
Хватаясь за каждую перекладину до побеления пальцев, Павел спустился по длинной шаткой лестнице на арену.
В глаза ему ударил едкий дым, сразу вызвавший слезы, и, прогоняя их, щурясь, он не разглядел и сослепу спрыгнул прямо в кучу чего-то дымящегося, черного и горячего, как куча асфальта, и набрал этого добра сразу полные ботинки.
— А вот подмога, — сказал пожилой конопатый рабочий, протягивая Павлу лопату. — Как там на улице, мороз?
— Мороз.
— И что за погода, как зарядило с самого Нового года по старому… Холодная зима.
— Обещают еще похолодание.
— И не говорите! Сады померзнут…
— Должен бы снег пойти.
— Если пойдет, — хорошо.
Так беседуя, они разбрасывали подальше эти кучи дымящейся стружки, и вокруг в дыму сгибались, разгибались фигуры, крякая, вытирая пот, пошучивали:
— Этак и прямо к чертям в ад, в отдел кадров.
— Зарабатывай, зарабатывай стаж!
— Ну, неси, чего там стал? Дома слезы тереть будешь.
— Щиплеть…
— Ну, брат, тебя только за смертью посылать. Щиплеть мужик бабу, понял?.. А дым — он, дым отечества нам сладок и приятен. Чему тебя в школе учили?
— Да он на задних проспал!
Тяжелая она была, эта стружка, и от каждого прикосновения лопаты дымилась, воняя асфальтом. Павлу стало тепло, потом жарко, потом он стал задыхаться. Лоб покрылся бисером пота, голова кружилась, а в дыму, как в душегубке, продышаться совсем невозможно. «Согрелся, дурак, пьяница, перепойщик, — костил себя Павел весьма старательно и искренне. — Вот упаду сейчас, будет для всех представление».
— Фу-х, сил нет, — сказал пожилой рабочий через некоторое время. — Пойти, что ли, к летке продышаться?
И очень кстати он это сказал. Они пошли искать по стенам летку, но она сама дала о себе знать свежим сквозняком, несло в нее, точно как из вентилятора. Наслаждаясь, поглотали воздуха, присели на кирпичный выступ, который шел под стеной, как завалинка у избы.
Крайний кирпич под Павлом свалился. Он пошатал соседний кирпич, песочно-розовый, огнеупорный, — и тот легко вынулся и упал.
— Это что, вся домна так уложена? — испугался — Павел.
— Да нет… — усмехнулся рабочий. — Эта кладка вроде буфера, «на убой», все равно сразу выгорит… Да, скоро тут не посидишь. Знаете, реконструировали мы первую печь, разобрали всю до основания, а к лещади не подступись. Месяц ждали, чтоб остыла, наконец начали ковырять, а она, чуть ломом проковырни — красная, как уголь. Не хочет остывать! Так пришлось ее, раскаленную, взрывать, не ждать же целый год.
Раскидывали долго, ровняли, топтались, и дым перестал валить, а уже шел только легкий парок струйками. Круглая арена стала бархатно-черной, а вокруг — песочно-розовые стены, без начала и конца, по кругу, от чего теряется чувство расстояния и кружится голова.
Фантастическая розовая замкнутость эта уходила вверх, в невероятную высоту, в тьму, и поскольку запирающий ее конус даже и не угадывался, все это походило не то на внутренность какой-то чудовищной вавилонской гробницы, не то на иллюстрацию к фантастическим повестям, где герои блуждают в изогнутом пространстве…
— Эй, ты, комик, скажи Воробьеву, пусть шлаковые приборы ставит на место! — над самым ухом Павла закричал Николай Зотов, и всякая фантастика пропала: был просто горн, в котором шла подготовка к задувке, вот уж и шлаковые отверстия закрываются, скоро, скоро уже огонь…
«Берегись!» — орали сверху, просовывая в фурмы шпалы; они покачивались лениво, потом с гулом, как снаряды, летели вниз, шлепались, толстые, как поросята, взбивая фонтаны черной стружки, сразу исковеркали ровную арену — старые шпалы, грязные и уродливые, с болтающимися железяками.
Люди жались под стенами, а сверху все валилось это деревянное нашествие: балки, поленья, доски.
— Во дают! — сказал Зотов. — Они там обрадуются, со двора все понесут.
— Эй, головорезы, тише, убьете, я ж один сын у мамы!
— Калории поберегите!
— А мы сегодня в столовую ходили, — отвечали сверху, из дыры. — Давай, давай, я — во, подмогни немного!..
Вылезло громаднейшее бревно, кувыркаясь, сверзлось, ляпнуло прямо на доску, доска — в мелкие щепки.
— Что вы, куда глядите? Чуть доску не сломали!
Все хохотали, и Павел тоже смеялся, ему стало хорошо, прямо прекрасно, внутри такая бодрость, взволнованность. «Вот, наконец, началось настоящее», — с замирающим сердцем подумал он. Но теперь у него зубы тряслись от холода: из летки чертовски несло, чисто аэродинамическая труба, а в дыры телогрейки ветер свистал, и рубаха на теле Павла, давно став мокрой, теперь превратилась в ледяную. Он обрадовался, когда кончили валить, принялся вместе со всеми растаскивать, укладывать шпалы рядами. Тяжеленными они ему показались, прямо чугунными, и рубаха постепенно согрелась от нового пота.
Думал он плохо, словно сквозь какую-то сетку, сердце часто отрывалось, и тело пронизывала дурная слабость, руки плохо слушались, ноги спотыкались, и от этого он все больше казнил себя за давешнюю пьянку. Вокруг ребята работали весело, азартно. Поднялся канонадой перестук топоров: загоняли обухами скобы, скрепляя шпалы. Каждый удар многократно отдавался под куполом, как в соборе: тах-тах-тах-х-х!..
Великолепная работа: приставил скобу, тюк — наживил одно острие, тюк — наживил другое, гах! — вогнал одно, гах! — другое. Сидит. Следующую.
— Как оно, греемся? — добродушно спросил пожилой рабочий, загоняя — рядом такие же скобы. — Погляжу, сноровка у вас есть. Видать, приходилось?
— Приходилось…
— Нынешняя молодежь оторвалась совсем, гвоздя не забьют.
— Ну, теперь в школах учат.
— Учат-то учат, а придет на завод — всему от начала учи…
— Так всегда было.
— Не говорите! Я в восемь лет с батькой пахал-косил, а моей дочке лопату дай, она не знает, с какого конца ее взять. Невеста, в институте учится!
— Ну, вы сами виноваты.
— Признаю. Но больше — мать. Как же, в люди выбились! Как это дочке начальника цеха, видите ли, черной работой заниматься!..
— Извините… вы…
— Виноват, не представился. Начальник я доменного цеха, Хромпик Илья Ильич… Оч-риятно…
Павел вытаращил глаза: не разыгрывают ли его? Но Хромпик продолжал как ни в чем не бывало жаловаться:
— Из-за этой домны, поверите, сна нет: такой еще не бывало, опыта перенять не у кого, конечно, в Криворожье ездили, то да се, и все равно волнуемся. Конечно, все будет хорошо, и чугун будет, и режим подработаем, все со временем сделаем, но попотеть придется и понервничать придется. Вот я бы на вашем месте это главным образом описал. А то во многих книгах — ах, ах, ура, будто оно само сделалось, нам ништо, море по колено. Извините, может, не в свое дело лезу, со своим доменным рылом в калашный ряд…
— Я с вами согласен, — сказал Павел, продолжая удивляться и тому, что «рабочий», оказывается, действительно начальник доменного цеха, и этому неожиданному разговору о литературе внутри горна доменной печи.
Поговорить дольше не удалось, потому что принялись ставить вертикальные бревна-стойки по всей арене, накрест скрепляли их, а наверху, качаясь, как воробей, Николай Зотов уже приколачивал первые балки помоста.
Павел кидался со всеми подпирать плечом, загонял скобы, пилил двуручной пилой хвосты. Сыпались золотые опилки. Голоса, хохот, удары, звон пил, эхо до лязга в ушах. Запах железной дороги от угольно-черных шпал, запах лесов, запах дров… Он тоже влез наверх, сколачивал помост, досадуя лишь, что сил маловато. Азарт захватил его: уж больно ловко шла работа, уж так славно наметился будущий помост, и так ладно оно все сочленялось: бревнышко, стойка, шпала сверху плашмя, другая — рядом, две скобы в них — гах! гах! — готово, теперь на них переберемся, верхом…
— Эй, кто там, подкиньте кто-нибудь шпалку!
— Юрочка, радость, наверни ее с того конца!
— Ага, стала! А говорила: не согласна…
— Что, Вася, подмогнуть?
— Сам с усам.
— Ну, что ты с ней мутыжишься, обжал, как бабу.
— Бабу, братцы, оно способнее.
— Да, сегодня к бабе придешь — язык на плечо.
— Справишься! Она уж те каши даст, воспрянешь.
— Ну, артист!
— Эй, вы, психи! — сквозь шум закричал кто-то сверху в дыру. — Смена кончилась, шабашьте!
— Иди, иди! Бог подаст, — заорал Николай Зотов, задрав красное мокрое лицо, и тут же потянул следующую шпалу.
Павел был с ним совершенно согласен: куда ж тут шабашить, когда только-только начал он становиться, этот великолепный полок. Спустился по лестнице Федор Иванов, посмотрел, упершись в бока, посмеялся, поплевал на руки, схватил топор…
Скверно только, что у Павла заныли руки и ноги, сами мускулы в их глубине заболели этакой противной ноющей болью. Когда выпрямлялся, коленки дрожали и тело все потело, а топор приходилось уже держать двумя руками. А вокруг смеющиеся лица, носятся себе, как звери: балку, которую двоим с трудом двинуть, он, глядишь, ухнул, поднял, поставил на попа… Павел понятия не имел, который час. Смена кончилась, а когда она кончается? Ночь ли, день ли? Лампа над головой, да вокруг дурманящее песочно-розовое замкнутое пространство… Федор Иванов подходил, хвалил Павла, предложил уйти отдыхать — Павел только отмахнулся, смеясь. Перепилили вместе пару балочек.
— Конечно, верно, — сказал Федор, качаясь в тумане, — физкультура — она развивает человека гармонически… Гар-мо-ни…
И исчез, как провалился. Павел тюкнул топором раз, два — и топор вырвался из рук, полетел вниз, куда-то под стойки.
Очень внимательно, не спеша, старательно выбирая место, куда поставить ногу, за что ухватиться, Павел спустился с помоста и очутился среди стоек, как в густом лесу: ну и наставили ребята, обрадовались, с толстым пузом бы который сюда попади — застрянет, точно застрянет…
Разыскивая топор, Павел нашел еще чью-то рваную рукавицу, решил наверху поспрашивать: может, кому надо? Топор лежал под отличным березовым стволом, кора такая белая, словно пудрой припорошена, белым пачкается — даже жаль, что вся эта красота сгорит.
Присев под стволом отдохнуть, Павел понял, что неодолимо хочет спать, что он сегодня почти ведь не спал. Сверху там пилили, стучали, а тут можно было бы так уютно-преуютно прилечь, свернуться клубком… Эта мысль у него еще не кончилась, а он со всего маху клюнул носом и испуганно проснулся.
Не стоило, конечно, спать. Он машинально подобрал среди щепок скомканную бумажку, разгладил — к удивлению, это оказался тот самый чертежик крынки с макаронами, над которым задумывался Федор у раскрытых фурм. Только теперь этот чертежик, видимо, он выбросил. Конечно, это была часть домны — горн с полком, но, органически не вынося безлюдья, Павел достал ручку и дорисовал человечков, после чего получился следующий симпатичный вид.

Он лег на бок на кору и стружки, среди приятно пахнущих стволов берез и елей, надвинул шапку на самые глаза, и стало ему тепло-тепло, уютно, как в детстве. Звуки сверху он слышал, как сквозь туман, и они были прекрасной, убаюкивающей музыкой. Он провалился в сон, один из лучших, вкуснейших снов своей жизни.
Наверху вскоре кончили без него (неловко, конечно, но уж так хочется поспать!), собрали инструменты, кто-то искал рукавицу (Павел думал: сейчас досплю, отдам ему), Федор Иванов кричал:
— Никто не остался?
Павел прекрасно слышал, но затаился, не хотел отзываться, хитро посмеиваясь во сне. Постепенно звуки затихли, похоже, убрали лестницу, звякали крышкой и ключами, завинчивая фурму.
Павел все спал, переполненный тишиной и миром. Но по помосту зашуршало, защелкали какие-то камешки, и вдруг ужасающий грохот раздался, стойки затрещали, на Павла посыпались камни, уголь. Он ошалело вскочил и только тут по-настоящему понял все: что он проспал, что его забыли в домне и никто не хватился, что началась загрузка.
Вокруг была кромешная тьма. Натыкаясь на стойки, продираясь сквозь них (опять ужасающий грохот, опять посыпалось!), он кинулся искать на ощупь стены и летку, чтобы хоть закричать в нее, может, кто-нибудь услышит. Наконец, он уперся в стену, продирался вдоль нее, щупал, щупал и нашел место с вывалившимися кирпичами, он узнал его, ужас сделал его каким-то прозорливым, но не было свежего тока воздуха. Он наткнулся на холодный, застывший раствор, выпучившийся из летки: ее запечатали…
И тогда он понял, что безнадежно замурован. Загрузят домну, зажгут, и он будет метаться в полке, пока не сгорит, превратится в металл, вернее, в примесь к нему, пойдет в комбайны, и мясорубки, и ракеты… Почетнейшая гибель! Раствориться в комбайнах!..
Он сделал отчаянное усилие — и закричал. Закричал жутким, сдавленным, неестественным голосом, от которого и проснулся весь в холодном поту, и он еще несколько секунд ошалело лежал, уставясь на березовый ствол и туго, с трудом вспоминая, где он. В ушах лопнули пузыри, и он услышал, как наверху стучат, пилят, хохочут.
Он торопливо полез наверх, выбрался: ого, до окончания полка еще порядком и порядком!.. И его окутало с ног до головы жаркое счастье.
Это было что-то необычное: один дух, один ритм, понимание без слов, азарт. Помост словно сам собой получался ровный, гладкий, ну, прямо хоть на велосипеде езди, хотя в этом не было решительно никакой надобности: ведь сгорит же, не все ли равно какой. Так нет же, видит Николай, что ошметок торчит, приладился, повис, пилкой чик-чик, аккуратно срезал ошметок, полюбовался: красиво.
У Федора Иванова лицо совсем осунулось, глаза красные, шапку не то потерял, не то где оставил, волосы буйным колтуном, мокрые сосульки прилипли ко лбу. Отбросил кувалду, выпрямился, посмотрел, прищурясь, и вдруг расцвел, хлопнул руками себя по бокам:
— Ах, ребятки мои!.. Молодцы вы мои! Да я вам… да я же вам…
— По сто грамм к обеду поставлю, — подсказал Николай Зотов, скаля зубы.
— Да черт вас знает, что вам уж и сделать, дьяволы. Ах!
Федор сконфуженно махнул рукой, вытер платком лицо, отошел в сторонку, присел на бревно, тяжело дыша.
— Уж ты-то чего надрываешься? — спросил он Павла. — Я тебе наряд не закрою. Твое дело — писать. Вот будешь писать, отметь: мол, работают отлично, стараются, не считаются с временем, если надо…
— Здесь был… не вижу его, — сказал Павел, — Хромпик Илья Ильич, пожилой. Он что, вправду начальник цеха?
— Привет! Мой начальник.
— Он говорил, что задувка эта сложная, неизвестная.
— Это так.
— А что может случиться?
— Да… все может случиться. Думаю, не случится.
— Когда теперь зажигать?
— Скоро.
— Точнее.
— Вот-вот. Уже дымом пахнет.
— Ну, в котором часу? Сегодня? Или… завтра?
— Эй, эй, мудрецы, не надо, не надо! — закричал Федор, срываясь с места. — Эту балку напоследок, замком, вам сказал!
Наведя порядок, он вернулся, устало плюхнулся на бревно, внимательно посмотрел на Павла.
— Слушай, Пашка, чем лезть ко мне с вопросами, пошел бы ты отдохнул. На тебе лица нет. Иди в будку мастеров, поспи.
— Сейчас пойду, только скажи мне такую вещь. Могло бы случиться так, что кто-нибудь внизу заснул, а все ушли, закрыли, забыли о нем, и он бы тут сгорел?
— И правда ты уже одурел… — испуганно сказал Федор. — Да перед тем, как закрыть, я тут каждый сантиметр обнюхаю и общупаю.
— Зачем?
— Как зачем? Закрывается навсегда, так уж напоследок все проверишь. Потом, может, где инструмент забыли. Чего ж ему сгорать?
— А, ну ладно, тогда пойду… Красивый помост, жаль, что сгорит.
— Самому жаль…
Осилив лестницу и пролезая на четвереньках сквозь фурму, Павел едва не столкнулся лбом с чьей-то головой.
— А! — сказал парторг Иващенко. — Это вы? А я думаю: что за новый доменщик появился в ботиночках?
— Так. Погрелся.
— Измазались вы, стойте, почищу… Это что, в столице всех так гоняют? Читаешь все: «Корреспондент переменил профессию».
— Матвей Кириллович, — спросил Павел, — уж вы-то точно знаете. Когда зажигание?
— Точно не точно, но уже скоро, вот-вот. как говорят доменщики, дымком пахнет.
— А точнее?
— Так вы бы у обер-мастера спросили: Иванов должен лучше меня знать.
Павел развел руками.
— Я ничего не понимаю… А Иванов молчит. Почему он молчит?
— Ага! — усмехнулся Иващенко. — Это уж он такой. Точно. Даром языком болтать не любит. Скажи он срок, а что-либо подведет — он же и опозорится.
— Но я успею поспать?
— О да, поспать вам надо: вид у вас усталый… Я хотел вам сказать… Давеча наорал. Вы спрашивали, о ком писать. Ну вот, нашли же!
Павел открыл железный сундук, развернул свое пальто, молча стал переодеваться. Иващенко подержал ему пальто.
— Ах, золотые, золотые ребята, и ничего-то мы не умеем про них сказать! Вы непременно напишите, что работают люди не по обязанности — от души, можно сказать. «Ребята, надо!» Они отвечают: «Об чем речь? Надо — значит, будет сделано». Высока сознательность, коммунистическая ответственность перед обществом. Опишите, прошу вас, это как самое главнее! Без этого бы мы ничего не сделали! Может, вы даже записали бы, чтоб не забыть?
Павел вытащил записную книжку и написал в ней: «Сознательность».
Парторгу это понравилось, он удовлетворенно закивал:
— Конечно, можно упомянуть еще и то, что коллектив, безусловно, политически зрелый. Регулярно, без всяких срывов в доменном цехе проводятся политзанятия и, отметьте, при большой активности участников. Очень большой. Иные лекторы приходят просто мокрые. Позавчера была у них очень бурная беседа о международном положении. Да, и самое главное-то: переходящее знамя доменный цех держит уже третий год!
Забавно, но когда Павел тогда разбежался побеседовать, парторг на него накричал; теперь Павел очень хотел уйти, а парторг разговорился так душевно и горячо.
— А хотите, так и быть, вам тему подарю? Отличнейшая тема, поле для размышлений! Вы подумайте: в старое время требовались десятилетия, а то целые поколения, чтобы какой-нибудь мужик из деревни или другой слой — горожане, мещане какие-нибудь превратились в индустриального пролетария. Тем более с социалистическим сознанием! А теперь этот процесс идет с колоссальной быстротой. Они проходят школу трудовых резервов, затем буквально считанные годы на заводе — и перед нами настоящий рабочий класс!
— Да, — сказал Павел, — это так.
— Вот что поразительно. И мы настолько привыкли, что не удивляемся!
Тут подошел давешний пожарник, вмешался с вопросом:
— А что оно, граждане начальники, загорится скоро?
— Скоро, скоро, — сказал Иващенко. — Скоро только блохи ловятся.
— А чего еще? Чиркай спичку да зажигай.
— Вы полагаете, — спросил парторг, улыбаясь, — что домны зажигаются спичкой?
Пожарник смутился и отошел. Павел тоже смутился: и он до сих пор не знал, как зажгут домну. Черт его знает, а в самом деле?..
— Вот так-то, — сказал Иващенко. — Я бы на вашем месте просто запутался, потонул бы в темах и проблемах, которые вертятся вокруг одной только этой домны, а она — это капля в море нашего движения. По недавней статистике в Советском Союзе каждые восемь часов вступает новый промышленный объект. Каждые восемь часов! Но я вас заговорил, а вам и поспать-то негде. Вот ключ от кабинета политпросвещения, с утра там никого нет. Только ключ потом не забудьте вернуть!
— Вот за это спасибо! — поблагодарил Павел.
Он уже был у железной двери, когда вспомнил, что сегодня ведь должно быть двадцать шестое число. Он быстро обернулся. И только присвистнул от удивления.
На домне белел плакат с совершенно отчетливыми цифрами: «Дадим металл 29 января!». Шестерка волшебным образом перевернулась вверх ногами!
Павел, всем телом содрогаясь, стал беззвучно хохотать. Смех был несколько истеричный, потому что он не мог справиться с ним до самого управления: только вспоминал эту самую шестерку, так и принимался смеяться.
В управлении он отыскал кабинет в самом конце коридора, очень тихий и просторный. Пахло газетами. Раскаленные батареи тихонько пощелкивали. Дивана, к сожалению, не было. Павел составил в ряд несколько стульев, подстелил пальто, положил под голову подшивки газет и только закрыл глаза — тут же и заснул, как в океан нырнул…
Глава 9
Павел проснулся мгновенно, словно кто его ударил. В кабинете было темно, из окон падал на стены слабый свет уличных фонарей. Он вскочил, подбежал к окну и удостоверился: действительно стемнело. Первой мыслью было: все проспал, там давно зажгли, а его никто не разбудил.
Поспешно заперев кабинет, кинулся в партком, подергал ручку, потом подергал ручку библиотеки: все закрыто. Он скатился по лестнице и стал трясти дверь комнаты, где помещался пост содействия стройке домны.
— Чего ломишься, пожар? Давно все ушли, — сердито крикнула сонная вахтерша. — Ты кто таков?
Павел сбивчиво объяснил и в доказательство предъявил ключ.
— Ключ они велели у меня оставить, — сказала вахтерша.
— А не слышали, домну не зажгли?
— Не знаю, не знаю, какую еще домну…
Павел побежал в доменный цех. Сколько ни вглядывался — огня издали не было видно, над домной ни малейших признаков дыма, это его несколько успокоило.
Он поднялся по трапам, толкнул металлическую дверь — и растерянно остановился. Цех, или, как сказали Павлу вчера, литейный двор домны, был совершенно пуст. Даже многочисленные лампы под необъятным потолком были погашены, кроме одной, из-за чего цех стал похож на мрачную колоссальную пещеру. У печи не виднелось ни души, но два открытых отверстия фурм светились, и Павел поспешил к ним, полагая, что там, внутри, кто-нибудь есть.
В домне так же ослепительно горела висящая на проводе лампа. Помост закончили, он был великолепен, но еще по всему гигантскому кругу были выставлены бревна, наклонно прислоненные к стенам, скрепленные скобами, так что внутри печи получилась как бы глубокая деревянная чаша, что-то похожее на треки мотогонок, что кочуют по ярмаркам, но не со столь вертикальными стенами.
Стояла так же лестница, головокружительно
пахло пилеными дровами. Но не было ни души, словно ударили тревогу, и все сразу сорвались и убежали, так все и оставив, не погасив свет…
Павел, наверное, еще не совсем проснулся, потому что потряс головой, чтоб убедиться, не спит ли он, бесцельно походил у подножия печи. Его одинокие шаги по мостикам и металлическим трапам четко отдавались эхом, и он почувствовал сосущее чувство покинутости, одиночества, словно бы остался один на целой земле.
Поскорее выйдя наружу, он направился к старой домне, куда его водил Селезнев. Свист и грохот двора показался ему приятной музыкой, а старая домна — доброй, ласковой печкой; она умиротворяюще гудела, пышущая теплом, с запечатанной леткой, варила свое чугунное варево. Люди из бригады были Павлу незнакомы, он спросил у них, где найти обер-мастера.
— Домой пошел, — сказали ему.
— Но придет? Скоро?
— Зачем скоро? Завтра придет.
«Вот так черт возьми», — подумал он и спросил, где живет обер-мастер. Ему рассказали. Долго объясняли, подробно, даже нарисовали в записной книжке план, который, как вскоре выяснилось, был настолько толковым, что привел Павла прямо к подъезду.
Федор Иванов жил в самой современной части Косолучья, в типовом пятиэтажном доме, квартира на верхнем этаже. Дверь долго не открывали, вероятно, потому, что не слышали звонков; за дверью был шум, возгласы, детский визг, какие-то удары. Наконец она распахнулась, на пороге появился сам Федор и радостно завопил:
— Вот это да! Так заходи ж скорее, грейся, только хаоса не пугайся!
Павел шагнул через порог и тут же чуть не полетел, споткнувшись о большой игрушечный паровоз: пол был весь усыпан игрушками. Из дверей побежали дети, много детей, как показалось Павлу, целый детский сад. Он снимал пальто, а они уже принялись дергать его за штаны, лезли в карманы, а один предпринял попытку взобраться на спину, откуда был, впрочем, тотчас Федором снят.
— Надо же, — пробормотал смущенно Павел, — не знал, я бы конфет купил…
— Не надо им конфет, обжорам, потом кашу не лопают. Брысь, дайте дяде раздеться, говорю! Брысь, головорезы!
Из ванной выглянула сгорбленная старуха с мокрой пеленкой в руках: видимо, она там стирала. Павел поздоровался.
Из кухни вышла белокурая рыхлая моложавая женщина в фартуке, видимо, жена Федора, улыбнулась приветливо. Павел поздоровался.
Зашли в комнату, тесно заставленную кроватями, стульями, между которыми в промежутках валялись те же игрушки. Перед телевизором сидел дряхлый старик, который с любопытством уставился на Павла. Павел поздоровался.
— Проходи, проходи, — бормотал Федор, подталкивая его, прокладывая дорогу среди детишек. — Господи, куда же тебя посадить? Давай сюда, вот зайца уберем…
— Сколько вас тут? — пораженно и вместе с тем смеясь сказал Павел.
— Да это соседские дети набежали! Своих-то у нас всего шесть, а соседских — не знаю, надо посчитать.
— Шесть?! Мать честная, когда ж ты успел?
— Мы люди простые, не задумываемся, — смиренно сказал Федор. — Вот так, значит, живем. Это моя жена Зинаида. Это мои книги. Это папаша. Ничего, не обращайся к нему: он глухой. Смотри, смотри себе, папаше! Это мой друг.
Старик успокоенно отвернулся к телевизору, все последующее время смотрел его чрезвычайно внимательно и в дальнейшем никакого участия не принимал, словно его и не было.
Жена вошла, сняв фартук, сразу сказала:
— Если вы очень голодный, так я вас сразу покормлю, идемте на кухню.
Павел отказался, и, поторговавшись, постановили, что кормежка будет позже, после детей.
— Тогда извините, я — к своим горшкам. Федя, не забывай папаше телевизор поправлять! Да выключи звук, господи, Вавилон, вы друг друга не расслышите!
Федор осторожно наклонил стул вместе со стариком, дотянулся, выключил звук (от чего, впрочем, тише не стало) и вернул папашу на место.
— А он… понимает? — осторожно спросил Павел.
— Он? Еще как! Немного, правда, по-своему. Особенно он оперы лихо смотрит.
— Твой папаша?
— Жены. Мой-то помер.
— Я бы не сказал, что просторно, — сказал Павел, оглядываясь.
Федор даже обиделся:
— А ты чего хотел? Отдельная двухкомнатная, да кухня, считай, три. Ничего, на квартирку не жалуемся.
— По-моему, две комнаты для такой семьи тесно.
— Видишь ли… Когда я эту квартиру получал, так нас было всего-то трое с половиной, четвертый на подходе. А потом расплодились. Стариков выписали. Конечно, не простор, зато весело!
— На расширение подай.
— Ты что-о? У нас еще хвост до самой луны на квартиры стоит. Молодожены в общежитиях живут. Только одних расселят — трах-бах, новые переженились…
— Все же ты обер-мастер.
— Вот-вот! Выпроси я квартиру больше, так это ж разговоров хватит до двадцать первого столетия: начальники себе берут, а мы стоим… Нет уж, ну его!.. Да погоди, мы сейчас соседских выгоним, станет посвободнее… А ну, встань-ка, мы тут, кажется, мешаем. Зин, вот скажи ты, в квартире ли счастье?
— Конечно, в квартире, — сказала Зина, доставая простыни и просматривая их на свет.
— Эх! — крякнул Федор, смеясь. — Я же тебя, дурочка, учил, учил: счастье в борьбе!
— Сам ты дурак, — добродушно сказала Зина.
И странно: в этот момент, а не тогда, когда впервые увидел Косолучье, увидел всех по очереди, их, ребят, нет, не тогда, а именно в этот момент Павел по-настоящему понял, сколько же это времени прошло! Он смотрел на жену Федора и думал: «Вот она у него давно уже самый близкий человек, это видно по тем легким движениям, взглядам, мимолетной иронии, которые устанавливаются между любящими, крепко связанными людьми, спаявшимися, сжившимися за множество лет… А у меня сколько всего прошло за это длинное время, с тех пор, как мы были просто пацаны, все это время каждый жил, именно жил, сооружал свою жизнь, и все так разошлись, общего остались-то крохи, пустяк: воспоминание о езде на велосипедах, о спорах, о драке… Все главное же — разное, порой катастрофически разное. Это надо бы понять: почему порой катастрофически?..»
— Я зашел ведь, — сказал Павел, — только выяснить…
— Сейчас, сейчас выясним… Где бы нам, брат, с тобой приткнуться? Зин, мамаша все стирает? В ванной у нас тише всего.
— Брось, я сейчас уйду, — сказал Павел, — только скажи мне наконец: да будет ли вообще задувка домны? То есть в ближайшее время?
— Будет, — хрипло сказал Федор, сгибаясь под тяжестью влезающего ему на закорки сына. — Когда?.. Тихо, лягушата, дайте слово сказать! Понимаешь, эстакада не готова.
— Так… А когда же она будет готова?
— Бог ее знает. Может, сегодня, может, завтра.
— Ага, все-таки не позже, чем завтра?
— Может, послезавтра…
— Великолепно работаете, — саркастически похвалил Павел.
— Так же, как и вы, писаки, — парировал Федор, тут же срываясь с места: — Эй, ты, мудрец, положь книгу на место! Положь, положь. Вот я тебе картинки дам…
Освоившись с шумом, Павел внимательнее оглядел помещение. Квартира была типовой, с пресловутыми низкими потолками, прессованными дверьми, тонкими стенками, выходом на узенький балкон, где за недостаточностью кладовки хранится разный хлам.

Обстановка была чрезвычайно ординарная: что продавалось в мебельном магазине, то, не мудрствуя лукаво, и покупалось и ставилось по соображениям не эстетики, а практики.
На стенах — литографии только с Репина: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход…».
За стеклом буфета — парадная выставка фужеров, чашек и тарелочек с позолотой, употребляющихся либо по большим праздникам, либо вовсе никогда.
На верху буфета — кипы газет, «Огоньков», вязанье с клубком и спицами, плюшевая мартышка и школьный глобус. Под потолком дешевенькая люстра о трех рожках.
Зато было тут и нечто не совсем обычное — полстены книг под самый потолок. Полки были самодельные, некрашеные, из скверно остроганных досок, рядов десять, не меньше, и так плотно набитые книгами, что прогнулись под ними. Рядом с книгами — мобилизующая цитата, каллиграфически написанная на белом картоне:
«НАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО ЕСЛИ ДО 1917 ГОДА НЕДОСТАТОК ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛ ПРИЗНАКОМ КЛАССОВОГО НЕРАВЕНСТВА, ТО В НАШЕ ВРЕМЯ ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИЗНАК ДУШЕВНОЙ ЛЕНИ, ТУПОСТИ И ЗАЗНАЙСТВА!» (Кинорежиссер Сергей Герасимов.)
— Так, собираю разные книжицы… — немного смущенно проговорил Федор, перехватив взгляд Павла. — Страсть. Сам понимаю, что глуповато, всего не соберешь, в библиотеку все равно бежишь, но не могу. Жена и та отступилась, вот только эти архаровцы таскают, сколько могут достать. Так я уж так и распределил: в самом низу — для тех, кто ползает, разная мура, терзайте! Повыше — для тех, кто переходит от обезьяны к человеку. А сюда вот достает уже народ сознательный, с ремнем знакомый, потому иногда ставит книги на место. Самое же ценное — под потолком.
— Ну-ну, оригинальная система, — заинтересовавшись, сказал Павел. — Что же у тебя под потолком?
— Металлургия, — гордо сказал Федор. — Две полки одной металлургии, капля в море, это же черт знает, сколько нового выходит, и все нужно знать, иначе пропал. Пониже — классики: Толстой, Достоевский, Пушкин, Бунин вот. Кое-кто из современных, достойнейшие.
— А недостойные?
— У пола.
— Можно взглянуть?
Присев на корточки, Павел принялся перебирать книги нижних полок — довольно пострадавшие, изодранные, разрисованные карандашами — и обнаружил знакомые имена, кое-кого из друзей и даже некоторых весьма маститых. Пожалуй, кой-кого хватил бы удар, увидь они эту, так сказать, составленную читателем Ивановым наглядную табель о рангах.
— Не ищи, не ищи, там тебя нет, — успокоил, улыбаясь, Федор. — Как по знакомству, ты у меня посередке… На, пожалуйста, распишись на своей книге, может, в классики выйдешь, буду хвастаться.
Павел с удовольствием расписался и воткнул книгу на место — между каким-то исследованием о скифах и книгой «Автомобиль „Волга“».
— Это зачем?
— А как же, в каждую лотерею покупаю билет. В последний раз рубль выиграл.
(«Так. Одно „предсказание“ оказалось верным», — подумал Павел, вспоминая свои предположения.)
— Там за телевизором вообще-то мой рабочий стол, — говорил Федор, — только туда не пролезть, надо обойти.
Они слегка подвинули папашу, внимательно смотревшего на экран (судя по всему, там шел КВН), протиснулись между столом и диван-кроватью, обошли телевизор, и тут Федор разложил откидную доску, вмонтированную в книжные полки, как стало модно делать.
Вместе с полкой вывалились кипа бумаг, чертежи и преогромнейшая растрепанная книга древнего вида толщиной в добрых два кирпича и с матерчатым переплетом, не то оборванным, не то объеденным мышами.
— Это библия, — сказал Федор.
— Что-о?
— Библия. Большая ценность, — гордо сказал Федор, не без усилия взвешивая пухлый фолиант в одной руке. — На толкучке совершенно случайно купил, тридцать рублей и неделя домашнего скандала, дорого она мне обошлась…
— Свят-свят, али в богословие ударился?
— При чем богословие? Астронавтами интересуюсь.
— Кем?
— Астронавтами, ты ведь знаешь эти гипотезы — о космических пришельцах и прочее, нержавеющий столб в Индии, японские статуэтки в скафандрах, Баальбек, все эти изображения, в том числе и поиски в библии: мол, гибель Содома и Гоморры и все такое. Ну, я на толкучке как увидел, так и схватил: самому посмотреть!
— Да, да, теперь понимаю…
— Дед продавал, такой настырный попался, продать-то продал, но битый час лекцию читал: что бог есть. «Вы, случайно, — говорит, — не баптист?» «Нет, — говорю, — я доменщик». «А это что за секта такая?» «Мы, — говорю, — огнепоклонники». «Отдавай назад библию, — говорит, — вы язычники и еретики». Едва ноги унес. А книга, скажу тебе, великолепная, столько сказок своим лягушатам почерпнул! Какие легенды, какие предания, но ведь послушай, не из пальца все абсолютно высосано — за чем-то стоит жизнь, подлинные события? А про астронавтов я даже впятеро больше нашел!
— Я читал, — сказал Павел, — но что-то не помню там никаких пришельцев…
Заглянула в комнату жена Зинаида, крикнула:
— Идите, бесприютные мои, на кухню, уже можно!
— Пошли, — обрадовался Федор, — и эту грандиозную книгу возьмем, я кое-что тебе прочту — упадешь.
Заинтригованный, Павел пошел за Федором, они едва протолкались через переднюю, где Зинаида одевала по одному и выставляла за дверь соседских детей.
— Гляди не перепутай, — мимоходом сказал Федор, — своих оставь дома. Я потом сосчитаю.
— Иди, иди, — отозвалась жена. — Своих я знаю, все в отца, чокнутые. Не путайся, а то заставлю всех укладывать.
— Представляю себе: уложить шестерых, — сказал Павел.
— Детей? Нет, их не трудно, — сказала Зинаида. — Деда трудно.
— Дед упрямый до невозможности, — подтвердил Федор. — Весь в свою дочь.
— Лучше скажи: с зятем два сапога пара.
Павел обнаружил, что он уже отличает Федоровых детей от чужих: эти действительно были в отца, с близко посаженными глазенками, смуглые, большеротые, ушастые лягушата разных калибров. Вот так Федор, значит, и размножился делением. Ух, кровь-то, ну, копии Федора! Вот кому не приходится сомневаться: не в проезжего ли молодца… А, должно быть, приятно, черт бы его взял, смотреть и видеть себя в шести зеркальцах: умрешь, а ряшки твои будут гулять по жизни. Многодетным людям, может, и умирать чуточку легче…
— Однако порубаем мы с тобой сейчас отлично, — говорил Федор, подталкивая Павла в чистенькую, уютную кухню, явно только что прибранную. На столе дымились две тарелки супа и на решеточке сковорода, полная горячей картошки с мясом.
И тут Павел вспомнил, что с прошлого вечера ничего не ел, и он почувствовал такой зверский аппетит, что все жилки в нем затряслись. Он накинулся на суп, потом на эту царскую картошку с мясом, вкуснее чего, казалось, ничего на свете выдумать невозможно. Он блаженствовал, наслаждался, стараясь изо всех сил только не слишком жадно хватать куски. Федор же, наоборот, ел рассеянно, надолго забывая нести в рот ложку, но целиком нырнул в книгу, с уважением, осторожно листая ветхие бурые страницы. Нашел закладку.
— Страница девятьсот восемьдесят третья, «Книга пророка Иезекииля», читал?
— Не помню.
— В том-то и дело, что никто эту библию от начала до конца не осиливает, а этот Иезекииль тут затерялся… Я удивляюсь исследователям: может, просто не заметили? Вот послушай:
«И было: в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса — и я видел видения…».
Понимаешь, он выдает себя за очевидца, этот парень. Может, вправду видел, может, от какого старика слышал, а врет, что сам видел, но суди сам, можно ли такое выдумать или увидеть в бреду?
«4. И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него.
5. А из средины его как-бы свет пламени из средины огня: и из средины его видно было подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был, как у человека.
6. И у каждого — четыре лица, и у каждого из них — четыре крыла.
7. А ноги их — ноги прямыя, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь (и крылья их легкия).
8. И руки человеческия были под крыльями их, на четырех сторонах их.
9. И лица у них и крылья у них — у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому: во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего».
Послушай, Паша, но давай взглянем трезво. С огнем и вихрем прилетели четыре существа, похожие на людей, но и чем-то отличающиеся от них, с крыльями, обутые во что-то металлически блестящее. В лицах было что-то непередаваемое, этот парень явно запутался, пытаясь описать, и скоро ты поймешь, почему.
«13. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня…
15. И смотрел я на животных. — и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их…
19. И когда шли животныя, шли и колеса подле них; а когда животныя поднимались от земли, тогда поднимались и колеса».
Учти, это пишется в библии, древняя, мучительная попытка описать что-то сложно техническое. Колеса, вертолетные винты? Быстрое движение с огнем и молнией — реактивные двигатели? Хорошо, теперь слушай главное, от чего у меня глаза полезли на лоб.
«22. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их».
Что это могло быть, если не прозрачный шлем скафандра? Ах, если б можно было знать, видел это он в самом деле или врет!.. Нет, ты прочти своими глазами!
Павел перечитал:
«…подобие свода, как вид изумительного кристалла…»
— Описание, совершенно не типичное для мифов и сказок. Вопрос, можно ли такое выдумать?
— Теория отражения, — сказал Павел, — говорит, что выдумать несуществующее невозможно. Наша фантазия привязана к реальности. Попробуй вообразить что-нибудь абсолютно уж несуществующее — и оно окажется скомпонованным из того, что существует. Авторы научной фантастики пытаются придумать самые невероятные формы, но в общем у них получаются какие-нибудь чудовища, составленные из крокодилов и карбюраторов, и, кажется, предел всего — мыслящий океан у кого-то, покрывающий целую планету, то есть что-то составленное из знакомых океана, мозга, пластичной амебы…
— Мудрец ты мой! — закричал Федор. — Значит, чтоб этот чудак Иезекииль смог такое вообразить, даже увидеть во сне и бреду, он должен был все эти детали видеть?.. Ты понимаешь, он так взволнованно пишет, повторяет одно и то же и так и эдак, силится выразить, прямо кричит: вот, вот, я видел, такое страшное, они летали, с колесами, крыльями, сводами над головой, и все это ужасно грохотало:
«24. И когда они шли, я слышал шум крыльев их. как-бы шум многих вод. как-бы глас Всемогущаго, сильный шум, как-бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, — опускали крылья свои».
Нет, скажи, зачем бы ему вообще это выдумывать, такую несусветицу, которой вряд ли кто и поверит? Ну, сказал бы, что явились ему ангелы с перьями или какие-нибудь там боги с рогами, ведь это же естественнее всего? Нет, он описал либо то, что сам видел, либо от кого-то слышал!
— Да… Убеждать ты умеешь, — пробормотал Павел. — Но что там было дальше?
— А!.. Дальше скверно. Этот дикарь, олух, конечно, страшно перепугался, решил, что перед ним посланцы господа, «пал на лице свое», а они что-то ему настойчиво говорили, но, вероятно, он не понимал и от ужаса слышал совсем не то. Они ему дали какие-то документы, он их сожрал.
— Что-о?!
— Слушай. Вот новая глава:
«8. Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе: не будь упрям, как этот мятежный дом: открой уста твои и съешь, что Я дам тебе.
9. И увидел я. и вот рука простерта ко мне, и вот в ней — книжный свиток».
И дальше — еще одна глава:
«3. И сказал мне: „сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе“; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед».
Федор, прочтя это, даже с досады хлопнул по книге:
— Ах, чтоб ты провалился! Они ему какие-то знания или послания пытались всучить, мол, это надо усвоить, головой понять, показывали знаками — я так полагаю. А он, дикарь проклятый, взял и сожрал!.. Ну, они убедились, что с такими каши не сваришь, полетали еще, подожгли при старте Содом и Гоморру и улетели себе, оставив память о сынах божьих, спускающихся с грохотом с неба, с нимбами вокруг голов и сиянием… Тут, брат, если начинаешь задумываться, такое в голову приходит, может, когда-нибудь за некоторыми религиозными штуками такое откроется зашифрованное… А ты вообрази себе: вот ты дикарь, и прилетают космонавты. Да тут не только их бумажки сожрешь — вообще разрыв сердца получишь! Ах, Иезекииль, ах, Иезекииль!.. А может, они ему просто шоколадку дали?
Он огорченно замолчал, наложил себе остывшей картошки, стал ее молча есть, а Павел насытился, сидел осовело, тупо смотрел на библию.
— Странное сочетание у тебя, — сказал он. — Доменная печь — и древние тексты… астронавты…
— Чего странного? Это же дико интересно!
— Ну да, но в эти дни, я думал, у тебя голова должна трещать о домне: как ее разжечь-растопить?
— А растопим! Не боги горшки обжигают. Сложность, конечно, есть. Свихнешься — суй голову в петлю. А что не сложно? Ты давеча видел полок, казалось бы, чего уж тут, тяп-ляп, сколотил, а сложно! Автомашину выиграть сложно. Детей вырастить — сложно.
— Ну, ты меня своей шестеркой удивил! Здоров, бродяга, сколько же это времени ты женат?
— Семь… нет, уже восьмой год пошел.
— Значит, в среднем по одному в год стреляете?
— А что голову морочить? Для себя, что ли, жить? А с ними дико интересно, честное слово.
Павел машинально отметил про себя это второй раз «дико интересно».
— Вчера я был у Витьки Белоцерковского, он и его Луэлла принципиально не имеют детей.
— Вот, Пашка, кого я не понимаю, так это Витьку, — вдруг очень доверительно сказал Федор. — Да его многие осуждают, считают подонком… Я не хочу говорить о нем ни плохого, ни хорошего, потому что не понимаю. Иногда он мне дико неприятен, иногда же кажется, будто ему не хватает, очень не хватает… какого-то добра?.. Нет, не берусь, не знаю.
— Это невероятно, как все мы изменились.
— Просто углубилось то, что было и раньше заложено. То были хихоньки да хахоньки, смешные расхождения, теперь они выросли.
— И ты со всеми ними перестал водиться?
— Как сказать? Пожалуй, да. Работы разные. Сам посуди. Славка Селезнев — это врожденный холостяк. Добрый малый, правда, болтун, но дело не в этом, а главное, ведь я многосемейный. Рябинин Мишка — он своим домом живет, забот полон рот, чехвостят его в хвост и гриву по работе, но ведь сам согласись: работа-то какая… И смех и грех с ним, этим Мишкой!
— Женя Павлова, звезда наша, — подсказал Павел.
— Вот ей не повезло, — нахмурился Федор. — Добрая девчонка, умница; всякий раз, как увижу ее, думаю: и что оно за чертовщина, почему так бывает? Ведь славная девчонка, а так еще годок-другой и…
— О каких девчонках речь? — спросила Зинаида, сваливаясь на кухню, как снег на голову.
— Засекла, — сказал Федор.
— Разговор чисто теоретический, — объяснил Павел.
— Мы тут тихо, прилежно святую книгу читали.
— Это в ней-то про славных девчонок писано?
— Я пойду, — сказал Павел, вставая и в горячих выражениях принялся благодарить за кормежку.
— Я только всех угомонила, — вздохнула Зинаида. — Думала послушать, что умные люди говорят…
— В другой раз, — пообещал Павел. — Боюсь, опоздаю на трамвай.
Федор посмотрел на часы.
— Да, если хочешь уехать — спеши. Но лучше ночуй у нас. Я без дураков, постель сейчас найдем, только не гарантирую сверхудобства.
— Уж извини, широкая душа, — засмеялся Павел, — вас и без меня тут, как сельдей в бочке.
— О, ты не знаешь возможностей современных квартир. На Новый год у нас восемь человек одних гостей спало. Правда, Паша, если трамвая не будет — спокойно возвращайся, мы тебя куда-нибудь в уголок, в солому!..
Павел вышел, чувствуя себя приподнято-легко. Сбегал по лестницам пружинисто, по-юношески, прихватываясь на поворотах за перила, выскочил во двор, вдохнул полную грудь воздуха — хорошо!..
«А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса… Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла…» И так это его все взбудоражило, что он думал об этих животных до самой гостиницы, и только в номере спохватился: ведь был он у обер-мастера доменного цеха, и надо было выспросить о печи, о доменном деле, а говорили (скажи кому, не поверит!) о космических пришельцах, библии, деторождении! Но ему было приятно, как Федор мягко, без злобы говорил о других: Белоцерковском, Рябинине… Что означает эта мягкость: мудрость? слепоту?
В ящике лежал сложенный листок, развернув который Павел с недоумением прочел: «Черная металлургия — основа основ индустриальной мощи… Организуя и подчиняя себе огненную стихию…» Он не мог поверить, что это сам написал. В тот первый вечер… Мелко порвав лист, он бросил кусочки под стол, но оказалось, что корзины там нет. Он подумал, что завтра, убирая, горничная помянет его нелестными словами, встал на четвереньки, все подобрал, отнес в унитаз и спустил воду.
Затем он вернулся, подошел к окну и посмотрел на белые, пустынные равнины. Над полем светила луна, из-за нее звезды едва различались. Так захотелось чуда: чтоб явился вихрь, огонь с севера или с юга, и вдруг на это поле бы опустились «дико интересные» существа, сверкающие, как медь (и крылья их легкие).
Глава 10
Железные люки стояли рядом с открытыми фурмами, но сами фурмы не светились. Павел просунулся в отверстие и посмотрел внутрь печи: там была густая, абсолютная тьма, хоть режь ее ножом, только по-прежнему отлично пахло дровами и лесом.
Под необъятным потолком литейного двора горела та же единственная лампа, нигде ни души. Таким образом, за сутки сдвиг заключался в том, что кто-то наконец выключил в печи свет.
И опять невольно унылый и отчужденный вид всей этой металлической громады, неприкаянно-пустынный двор произвели на Павла нехорошее впечатление. Усмехнувшись, он вспомнил свой дурацкий сон там, внизу, под стойками. Уж если бы и в самом деле забыли, так проснулся и вылез бы сто раз.
Мороз стоял на литейном дворе, как в холодильнике. Кое-где стены покрылись изморозью, как сизыми лишаями.
Опять, слушая одинокий стук своих шагов, Павел бесцельно побродил вокруг домны.
Что-то не очень веселой показалась ему вообще вся эта история. Итак, заехал сюда, застрял бестолково, ради чего? Дни идут за днями, но это же не просто дни, не просто квадратики календаря, накрест перечеркнутые, это куски жизни, данные, чтоб прожить их единственный раз… И, недоуменно глядя потом на пожелтевший, случайно попавшийся в руки, запрошлогодний табель-календарь, попытайся вспомнить: что же такого было вот в этой серии квадратиков, или вот в этой, или в этой?..
И вдруг во всей серости, ненужности предстало перед ним его нынешнее занятие. Все это сомнительное болтание среди занятых людей. Ради какого-то куцего очерка, который кто-нибудь равнодушно пробежит глазами, а другие вообще читать не станут. Обольщаться не приходится.
Давно когда-то Павлу очень нравилось видеть напечатанным то, что он писал. Дождаться утром у киоска прибытия газет, замирая, купить, развернуть — и увидеть, что есть, пошло!.. Тут же отыскать скамейку, жадно впиваясь в буквы, читать и перечитывать еще раз свою заметочку, смакуя удачные слова, негодуя на сделанные редактором вопиющие сокращения!.. Какое счастье!.. Потом случайно увидеть в троллейбусе, как, уткнувшись в газету, кто-то читает именно твою заметку, жадно исподтишка пытаться уловить на его лице какое-нибудь впечатление!.. Счастье автора! Потом Павел перестал испытывать его. Вернее, такое перестал испытывать, именно такое. Сам факт публикации доставлял удовлетворение, значит, работал не зря. Иногда он даже не перечитывал того, что написал: как профессиональный гончар, слепив горшок, пустил его в оборот, больше не интересуясь его судьбой.
Так он просидел пять минут, а может быть, час. Встало перед глазами восторженное лицо Федора, его поиски астронавтов. Слова, слова. Можно сказать: суета. Можно сказать: жизнь. В конце концов сказать обо всем можно: суета, так что же тогда делать? Делать ее захватывающей. Зажечься и гореть — довольно условный, но все выход. Который нам дан…
Неправда, помимо суеты, однодневных писаний, у него есть роман, работа над которым захватывает с головы до ног без остатка. И те, предыдущие — тоже так было. Работаешь — и чувствуешь, что живешь. Вдруг что-то получается, и выписалось так, что удивительно самому, и еще не веришь, и уже веришь, что это сделал ты… Закончив «Годунова», Пушкин в восторге кричал: «Ай-да Пушкин! Ай-да сукин сын!»
Да! Да! Вот именно это: «Ай-да Пушкин!..» Создать, да так уметь создать, сотворить такое что-то, чтоб само небо потеплело, ага, попробуйте-ка, граждане, вы, с кислыми носами, потом поговорим о суете, но прежде создавать — вот во что я безоговорочно верю. А то и представить не могу, Как бы жил! Замерз бы в ледяном бессмыслии… Может, именно так замерзал Дима Образцов там, в гостинице на Севере? Решил, что его огонь потух и не осталось в жизни ничего, кроме фальшивой бенгальской искры… О, если бы знать!
Залязгав зубами от холода, Павел вспомнил, что Федор советовал тогда поспать в будке мастеров, а значит, там должно быть тепло.
Будка эта, целое каменное здание, высилась во дворе, рядом с домной, соединяясь с ней металлическим переходным мостиком. Поднятая над землей, на железных опорах, будка эта походила на гигантскую кирпичную голубятню.
Павел прошел по мостику, толкнул дверь, и навстречу ему пахнуло таким жарким духом, словно он в парную вошел.
Это был просторный зал без окон, однако ярко освещенный трубками дневного света, и по всем четырем стенам шли сплошные приборные щиты и пульты управления салатного цвета, с цепочками разноцветных лампочек, огромным количеством циферблатов, самописцев, указателей, кнопок. Это походило на самый современный вычислительный центр, только не хватало операторов в белых халатах: перед щитами и за ними возились испачканные парни в тех же телогрейках и ушанках, колдовали, паяли, стучали.
Да еще вопиющим противоречием торчал в центре зала дубовый стол, возрастом не менее чем лет пятьдесят, повидавший на своем веку всякого, а на столе — телефонный аппарат с треснувшей трубкой.
— Начальство домны тут не появлялось? — спросил Павел у хмурого парня, запутавшегося в проводах.
— Нет. Мы, знаете, не от них, мы — другого прихода. Не знаю я их путей…
— Насчет задувки ничего не слыхать?
— Не знаю. Наше дело приборы… Эй, ты, что соединяешь! — кричал он в другой конец зала. — Не видишь, у меня концы оголенные!
Павел отошел от раздраженного человека, осмотрел некоторые щиты, вероятно, испытывая то же чувство, что баран перед новыми воротами: «Температура радиальных газов заплечиков», «Давление колошникового газа», «Т° поясов»… На некоторых щитах красные или зеленые лампочки светились, другие были мертвы, стрелки стояли на нулях, кое-где были нацеплены клочки бумаги: «Не включать! Работают люди».
В древние времена выплавка металла в некотором роде была чем-то таинственным, граничила с колдовством… Каким же, пожалуй, божественным священнодейством показался бы древнему плавильщику этот зал с его уж поистине непостижимой симфонией стрелок, мигающих огоньков, ползущих перьев по барабанам самописцев, в которой сегодняшний плавильщик, колдун Федор Иванов шутя себе разбирается… Ты ищешь следы высокоразумных астронавтов, Иванов, и не замечаешь, что давно уже сам ты астронавт!..
В библиотеке Женя сидела, вся заваленная книгами. Вероятно, получила новую партию: записывала названия на карточках, ставила штампы на первой и семнадцатой страницах.
— Я решила, что ты уехал, — сказала она, мельком взглянув на Павла.
Он подумал, что, вот странно, от ее ослепляющей красоты чуть не рот хочется раскрыть, когда ее видишь, но едва только перестаешь видеть — забывается. Да, он начисто забыл и сейчас. испытал снова что-то вроде того, первого потрясения.
— И эта мысль мне приходила, — сказал он. — Дела у меня всего-то-навсего — посмотреть, как это происходит, и тотчас уезжать, но дни идут, никто ничего не знает, сроки дутые…
— Терпи. Ходи в кино.
— Если бы я точно знал сроки, сел бы, работал в гостинице, а не болтался.
— Тебе все равно, где работать?
— Если настроиться. Был бы стол или, на худой конец, подоконник, а расписаться, войти во вкус — тогда бы и месяц, и два, и пять сидел бы себе…
— Значит, тебя никто не ждет?
Он усмехнулся:
— Не очень. Главным образом редакторы.
— Зачем ты развелся? — спросила она.
— Гм… «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — процитировал он Толстого, тем временем думая: «Все-таки посмотрела, женщина, в паспорте!»
— А дочь с кем?
— Дочь она забрала с собой.
— Плохо для дочки…
— Плохо. Но мне разрешено с ней видеться, даже без ограничений, так что мы не теряем контактов.
— Кто же кого разлюбил?
— Она меня. Точнее: она полюбила другого, так это обычно квалифицируется.
— И ушла к нему? Ты очень переживал?
— Ну да. Переживал долго, по всем правилам, потом плюнул, сел и написал роман про войну.
— Она была умная и красивая?
— Да… пожалуй, что да. Чем-то вы с ней похожи, но она живее, развязнее.
— А кто был он?
— Допрос ты мне устроила. На эти темы я ни с кем не говорил, мне кажется, никому это не нужно и неинтересно.
— Прости… Значит, у тебя еще болит.
— Не болит. Не то. Плохо, что это старит, возбуждает мысли о предательстве, о том, что никому на свете нельзя верить и все такое, клубок, из которого выпутываешься измочаленный.
— При чем предательство, если человек любит другого?
— Видишь ли, любовь — да, но неужели это обязательно должно сопровождаться предательством? — сказал Павел раздраженно, но тут же почувствовал, что ему хочется рассказать, просто вот выложить из себя, избавиться, потому что он хитрит перед собой, уверяя, что не болит. — У меня был отличный друг, приходил, такие вечера, разговоры, бывало, до утра. Два сапога пара. Жена мне говорила: «У тебя есть, кроме меня, подлинный, настоящий мужчина-друг — это он». Я тоже так считал. Отличный друг был…
— Был?
— Да. Потом жена поехала в Херсон к матери, она часто ездила гостить. А мне приносят телеграмму, которую она с домашнего телефона отправила в Ялту: «Не доставлено за отсутствием адресата». Адресат — он, мой друг. Я потом узнал, что они всегда встречались в Ялте, но на этот раз он задержался, и телеграмма его не нашла. Ужасно легкомысленная конспирация и пошлятина такая…
— Неужели все из-за телеграммы?
— При чем здесь телеграмма?.. Оказалось, что они несколько лет так развлекаются, несколько лет, а обо мне говорят: «твой кротишка». Наверное, в таких историях обиднее всего, что тебя обманывают в глаза, именно употребляя слова о преданности, дружбе, а сами над тобой смеются — и смеются, что ты этим словам веришь. Это черт знает что, у меня не могло уложиться в голове!.. Я потом сидел, изумленно вытаращив глаза, как мальчик, оглядываясь вокруг и вопрошая себя: кому же тогда можно верить? До этого мы прожили с ней десять лет, такая была любовь, невзгоды, заботы, дитя наше. Уж ей-то я верил, как себе. И ему. Пришлось признаться, что ни черта-то я в жизни не понимаю.
— А кто он был, твой друг? Умный человек?
— Еще бы.
— Да, невесело. Ну-ну?
— Я кончил. Теперь ты расскажи о себе, откровенность за откровенность.
— Не хочу.
— Почему?
— Не хочу, — сказала Женя, наклонив набок голову и внимательно штампуя первые и семнадцатые страницы.
— Нечестно, — сказал Павел, задетый.
— Ну, не могу, — упрямо сказала она. — Сегодня у меня ненавистное настроение.
— Какое?
— Ненавистное.
Тут словно взорвалась, загрохотала дверь, и бодрыми шагами вошел Слава Селезнев, видимо, прямо с улицы: румяный, энергичный.
— Женечка, дорогая, как насчет фотомонтажа в кузнечный? Готово? А для подстанции? Тоже? Отлично, прекрасно, я подошлю ребят, просто ты выручаешь нас. Слушай, а этот монтаж у окна, пожалуй, уже устарел? Постарайся, постарайся, дорогая, и тут я вижу пустое место, ну, что, у тебя журналов мало, клея нет? Ко Дню Советской Армии пора думать, пора!
— Сделаю, — сказала Женя.
— Вот спасибо! Слушай, ты мне страшно нужен, Пашка, я тебя везде ищу, пошли, тебе что-то очень важное скажу. Идем, идем!
— Уйдите оба, — сказала Женя, холодно взглянув на Павла. — Дайте мне работать.
Невольно подчиняясь энергичному напору Селезнева, Павел вышел за ним в коридор. Тот вел его дальше, до лестничной площадки. Славка сияющими глазами уставился на Павла.
— Какое дело? — спросил Павел.
Славка торжественно застегнул ему пуговицу, поправил галстук, положил руки на плечи и полушепотом, доверительно сообщил:
— Бренди есть! Как бог свят.
— Тьфу ты, я думал: задувка.
— При чем тут задувка, какая задувка! Бренди! Лучшая рыба — колбаса, лучший коньяк — бренди!
— Нет, я не пью.
— Вре-ешь! — радостно сказал Славка.
— Ну, не пью.
— Врешь! — еще веселее завопил Славка. — С Белоцерковским на пару пили, и нам известно, с кем.
— Вот это служба информации!
— Нам все известно. И даже более того, Пойдешь со мной — скажу. Ну, так как?
— Иду, — сказал Павел.
Вышли из здания управления, направились к кварталам новых домов. Похоже, потеплело, подул теплый ветер, и запахло неожиданно, как в марте. Вокруг было полно детишек с санками, лыжами.
— Ты не можешь представить, — сказал Славка, — как я почему-то тебе сим-па-ти-зи-рую! Услышал, что ты спутался с этим подонком, просто сердце заболело. Теперь эта, мадонна, — чего ты ей душу разливаешь по блюдечку? Я тебя предупреждал: не трать на нее пороху, не трать драгоценного времени! А он разливается: ах, жена меня бросила, ах, я одинок, следовательно, некому обогреть, развел самодеятельность!
— У тебя что, скрытые микрофоны поставлены?
— Какие микрофоны? Шел мимо, слышу твой голос, постоял у двери, послушал, ну, думаю, надо товарища спасать!
— М-да…
— Ладно, замнем для ясности этот вопрос. Ты мне ведь правда нужен. Вот ты уедешь, будешь писать, а как ты отразишь мой пост? Я просто обязан, я должен рассказать тебе, что значит этот пост и как он вынес на своих плечах все…
— Скажи мне, пост, почему домна стоит мертвая?
— Чтоб она ожила, нужно задуть, чтоб задуть, нужно загрузить, чтоб загрузить, нужна шихтоподача, чтоб была шихтоподача, нужно кой на ком сорвать глотку. Это сделано, скоро загрузка начнется, но она еще будет идти целые сутки, так что идем пить бренди, а когда начнется настоящее дело, я сам первый тебя позову, из-под земли найду. Усек?
— Усек.
— То-то же… А за Белоцерковского ты безусловно — пре-да-тель! Но я умею про-щать.
Они свернули во двор пятиэтажного дома, точно такого же, как и тот, в котором жил Иванов. Чуть не сбив с ног, налетела на них, оседлав санки, куча детишек мал мала меньше, еле выбрались, ни на кого не наступив. Двор был полон детей.
— Ну, сам скажи: когда-нибудь кончится нехватка жилья? — вздохнул Славка. — Только дашь людям квартиру, заселяют такой дом — через год полон двор детей. Они немедленно раз-мно-жа-ют-ся! Дети растут — давай квартиры опять. С такой геометрической прогрессией человечество не вылезет из жилищного кризиса никогда!
Павел вспомнил детский сад в квартире Иванова, усмехнулся.
— А как там, согласно твоим информациям, где я еще был, кроме Белоцерковского? — спросил он.
— Не знаю, честно признаюсь, не знаю, — засмеялся Славка. — Осторожно, сюда, первый подъезд, второй этаж. Когда-то говорили: бельэтаж. Тут моя пещера.
Квартира Селезнева была точной копией квартиры Иванова; когда Павел вошел, у него возникло ощущение, что сейчас побегут дети, а из ванной выглянет старуха с пеленкой в руке. Но тут же обнаружилось различие в убранстве, настолько вопиющее, что Павел даже крякнул: комнаты были голы и пусты, будто Славка только что въехал; по полам безбожно натоптано, всюду окурки, огрызки, бумажки, грязные носки — холостяцкая мерзость запустения…
Впрочем, путь борьбы был намечен, и довольно веско: у балконного окна стоял новый, отличнейший полированный письменный стол, покрытый для сохранности газетами (впрочем, съехавшими), и на столе — ослепительный, самой последней модели телефонный аппарат, распластавшийся, как диковинная светло-салатная лягушка.
— Отличный телефон! — похвастался Славка, поднял телефон и показал вид в профиль, потом перевернул и снизу тоже показал.
— Где такой достал?
— Не говори! На все управление привезли десять штук, пять поставили начальству, пять растащили, из них я один схватил. Он не работает, дом еще не подключили… А стол, скажи, отличный стол?
— Министерский. Тоже было десять штук?
— Один!
— Да ну!
— Как бог свят! Теперь идем дальше, в спальню.
Спальня оказалась более жилой. Тут имелась алюминиевая раскладушка с немыслимой кучей взбитого белья. Стоял фанерный, изрезанный ножиками учебный стол с ящичками для книг (такие, впрочем, были в кабинете политпросвещения, вспомнил Павел), вдоль стены — строенные откидные кресла, явно из кинотеатра или клуба, с зияющими дырками от винтов, которыми они привинчиваются к полу. А у стола — великолепная, хотя и не новая плетеная качалка.

Горы газет, журналов, брошюр покрывали и кровать, и стол, и подоконник, и весь пол, так что нельзя было пройти, не наступив на них. А единственным, но веским украшением стен была приколотая кнопкой фотография хорошенькой, весьма модно причесанной девушки с лукавыми, лучистыми глазками.
— Это кто? — спросил Павел.
— Да это так, одна хорошая девочка, — сказал Славка. — Член бюро.
— Член бюро?
— Ага. Я вполне серьезно! Одна из лучших активисток, культмассовый сектор в бюро комсомола ведет прямо на высоте.
На столе среди бумаг лежала еще фотография, аккуратно заправленная в стеклянную рамку. Тут была девушка черненькая, с прямыми волосами и строгим лицом.
— Еще член бюро… — сказал Павел.
— Нет, это лучшая активистка самодеятельности. Драматический талант — и непередаваемо читает приветствия разным слетам. Отличная девочка, глубокая… Не тронь, не тронь!
Но Павел углядел под рамкой еще стопку фотографий и потащил всю. Были тут и любительские, и сделанные в ателье, и крохотные, с уголками, на паспорт. И все — девушки.
— Положь! — завопил Славка. — Вот черт, это я вчера в своем архиве делал ревизию, не хватай своими гнусными лапами!
— Почему в архиве? Ты повесь на стене в ряд, получится целая первичная организация. Все здешние?
— Ну их… Иных уж нет, а те далече, в смысле замужем. Ты сядь, сядь в качалку и убери руки!
Открыв створку окна, Славка достал большой кулек с апельсинами и бутылку бренди, которая в тепле тотчас запотела. Рюмок не было, поэтому Славка поставил пластмассовый стаканчик для бритья и баночку из-под горчицы. Роль тарелочек
под ветчину и сыр играла бумага, в которую их в магазине завернули. В качестве приборов Славка положил с одной стороны охотничий нож, хромированный, с острейшим, устрашающим лезвием, наводивший на мысль о кровавых поединках с медведем в тайге, с другой — толстый перочинный нож, имевший массу лезвий, пилочек, шил, ножницы и вилку, роль которой он в данном случае и призван был исполнить.
Славка разлил коньяк по посудинкам, и Павлу досталась баночка, из нее пить было неудобно и противно: на дне виднелись остатки прилипшей горчицы; он отпил и поставил. Взял апельсин.
— Итак, вопрос к тебе, первый, — сказал Павел. — Какая агентура донесла тебе, что я с Белоцерковским пил?
— Да ну, это шутка, смех! — захохотал Славка, сдирая кожуру с апельсина. — Одна наша девчонка из завкома знает отлично ваших продавщиц, те по всему городу хвастаются, как сороки на хвосте носят: мы-де со знаменитым кинорежиссером из Москвы гуляли, зовут Павлом, приметы твои. Расспрашивал подробно, как они могут тут прозябать, и дал обещание вызвать в Москву на съемки. Я сразу все понял, боже мой, что ты хочешь, это же провинция, тут все про всех известно, тут даже известно, чего не было или что еще только случится в будущем. Ответом доволен?
— Да, — сказал Павел. — Вопрос второй. Учитывая, что я видел, например, как живет Федор Иванов с семьей в такой квартире, на черта тебе одному две комнаты?
— Привет! А если дают?
— Дают?
— Да. А может, я жениться собираюсь.
— На члене бюро?
— Хотя бы и да. Мы уже заявление в загс отнесли, но не стали потом оформлять, спешить с таким делом нельзя, я думаю, решили еще проверить себя, та ли это любовь.
— И любовь и заявление, полагаю, помогли тебе мотивировать…
— Что ты, как следователь, пристал? Нормальная вещь. Потом, может, в самом деле женюсь. Она мне нравится, но я не так давно развелся и вот думаю, стоит ли в новую петлю лезть?
— Не стоит. Если такие мысли, не стоит.
— Да?.. Но они, понимаешь, такие моральные, идейные: если не пообещаешь жениться, и говорить не хотят.
— Тяжело.
— Тяжело… Вот моя бывшая жена… Я с ней, гадиной, столько отличных вещей приобрел — ничего не отдала, все заграбастала, только выхватил эту качалку и магнитофон. Я так взбесился, хотел судом делить, но потом плюнул — и вот так живу. Не в вещах счастье.
— Новых натащишь.
— Ах, не в этом дело! Мне бы эту домну спихнуть, ах, мне бы ее спихнуть!.. И, может, в следующий раз я совсем не в этой квартире и не здесь буду тебя принимать… Скажи, а что ты думаешь про китайцев?
От неожиданного этого вопроса Павел даже вскинулся, от чего качалка под ним закачалась, потрескивая всеми своими лозинами.
— С чего это ты?
— Очень важный вопрос, я хотел узнать твое мнение, что ты думаешь?
— Думаю то же, что и все.
— А все же?
— Погоди, но почему ты об этом спрашиваешь?
— Да, Паша, обстановка в мире сложная… — озабоченно сказал Славка, подливая в баночку Павлу. — А что слышно там, у вас? Какие сплетни новые, может, скандалы?.. Ну, чокайся, давай выпьем.
— Послушай, Славка, — сказал Павел с неудовольствием. — Вот ты сейчас наклюкаешься, окосеешь и уже не сможешь толково рассказать про пост, а я хочу услышать. Потому мое предложение: давай сперва о деле!
— Принято, — сказал Славка.
— Пост, да что пост… — задумчиво сказал Селезнев. — Начнем с задач. Содействие! Предельная мобилизация коллектива на выполнение трудового подвига. Воспитание и организация трудящихся в смысле социалистического отношения к труду. Борьба средствами наглядной агитации — стенгазеты, «боевые листки», лозунги за улучшение организации труда, техники безопасности, идейно-политической сознательности, условий быта… Ты бы, может, записывал?
— Я так запомню, — сказал Павел. — Но не так общо, ты мне скажи, какие конкретные дела…
— Дела! — вскричал Селезнев. — Да дел тут невпроворот! Где какая задержка, не поступили детали, материал и так далее — мы все силы туда. Толкаешь, горло надрываешь, «молнии» вывешиваешь! А сколько мы рейдов провели: рейд по организации труда, по уборке, так… по сбору металлолома был рейд.
— Как, и у вас сбор металлолома?!
— Привет! Это же железное производство, тут уму непостижимо, сколько железа валяется и гниет.
— Так-так, значит, сперва разбрасывается, а потом рейд.
— Да, да, золотые слова, вот точнехонько так же и наш комсорг бубнит, не любит он меня. Ограниченный парень. Без размаха. Это просто счастье, что ты его не застал, — уехал на семинар в Москву. Не знаю уж, чему он там научится, потому что любое начинание через него пробить — легче гору сдвинуть… Далее: стенгазеты, «крокодилы», «тревоги», «боевые листки», лозунги, плакаты. Бетонный штурм на фундаменте, штурм эстакады — ведь это же все пост содействия стройке! А сколько штурмов мелких!
— Погоди, — сказал Павел. — Я, однако, не понимаю принципа. Что происходит: война, землетрясение, разруха, потоп? Почему аврал, откуда штурм?
— Ну, старик, — развел руками Славка, — а для чего же тогда, спрашивается, воспитываем боевой дух, трудовой героизм?
— Я думаю, что бы было, если бы пекарни, городской транспорт, разные там бани, кинотеатры, школы работали авралами, так сказать, на подвигах и трудовом героизме?.. Я полагаю, что хлеб нужно просто печь, спокойно, каждый день, и печь хорошо. Может, пора кончать с этими самыми штурмами, авралами, «молниями»?
— А если гады материалы задержали, график срывается?
— Тогда, мне думается, нужно гадов гнать с работы, может, отдать под суд. А ты исправляешь дело мобилизацией людей?
— Иди ты!.. Ты рассуждаешь, как… как… не знаю, не как советский человек! А трудовая слава! А то, что о нашем бетонном рекорде даже в Болгарии писали?
— Да, слава. Факт для биографии.
— Да, да, вот вы бы с нашим комсоргом нашли общий язык, ах, снюхались бы!.. А вот домну следовало сдать в феврале, а мы ее сдаем в январе! Это тебе что, шуточки?
— В январе?
— Сдадим. В доску расшибемся, а сдадим!
— Много ли «молний» надо еще написать?
— Надо, Паша…
— Да, Славка, мне сдается, что, не будь авралов, не было б работы таким, как ты… зажигателям.
— Странно мне с тобой спорить, — признался Славка. — Может, я плохо объяснял. Тебе бы посмотреть, как я бро-са-ю клич! И люди за-го-рают-ся! Мы тут целые горы дел сво-ра-чи-вали|
— «Мы пахали».
— Ну знаешь, старик, теперь я вижу, что мы с тобой не договоримся! — воскликнул Славка, вскочив и хлопнув откидным креслом. — Ты рассуждаешь, как какой-то немарксист, заплюгавел ты. Не хочешь про меня писать — не надо, другие напишут. А я с тобой вообще не желаю беседовать.
— Тогда я, пожалуй, пойду.
— Сиди!
Минут пятнадцать они сидели молча, насупившись, злые и недовольные друг другом. Лукавая девушка со стенки иронизировала над ними. Потом Селезнев встал, вздохнув, полез под раскладушку, выгреб оттуда ботинки, окаменевшую горбушку хлеба, пустую кастрюльку и заодно со всем этим вытащил магнитофон «Днепр» весьма и весьма распотрошенного вида.
Повозившись некоторое время, Славка добился, что лампы загорелись и машина хрипло, злобно загудела. Еще пощелкав, покрутив, постучав и даже пнув ее ногой, Славка заставил магнитофон крутиться, но, когда грянул звук, Павел чуть не схватился за зубы: это было сплошное «уа-уы-азы», и Славка озабоченно принялся опять колдовать.
— Немножко тянет… — пробормотал Славка. — Скорость не достигает оборотов… зараза… Сейчас я поставлю катушку с цыганами, отличные цыгане.
Магнитофон выстрелил, катушки завертелись, и цыгане завыли, как волки:
Эх-уы, р-раз-уы, а-р-раз-уы!
— Умоляю, сделай тише, ради бога! — закричал Павел, хохоча.
— Чего ржешь, дурак? — сказал Славка обиженно. — Подожди, дай он освоится, придет в себя, он еще не так вдарит! Слушай, скажи, а что ты думаешь про Вознесенского?
…Около полуночи Павел собрался в восьмой раз уходить.
— Ну, чудак, ну, куда тебе уезжать? — говорил Славка. — Я тебе и раскладушку уступлю, а завтра на пару к домне сразу, ну, чего тебе мотаться?
— Я тебя ненавижу, — объяснял Павел.
— Я тебя тоже. Но это еще не повод, чтоб ты уезжал, и бренди не допили, а я так старался, доставал.
— Лакай сам.
— Нет, давай выпьем вместе, еще поспорим…
— Я не могу, у меня голосовые связки болят.
— Ага, то-то же. С кем ты взялся спорить? Вот повыступал бы ты столько, сколько я… У меня же практика!
Кончилось тем, что они поделили одеяла, погасили свет, улеглись, открыв форточку, потому что от папиросного дыма нечем было дышать. Но разгоряченные головы продолжали взбудораженно работать, и сквозь форточку явственно доносились шумы, лязг, грохот с завода, так что совершенно неясно было: как же тут уснуть?
— Это что, всегда такое удовольствие? — спросил Павел, ворочаясь и жалея, что не поехал в гостиницу.
— Шум? Конечно. Мне нравится — лучше музыки!
— Теперь мир выдает столько этой «музыки», что все стали психами.
— Да… Ты яркий пример, — с удовольствием уязвил Славка. — А вот я, прогрессивный человек, слушаю и мыслю: отлично, что шумит, значит, металл идет, завод растет… Ты отойди на расстояние, охвати взором: это же какая красота!
— Красота-то красота, но и сажа, грохот, грязь, четыреста тонн пыли на головы и в легкие. Цифры беру твои. Какая уж тут красота!..
— Ну, знаешь ли, брат… Это мне даже слышать обидно, — сказал Славка дрогнувшим голосом. — И любому металлургу обидно. Тоже нашелся чистоплюй… Как будто мы виноваты.
— Я никого не виню, мы говорим о красоте чисто теоретически.
— Заткнись со своим теоретизированием!
— Сам заткнись!
— Сам ты дурак!
— Это один профессор вывел заключение, — сказал Павел, — что если один говорит другому «ты дурак», то у нас еще недостаточно информации определить, кто из них дурак; но если второй отвечает «сам ты дурак», ясно, оба дураки… Тихо, тихо, это профессор говорил!..
Пошвыряв друг в друга ботинки, они все-таки заснули, несмотря на периодический грохот и дрожание пола, а потом и малиновое зарево от плавки, залившее всю комнату, но Павлу снилось, что это — полярное сияние, что он на Севере, мчится на собаках выручать Димку Образцова, но почему-то он в одних трусиках-плавках и замерзает так, что останавливается дыхание…
Причина выяснилась утром. От раскрытой форточки оба так закоченели, что, не сговариваясь, бросились на кухню, зажгли на плите все горелки и полчаса сидели там, оттаивая. Есть было нечего, от вчерашнего остались одни апельсиновые корки.
— Здорово живешь! — злорадно сказал Павел. — И врагу на пожелаю.
— Неужели жениться? — с ужасом сказал Славка.
— Я пошел в столовую.
— Я тоже!
С улицы несся шорох тысяч ног. Павел и Славка вышли и словно влились в демонстрацию. От голода Павел спешил, и Славка семенил за ним, едва поспевая.
— Нет, старик! — умиленно сказал он. — Какое величественное, какое прекрасное это зрелище: сознательность, воля, организованность тысяч людей! Ты хочешь возразить: не заплати, так никто не пойдет. Что ж, у нас социализм — каждый получает по своему труду. А вот когда наступит коммунизм… Вот тогда я посмотрю, как ты будешь спорить со мной!
— Да я не спорю с тобой!
— Мне показалось, что споришь…
Славка замолчал, но деятельная его натура не могла оставаться в покое. Он заметил торговок.
Стоя на углу, как раз на слиянии самых людных потоков, несколько старух продавали молоко на стаканы, вареные яйца и прочую снедь, образовав маленький импровизированный базарчик.
— А кто вам разрешил? — спросил Славка, подбегая. — Спекуляция?
— Свои, сынок, продаем, свои, свежее яичко, бери.
— А кто это вам разрешил базар разводить? — завопил Славка. — А ну рас-хо-дись!
— Иди, иди! А ты кто таков? — заволновались бабки.
— Я начальник поста содействия стройке, вот узнаете, кто я таков. Рас-хо-дись!
— Ишь ты, куды ж ты, начальник, разумный какой выискался! — затараторили бабки, отбиваясь от него. — А где нам продавать?
— В городе, на колхозном рынке!
— Ух ты ка-кой!
— А вот такой! Рас-хо-дись!
— Иди, иди, босяк! Психованный, гляди, из больницы сбежал!
— Чтоб тебе добра не видать! Чтоб тебя скорежило!..
Павел едва спас Славку от разъяренных старух, — просто схватил за рукав и потащил прочь, поле битвы осталось за старухами, и они еще долго вопили вдогонку, потешая идущих рабочих.
— Ну их к черту, пусть себе продают, что тебе, жалко? — сказал Павел, выпуская рукав.
— Не положено! — возмущенно сказал Славка.
— Это ты везде так порядок наводишь?
— Везде. Все же я их разгоню, сейчас в милицию позвоню, сообщу!
В милицию, впрочем, он не позвонил. Наведались на домну, где выяснилось, что шихтоподача все не готова и до ночи никакой загрузки не будет. Пообедали в столовой, на этот раз в задней комнатке, причем Рябинин очень неплохо накормил и снова звал Павла в гости.
— Ну, а теперь, — сказал Славка, после еды сразу подобрев и успскоясь, — пошли в кабинет мой, партийку в шахматы, а?
— Нет, довольно с меня. И от тебя у меня голова распухла, и в кабинете твоем краской воняет.
— Можем поискать другой кабинет!
— Играй со своим художником, — сказал Павел.
Глава 11
— Я о тебе думаю, — сказал он.
— Я тоже, — ответила Женя. — Как движутся твои дела?
— Никак. И весь мой приезд сюда хаотичен и очень странен.
— Тебе что-нибудь из книг подобрать?
— Пока не надо, нет. Я просто так.
Молчаливый дяденька принес и водрузил на стойку книги, много книг, целых две связки. Не говоря ни слова, он их сдал, подождал, пока были разложены формуляры, вычеркнуты все названия в карточке, убедился, что сдал все, и больше ничего брать не хотел.
У него были кустистые брови, под ними водянистые отрешенные глаза, и весь вид у него был такой, словно он закончил всякое чтение в жизни, — вот прочел еще две эти стопки, захлопнул последнюю страницу и решил, что достаточно, надо готовиться умирать.
Сданные им книги были специальные, с трудно произносимыми, мудреными названиями, вроде «Коагуляционная индикация ферромагнитности сплавов». Он еще чуть задержался у стойки, словно хотел что-то сказать, но только покусал губы, быстрым взглядом окинул зал, фотомонтажи на стенах и с вопиюще грустным, почти трагическим видом, шаркая и сутулясь, ушел.
В библиотеке было жарко, может, слишком жарко, но не душно, потому что воздух был сухой. Крепко пахло книгами. Сушь такая, вероятно, вредна для книг, подумал Павел, недаром в академических библиотеках на стенах висят приборы, показывающие влажность и что-то там еще; в музеях тоже.
На заваленном журналами и книгами столе перед Женей стояла продолговатая керамическая вазочка, из которой торчала сухая и голая, с коленчатыми изломами тростинка, а с нее свисали четыре шарика в виде редек яркого пурпурного цвета. Они были пустые, сухие, как бы филигранно склеенные из цветной папиросной бумаги, и сверху они запылились.
— Как это называется? — спросил Павел.
— Не знаю, у нас говорят: китайские фонарики.
— Они живые?
— Нет, высохли. Но сохраняют форму. Как люди иногда.
Она с трудом подняла гору книг, понесла их, пошатываясь, как ребенок, поднявший слишком много, ходила среди стеллажей, втискивала тома на полки, они не лезли, она тянулась на цыпочках, и из-под платья выглядывали острые колени.
Павел словно впервые увидел, что Женя, собственно, очень худая. Странно, что до сих пор не обратил на это внимания. Он подумал: какая она худая, какая истощенная, ноги, как у мальчика, руки тонкие, слабые, и ребра, наверное, обтягивает кожа. Теоретически таким людям должно быть страшно в жизни. Хорошо в жизни быть сильным, с тренированными мускулами, крепкими ногами, чтоб крепко стоять, не валясь от ветра, во время битвы уверенно отражать удары и спереди и сзади.
И вдруг его охватила мучительная волна жалости, такая волна, что хоть сейчас же обними ее, как ребенка, погладь по голове, приговаривая: «Ничего не бойся, тебя никто не посмеет обидеть, никогда не бойся…» Это пронеслось в одну секунду, короткую секунду, но было так сильно, что Павел встряхнул головой, чтоб наваждение прошло.
— Неужели они будут стоять всю зиму? — спросил он.
— Да, и две зимы, — сказала Женя, исподлобья, с каким-то непонятным вопросом посмотрев ему в глаза. — Да, я хотела тебя спросить… Ты был у фонтанов?
— Каких?
— Ну, эти, система охлаждения воды для домен…
— А, да. Нет, не был, где это?
Она взяла связку ключей, надела пальто.
— Пойдем. Это важно.
— Важно?
— Да, это я так думаю: единственное, на что люблю смотреть, но странно, они совсем не смотрят, будто их и нет. Может, потому, что в стороне, так, значит, далеко…
— А ничего, что ты в рабочее время?
— Нет. Я старательная, делаю больше, чем надо, сижу дольше, чем надо, оказываю неоценимую помощь.
— То есть?
— Если делать торжественный доклад, где взять слова? Где цифры? Выходи, я закрою. Сейчас мы с тобой пойдем и сделаем сцену у фонтанов.
Она улыбнулась на слове «сделаем», а Павел подумал: «Вот черт!»
Довольно долго пришлось пробираться, пока миновали грохочущий, свистящий двор, плутали между складами, наконец, вышли на пустырь, вернее, даже не пустырь, а целое поле. Горизонт на нем закрывала мощная завеса клубящегося пара, как если бы там пульсировал горячий гейзер.
Через поле тянулась неровная ниточка следов: кто-то проходил раз-другой. Женя храбро пошла в снег, ковыляя на каблуках, проваливаясь, оставляя маленькие, почти детские следы с дырками от каблуков, и, присмотревшись, Павел понял, что тропка вся состоит только из таких следов.
Чем ближе они подходили, тем выше и величественнее становилась стена пара, и вот стал слышен мощный «шум многих вод», как выражался Иезекииль.
Они нырнули в прозрачную пелену пара — и открылся необъятный квадратный бассейн, озеро с прямолинейными бетонными берегами. Выстроясь ровными рядами от берега к берегу, производя шум водопада, били фонтаны, великое множество фонтанов, каждый порождая клубы пара, словно дымя. Противоположный берег терялся в белой мгле, зрелище было фантастическое. Но земную реальность ему придавали торчавшие по берегу прозаические ржавые трубы с приваренными железными табличками, на которых белилами было коряво выведено «Купаться строго воспрещается!».
Тропка кончилась у утонувшей в снегу дырявой железной бочки, и снег был дальше девственно нетронутый, в застывших завитках после метели, нависший над темной водой ослепительно белыми языками.
— Купаться нельзя, потому что в воде яд, — сказала Женя.
— Яд?
— Да. Цианистый калий. Из доменных газов, так мне объяснили.
— А ты что, пробовала?
— Нет.
— Наверно, летом тут стоит сильная радуга?
— Да. Над каждой брызгалкой. Если написать рассказ, то примерно такими словами: из доменных холодильных устройств вода поступала по подземной трассе в продольные трубопроводы, расходясь в поперечные отводы, кончавшиеся соплами.
— Название можно дать: «Сцена у фонтанов с цианистым калием».
Женя села на бочку, съежившись, подперев подбородок кулаком, глядя на фонтаны загипнотизированно, отрешенно.
— А холодно тебе живется, — сказал он. — До меня дошло.
— В мире нет ласки, — сказала она. — В мире исчезает ласка, исчезает жалость, исчезает сочувствие. Трубопроводы растут.
— Нужно ли противопоставление… То само по себе…
— Одно дело — сцены просто у фонтанов, под березами и под луной, и совсем другое дело — у охлаждающих систем с соплами. Техника, правда, переворачивает мир и человека, но куда?.. Наверно, я слабачка, тургеневская барышня, анахронизм.
— Нет, не так.
— Как же не так, если уже стиль целого века. Мы строим, мы созидаем, а потому какие-такие еще сантименты? Оптимизм, бодрость, увлеченность делом, ну, в крайнем разе умный, иронический скепсис. А ласка — это что-то слюнявое, жалость предосудительна вообще. «Сочувствие» — слово, которое скоро станет непонятным детям. Они будут лазить в словари, чтобы узнать, что это значит…
— Ты преувеличиваешь.
— Да не очень, — возразила она. — Знаешь, что мне кажется самым страшным в сегодняшнем мире? Равнодушие.
— Объясни.
— Равнодушие — такая самоуверенная деловитая невнимательность ко всем и всему, исполняющая, впрочем, все внешние формы внимательности. Так что если ее обвинить в невнимательности, она даже обидится: как? Я вчера проявила шесть признаков внимательности, сегодня шесть! Написано, что самое сильное одиночество человека — на шумной улице города.
— В Нью-Йорке. Я даже испытывал это сам. Начинаешь задыхаться: когда же наконец домой? Потому что по сравнению с ними у нас самые внимательные, самые добрые люди, это и иностранцы говорят.
— Мы заражаемся.
— Возможно.
— Вот был мой муж. Блестящий инженер, современный человек, горизонты, сверхпрочные сплавы — металлургия космического века. Обожествление науки и только науки. Мы познакомились студентами. Он — в политехническом, я — в педагогическом. У них там, в политехническом, были такие, что прямо говорили: «Мы всяких педиков-филологов за людей не принимаем».
— Ну, это глупость.
— Нет! Нет! Знала таких, серьезно считали, что они соль, скелет и суть земли! Как же, ведь наука и техника, оказывается, — это самое, самое главное, ничего важнее нет; ведь смысл жизни, оказывается, в том, чтоб стрельнуть ракетой или там сконструировать искусственный мозг. Есть такие, что серьезно в это верят.
— Глупость.
— Нет! Нет! Толстого и Достоевского они не читали, конечно, культурный «багаж» — записанные на магнитофоне песенки. Меня, «педика», они принимали всерьез лишь как «кадр», а мне, дурочке, это казалось забавным и лестным и нравилась его нерассусоленная, без сентиментальных слов и «охов-ахов» под луной любовь. Потом он вырос.
— А ты поняла, что без «охов-ахов» жизнь теряет прелесть.
— Нет. Без внимательности. Не в словах дело, а в самой сути, душевной системе таких людей. Он вырос — очень положительный, деятельный, оптимистичный, способный. О нет, он был очень внимательный, такой предупредительный! Всегда открывал передо мной дверь, при выходе из автобуса подавал руку. Заботился, чтобы у меня было зимнее пальто и платья. А когда я забеременела, с каким вниманием он отнесся к этому, отбросил на целый час свои космические сплавы, так проникновенно, логично, даже с сильной дозой печали рассматривал со мной вопрос со всех сторон: почему нам никак нельзя еще заводить детей, это бы в самом разгаре подкосило и его движение (как раз испытания близятся к решающей фазе!) и мое движение (год или больше быть прикованной к люльке!), в общем, разрушится все счастье. С какой заботой он сам провожал меня до больницы, приходил с передачами в отведенные для посещения часы, заботливо забрал меня на такси, хотя в это время шло решающее обсуждение, на котором ему следовало быть. И так во всем. О, он был прекрасен, я преклонялась перед ним. Он даже — ты не поверишь! — он даже не изменял мне, как другие пошляки. По, крайней мере я ничего не знаю, а ведь это главное, правда?
— Нет.
— Но он так удивился! Он очень удивился… Ну, просто обалдел, когда я сказала, что больше жить с ним не хочу. Он ничего не понял. Он кричал, и перечислял, и подсчитывал, что он ради меня сделал и что он мне дал. Кричал: «Неужели мало? Что тебе еще надо?» Я сказала: «Например, ласки…» Он возмущенно закричал: «Я тебя ласкал каждый вечер!» Мне показалось, что он чуть не добавил: «С десяти до одиннадцати». Бог ты мой!.. Почему меня угораздило быть такой неправильной? Все такие правильные, правильные, положительные, герои, а неправильные путаются у них под ногами, пищат и вносят сумятицу в жизнь. Логично мысля, нужно всех неправильных исправить, извлечь, чтоб были только одни правильные, похвальные люди. Возможно, скоро так и будет.
— Не будет. Не должно, во всяком случае.
— А что? Сделать всех правильными. Наука всесильна. А чисто технические трудности — на то они и герои, такие, как мой муж, они все победят!
— Нельзя смотреть так односторонне пессимистично. Односторонность — ошибка. Все многогранно — люди, события, прогресс…
— Попробовал бы ты объяснить это ему. Когда мозги начисто забиты «делом», а вся философия, вся мораль, этика сводятся к «установкам», голым до идиотизма. К математическим аксиомам, запоминать их так легко… Например, знаешь, какое изречение из Горького он часто употреблял? Еще со школы выучил, принял на вооружение: «Не жалеть человека — уважать его надо». Ведь правильные же слова? Ведь так?
— Конечно.
— Вот и ты говоришь: конечно. А знаешь, как он это понимал: не надо жалеть никогда, вообще, ни при каких условиях, вообще не жалеть, жалость оскорбительна! Нужно только уважение, уважение! Заставь дураков богу молиться… Человека надо уважать и жалеть, иногда просто примитивно, обыкновенно, по-доброму пожалеть, как мама жалеет ребенка: упал, ушибся, мама пожалеет — пройдет. Или и детей не надо жалеть — только уважать?.. Однажды он пришел: провалились исследования, полетели год работы, надежды, мечты. Он был такой несчастный, такой горюющий мальчик… Я стала гладить его по голове: ничего, пройдет, ты сделаешь еще лучше, в общем, говорила ласковые слова… Он вскочил, оттолкнул меня, чуть не ударил: «Вон! Не нуждаюсь в жалости!..» Извини меня, я, кажется, порчу сцену у фонтанов.
— Поговорим еще. Посиди.
— Нет, не могу. Сама себя взвинтила. Теперь ты дорогу знаешь, можешь пройти сюда сам, даже можешь сейчас остаться. Тут приходят мысли.
Она встала, пошла, проваливаясь, по тропинке, спешила. Павел двинулся за ней.
— Может, встретимся вечером сегодня?
— Нет, сегодня у меня конференция, потом гора стирки.
— Отложи.
— У меня правило: что намечено, то делать.
Павел не стал настаивать. Шел молча, чуть отстав, но у стены склада Женя предложила:
— Ты здесь остановись немного, я пойду одна. Не хочу, чтобы нас снова видели вместе.
— И ты боишься разговоров?
— А что же, ты уедешь, а они будут тянуться хвостами много недель, мне их выслушивать…
— Тебя это волнует? — с некоторой досадой спросил Павел.
— Да, — равнодушно сказала она.

И пошла, удаляясь, через балки, камни, угольные кучи, ковыляя на своих каблуках, какая-то вопиюще тоненькая, неприкаянная.
Сцена эта преследовала Павла, пока он блуждал по заводу и по цехам, что-то записывал, с кем-то говорил, но потом сами ноги его понесли к управлению, и он даже знал, чем оправдается: «Адский мороз, а у тебя тепло, как в тропиках». Он в самом деле промерз до костей, и во рту появился какой-то болезненный привкус, как бывает при гриппе. Очень требовалось прогреться.
Но ему не повезло. В вестибюле он сразу же, лицом к лицу, столкнулся с парторгом Иващенко. Старик вдруг очень обрадовался ему, как давнему и хорошему знакомому, взял за плечи, повернул и стал ходить с ним вперед-назад по коридору.
— Ну, как моя темка? Не думали? Если хотите, могу еще пару подбросить, мне бы писателем родиться, я день бы и ночь писал… Но, честно признаться, меня огорчает: Селезнев сказал мне, что комбинат вам кажется чудовищем, уродством и тому подобное. Нет, вы неправы. Может, и я недорос, отстаю, а может, извините, это ваш снобизм?.. Ну, что вы, помилуйте, это красиво! Это особая красота, не существующая в природе. Да даже и в той же природе: есть, например, вулкан, это красиво или нет?
«О чем я еще там говорил? — думал Павел. — О домнах-чудовищах, об авралах, которые пора кончать… про члена бюро… так, о чем еще?»
— Эстетические понятия меняются, — сказал он. — Эстетика дымящих труб, покрытых сажей конструкций — это, по-моему, недоразумение. Представить землю, сплошь застроенную этим, но тогда стал бы Дантов ад?
— А вот мы, — сказал парторг, — мы в двадцатые годы изображали на картинках будущее: заводы, фабрики, лес труб! Мы видели в этом символ коммунизма.
— Пожалуй, то был символ ближайших лет, а вскоре выяснилось, что дымы портят воздух, реки, леса, что с ними надо бороться. Думаю, при коммунизме не будет вообще дымящих труб: уже сейчас это — вопиющее безобразие.
— Да? — задумчиво сказал Иващенко. — Значит, вашему поколению это уже не нравится?..
— Выходит, так…
— Да… да… Возможно, вам виднее. Простой вопрос, мне бы в голову не пришло думать над ним, но послушайте, что теперь я думаю: значит, это хорошо? Было время, дымящая труба нужна была, как хлеб. Теперь ваше поколение думает уже не о том, где взять хлеб, а о том, чтоб он выглядел хорошо! Значит, в общем-то ничего, а?
— Ничего! — сказал Павел, смеясь.
Когда наконец Иващенко отпустил его, по лестнице сбегали спешащие по домам служащие. Павел дернул дверь библиотеки, но она не поддалась. Он стал стучать.
Потом, с горя, попытался посмотреть в замочную дыру и убедился, что ключ в ней изнутри не торчит. Он поехал домой, ощущая, как раскалывается голова.
Глава 12
Ночью ему было жарко, казалось, что наступило лето, пришли душные, безветренные ночи, а в гостинице все топят и топят, так что нечем уже дышать.
Утром он долго, упорно воевал с собой, пытаясь открыть глаза, а они не открывались, и он проваливался в безразличие, то наказывал себе не забыть то-то и то-то возразить Димке Образцову, в то же время зная, что того нет, он умер и ничего ему не возразишь.
Наконец, он проснулся и понял, что заболел, только этого и не хватало. За окном же было не лето, а самая настоящая пурга.
Стекла сантиметров на тридцать выше подоконника были засыпаны снегом, он непрерывно ударялся в них с сухим, песчаным шорохом, и ничего в них не было видно, никаких равнин, только сплошной несущийся поток снега.
С трудом заставляя себя двигаться, Павел привалился к телефону и принялся звонить в Косолучье. Раньше других ответил, к превеликой радости, Селезнев Славка.
— Дело сдвинулось! — закричал тот издалека, как с того света. — Начали утром загрузку, сделали семь подач из ста — и все к черту опять поломалось, неизвестно, когда возобновится. Так что можешь отдыхать. Ты что делаешь?
— Кажется, простыл я из-за той форточки. Заболел.
— Ну-у!.. Ты выпей чего-нибудь.
— Выпью, ладно.
Он лег в постель, накрылся по самые глаза, уставился в голый потолок, и ему опять стало все безразлично.
Серый, тусклый свет из окна, серый потолок, серые обрывки мыслей в голове, сплошная серость и пустота.
Семь ли подач, сто ли — не все равно? Ему стала окончательно и бесповоротно неинтересной эта домна, вся вообще поездка, тем более, смешно подумать, какой-то пошлый очерк. Он лежал и вообще не мог понять, зачем сюда заехал, какой во всем этом смысл, ему хотелось одного: как бы все это кончилось.
«Берешься писать о людях, — думал он с насмешкой, — поучать их, видите ли, а что понимаешь сам? Ах, как ловко, ах, как лихо распределил всем должности: Белоцерковский — блестящий ученый; Селезнев — скромный служащий, обремененный семьей; Иванов — рабочий, домино и „на троих“; Рябинин — преподаватель вуза; и Женя — мать троих воспитанных детей… Пре-вос-ход-но! Нокаут».
Его противно затошнило от сознания своей бесполезности.
— Маятник, — сказал он себе, чувствуя, как кровать под ним качается волнами, тошнотворно, мучительно, так, что пришлось напрячь голос, чтоб пересилить эту возмутительную качку, и он повторил упрямо: — Маятник, маятник!
Дальним уголком сознания, по опыту, он знал, что все это пройдет, только нужно выждать, терпеливо пережить. Пройдет, потом даже не вспомнишь. Тем более болезнь. Маятник туда — маятник сюда, на том построены все наши состояния.
Это он вычитал. Толковая была, ученая статья. В нас жизнь пульсирует нервно: подъемы, спады… Так и нужно. Без спадов нет подъемов. Подъем — используй, радуйся, твори, живи. При спаде в панику не ударяйся, спокойно жди и чем-то занимайся неважным, «подчищай тылы», и маятник качнется.
«Особенно не рекомендуется, — Павлу прибредилось, что он пишет инструкцию, не то ироническую, не то всерьез, а ручка так и бегает по бумаге, и буквы так славно вяжутся, вяжутся одна за другой, словно готовые, выдавливаются с пастой. — Особенно не рекомендуется принимать серьезные решения при спаде, уходить с работы, разводиться, бросать дело… Пройдут день-два, и с изумлением видишь: какой ты был чудак…»
Он многое хотел еще написать: о счастье, что-то очень важное, а то забудется, но он устал. Откинулся, прислушиваясь к треску снега, попытался вообразить солнечные тропические острова, песчаные полосы берега с пальмами и бегущие с синего океана белые валы… Но воображение упрямо-кошмарно выдавало черные конструкции в саже, циклопические песочно-розовые гробницы, где он блуждал в поисках выхода на берег, а выхода все не было, и вот кто-то ему говорит несусветную чушь (но откуда бы это он взял!): что, мол, уже вся земля, и берега, и сами океаны застроены, впритык. Павел не поверил.
Постучали в дверь, он проснулся. Он подумал, что это ему приснилось, и продолжал лежать, не отвечая. Тогда дверь сама раскрылась, и вошла Женя — в своем потрепанном пальто, меховой шапке, занесенная снегом, он дотаивал у нее на плечах и на шапке.
— Не может быть, — сказал он. — Бред какой-то.
— Вот я тебе сейчас задам бред, — сказала Женя весело. — Отчитывайся, что с тобой?
— Не знаю. Простыл, башка трещит.
— Температура? Мерил?
— Чем? Ты как явилась?
— Сейчас я отогреюсь, все объясню. Славка сказал. Я подумала, что тебе одному в гостинице не очень светит.
— Ты на работе?
— Закрыла, смылась, ничего, сойдет.
— Ну и ну… Постой, я встану.
— Сперва, ты извини, дай лоб, — сказала Женя деловито.
Она наклонилась, прижала губы к его лбу, словно целуя, задержалась на секунду.
— Я определяю лучше, чем термометр. Тридцать восемь. В груди болит?
— Нет, это просто грипп, ты заразишься, чудачка.
— Сам ты такой. Что ел? Что хочешь?
— Кофе.
— С молоком?
— Нет, черного. Много дней хочу кофе, но это такая проблема, а из посуды у меня — чайник.
— Так, лежи тут. Можешь тихо ругаться. Я быстро вернусь.
Она решительно закуталась, хлопнула дверью и исчезла. Он подумал: «Может, приснилось?» Но посмотрел — на стуле ее сумка стоит, влажная, оттаивает. Значит, вернется.
Она действительно вернулась довольно скоро, неся битком набитую сетку. Стала выгружать из нее: городские булочки, бутылки с молоком, пачку кофе, масло, колбасу, кучу аптечных лекарств. Когда только успела?
— На, читай инструкцию, — подала она продолговатую коробку, — как оно включается?
А сама уже принялась мыть и наливать чайник. В коробке был новенький электрокипятильник, этакая блестящая трубка, свернутая спиралью.
— Втыкается в розетку, такое включение, — сказал Павел, поражаясь, как проблема просто решилась, а он не мог додуматься, ведь кофе мог варить хоть ведрами.
Через несколько минут он уже пил его, горячий, обжигающий, глотал с наслаждением, так, что дрожь пронизывала, чувствуя, как охватывает его горячее блаженство, и радость жизни, и уверенность в том, что все хорошо и будет хорошо! «А маятник-то пошел в другую сторону!» — подумал он. Каких пустяков иногда достаточно, чтоб все сразу переменилось, — например, небольшая малость чьего-то внимания…
— Бог ли тебя послал или пост содействия стройке, — сказал он, — но спасибо, без дураков. Обидно, что там началась загрузка, а я… так можно и задувку пропустить.
— И пропускай себе: здоровье важнее.
— Ну, на задувку я хоть на четвереньках полезу, но…
— Боже мой, — тихо сказала Женя. — Я этого, наверно, никогда все-таки не пойму.
— Чего?
— Как из-за какой-то задувки, загрузки… убиваться.
Она подошла к окну, прижалась лбом к стеклу, и на стекле остались, вокруг запотев, два следа: побольше от лба, поменьше от носа.
— Надо же из-за чего-нибудь убиваться, — сказал Павел, ломая булку.
— Но, прости меня, из-за этого… Железо, машины, цифры, хитроумные игрушки. Убиваются, не спят, болеют, умирать готовы, погоди, из-за чего? Что это за век сумасшедший и что будет?
— Век науки и техники.
— Не верю, что от этого счастья прибавится. Не знаю. Пишут фантастику, заглядывают в будущее. Ну вот, сплошная техника, все человеку гордому подчинено, повелевает, нажимает кнопки, автоматы выполняют его малейшие желания, прихоти. Но разве к подлинному счастью это имеет какое-нибудь отношение? Ну, радость, приятно, интересно, но это еще ребенок может быть счастлив оттого, что ему купили наконец педальную машину — о ней он так мечтал! И люди, как дети, воображают: вот здорово, будут у нас педальные машины разные, какое счастье!
— Счастье не счастье, а все же интересно!
— Ах, во все века люди жили, страдали, любили, размножались, уставали, радовались и умирали, и ничего-то, в сущности, не изменилось, только у нас стало больше игрушек. Всяких электрических лампочек, автомобилей, счетных машин, проникновений в тайны материи, но это просто разница в количестве игрушек. Это как мальчишка: только что научился что-то сколачивать, привинчивать, паять, обрадовался, с головой нырнул и строит разные моторчики, модели, они для него заслонили весь мир. Ну, пусть игрушки, все любят игрушки, я люблю игрушки, но ты мне объясни, почему нужно на четвереньках ползти на запуск очередной игрушки?
— Мальчишка вырастет в Эдисона, — сказал Павел. — А Эдисон — творец. Счастливый. Так я понимаю. Ты говоришь «игрушки», да игрушки ли? Техницизм стал частью сути жизни. Машина неотъемлема от человека. Вообрази на миг, что каким-то чудом вдруг исчезло абсолютно все, что человеком сделано, от пуговиц до заводов, абсолютно все — и люди оказались голыми на дикой земле. Миллиарды. Можешь такое вообразить? Половина сейчас же погибнет, как канарейки, выпущенные из клетки. Значит, техника не игрушка. Идет гигантский качественный скачок, с которым изменяется и психология, и мораль, и воспитание, и даже любовь, если хочешь. Мы неотъемлемы теперь от техники.
— Что неотъемлемы — да, так. Но мне совсем не ясно, станет ли от этого на свете хоть на каплю больше добра.
— Станет. В этом даже сомнения быть не может. Один пример. Прогресс техники вызвал рождение целого нового класса людей. Я имею в виду рабочий класс. Этот класс оказался среди человечества качественно новым, передовым, выдвинул идеи справедливого, коммунистического переустройства мира — и взялся за эту работу. Мы живем в разгаре ее. Мы готовимся отметить пятидесятилетие Октябрьской революции — пятидесятилетие новой эры. Новой эры! Еще раз говорю: новой эры в жизни человечества! И ты при этом не видишь связи между прогрессом науки и техники и добром? Говоришь о каких-то «игрушках»! Извини меня, ведь это как-то… по-детски прямо. Кстати, ты не одинока в своем страхе перед техникой. Ты не читала о своих единомышленниках, о муже и жене из ФРГ?
— Нет.
— Их было двое, супруги, они послали всю эту цивилизацию к чертям, совсем, решили жить, как некогда неандертальцы. В глухом лесу соорудили хижину, ловили рыбу, собирали ягоды, грибы, и пятеро детей у них родилось. В конце концов им запретили жить в лесу и силой поселили на околице деревни. Запретили! Пара эта никому не мешала. Каждый по-своему сходит с ума. Ну, пусть бы себе жили неандертальцами, если хотят. Но век техницизма не терпит, если его отрицают. Власти предъявили смехотворное обвинение: нельзя в лесу разводить костры… Еще один парень поселился на необитаемом острове, где-то у Австралии. Тоже порвать с цивилизацией, назад к природе, жил, как Робинзон. Приехал катер, и его арестовали. Мотивировка: проживание на австралийской территории без визы.
— Ты что-нибудь говорил Славке обо мне? — вдруг спросила Женя.
— Нет, не помню, а что?
— Сегодня он сказал мне: «Старуха, не теряйся, Пашка был когда-то влюблен в тебя. Он один — требуется лишь минимум понимания и близкая душа».
— Я с ним не говорил. Он подслушивал под дверью библиотеки.
— Почему такие люди считают, что все на свете их касается? Что они могут и должны всюду вмешиваться, толкать, советовать, поправлять, пресекать!.. Добровольные благодетели не спрашивают, нуждается ли мир в их благодеяниях.
— Ты сегодня, между прочим, тоже занимаешься благодеянием, — улыбаясь, сказал Павел.
— Если не нравится, сейчас же ухожу.
— Нет, нравится.
— Откуда он взял, что ты тряпка? Говорит: из него лепи, что хочешь. Почему он так может говорить?
— Возможно, потому, что я показался ему не таким воинствующим, как он.
— Ты воинствующий. Если хочешь бежать на четвереньках к домне.
— Да, воинствующий. Только не так лобово, трескуче и настырно, что ли. Не так поспешно.
— Объясни.
— Смотрю сперва, подолгу думаю, хочу проникнуть в смысл того, что вижу, и не спешу с первого раза бурно принимать, бурно отвергать. Любое явление сложно. Увидеть — и тут же клеймить или, наоборот, поднимать на знамя — это надо в голове иметь одни догмы, то есть быть личностью остановившейся. Я сейчас говорю не о Славке. У нас с ним разные профессии и разные задачи.
Женя встала, свернула сетку, сунула в сумку.
— Пока меня там, может, не хватились, поеду. А ты засни.
— Ладно. Если удастся. Лезут в голову всякие металлические конструкции…
— Засыпай с тряпкой.
— Как?
— Я представляю себе черную школьную доску, себя перед нею с тряпкой в руках. Как только что-нибудь на доске появится — быстро стираю. Раз десять сотру — и засну. Только надо, чтоб доска была большая, черная, пустая.
— Хорошо, попробую.
— Завтра снова приеду.
«Измерь мне температуру», — захотелось сказать Павлу, но он не сказал, только про себя засмеялся мальчишеской хитрости.
— Ты что там хмыкаешь про себя? — спросила она, насторожившись. — Надо мной смеешься?
— Нет. Помнишь, как мы с Федором дрались из-за тебя? Теперь у него такая семья, шум, визг, шестеро детей.
— Федор — хороший человек. Он лучше нас всех. Потому что он добрый. Спи.
Она ушла, а Павел долго еще лежал, глядя на метель за окном, думал, думал. Потом взялся за опыт с тряпкой.
Он вообразил себе класс, тот класс, в котором когда-то они учились все вместе, первый этаж, за окнами крыши сараев и голубятня. Себя он поставил у доски, а класс сделал пустой, совсем пустой, чтоб было тихо и никто не отвлекал. Будто бы он остался после уроков. Доска показалась ему мала, он расширил ее во всю стену, от окна до дверей. Взяв в руки мокрую тряпку, он стал смотреть на доску и приготовился.
Несколько секунд на доске ничего не было. Потом стала рисоваться полированная гранитная глыба с буквами золотом, его имя, отчество, фамилия… «Э, нет, — подумал он. — Долой». И быстро стер.
Немедленно стала рисоваться домна, но не подлинная, а та, которую он сам нарисовал на картинке, и рядом прямоугольник — тридцатиэтажный дом. Он быстро стер их, сначала дом, потом домну.
Тогда появился помост, освещенный яркой лампой, Федор Иванов с сосульками волос на потном лбу, шевелящий губами: «Эх, ребятки мои, да я же вам…» Поспешно, панически Павел стер и это.
Медленно возникла Женя, только одно лицо ее, глядящее из темноты. Она смотрела вопрошающе, с вниманием, невесело. Ему было жаль стирать ее, он долго смотрел на нее задумчиво, с добрым чувством.
— Дрыхнешь, гад? Валяешься? Раз-бой-ник! — Павел так и вскинулся от этого крика и несколько секунд не мог понять, что это не Женя вернулась, а Славка явился.
— Ну, чего-чего-чего? — кричал тот. — Не стыдно?
— Стыдно.
— Эх, ты, прин-цес-са на го-ро-ши-не! От свежего воздуха заболел! На, жри!
Славка вывалил на одеяло пакет апельсинов, порылся в карманах, еще три достал, добавил.
— Из-за тебя специально на базу мотался. Старик, дорогой мой, что с тобой? — спрашивал Славка с каким-то жалобным, почти собачьим сочувствием в глазах. — Врача привести, говори живо? Я могу быстро, у меня внизу машина стоит, я тут в горкоме по делам, но могу куда угодно смотать, все приведу в движение!
— Брось, пустяки, — заверил Павел, — я уж не рад, что по телефону тебе сказал.
— Да как ты смел! Тебя лечить надо!
— Наглотался тройчатки — пройдет.
— У тебя хоть есть?
— Есть.
— Так… И пища, вижу, есть, ну, ничего, и это не помешает…
Он продолжал рыться в карманах, за пазухой, вытащил что-то съедобное, в бумаге, пропитавшейся маслом, горсть конфет «Ромашка», консервы «Сельдь в горчичном соусе» и, что уж совсем убило Павла, свой великолепный перочинный нож с ножничками и вилкой,
— Знаю я эту гостиницу, — ворчал Славка, — у них не то что вилку, снегу среди зимы не выпросишь.
— Да ты сам-то с чем останешься?
— У меня дома охотничий нож! Так. Можно в два счета в больницу, полежишь, сестрички там молодые, я могу устроить в полчаса, у меня там все врачи знакомые…
— Кончай. Мне на задувку домны надо попасть.
Славка присел на кровать, все так же глядя на Павла любовно и преданно.
— Не беспокойся, на твою удачу, там все так и стоит!
— И загрузка не возобновилась?
— Нет.
— М-да…
— Старик, все прекрасно! Могло быть хуже. Чехов говорил: если у вас в кармане загораются спички, благодарите бога, что там не пороховой погреб! Надо именно так смотреть на все. Благодари бога, что у тебя не чахотка, не рак, не сифилис! Грипп — какая красота! Советую: придерживайся моего правила.
— Оттого ты такой оптимист?
— А что же, надо же как-то спасаться.
— Там в машине тебя кто-то ждет?
— Нет… Послушай, а что, по мне видно?
— Да.
— Ага, ждет.
— Кто?
— Ну, та, ну… член бюро. Как раз бюро сегодня, вот…
— Ну, что ж ты сюда не привел? Я б посмотрел.
— Знаешь, я побоялся. Ты же гад. Ты все понимаешь, у тебя мозг — кибернетическая машина. Потом скажешь мне, что она дура или еще что-нибудь, а я расстроюсь, потому что не поверить тебе не смогу.
— Я не буду говорить, обещаю.
— Паша, для меня это серьезно… Такие большие, хорошие иллюзии…
— Ты ценишь иллюзии?
— Привет, а как же, — неожиданно печально сказал Славка. — А как же, скажи пожалуйста, жить на свете без иллюзий?
— Беги, пожалуй, ведь она замерзнет.
— Не замерзнет, она здоровая, спортом занимается. Посидит. Я очень рад тебя видеть, что ты не при смерти.
— Сейчас я вообще встану.
— Не смей, дурак.
— Сам ты дурак.
— Не смей, сказал, эта зараза сейчас ходит, такие осложнения, ты потом будешь всю жизнь жалеть, прошу тебя! — Славка замахал руками и схватил Павла, словно тот уже в самом деле вставал и его следовало держать силой. — Ты хоть ради меня! Тебе осложнение на голову перекинется, а я буду всю жизнь мучиться, что писателя загубил, положил, на свою беду, под форточкой тебя, мимозу. Пожалуйста, ну, не болей, ну, ладно?
— Ладно, — сказал Павел, протягивая руку. — Спасибо, и беги.
Славка с чувством пожал ему руку, надолго задержав ее.
— А то, что мы ругались, — это в порядке вещей ведь! — сказал он.
— Конечно.
— Я всегда охотно признаю, если в чем-то дурак. Но ты мне это докажи, докажи! Тогда я честно признаю. У меня сильный комплекс неполноценности, но иногда я могу наступать ему на горло, если только честно, по правилам… Мы ведь еще поговорим?
— Давай.
— Сейчас иду. Только скажи: а что ты думаешь про нашего парторга?
— О боги! — воскликнул Павел, раскинув руки.
— Ладно, черт с тобой, не мучаю. Я завтра снова вырвусь и заеду, что надо — телефон. Пока!
— Привет членам бюро! — крикнул Павел.
Глава 13
Под потолком сияли десятки ослепительных солнц. Со стен были направлены лучи прожекторов прямо на печь. И горели костры, казавшиеся оранжево-кровавыми, наполнив воздух запахом пожара.
Костры горели в канавах, по которым пойдет металл, горели с самого утра: следовало хорошо прожечь канавы. Там распоряжался Николай Зотов, ходил, помешивал, а то стоял, опершись на длинную кочергу-пику, похожий на пастуха.
Плакат на домне возвещал: «Дадим металл 31 января!»
Печь иногда издавала звук. Раздался глухой, словно подземный удар, — это наверху опрокидывался скип, обрушивая очередную порцию величиной с товарный вагон. Нагружалось в домну нечто называемое «агломерат». Прежде когда-то в домны насыпались руда, уголь и известняк. Всему этому вместе название — «шихта». Теперь шихта подготавливается на аглофабрике: мелкая руда, известняк и колошниковая пыль спекаются в куски. Это и есть агломерат.
У подножия печи стояла тихая паника: что-то подвинчивали, звякая ключами, простукивали трубы, бегали озабоченные газовщики. Под крышей литейного двора, глухо ворча, медленно-величественно катался туда-сюда колоссальный мостовой кран, словно разминался. И в висящей над пустотой кабинке его виднелась прозаическая женская головка в платке. Прежде кран скромно прятался в самом дальнем темном конце, под потолком, а тут, гляди, разъездился…
И от всей деловитой суеты, от костров и ослепительных прожекторов стало необычно, как-то по-цирковому празднично, словно готовилась большая огненная феерия какая-нибудь.
Павел видел, как люди волнуются, возбуждены. И он поймал себя на том, что волнуется, как все, что сердце жадно и гулко ударяет в предчувствии невероятного, неповседневного чуда.
Да, в конце концов не чудо ли — зажечь такую махину, такой впервые в мире огонь? Никто на целом земном шаре именно такого не разжигал, опыта нет, как сказано…
И все волнуются, каждый буквально до муки хочет, чтоб все вышло хорошо, чтоб удался этот самый пуск, чтоб печь хорошо разожглась, ожила, заработала, дала металл. Чтоб такое было, значит, чудо.
Прибывали разные люди: инженеры, начальники из других цехов, рабочие — поглядеть, собирались группами, уважительно поглядывали на печь.
Федор Иванов увидел Павла, подошел, возбужденный, красный и потный, он тут уже суетился с рассвета. Был он все в той же затасканной тужурке и немыслимой шапке с неизменными прилипшими ко лбу сосульками волос. Снял шапку, старательно выколотил о колено, тучу пыли и сора выбил — и где только набрался?
— Ну, все. Комиссия заседает, пишет акт о приемке. Сейчас либо дадут приказ задувать, либо… О! Слышишь? Это последняя подача. Полон самоварчик доверху…
Он старался не показывать, но все же видно было, как он весь напрягся, как в нем все мобилизовано до предела. Рассеянно спросил:
— Да! Ты тогда домой хорошо доехал?
— Хорошо. Всю ночь потом думал о твоих астронавтах.
— Ага, да, да…
Федор, кажется, даже не понял, о чем Павел говорит: он был весь в себе. Что-то решал. Потом вдруг посмотрел на Павла изумленными, по-детски раскрывшимися глазами, стукнул Павла в грудь, так что тот пошатнулся.
— А помнишь ли ты, собачий сын, а помнишь ли, как ты мне все ребра за Женьку пересчитал?!
— Ну!
— Ну, битва была, скажи? На всю жизнь память!
— А я в твоем великодушии не нуждаюсь: ребра-то пересчитал в общем-то ты мне…
— Не говори, ты и сам тогда здоров был, бычок, как свалил меня!
— Так подножкой же.
— А девочка ни тебе, ни мне не досталась… За что кровь проливали? А?
— Да.
Глаза Федора метнулись на домну, окинул этак ее сверху донизу оценивающе, хлопнул шапкой по колену, нахлобучил ее на голову покрепче.
— А, задуем, черт ее дери! — сказал он бесшабашно.
У железных дверей образовалось какое-то торжественное движение: поплыли шляпы, белые воротнички, зашныряли два или три деловитых корреспондента.
Никого из важных этих лиц Павел не знал, кроме парторга Иващенко: тот шел, придерживая под локоть сухонького, очень элегантного, маленького старика с торчащим из кармашка уголком ослепительно белого платочка, словно он не на задувку домны, а на торжественный банкет явился, и, жестикулируя тонкой ручкой с массивным золотым кольцом, старичок увлеченно говорил:
— Решительно советую, сногсшибательный пансион! Здание — модернящее, последнее слово архитектуры, и вокруг господня дичь, вершины, скалы, первозданный хаос такой, что вы первое время устаете и роняете вилки за обедом…
Павел поздоровался с Иващенко.
— А! Ну, вот видите, — сказал тот весело, — а вы спрашивали: когда да когда. Знакомьтесь: писатель из Москвы — главный мировой специалист по домнам, товарищ Векслер, это он создал такую красоту!
Иващенко подмигнул Павлу.
— Не подлизывайтесь, — сказал Векслер. — Вопрос о недоделках все равно останется… А вы из Москвы? Так мы земляки.
— Я вас оставлю на минутку, — сказал Иващенко.
Он озабоченно убежал, и Векслер с Павлом, точь-в-точь как на банкете, должны были завести что-то вроде светской беседы.
— Еще одна попытка написать о домнах нечто художественное? — спросил Векслер весело.
— Не знаю, — сказал Павел искренне. — Когда я ехал сюда, имелся в виду просто очерк.
— Как жаль и как обидно, что пишется много, но скверно. Не то, не то, а иногда просто безграмотно!.. Погодите, давайте отойдем.
Они отошли, сторонясь ребят, тащивших поспешно толстый электрический кабель. Увидя железный сундук, где когда-то отдыхало пальто Павла, щупленький Векслер с удовольствием на него влез, свесил ноги, болтая ими, постукивая каблуками по гулкой стенке, увлеченно заговорил, похлопывая Павла по руке:
— Вы не пишите, как все! Уж если вас угораздило взяться за такую труднейшую тему, так вы уж постарайтесь, прошу вас!.. Опишите самое главное: новаторство! Непроторенные пути!
— Вы не перечислите хотя бы главное?
— С удовольствием. Но только забудьте, что сказал Матвей Кириллыч обо мне, такую, как он выразился, красоту не под силу создать одному человеку, это создавали двенадцать проектных институтов под руководством главного — ЦНИИ черной металлургии. Применение новейших машин, конструкций и материалов. Максимальная автоматизация управления технологическими процессами. Повышенное давление увеличит выплавку чугуна на пять-шесть процентов. Абсолютно новая система газоочистки: допустим, один миллиграмм пыли на кубометр, что не достигнуто еще ни на одном металлургическом заводе. А сооружение! Одно сооружение — сплошное новаторство!
— Да, я слышал: бетонный рекорд…
— Да, да, но это что еще! Главное то, что домна создана с применением небывалых еще железобетонных и металлических блоков! Поузловая сборка оборудования! Электрошлаковая сварка! Щитовая проходка подземных коммуникаций! Особенно блоки, крупные блоки, вы непременно напишите об этом. Это главное, главное!
Он говорил, буквально захлебываясь, блестя глазами, чуть не подпрыгивая на сундуке, стараясь как можно лучше втолковать все это, объяснить такую важность, грандиозность. Павел поразился, сколько энергии, сколько прямо-таки фанатизма в этом щуплом, безукоризненно одетом старичке.
— Вы упустили, — напомнил он, — что печь эта крупнейшая в мире…
— Пустяки, это как раз меньше всего имеет значения, да и проходит она в лидерах всего-то ничего, сейчас в Н-ске будут сданы две покрупнее, так что не знаю, насколько данный факт имеет даже, так сказать, публицистическую ценность… Конечно, можете упомянуть, но главное — решение сложнейших, подчеркиваю, сложнейших научно-технических задач!
— Можно вам позвонить? — спросил Павел, — Вы живете в Москве, я понял?
— Э, если это можно назвать жизнью! По полгода на объектах, застать меня дома — трудное дело, однако… Минуточку! Однако, кажется, пустили дутье!
— Идет! — раздались голоса.
Все у домны пришло в движение. Пытались прислушаться к трубам, прикладывали руки к соплам фурм: дрожат ли они под напором? Векслер и Павел присоединились к толпе, хотя, собственно, делать было нечего, и ничего видимого не происходило.
Вдруг из-за домны раздался панический крик:
— Обер! Прорывает дутье!
Федор Иванов так и кинулся туда, проталкиваясь, и за ним побежали многие.
— Не мешайте! Не мешайте! Отойдите! Не заслоняйте свет!
Но толпа сгрудилась так, словно там человека задавило. Слышались стук, звяканье, сдавленные от напряжения выкрики:
— Держи! Подтяни! Хар-рош… Затянули.
Все облегченно заулыбались.
— Горит! — раздался торжествующий вопль уже с передней стороны домны. — Горит, товарищи! Гори-и-ит!
Тут уж поднялось настоящее столпотворение. Кто успел — прилип к глазкам. Их было мало, всего несколько, и были они укреплены на фурменных приборах как впаянные подзорные трубы с крохотными стеклышками окуляров. Образовались очереди к глазкам, и Векслер скромно стал в хвост очереди, а Павел за ним.
— Темно.
— Не вижу.
— Ага, ага, теплится!..
— Горит, горит!
Вот, оказывается, как зажигаются домны. Не спичкой. Раскаленные потоки воздуха вдуваются через фурмы, до такой степени раскаленные, что поджигают все, потому говорят: задувка.
Передние выбирались от глазков с сияющими лицами, словно бог весть каких чудес насмотрелись:
— Ну, это еще дрова горят.
— Горят дрова — загорится все.
— Поехала!..
— Ну, братцы, теперь можно сказать: плоды своего труда вы видите!
Дошла очередь и до Векслера с Павлом. Если глядеть в глазок, он представлялся чрезвычайно длинной трубкой, заполненной стеклом, от чего чувствовались легкие искажения. На том конце трубы красно светились неподвижные угли. Ничто не полыхало, не двигалось, только громоздились эти красные куски. Вот и все.
А вокруг — поздравления, пожатия рук, радостные улыбки, хохот, собирались качать Федора Иванова, он отбрыкивался, боже мой, какой праздник, какая радость!..
— Ну, что я говорил?
— Пой-йде-ет!
— Ладно, ты, Иванычев, не забывай недоделки!
— Вздули самоварчик, ну-ну…
— Лиха беда начало.
— Вот я т-те дам — беда! Плюй через плечо!
— Тьфу-тьфу-тьфу!
— Ну, все, теперь вы, строители, наши почетные гости, а хозяева мы!
— В добрый час!..
Павел наткнулся на Илью Ильича, начальника цеха, с которым стружку вместе кидали. Он был все такой же — незаметный пожилой рабочий, да и точка, держался сбоку, тихо посмеиваясь.
— Вам этого не понять, — сказал он Павлу, — отчего так радуются.
— Почему? Я понимаю…
— Я вам говорил, помните? Какою ценой. Ах, люди хорошие!..
Векслер, хитро смеясь, поманил пальцем Павла. Сказал на ухо, прямо захлебываясь от смеха:
— А хотите, так и быть, продам вам колоссальный факт?
— Что?
— Сегодня — понедельник.
Павел не понял, подумал, что старик его разыгрывает, и, на всякий случай улыбаясь, продолжал смотреть вопросительно.
— Не понимаете? Что значит не доменщик! Ни одна домна в мире не задувалась в понедельник. Традиция! Примета! Это у металлургов так же свято, как, знаете, у моряков не свистеть на судне, или что там у них? Вы замечаете: на всякий случай никто не говорит на эту тему, как будто ничего не случилось. Это потом заговорят. Все помнят, все-е, а никто не говорит. Представляете, культурные люди, с ужасно учеными степенями — и те сегодня на подписании акта возражали, едва ли не главное возражение! Говорили: а что скажут рабочие, смена может отказаться, потому что небывалое дело…
— По-моему, никто слова не сказал.
— А вот! Правда, теперь случись что-нибудь… Не дай бог! Но, будем думать, не случится, суеверию же смертельный удар!.. Чур, за выдачу такого факта присылаете мне лично экземпляр вашего труда тотчас по выходе в свет.
Он протянул визитную карточку, отпечатанную замысловато-парадно переплетенными буквами. Все не мог успокоиться:
— Нет, я вижу, мой факт до конца вами так и не прочувствован. Это тоже новаторство, но в области психики! Представьте себе, что вот сейчас, в двадцатом веке, где-нибудь в США, или в Англии, или в ФРГ ни за что не задуют в «тяжелый день» даже, скажем, самую махонькую печурку, не говоря уж о таких колоссах! Нет, нет, вы напишите об этом, напишите! Я прав?
— Да.
— Приглядывайтесь ко всему внимательно. То ли еще дальше будет! — с загадочным видом пообещал Векслер. — Ну, что ж, пора обедать? Пусть она, голубушка, теперь греется…
Павел заметил, что Славка Селезнев прячется от него. Уже несколько раз мелькала его сияющая розовощекая физиономия и, скользнув взглядом по Павлу, тотчас проваливалась.
Наконец Павел увидел причину столь странного поведения: Славка был не один. Он принарядился, надел какую-то сверхспортивную куртку, ботинки на толстенных подошвах и осторожно водил под руку миниатюрную беленькую девочку с лукавыми глазками, ту самую, словно сошедшую с фотографии на стене, члена бюро. Он подводил ее по очереди ко всем глазкам, они очень мило переговаривались и подолгу приникали к глазкам, словно там смотрели мультипликационные фильмы. Девочка понравилась Павлу, очень уж она была такое юное, свежее, непосредственное существо, хотя именно из таких и вырастают иногда самые отменные домашние диктаторши. «Ага, — подумал он. — Значит, он прав, оберегая ее от моих мнений!» Он только посмотрел издали и не стал подходить.
Уже толпа почти совсем разошлась, у домны готовились остаться те, кому положено, как в цех прибежал, запыхавшись, повар Мишка Рябинин, как был в фартуке, только пальто сверху накинул:
— Уже растопили?
Вокруг добродушно захохотали:
— Как же главного специалиста не дождались?
— Эх ты, повар-голова, не «растопили», а «подпалили», учись хоть грамотно выражаться!
— Ври, ври! Задули!
— Гляди, ученый повар! Вот, перенимай опыт, теперь в столовке плиту только так задувай! — сказал Николай Зотов.
— А что? — сказал Рябинин. — У меня печь — тут печь, только большая. Дров напихал…
— Во, во! Газетку скомканную сунул!..
Федор Иванов вынырнул из-за домны, грозно закричал:
— Колька! Что ты там баланду травишь? А ну, давай мне, занимайся печкой!
Николай Зотов сразу же, втянув голову в плечи, послушно, как мальчик, побежал вниз.
— Вот охломоны! — восторженно сказал Рябинин. — «Занимайся печкой», говорит. Печечка! Печурка!.. Ну, пошли, Паша.
— Куда?
— Ко мне теща из Ленинграда приехала, праздник, и сопротивляться не моги.
Глава 14
Дом у Рябинина был свой — добротный, ладно сложенный, повыше соседних. Стоял на высоком фундаменте, подальше от почвенной сырости, так что на крыльцо пришлось подниматься по лестнице.
И лестница сама была хороша — каменная, с узорчатыми перилами.
На просторной, хоть на велосипеде катайся, веранде стоял стол для пинг-понга. Отсюда высокая дубовая дверь вела во внутренние покои. Когда вступили в прихожую, блиставшую натертым паркетным полом, вокруг оказалось столько дверей, что Павел опешил.
Рябинин принялся распахивать двери одну за другой, давая пояснения:
— Ванная. Гальюн. Кладовая. Фотолаборатория. Кухня. Кладовая. Тут жилая. Жилая. Эта пока пуста. Тут столовая.
— Широко живешь, — сказал Павел, крутя головой.
— Живем на этом свете, а на том такого уж не будет, — сказал Рябинин задумчиво. — А вошло мне все это еще в ту копеечку!.. И куска жизни как не бывало.
Прошли в большую столовую, где был наполовину накрыт стол, как это делается в ожидании гостей: что не требуется держать в холодильнике и что не горячее, то заранее можно выставить.
Обставлена была столовая добротно, дорогими и прочными вещами, но немодными. Например, стулья — отличные ореховые стулья, с бархатными пружинными сиденьями, с округлыми спинками, на которых имелась узорная резьба, полный гарнитур, но таких теперь не делают. Видимо, Рябинин на моду смотрел сквозь пальцы, а в вещах ценил их удобство и цену.
Бархат в доме был популярен: и на окнах тяжелые бархатные занавеси сверх тюлевых, и на каждой двери — малиновые бархатные гардины, что приводило на мысль о пыльных ложах оперного театра.
На столе же, покрытом белоснежной скатертью, были выставлены бутылки бренди, французский коньяк «Наполеон», красная и черная икра, крабы и небольшое блюдо с тонко нарезанным ананасом.
Влетела пышная, знойная женщина с глазами-маслинами и черными усиками под носом, принесла большой поднос разнообразнейших закусок.
— Жена моя, — сказал, Рябинин гордо. — Чудо-женщина.
— Мишенька рассказывал о вас, садитесь, не стесняйтесь, будьте как дома, — сказала чудо-женщина, любезно улыбаясь и показывая ряд золотых коронок.
Вслед за тем явилась бойкая старушка лет за шестьдесят.
— А я теща, — представилась она.
— А теща у меня, Пашка, — клад, а не теща, — сказал Рябинин. — Я ее больше, чем жену люблю. Современная старушка, золото-теща.
— Значит, тебе повезло, — сказал Павел, смеясь.
— Это точно. Мне вообще везет. Знаешь, иногда мне становится страшно: почему я такой везучий? Что задумаю — все исполняется. Даже трехпроцентный заем — не успел облигации купить, трах-бах, выиграл. Пытались прицепиться: на какие деньги дом выстроен? А я что, виноват, если я выигрываю? Пришлось справки представлять, до того дошло…
— А на самом деле? — спросил Павел.
Рябинин махнул рукой.
— Еще изба была в деревне, на жену переписал, я ее разобрал, перевез материал.
— Каменная, что ли, изба?
— Нет, конечно, бревенчатая, но легла, так сказать, за основу.
Павел прошелся по комнате, осматривая потолок, пол, постучал пальцем в стену — звук получился, как если бы в скалу стучать: толстые, добротные стены.
— Одно время, — сказал он, — я мечтал иметь такой дом. Но как посмотрел, сколько это стоит… Один кирпич, если на складе покупать…
— Это у тебя неправильные представления, — перебил Рябинин. — Идеалистические представления. Частные застройщики не строят исключительно из складских материалов. Если все покупать по казенной цене, без штанов, знаешь, останешься…
— Да, и я понял: чтобы выстроить недорогой дом, нужен талант. Ну, как это делается?
— Известно, как делается. Входишь в контакт с нужным человеком, первое — ставишь водку, второе — платишь по-божески, а дальше только тяни быстрее. Ни для кого это не секрет. Ну, а что человеку делать? Ты видел цены на кирпич, лес, гвозди, краску, железо?
— Выходит, все частные застройщики — мошенники?
— За всех на свете обобщать не хочу. А вот я — да.
— О, у тебя даже отопление водяное?
— Да, свой котел внизу. Идем, покажу.
Они пошли дальше по дому, осмотрев отопительную систему, подвал, не законченный еще гараж, а затем мансарду.
Оказывается, под крышей была еще одна комната, очень уютная, но совершенно не используемая, если не считать того, что в ней хранились яблоки, россыпями покрывавшие пол, устланный газетами, так что запах там стоял, что в саду.
Все было прекрасно, добротно, ново. Только хозяин сам очень уж как-то сдал за прошедшие годы. Располнел, обрюзг.
Конечно, и работа такая, думал Павел, постоянно у плиты, но все же в свои годы, совсем еще не старые годы, Мишка Рябинин мог бы выглядеть и помоложе.
— Хороший дом, ничего не скажешь, хороший дом, — сказал Павел каким-то фальшивым голосом и чувствуя себя не очень весело. — А сколько времени ты его строил?
— Ох, даже не знаю, как ответить. Если с самого первоначала брать, с накопления средств, — десять лет.
— Много.
— Много…
— А скажи, Мишка, — улыбаясь, сказал Павел, — сколько будет: сто сорок три на тринадцать?
— Тыща восемьсот пятьдесят девять. Можешь проверить, возьми бумажку, — весело предложил Рябинин.
— Вот черт! — озадаченно сказал Павел.
Когда они вернулись в столовую, там стол ломился от еды. Торжественно расселись вокруг него вчетвером. Рябинин весело сказал:
— Вот теперь ты и оцени, какой я повар. Пробуй сперва суп и скажи: из чего?.. А что, поднимем по маленькой?
— Открой мне тайну, — сказал Павел, — каким чудом «Наполеон» в Косолучье?
— А! Наконец узрел! У нас это дурное поветрие на коньяк. Лично я его терпеть не могу, в гробу бы его видать, но у нас коньяк — это больше, чем питье, это показатель. Кто достанет лучший коньяк — того и горка. Итак, чья горка?
— Твоя.
— Это мамаша привезла, я ей специальным письмом заказывал: без «Наполеона» и ананаса не являйся. Золото мамаша! Ваше здоровье… Ты ешь, ешь, отвечай, какой я повар?
— Ты великолепный повар, — сказал Павел, пробуя то одно, то другое. Из чего сварен суп, он не угадал. Шашлык был такой, какой, пожалуй, только на Кавказе водится, да и то не везде. К закускам было жаль прикасаться — так художественно оформлены, целые произведения.
— А! Жди одну секунду, я тебя сейчас убью! — закричал Рябинин, бросаясь вон.
— Расскажите, пожалуйста… да кушайте, кушайте. — Жена Рябинина протягивала ему все новые угощения. — Расскажите, пожалуйста, что в Москве носят? Хотя, конечно, вы мужчина!.. Но бывают мужчины наблюдательные. Мы здесь в провинции совсем отстаем. Наверно, мы вам кажемся смешными?
— Нет, почему… спасибо, спасибо, уже сыт, — бормотал Павел, страдая. — Почему же провинция… теперь, благодаря телевидению…
К счастью, раздались торжественные шаги, и Рябинин вошел, высоко неся блестящий поднос с чем-то ни на что не похожим. Оно пылало самым настоящим огромным фиолетовым пламенем. Вероятно, облитое ромом и подожженное.
— Суфле-сюрприз! — возгласил Рябинин голосом конферансье. — Черт возьми, дегустация так дегустация! Минуточку… вашу тарелку!
От покрытого узорами, как именинный пирог, суфле он ловко отделил лопаточкой часть, опустив ее на тарелку Павлу вместе с горящим огнем. Огонь пыхнул раз-другой, погас. Павел поковырял ложечкой. Под горячим слоем пышного суфле было внутри ледяное мороженое-пломбир с изюмом.
— Да, — сказал Павел. — Убит. Такой диапазон… Начиная от котлет из жеваной бумаги…
— Стараемся, — скромно сказал Рябинин и посмотрел веселыми и идеально наглыми глазами.
— Черт возьми! — озадаченно сказал Павел, — Черт возьми, ни за что бы не представил, подумать не мог, во сне бы не увидел, что найду тебя здесь… вот таким.
— Каким?
— Во-первых, что ты нашел призвание в кулинарии!
— Призвание? Ты что, чокнулся?
— Нет, прости меня, но, чтобы так готовить, надо иметь призвание.
— Надо иметь просто башку.
— Во всяком случае, любить это дело.
— Ненавижу!
— Что?!
— Ненавижу. В гробу бы его видал в белых тапочках.
— Слушай, старик, ты много выпил?
— Не беспокойся за меня. У меня норма — бутылка.
— В таком случае ответь подробнее, зачем же ты… повар?
Рябинин налил в свою рюмку, опрокинул одним духом, с отвращением поморщился, но закусывать не стал, только рот ладонью вытер, потер задумчиво колючий подбородок.
— Вообще-то, конечно, я могу тебе не отвечать. Не люблю этой богоугодной богоухабности в разговоре, когда надо просто пить да веселиться… Я тебе ведь очень рад, ужасно рад тебя видеть! Я любил тебя и тогда, только это не было заметно. Ты среди нас был самый… мудрый ребенок, что ли. Ты умел смотреть на вещи всесторонне. И вот теперь ты — ты! — спрашиваешь, задаешь наивные вопросы, как какое-то дитя. «Зачем ты повар?» Шутишь?
— Честное слово, серьезно. Без всяких подковырок.
— Ладно, отвечу тебе, как дитю. Каждый делает какую-нибудь хреновину, чтобы прожить. Кто на тракторе вкалывает, кто у домны с металлом, а я щи варю.
— Помойные щи и мерзостные котлеты…
— Вы можете строить домны, если вам нравится, а я предпочитаю варить… Какие щи, ты сказал?
— Помойные щи.
Рябинин закричал, вскакивая и суетясь:
— Довольно фило-зофии! Вот я тебе музыку включу! Говори, что любишь? Симфоджаз, старомодный джаз, Армстронг, Пресли, Холидей, битлы, могу даже джаз фило-зофский.
Под стеной стояла на лакированных ножках большая радиола новейшей марки. Два выносных динамика от нее были укреплены по углам комнаты, а третий — огромный, целый сундук, оказался аккурат за спиной Павла. Последнее Павел обнаружил, когда вдруг за стулом так мощно и решительно загудело, что он вздрогнул.
Включение великолепной стереофонии, однако, почему-то не обрадовало ни жену, ни тещу, наоборот, они сразу поскучнели и склонились над тарелками.
Хозяин поставил пластинку. Она ядовито пошипела и грянула. Казалось, завибрировал сам воздух, звякнули стекла в окнах, задрожал пол, и в животе у Павла шевельнулись кишки. Это было не просто громко, но стереофонически громко.
— Туист эгейн!!! — завопила радиола. — Туист, туист!!
Теща что-то убедительно заговорила, жестикулируя, разевая рот, как рыба, но голоса ее не было слышно. Жена, выразив отчаяние на лице, заткнула уши. Бухающие волны звука обхватили Павла щекочущими лапами, шевельнули волосы на голове.
— Туист эге-ейн!!! — ревела радиола.
— Вот же бабье, тьма, ничего не понимают! — заорал Рябинин в ухо Павлу. — А скажи, машина, а?
Он блаженствовал. Постукивал ладонью в такт по столу, откидывался на спину, словно купаясь в музыке.
Жена подхватила тещу, и обе поспешно скрылись вон, плотно прикрыв за собой двери.
— Так, — сказал Рябинин в короткой передышке. — Теперь Иерихон, исполняет Рид.
— Джерикон!!! — завопила радиола, подпрыгивая на ножках.
Где-то после пятой пластинки Павел взмолился:
— Мишка, дорогой, а нельзя ли чего-нибудь… философского?
— Могем! — сказал Рябинин. — Пассакалия и фуга. Софийский эстрадный оркестр.
В фуге были тоже куски довольно мощные, но они чередовались с такими философскими, что иногда можно было разговаривать.
— А каким ты ожидал меня увидеть? — спросил Рябинин. — Интересно. Тружеником, перевыполняющим нормы? Идеалистом, кладущим живот на благо общества? Свой единственный живот за неимением ничего другого?
— Честно сказать, я озадачен, даже ошарашен, — сказал Павел. — Мне совершенно не ясны… совершенно не ясны твои цели.
— В чем не ясны?
— Ты сам говоришь, что живем один раз, но занимаешься в этой жизни ненавистным делом?
— А ты покажи мне человека, который занимается не ненавистным делом.
— Гм… Чтоб далеко не ходить — смотри на меня, что ли.
— Ты? Врешь, конечно.
— Нет. Мы, может, видимся с тобой единственный раз. С какой мне стати врать?
— Хотя вообще-то… Да, я понимаю. У вас другое дело: интересно бороться за славу, популярность.
— И это у тебя такой примитивный взгляд?!
— Я не кончил. Деньги! Уж зашибаете не то, что мы, грешные!
— Ну, преувеличено. У меня такого дома нет, к примеру.
— Да, да, прибедняйся!
— Если я скажу тебе, что Толстой писал для славы и денег, поверишь? Для славы лучше пойти в футболисты.
— Но не для своего же удовольствия ты работаешь!
— Я работаю для людей. Да, да, да, для людей. Не строй такую мину на лице. Очень жаль, что ты дожил до седины в волосах, но так и не понимаешь, что это единственная подлинно достойная цель любой работы.
— Не понимаю…
— Где ты вырос? Как? Ну, хорошо, вот Горький однажды сказал, что дать приятнее, чем взять. Неужели не слышал?
— Может, и слышал, но чушь все это. Демагогия.
— Жаль мне тебя: ты сам себя здорово обокрал. Тебе скажут: прекрасно море. Ты в ответ: «Демагогия!» Скажут: цени любовь. Ты в ответ: «Демагогия!»
— И то, что ты говоришь сейчас, — демагогия! — закричал Рябинин.
— Ну и ну… — поразился Павел. — Непробиваем!
— Да, я непробиваем! — стукнул Рябинин кулаком по столу. — Я знаю, вот то, что у меня есть, то у меня есть. И пошли вы со своим Горьким знаешь куда?! Отдать приятнее, чем взять! Ха-ха! Это мне, значит, надо дом отдать, радиолу отдать?
— Да нет… — с досадой сказал Павел. — Было бы достаточно, если б ты делал хорошие котлеты.
— Тейк файв, — сказал Рябинин. — Вещь гипнотическая.
Пластинка была большая и долгоиграющая. От начала до конца она состояла из одной и той же фразы с короткими вариациями и, правда, действовала гипнотически. Сначала фраза долбила, потом вгоняла в задумчивый транс, потом становилось страшно. Если бы не эта жутковатая пластинка, Павел бы еще сидел, слушал. Но у него взвинтились нервы.
— Я понял так, — сказал он, вставая. — Все, что ты мне продемонстрировал, — на все это ты сделал свою генеральную ставку жизни.
— Точно подмечено. Да.
— Благородные идеи, высокие идеалы — в них ты решил не верить?
— Нет.
— Ладно. Скажи, ты при этом поклянешься, что чувствуешь себя хорошо?
— А кто чувствует себя хорошо? Не знаю… я живу земными целями, я достиг чего хотел, захочу — буду иметь больше. Что еще?
— А то, что большая, именно большая и главная половина мира осталась для тебя «терра инкогнита», — тебя это даже не тревожит?
— Что такое «терра инкогнита»?
— Неведомая земля.
— А! Нет. В гробу, в белых тапочках.
— Даже во сне?
— Во сне… Мало ли что во сне может приплестись…
— А знаешь, кто из нас демагог? Ты.
— Что-что?
— Именно потому, что ты чувствуешь себя препаршиво, что ты подспудно понимаешь: жизнь твоя идет ужас на что! Так вот именно потому ты хочешь передо мной похвастаться, тебе нужно же, чтоб кто-нибудь восторгался твоим домом и тем, что на столе «Наполеон», чтоб затих червяк сомнения и ужаса, который точит тебя! И если ты скажешь, что он тебя не точит, ты будешь лжец.
— М-да… Лихо ты рассудил. Просто так, без пол-литры и не разберешься. Позволь мне все-таки остаться при своем?
Павел пожал плечами.
— Я могу и не говорить вообще, если ты хочешь.
— Ага. Нет, давай говорить, только… про что-нибудь другое.
— Что же у тебя телевизора не вижу? — спросил Павел, помолчав.
— Он в той комнате.
— Какой марки?
— «Рубин». Отличный телевизор.
— Хорошо берет?
— Ну! Как зверь! Двенадцатый канал у нас во всем поселке только три телевизора берут: у директора, у начальника милиции и у меня… Ох, кстати напомнил! Сейчас начнется развлекательная, давай перейдем и бутылочку прихватим с собой…
— Я пойду, — сказал Павел.
— Вот так… Побудь!
— Нет, завтра будет первая плавка, после нее митинг, потом написать все надо — хочу лечь раньше и выспаться.
— С ума все посходили с этими плавками… Ну что ж, прощай.
Рябинин проводил его до ворот. Чуть постояли.
— А если, — сказал Павел, — все это погибнет?
— То есть?
— Этот участок земли, дом?
— Не говори, больше всего войны боюсь…
— Не обязательно войны. Может провалиться. Ты приходишь с работы и видишь — яма. Есть такие карстовые пещеры под землей, вдруг обваливаются, и все, что над ними, проваливается в землю.
— Шути, шути. Сдурел?
— Сдурел, — сказал Павел. — От твоей музыки голова у меня, как котел…
Действительно, он всю дорогу до гостиницы время от времени встряхивал головой: в ушах трещали барабаны, выли трубы, а грудь стереофонически вздымалась. В номере это наваждение прошло. Павел сварил себе кофе, пересмотрел записную книжку и на чистой странице попытался по памяти изобразить «ставку» Рябинина, какой она ему запомнилась, на фоне домны, довольно показательно; сие творение изобразительного искусства вышло так:
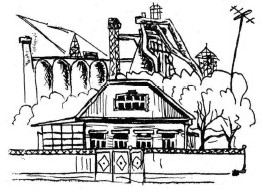
Глава 15
Еще по дороге на завод Павел чувствовал в себе некоторую приподнятость, праздничность и, оглядываясь вокруг, думал: «Вот через несколько часов произойдет событие, а прохожие идут себе, и грузовики едут, и продавщица лимонов мерзнет на углу; самая большая в мире домна дает металл; но какое им дело? „Пуск промышленного объекта происходит в стране каждые восемь часов…“»
На заводе он выяснил, что выпуск чугуна после обеда, митинг точно в шестнадцать часов. В управлении все было, как всегда; единственным косвенным намеком на событие была бумажка, пришпиленная к доске с приказами и выговорами: «Тов. изобретатели! Заседание, назначенное на 16 час. 31/I, переносится на 16 час. 1/II». Причина переноса могла быть, впрочем, и другая.
Женя Павлова воевала с покоробившейся дверью библиотеки, запирая ее. Ключ щелкнул как раз, когда Павел подошел.
— Выходной. Библиотека закрыта, — сказала Женя.
— Наконец-то. Я думал уже, что у тебя нет выходных.
— Внизу привезли билеты в театр на «Хочу быть честным», говорят, что-то необычное, весь город бегает, хочешь пойти? В кассе билета не достанешь.
— Сегодня?
— Да, в семь тридцать. Успеешь. После, если захочешь, поедем ко мне.
— Где встретимся?
— Зайдешь за мной, идем, я покажу дом.
Внизу она сбегала, взяла два билета в партер, пятнадцатый ряд, к сожалению, ближе уже не было.
— Но театр, в смысле зал, хороший, — сказала она, — видно отовсюду.
Она жила на стареющей главной улице, в одном из тех самых двухэтажных домов периода строительной роскоши. Поднялись на второй этаж, Женя открыла своим ключом массивную, обвешанную почтовыми ящиками дверь, но едва вошли в длинный коридор, как повсюду скрипнули двери, выглядывало любопытное женское лицо или только один глаз, внимательно рассматривали Павла, и так они с Женей прошли до последней двери, как сквозь строй.
— Хоть проруби окно и сделай лестницу снаружи, — сказал Павел.
— Ладно… — равнодушно сказала Женя, впуская его в комнату. — У каждого свое развлечение. Пока мужья на работе, они целыми днями готовят, стирают, ждут, скучают…
В комнате был беспорядок, валялись книги, на спинках стульев развешана одежда. На столе сковорода с остатками жира, мутные после выпитого молока стаканы, корки, спички и грязное кухонное полотенце. Было полутемно: единственное окно пропускало мало света, потому что с улицы в него лезли густые ветки, согнувшиеся под снегом.
Зато в углу, ближнем к окну, имелась очень приятная, широкая тахта, с лампочкой у изголовья, и на уровне протянутой руки над нею висели полки, заваленные книгами, а на тумбочке рядом «Спидола» с блестящей, торчащей в потолок антенной. Стены были продуманно украшены репродукциями с Тициана, Джорджоне, «Сикстинской мадонны» и тут же рядом — Шагал, Дали, Пикассо… Широкий диапазон.
— Есть хочешь? — Женя поспешно сложила грязную посуду на столе, собралась нести на кухню.
— Я позавтракал в городе.
— Могу быстро приготовить. Подумай.
— Нет, не хочу, благодарю.
— Не садись только в кресло! Оно рассыпается.
Она отнесла посуду, принесла веник и стала торопливо заниматься уборкой, ставя предметы по местам, рассовывая одежду в шкаф. Павел потрогал кресло, оно шаталось, как на шарнирах. Дерево усохло, расклеившиеся шипы выскакивали из гнезд.
— Не найдется ли у тебя молоток и штук семь гвоздей? — спросил Павел.
Женя очень удивилась, но потом сбегала к соседям, принесла ужасный, огромный, слетающий с рукоятки молоток и горсть ржавых, слишком крупных гвоздей. Павел стучал долго, потихоньку: боялся, как бы гвоздями дерево не расколоть, но счастливо обошлось. Он поставил кресло на место, сел в него и попрыгал.
— Это так просто? — удивилась Женя. — Два года в него никто не садился… Плохо быть неумелой женщиной.
— Ладно, скажу тебе по секрету, — сказал Павел не без корыстного умысла, — что три месяца уже у меня две пуговицы пальто прикручены канцелярскими скрепками.
— Да? Ну давай сюда пальто, — сказала она, смеясь.
— А ты что, на домну не собираешься?
— Да ну, у меня важнее дела, кучу перешить и погладить.
— Ну, ладно, приду сюда.
— Приходи сразу же после митинга.
— А что если он задержится? — спросил он. — Я потому говорю — насмотрелся столько задержек, что…
— Тогда, — сказала она, — посидишь, сколько можно, и уйдешь. Я буду ждать тебя до семи.
— И потом?
— И уеду одна, — сказала она, смеясь, — и продам твой билет красивому молодому матросу.
— Тут разве матросы есть?
— Ну, стройному младшему лейтенанту.
— Не надо младшему лейтенанту.
— Какие могут быть разговоры! — шутливо-возмущенно закричала она. — Тебя приглашает женщина, она говорит: домна или я! Сиди здесь смирно, ничего не трогай, я кофе сварю, специально для тебя банку купила…
— Сама разве не пьешь?
— Пила, много. Потом сказала себе: хватит, отвыкни! И отвыкла…
Она вышла. Павел сидел смирно, ничего не трогал и вдруг ошеломленно подумал: «Неужели я опять ее люблю? Не может быть!»
Свет, свет, все так и сияло вокруг домны. Приехала кинохроника — серьезный, молчаливый оператор-старик с молодым, но таким же молчаливым помощником. Они приготовили киноаппарат на треноге, установили лампы на переносных стойках, этакие пакеты по шесть ламп сразу, кабели от которых стали всюду путаться под ногами, опробовали, подвигали, переносили, что-то приказывали и вообще развили такую деятельность, что, казалось, главные действующие лица здесь они.
Рабочая площадка перед домной была не ровная, а наклонная, и в тех частях, где не было канав, к домне вели широкие полукруглые лестницы из светлого бетона, такие торжественные, словно подходы к античному храму.
Идущая от летки главная канава далее разветвлялась, точно как оросительные каналы, и в местах ответвлений были опускные заслонки-лопаты, чтоб направлять жидкий металл, а кое-где — железные перекидные мостики с перильцами. Бежишь по такому мостику — а под ногами течет расплавленный ручей… И величественные, светлые лестницы, и отделанные желтым песком канавы, и гора лежащих тут же ярко-голубых баллонов со сжатым газом — все это делало площадку эффектно-живописной. И вообще, если бы показывать такое зрелище, плавку чугуна, с огнем и дымом, оно было бы увлекательнее театральных феерий, подумал Павел.
Запечатанная пока домна глухо, мощно гудела. Вернее, гудела не она — гудело дутье в фурмах, но было такое впечатление, что вибрирует вся громада.
Глазки фурм теперь светились остро-ослепительно, как звездочки, и без синих стекол в них заглянуть было невозможно. Вместо бывших малиновых углей в чреве печи было что-то похожее на внутренность солнца.
Группками собирались люди, мешали доменщикам, которые
среди них терялись, но отличить их сразу можно было по усталым, серым лицам, особенно мертвенным в свете прожекторов. Два фотокорреспондента снимали Николая Зотова у летки, требуя принести шляпу металлурга, потому что он был в ушанке, и вообще ни на ком не было шляп, долго бегали, искали, наконец принесли одну для Зотова. Поставили его в динамическую позу, с этой самой длинной кочергой — их зовут «пиками».
Другую группу корреспондентов водил Иващенко, показывал и объяснял, как в музее:
— Это летка. Это пушка для закрытия летки. Металл из летки идет в желоба…
Перебивая других, энергичная дама из телевидения задавала вопросы:
— Это в домне плавится железо? Или сталь?
— Чугун. Чугун, — терпеливо отвечал парторг. — А сталь потом будет из чугуна.
— Как, расскажите, пожалуйста!
— Это в другом цеху, в мартеновских печах…
Лицо у Федора Иванова было совершенно землистое, заросло щетиной, глаза красные, слезящиеся. Бегал, однако, он бодро, распоряжался, улыбался. Пожаловался Павлу:
— Замучили вопросами. Спасибо, Иващенко спас.
— Ты отдыхал? — спросил Павел.
— Ты что! Глаз сомкнуть не удалось.
— Неужели с той поры и домой не ходил?!
— Куда там домой, тут каждый час светопреставление… Режим не наладим, приборы барахлят, одна шихтоподача всю душу измотала.
Видя, что Павел смотрит сочувственно и пораженно, он улыбнулся:
— Что, я зарос? Ладно, поспеет самовар — побреемся. Долго вот только греется — великоват… Господи, пронеси, хоть бы сошло все благополучно…
— Что может случиться?
— А все! Все может случиться. Первая правка, новая печка — ни черта не известно, ни характер ее, ни сроки, внутрь ее не залезешь, ложкой не помешаешь: есть ли там вообще металл? Аварии могут быть. Редко-редко первые выпуски проходят гладко: что-нибудь да случается. Поседеешь тут с ней.
— Так работаючи, ты, Федор, пожалуй, не доживешь до ста лет.
— А что? — озабоченно спросил Федор. — Вышел указ, что обязательно до ста?..
— Нет. Указ прежний. Кто сколько хочет.
— А, тогда ладно, — махнул рукой Федор. — Мне скромно-бедно хватит девяносто пять.
Тут подошла дама из телевидения с вопросом, почему не начинается плавка, почему задержка? Сразу Федора окружили плотной толпой, и он, потирая щеку, внимательно выслушивал, отвечал, объяснял.
Николай Зотов, уже злой, как черт, разъяренно заорал с мостика над канавой:
— Отойдите от летки все посторонние! Это вам не аллея! Не стойте перед глазками! — Он злобно швырнул лопату, ушел в сторонку, стоял, нервничая, курил. Домна все так же гудела.
— Здравствуй. Я готов, изволь. Дай мне в морду! — услышал Павел голос за спиной.
Обернулся — Белоцерковский. Чистенький, элегантный, с неизменной фотоаппаратурой и блокнотом в руке.
— Давай скорее, — сказал Белоцерковский, подставляя щеку, — давай, говорю. Я заслужил!
Павел молчал. При одном виде Белоцерковского ему вспомнилась та постыдная ночь, у него даже в горле сжалось, словно затошнило.
— Так, так, бей, бей, — говорил Белоцерковский покаянно, словно его и в самом деле били. — Ты смотришь на меня и думаешь: «Вот передо мной негодяй». Так и есть, касаемо того дня. Мне очень жаль, поверь. Мне много чего жаль…
Странно, но Павлу вдруг тоже стало жаль его, хотя бы он ни за что в этом не признался и не стоило жалеть. Он продолжал молчать.
— Извини меня в первый и последний раз, — серьезно попросил Белоцерковский. — Давай помиримся. Я много передумал… и искренне сожалею. Но ведь хорош же я был тогда…
— Оба мы были хороши, — опять и опять содрогаясь, выдавил из себя Павел.
— Что оно тут, как оно тут, жертв еще не было? — робко спросил Белоцерковский.
— Тебе подавай жертвы?
— А что! Я говорю серьезно. Вот посмотришь, если мы живы отсюда уйдем…
— Почему?
— Возьмет да развалится. От нас только дымок!
— Пугаешь?
— Ага. Я, конечно, вру, такое возможно только в теории, но слышал вон — кричат: отойдите от летки? Иногда вырывает. Вся эта замазка, как бомба, летит через цех. Лучше давай в сторонку… И перед глазками не задерживайся: тоже вырывает. Года два назад на первой домне парня убило. Струя, как лазер. Значит, я не опоздал?
— Ты, вижу, не спешил.
— Я стреляный воробей. Если назначили на четыре, значит, дай бог в пять. — Белоцерковский полистал блокнот, вздохнул. — В пути строчки пришли, для завтрашнего репортажа. Не взглянешь?
Павел прочел:
«Рождение металла — это как песня. Оно вызывает в человеческих сердцах чувство радости и законной гордости. Домна-гигант! Первая плавка! Здесь собрались представители многотысячного коллектива, руководители строительных организаций и эксплуатационники. У всех на устах одно: когда? когда? И вот наступает торжественный момент. Хлынула огненная река! Радостные крики, здравицы…»
— Когда? Когда? — раздался знакомый голос Славки Селезнева. — Без-об-ра-зие! По-pa от-кры-вать!
— Явился! — сказал Павел, здороваясь. — Плакат переделывать не будешь?
— А что я тебе говорил: дадим в январе! — воскликнул Славка. — Вышло-то по-моему?
— Тридцать первого.
— Плевать. Все равно в январе! Поздравляю, братцы, ура!.. Надо срочно открывать. Представляете, какая хохма: только что по городскому радио передали, что домна выдала первую плавку. В «Последних известиях» — уже выдали!
— Чего ты на меня уставился? — возмутился Белоцерковский.
— Это твоя работа?
— Нет. Я только что приехал!
— А ты так и работаешь, по ресторанам информации сочиняешь! Ты на радио всегда даешь, у них своего тут нет!
— Я не давал! Спроси его: я только вошел…
— В общем, уже сообщили. Надо оправдывать… Где Иванов? Почему не открывают, чер-ти чумазые! Иванов!
Федор Иванов обнаружился в сторонке, сидел на железном сундуке, торопливо ел борщ прямо из кастрюльки. Шапку свою он снял, положил рядом, но волосы не пригладил — торчали колтуном, засохли сосульками. Рядом стояла жена его Зинаида, разворачивала узелок, подавала ему хлеб. Принесла из дому мужа покормить, как в поле на косьбу.
— Федор! — сказал Селезнев. — Пора, пора! Уже по радио передали.
— С-час… пожрем… — не поднимая лица, с полным ртом сказал Иванов.
— Дайте ему поесть, пока хоть не остыло! — сказала Зинаида.
— Вот так! — возмущенно воскликнул Селезнев. — Домна стоит — обер обедает!
— С-час, щас… — пробормотал Федор, подскребая ложкой по дну, вскочил, отряхнул крошки, нахлобучил шапку. — Товарищи! Попрошу отойти! Отойдите от летки подальше!.. Пожалуйста, прошу вас, я же за вас потом отвечай!
Людей набежало порядочно. Мрачные горновые с трудом оттеснили посторонних с площадки. Николай Зотов колдовал у пирамиды голубых баллонов: подсоединил к одному из них длинный резиновый шланг, в конец шланга вправил длинную, прямую, как спица, железную трубу, сам стал у баллона, положив руку на вентиль.
Откуда-то сильно дуло, но не постоянно, а так, порывами, пронзительный ледяной сквозняк, и все тело Павла вдруг ни с того ни с сего стало мелко-мелко дрожать. Он решил, что это все-таки от холода.
Посмотрел на часы — и испугался: шел уже шестой. Подумал, не испортились ли, сверил с часами соседей — все правильно. «Ладно, — подумал он. — На митинг не останусь»,
Вспыхнули десятки ламп, включенные кинохроникерами. По двое горновых с пиками приготовились с боков на приличном расстоянии от летки. «Вот оно! — подумал Павел, ощущая, как сердце заколотилось. — Пусть будет удача, пусть!»
И вот на ярко освещенную площадку выбежал Федор Иванов, как гладиатор на арену.
Поднял приготовленную трубку и ткнул ее в отверстие летки. Там зарокотал огонь, трубка стала уходить вглубь.
Федор отскакивал и снова кидался, как с копьем наперевес, отважно бегая один рядом с канавой, в которую вот-вот чуть ли ни прямо в ноги ему хлынет металл.
Сизый дым пошел от летки, потянулся по залу многоэтажными пластами, клубясь в лучах прожекторов.
И вдруг раскрылось жерло. В тот же миг оглушительный грохот канонадой вылетел оттуда, от трубы в руках Федора осталась лишь скрюченная половинка. Федор, как обезьяна, отскочил от канавы, спасая, подтягивая за собой шланг… В первый миг казалось, огонь из нутра печи так и вывалится, хлынет, но ничего не потекло. Только ослепляющее сияние.
Федор, нагибаясь, прикрываясь рукавицей, позаглядывал, о чем-то распорядился опять, спрыгнул к канаве, потянул новую трубу, которую уже сменил ему Зотов. Он прямо ткнул ее в жерло — и пошла канонада! Труба гнулась в его руках и таяла, как восковая, а не тонкая она была, типа водопроводной. Федор отскакивал, кидался, разворачивал, разрушал, расширял это грохочущее жерло, прикрываясь локтем от жара и стрельбы. Сменил еще одну трубу, потом еще, они вмиг сгорали. Взлетали фонтаны искр, докрасна раскаленные куски. Ребята изо всех сил шуровали пиками, расширяя отверстие. А Федор все прыгал, как кошка, — черная фигурка на фоне сплошного огня, подвижный и увертливый дьявол, и непонятно было, как он еще не горит.
Весь цех заволокло дымом, от грохота невыносимо звенело в ушах, толпа стала пятиться, подминая задних, потому что стреляли и долетали искры даже до краев площадки.
Федору подали пику. Он, разбежавшись, воткнул ее в жерло, пошебаршил там еще, корчась перед огнем, с силой выдернул на себя. Ничего.
Лицо его было искажено. Павлу показалось в этот момент, что от отчаяния. Утершись, задыхаясь в дыму, Федор опять кинулся с пикой наперевес, вонзил, поковырял — выдернул. Ничего. Только угли какие-то выкатились белые и сразу превратились в красные. Федор топтался по ним дымящимися сапогами, снова пошел наперевес, этакая отчаянная мурашка, атакующая раскаленный самовар. Пошебаршил особенно продолжительно, выдернул — чуть не упал сам. Казалось, он умоляет, вытягивает металл за язык: ну, иди же, иди!..
Тоненький-тоненький красный ручеек показался и тут же в летке остановился, стал темнеть, чернеть…
Федор отошел от канавы, горновые на него брызгали водой, он утирался шапкой, шевеля губами, видимо, ругаясь. Николай Зотов поковырял в жерле длинным стержнем с ложкой, пытаясь что-нибудь в нее набрать, не то набрал, не то нет — понес ложку на отлете наверх. Федор Иванов опять кинулся шуровать пикой, разворачивал и разворачивал летку, но ясно было, что это уже бесполезно: металла не было. Федор махнул рукой и ушел сквозь толпу куда-то.
— М-да, спектакль задерживается, — сказал Белоцерковский. — Красотка не поддается. Будем надеяться — с первого раза?
Они пошли посмотреть, куда скрылся обер-мастер, и не ошиблись: вокруг железного сундука сгрудились люди, тут был и начальник цеха Хромпик и Векслер со своим ослепительным платочком. Передавали из рук в руки ноздреватые куски, крошили, растирали, озабоченно рассматривали; сыпались технические термины.
Векслер, чрезвычайно озабоченный, загадочно сказал:
— Был бы шлак… будет и чугун… подождем еще.
— Николай! — закричал Федор через головы. — Закрывай!
Тут вступила в действие пушка. Она действительно напоминала артиллерийское орудие с очень толстым стволом, она поехала и поехала, поворачиваясь на шарнирах, врезалась стволом прямо в зияющую пасть печи; загрохотало, зашкворчало, из пушки изверглась глина, и моментально дыра оказалась забитой, только пар пошел. Огонь исчез, и в цехе стало как бы холоднее. Кинооператоры выключили лампы.
— Неизвестно! — отбивался на этот раз Векслер от любопытных. — Да, будем ждать. Неизвестно!
— Чугунок-то, он, конечно, должен быть, — говорил даме из телевидения один из горновых, этакий сбитенький, хитроватый мужичок неопределенных лет. — Должен, должен. Может, он на дне пока и досюдова не достигает. Видите, и начальство говорят: неизвестно… Вы покамест погуляйте.
Павел озабоченно посмотрел на часы и снова не поверил своим глазам. Часы показывали пять минут восьмого.
Сломя голову он бросился вон, потом бежал по улице и думал: получилось действительно — «домна или я!». Не может быть, чтобы ушла. Театр теперь побоку… Тут заваривается свой такой театр…
Издали увидел дом, но сколько ни пытался вглядываться в крайнее, за ветками дерева, окно, света не было видно.
Взбежал по лестнице, нетерпеливо звонил, пока не открыла соседка.
— Женя ушла, — сказала она, с любопытством оглядывал его. — Да, принарядилась так и ушла, не знаю, уж куда.
— Записку не оставляла? Ничего не велела передать?
— А что вам надо было передать?
— Ничего.
Он вышел на улицу. Машинально прошел два квартала, потом обнаружил, что идет не в ту сторону. Огляделся. В темноте домна не была видна, но угадывалась по огням. Огни облепили ее до самой вершины — красные, предупредительные, чтоб не наткнулись самолеты, яркие белые и совсем тусклые. Все они словно висели в небе. А правее, над работающими домнами, колыхалось зарево. Даже издали доносились повизгивающие, постукивающие, бухающие звуки ночной какофонии…
Рассеянно порывшись в карманах, Павел достал сигарету, закурил, прислонился к столбу и несколько минут постоял, покуривая.
С завода бежали две девчонки, верно, со смены, в телогрейках, закутанные платками, как матрешки, только носы торчат. Пробежали и хихикнули:
— Что-то дяденька грустный такой стоит: наверное, в жизни ему не везет.
Глава 16
— А ты? А что держит тебя? — спрашивал Белоцерковский, поминутно забегая сбоку и проваливаясь в снег.
Ходили в столовую, поужинали. С грехом пополам помирились, но оба были раздражены, затеяли спор о смысле жизни, причем крыли друг друга не столько по существу, сколько из потребности возражать и уязвлять.
— Меня держит работа, — решительно отвечал Павел.
— А зачем работать?
— Как зачем? Интересно!
— А какой смысл в твоей работе? Мир гибнет, я думаю об этом, и мне неинтересно, мне страшно и безвыходно. А тебе не бывает?
— Сам ты гибнешь и потому городишь вздор! Депрессия алкоголика!
— Нет, я трезво, объективно смотрю! Мир на грани катастрофы, самоуничтожения, даже слепому видно: цивилизация дошла до грани, за которой должна пожрать сама себя. Выдохлись. Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано.
— Несусветный бред, — сказал Павел. — Так кричат на Западе, ибо гибнет капитализм, так они всему хотели бы пророчить гибель. Кстати, подобных тебе невежд и пессимистов во все века колотили страхи перед концом мира, страшными судами и так далее. Подобные страхи в наш атомный век — то же, но принявшее наукообразный вид. Угроза атомной катастрофы — реальность, но она не будет допущена. Не будет. Не может быть!
— Прекрасный аргумент! — завопил Белоцерковский. — «Этого не может быть, потому что этого быть не может».
— Давай прекратим, пока снова не поругались.
— А, испугался!
— Не испугался, а нервы мне на тебя жаль тратить, дурак!
— А знаешь, что сказал Резерфорд, открывший расщепление атомного ядра? Он сразу понял, к чему идет: «Некий дурак в лаборатории сможет взорвать ничего не подозревающую вселенную». Они же идут на ощупь! Как ребенок со спичками у пороховой бочки. Вот мы с тобой идем к домне, и вдруг — ослепительное сияние вокруг, и Земли нет. Тебе не приходило такое в голову? Мне — да.
— Спьяну?
— Ты что, считаешь, что мы, земное человечество, одни такие умные, единственные? До нас нигде во вселенной не было цивилизации? Но если бы они могли развиваться безгранично, то уже давно бы застроили всю вселенную вот такими домнами или там, черт побери, воздушными замками! Где они? Подозреваем, что есть, может, даже поумнее нас, но ненамного, не безгранично. Простая логика говорит, что цивилизации кончаются. Возникают и кончаются? А как? Либо уничтожают друг друга, либо сами себя. Что, в общем, все равно, хрен редьки не слаще. Я считаю, что мы дошли до грани, премило стоим перед уничтожением самих себя, только не подозреваем, что это должно случиться так быстро.
— Так. Я тебя выслушал, — сказал Павел как можно спокойнее. — Даже попытался посмотреть твоими глазами. Допустим, что твоя гипотеза правильна и что существуют причины гибели цивилизации, может, вообще здесь есть что-нибудь такое, еще недоступное нашему знанию. Но все равно ты преувеличиваешь опасность ядерной энергии. Она такая же, как все другие, лишь больше. Это просто благо, что ее открыли, вовремя открыли, посмотришь, она станет такой же прозаичной и послушной, как теперь электричество. Были в свое время страхи фантастов, что электричеством можно уничтожать города и народы, только теперь об этом никто не помнит.
— Извини, атомная война — это уж не из фантастики. Это вполне возможная реальность.
— Каждый новый вид оружия страшнее предыдущего. К сожалению. Но сперва его обычно преувеличивают. В первую мировую войну появились газы — и раздались голоса, что цивилизации пришел конец: газами-де будет отравлена вся земля, и жизни конец. Я читал журналы тридцатых годов. Описывалась возможная грядущая мировая война. Говорилось точно: это будет последняя война, потому что авиация, танки, газы, чудовищные заряды приведут к тому, что человечество будет выбито, а кто останется, уж никогда не захочет воевать. Ничего не оправдалось.
— Ну, и что ты этим докажешь?
— Ничего, просто вспоминаю, что было.
— Но ты мне не дал договорить. Когда я думаю о конце цивилизации, вижу не только взрывы, не столько атомную войну, сколько еще другое, более страшное.
— Ну-ну, что?
— Я читал в «Неделе» и других журналах об американском профессоре Уайте, который пишет, что сегодня стало возможным влиять на психику человека, что существует вещество, его впрыскивают — и воля человека подавляется, он становится исполнителем всего, что прикажут, — роботом. Этот профессор — руководитель лаборатории по исследованию мозга. Уже состоялся первый скандал: американские военные потребовали выдать им это вещество для военных целей. Ученые отказались. Но ладно, это же — только начало. Эти отказались — другие не откажутся. Представь себе: по приказу любого новоявленного Гитлера — массовые прививки народам.
— Я читал это. Да. Но, знаешь ли, сделать прививки всему человечеству…
— Зачем прививки! Ученые работают! Они будут работать, самоотверженно проникать в тайны природы, они еще не такое пооткрывают и вещества свои так усовершенствуют, что и прививать не надо. Ну, скажем, подмешать его к хлебу, так что никто и знать не будет. Народ превращается в скопище дегенератов, полностью контролируемое. Он подчиняет другие народы и шаг за шагом превращает в роботов все человечество, потом сами верхушки поотравляют друг друга, и случится нечто пострашнее атомного самоуничтожения.
— Над людьми такие операции пытаются проделывать испокон веков, сколько люди существуют. И без всяких инъекций или порошков. Дикая долбящая демагогия плюс террор могут делать то же самое. Именно это делал и Гитлер. Но оказывается, что разум более живуч, чем предполагают разные Гитлеры. Линкольн говорил: «Иногда удается дурачить народ, но только на некоторое время; дольше — часть народа; но нельзя все время дурачить весь народ». О, прививками мир не покоришь и обманом тоже. Напрасные заботы.
— Да, ты оптимист.
По железному трапу они стали подниматься в будку мастеров. Павел неосторожно взялся рукой за железные перила, и голая рука так и прикипела, оторвал с болью. Ну, мороз!..
Жаркое тепло будки буквально ударило им в лицо. Тепло хлынуло в одежду, окатило с головы до ног.
Будка была битком набита людьми: сбежались в тепло все, и все стояли, беседовали, сбившись в кучи, прямо как на приеме. Правда, на том сходство и кончалось, потому что одеты были в пальто, и шапки, и телогрейки, и валенки.
Цепочки огоньков на щитах мигали, пульсировали, стрелки дрожали, и от всей работы приборов стояло равномерное пчелиное зудение.
Обшарпанный стол был сдвинут в угол, на единственной табуретке за ним сидел вконец уставший, поникший Федор Иванов. Вокруг, локтями на столе, сгрудились начальник цеха Хромпик, Коля Зотов, хитроватый мужичок-горновой, глядя исподлобья, слушали, что втолковывал Федору Славка Селезнев:
— Федя!.. Слушай, Федя! До полуночи надо. Понимаешь такое большевистское слово: надо?
— Понимаю. Да, — кивал головой, не поднимая ее, Федор.
Селезнев склонялся над ним, чуть не касаясь губами уха:
— После полуночи — это уже первое февраля. Ты понимаешь, тут уже политический смысл.
— Да. Да.
— Кроме того, посмотри, сколько народу ждет! Какое начальство, корреспонденты!.. Я не для себя — народ ждет!
— Да успокоим мы вашу душу, — сказал Хромпик. — Дадим, дадим до полуночи.
— Чугунок-то он есть, я полагаю, — сказал хитроватый мужичок. — На дне. Должна же дать, как все, хоча великовата, конечно…
Зазвонил, как выстрелил, калека-телефон, и клюнувший было носом Федор молниеносно схватил трубку. Послушал недоуменно, обвел глазами стоящих вокруг стола, протянул трубку Павлу:
— Тебя. Барышни какие-то.
Павел опешил, машинально принял трубку, потом сразу догадался: «Женя!»
— С вами будет говорить Москва, — сказала телефонистка.
— Алло! — закричал редактор промышленного отдела из трескучей бездны, донесся его едва различимый голос, так что Павел заткнул другое ухо пальцем и так едва-едва разбирал: — Так мы даем информашку в номер. Дай парочку подробностей: как прошла первая плавка, кто отличился, сколько…
— Еще нет! — заорал Павел. — Только ожидается!
— Ты с ума сошел? «Последние известия» сообщили.
— Поспешили!
— Но когда будет?
— Вот-вот!
— Тогда мы дадим. До утра, пока отпечатается…
— Не сметь! — заорал Павел.
— А если другие дадут?
— Не сметь! Не дадут! — повторил Павел, и пот выступил у него на лбу.
— Как хочешь, на твою ответственность…
— Ладно!
Он зло, с силой швырнул трубку на рычаги, забыв, что она поломана.
— Везет людям, — сказал Белоцерковский, — на домне их разыскивают, материал просят, а они еще кобенятся… А что, мастера-умельцы, не спеть ли нам? Может, кина не будет?
Хромпик и горновые, словно сговорившись, молча отделились от стола и, раздвигая толпу, ушли. На голом столе перед Федором лежал толстый новый «Журнал работы доменной печи» с множеством граф, названных как будто и русскими словами: «Характер прогара», «Температура кладки шахты. Зоны. Точки», «Газ колошниковый — грязный, чистый…».
— Эх! — задумчиво сказал Федор, потирая заросшую щеку. — Сейчас бы как раз чугунок дать да на диванчик пойти поспать…
Он встал, вкусно потянулся в плечах, неожиданно улыбнулся так жизнерадостно, нахлобучил ужасную шапку.
— Ладно, попробуем, ковырнем. Если уж и на этот раз…
Пошел энергично из будки вон, и сразу все, кто тут был, кинулись, толкаясь, за ним, даже в дверях создалась давка. Павел и Виктор подождали, пока народ схлынет.
— Смотри, что я сочинил, на него глядя, — сказал Белоцерковский. — Концовка для очерка. Хочешь, продам?
Павел взял у него блокнот и прочел:
«…И он в самом деле ушел спать. Прежде, чем уйти, он все-таки дождался, пока вытечет весь чугун, закрыл пушкой летку, убедился, что все как надо, — и тогда ушел спать. И спалось ему нехорошо, тяжело».
— Последняя фраза, — сказал Белоцерковский, — должна показать страшную усталость обер-мастера, вообще невероятную трудность всего. А то, что он ушел, только до конца выполнив все свои обязанности, показывает, что он молодец, настоящий советский человек. Купи.
— Вот ведь можешь ты писать хорошо.
— Никому это не надо, — махнул рукой Белоцерковский.
Домна все так же глухо-вулканически гудела. Павел посмотрел на нее задумчиво, уважительнее, чем когда-либо до сих пор: «М-да, выходит, не так-то просто выжать из нее…»
Плакат «Дадим металл 31 января», видно, задели чем-то, он скособочился, вися только одним краем, но никто на это не обращал внимания. Павел усмехнулся: «Чуть ли не символически: висит на ниточке…» Операторы зажгли лампы. Федор Иванов прыгнул в канаву перед леткой, горновые заняли свои места.
Вся толпа подалась вперед, когда с громовыми раскатами раскрылось огненное жерло.
— Идет!
— Идет?
— Нет.
— Нет…
Прыгая и извиваясь, как черт, Иванов принялся опять расширять отверстие горящими кислородными трубами. Оттуда валил дым, бабахало, летели искры, куски. По залу неслись истинные раскаты весеннего грома, и оранжевый дым окутал туловище печи, мглою заволокло лампы под потолком и прожекторы. Лопнул шланг от кислородного баллона, срочно заменили другим. Трубы в руках Иванова корчились и сгорали в несколько секунд.
— Чудище обло, огромно, стозевно и лайяй, — сказал Белоцерковский. — Но комедия переходит в трагедию. Факир опять пьян, и фокус не удается. Обычно одну трубку сожгут, и металл бежит.
— Чего раскорячились?! — заревел Федор на горновых, показывая лицо, зверски перекошенное. — Давай пики!
Вместе с Зотовым длиннейшей пикой они вдвоем стали, разбегаясь, втыкать, шебаршить, ковыряться в летке, одежда на них задымилась, с красных лиц градом сыпался пот. Выдергивали пику — выкатывались раскаленные добела куски и конец пики сиял белым светом. Вдруг что-то пробили, панически бросились, карабкаясь на стенки канавы. Потекло белое, жидкое — небольшим стремительным ручейком, стрельнуло в канаву, побежало по ней, но, не дойдя даже до развилки, остановилось, стало краснеть, тускнеть.
— Ура-а-а! — бешено закричал Селезнев, потрясая рукой над головами.
— Ура, ура! — откликнулись голоса.
Начались поздравления, пожатия рук, но, странно, во всем этом не чувствовалось такой радости, как при задувке. Говорили:
— Всего только первая порция. Но, конечно, главное, факт. Выдача состоялась.
Разгоняя толпу криками «Сторонись, обожгу!», Николай Зотов понес красный кусок, держа его на отлете огромными, двухметровыми клещами, Федор стоял под стеной домны, жадными глотками пил воду из ведра, она лилась ему на подбородок и на грудь. На лице его висели горохом капли пота. Увидел Павла, улыбнулся, подмигивая:
— Понял?.. Сейчас какой-нибудь дохленький чугунок дадим — и ладно. Надоим…
— А это что?
— Это шлак.
Он тряхнул головой, как пес, так что весь пот слетел, протер обшлагом глаза, деловито спрыгнул в канаву, ставя широко ноги, стараясь не наступить на красный застывающий ручей. Теперь он уже не спешил, деловито примеривался и, немного поковыряв, внимательно разглядывал: что оно там, в летке, мешает?
Стоя на листе над красным ручьем, весь опаляемый чудовищным жаром в дыму, он этак запросто, деловито ковырялся, как если бы ухватом в печке горшки переставлял, словно и не человек, а саламандра, которую огонь не берет, огнеупорный титан!
В какой-то момент ему что-то удалось снова пробить — брызнула новая струйка белого, побежала, растекаясь по прежнему, уже потемневшему. Домна словно плюнула сквозь зубы.
— Ура-а! — закричал опять Селезнев, но его не поддержали.
Федор выдохся, Видно было, с глаз его непрерывно бежали слезы, гримаса корчила лицо, он из последних сил втыкал пику, выдергивал — ничего. Опять втыкал, наваливался всем телом… «На втором дыхании пошел работать, ну и ну…» — думал Павел, и ему хотелось уже, чтобы это скорее кончилось, чтобы он ушел уже наконец из этого пекла. Куда смотрят Хромпик, все прочие — сгорит же человек! Да не титан же он, в самом деле?!
Снова брызнула струйка. Федор лениво от нее увернулся. Теперь уж и работать ему было несподручно: сплошные языки металла, поставить ногу некуда.
— Закрывай! — безнадежно махнул он рукой, полез наверх к ведру с водой, а пушка ухнула свою глину, и огонь погас.
Снова стало как бы прохладнее и темнее. Люди расходились. Переговаривались:
— Первый час! Как бы на трамвай успеть? Ты не с машиной?
— Ну, поздравляю вас! Ничего, пойдет.
— Спасибо, спасибо, — говорил Славка Селезнев. — Товарищи, кто в город — сейчас автобус пойдет! Быстрее, быстрее!
Белоцерковский тронул Павла за рукав:
— Уря, уря. Еще один шаг на пути. Ты в гостиницу? Давай покатаю. Вообще-то поздновато, но баб можем свистнуть. А?
— Ничего не понимаю, — сказал Павел. — Ни-че-го не понимаю. Был металл или не был?!
— Не все ли равно, что было? Факт совершился. Все разъезжаются. Металла, конечно, не было. Но факт был. Во всех отчетах теперь напишут, что первую плавку домна дала в январе. Летку открыли в двадцать три тридцать. А теперь трава не расти, может этого металла и вовсе не быть; может, она и вообще ни на что не способна.
У железного сундука сиротливо сбилась последняя кучка людей. Павел и Виктор подошли послушать. Оказывается, там опять смотрели куски, принесенные из канавы. Все такой же озабоченный Векслер вполголоса говорил, и Павел уловил конец фразы:
— …пойдет или чугун… или мусор. Подождем.
У Павла тоскливо сжалось сердце. Если бы ему раньше сказали, что он будет расстраиваться из-за какой-то плавки, домны, чугуна, он бы смеялся, не поверил бы.
— Поезжай, я остаюсь, — сказал он Белоцерковскому.
— Свят, свят!
— Поезжай, поезжай.
— О господи, и на фиг тебе это сдалось? Хочешь, я за тебя весь очерк напишу, ты подпишешь — гонорар пополам? Право, поехали, выпьем, закусим, рояль в окно выкинем… Ну?
— Это ты-то мне говорил, что много передумал, многого жаль?
— Ну, ну, я же шучу! Какой серьезный! Поехали.
— Нет, конечно.
— Нет?
— Нет.
— М-да… Жаль, — сухо сказал Белоцерковский. — Жаль.
Он повернулся и ушел.
Павел постоял тупо, огляделся. Посторонних в цеху, кроме него, уже не было никого. Почему-то остались неубранными сшестеренные лампы кинохроники, кабели змеями вились к ним. Потом заберут, или завтра еще будут съемки?
Мостовой кран в дыму проехал над головой, спустил на крюке ковш прямо в канаву, Коля Зотов и хитроватый мужичок отцепили его и принялись бросать в ковш застывшие в канаве куски. Сразу дым там поднялся, словно тряпье зажгли. Федор Иванов что-то пришел сказать им — да так и застыл, не то наблюдая, не то задумавшись. Павел подошел.
— Теперь что?
Федор не ответил, лишь чуть заметно повел плечом.
— Будет ли металл… вообще?
— Бортяков! — заорал Федор свирепо. — Заслонку перекрыли?
— Чи-час!..
— В-вашу мать, ар-ртисты!!! — взревел Федор, бросаясь к домне.
Таким зверино-злым Павел его еще не видел.
Видимо, все были злы. Николай Зотов, стоя возле канавы, заорал, чтоб шли помогать.
— А Иван где?
— За кислородом пошел!
— Как глазеть, так проходу нет, а как работать…
Павел повесил пальто на перила перекидного мостика, полез в канаву, взял лопату.
— Опять погреться? — радушно приветствовал его мужик. — Вы ботиночки-то поберегите, враз сгорят. Он вроде и темный, а печет.
Он поддел лопатой пласт, перевернул — брюхо пласта было красное, жаркое.
— Во, крокодил! Подсобите с хвоста… Ну-ну!
Застывшая эта дрянь была действительно как крокодилы — нечто корявое, пористое, из-под низу красное и при каждом прикосновении невыносимо дымящее и воняющее.
Отворачиваясь, моментально покрывшись градом пота, Павел поддевал куски, бросал в ковш и раз или два не уберегся, зашипел и запрыгал на раскалившихся подметках. Николай закричал:
— Юрка, принеси железный лист, сгорит же человек!
Мужичок, которого, оказывается, звали Юркой, предложил Павлу стать на лист, от которого пользы было мало, так как он сразу раскалился.
— Она ведь, у печи работа, чем хороша зимой? — объяснил Юра. — Тепло! Уж так тепло, иной раз гадаешь: теперь хочь и в ад, каким его попы рисуют, не страшно. Однако летом жарковато. Жарковато.
Пока убрали канаву, аж одурели от дыма и вони. Павел вылез, пошатнулся и чуть не упал обратно, в глазах поплыли волны, уж очень ядовитый был этот проклятый дым, глоток бы скорее воздуху. Он надел пальто и сослепу побежал не к той двери, что вела к будке мастеров, а совсем к противоположной, но это было все равно, он вышел на морозный воздух и с удовольствием несколько минут дышал.
Была это задняя сторона домны, где работала шихтоподача. Абсолютно темно, ни одной лампочки: автоматическая подача работала без света, не нуждалась в нем.
На шипящих тросах выехал откуда-то снизу, из черной преисподней, черный, мрачный вагон-скип. Пополз по наклонным путям в самое небо, там его не видно стало, только слышно, как перевернулся, ухнул в печь свое содержимое. Вернулся, глухо погромыхивая, этакий черный, без окон, фуникулер…
Глаза Павла пообвыкли, он разглядел вокруг и над собой циклопические конструкции, железный мосточек, ведущий вокруг домны. Пошел, чувствуя себя как персонаж какой-то мрачной научно-фантастической книги. Мурашка внутри паровоза…
Вышел к подножиям кауперов. Четыре башни с куполоподобными вершинами уходили в ночное небо, оплетенные трубами, лесенками.
Он вздрогнул — таким неожиданным было появление живой тени. Тень выдвинулась из-за угла, и — что совсем невероятно — у нее в руках была клетка с голубем.
— Интересуетесь? — добродушно спросил человек.
— Да, — сказал Павел. — А вы… кто?
— Мы-то? Мы газовщики. Дежурим тута, на вентилях.
— А!
— Морозец, а? Как бы голуби не померзли.
— Зачем голуби?
— Вот те на! Как же без голубя? Голубь — первое дело, он газ чует. Чуть где утечка — брык. Верней всякого прибора!
— Бывают утечки?
— Не должно быть, — строго сказал газовщик. — Не положено.
— Темно у вас…
— Мы видим. Как кошки! Папиросочки у вас не найдется? Холодно.
Павел пошел дальше и снова наткнулся на клетку с голубем. Она висела на крючке. Голубь спал, но, почуяв шаги, проснулся, забился в глубь клетки. «Домна — и голуби, как странно, — подумал Павел. — А что тут не странно?..»
Мороз, однако, долго гулять не позволял, уж и щипал, уж и кусал! Оглядывая с высоты заводскую территорию, Павел обратил внимание, что в заводоуправлении четыре окна светятся. Прикинув так и этак, он заключил, что светится в том самом кабинете политпросвещения, где он так хорошо на стульях поспал.
При одном таком воспоминании он неодолимо захотел спать. «Должно быть, там открыто, — подумал он. — А что, ведь часок на стульях самое время поспать». И пошел.
Он не ошибся: светилось действительно в кабинете политпросвещения. Но там были и люди. Еще из коридора Павел узнал заикающийся, картавящий говор Селезнева и удивился, что тот до сих пор не ушел, ведь так всех торопил на автобус.
Славка что-то возбужденно кричал, ему глухо возражал бубнящий голос Иващенко. Павел стукнул в дверь, вошел и сразу понял, что он тут не весьма желанен. Иващенко взглянул на него хмуро, Славка — испуганно. И стоял у окна еще третий человек, молодой, высокий, очень элегантный и в роговых очках, чем-то похожий на студента консерватории; этот на вошедшего вообще не посмотрел. На столе, среди газетных подшивок, стоял элегантный чемоданчик на «молниях», стоял вызывающе, как раз посредине между тремя спорящими, словно бы речь шла именно о нем и они собирались делить его содержимое.
— Я помешал? — сказал Павел, отступая к двери. — Извините, искал угол поспать.
Он уже, ретируясь, взялся за ручку двери, когда Иващенко обратился к нему, словно продолжая разговор:
— Нет, вы скажите, что с ним делать?
— Я ра-ботаю! — закричал Славка, воздевая руки в направлении Павла и тоже словно бы приглашая его в свидетели. — Я ра-ботаю от темна до темна, я вам пред-ставлю документальные…
— Документально он идеален всегда. Так сказать, юридически, — сказал бархатным, хорошо поставленным голосом молодой человек в очках, и теперь он показался Павлу более похожим на юриста или дипломата.
— Нет, нет, вот он со стороны, — указал Славка на Павла, — пусть он скажет: болею ли я, переживаю ли я?
— Болеешь, болеешь! Переживаешь! Похлопочи, может, тебе дадут за это олимпийскую медаль! — зло воскликнул парень в очках.
«И на спортсмена похож, — подумал Павел. — На прыгуна в высоту».
— Я вас не представил, — мрачно сказал Иващенко. — Лев Мочалов, комсорг комбината.
— Это который, — спросил Павел, пожимая руку, — поехал грызть гранит науки?
Парень невесело улыбнулся, пояснил:
— Отпросился на три дня, думал, праздник, а тут — скандал.
— Какой скандал? Никакого скандала! — жалобно закричал Селезнев.
— Сядь! — рассердился Иващенко. — Скандал или не скандал, будем все решать, а с твоим дурацким щитом ты уже в общезаводской анекдот вошел. Кто тебя просил самовольно определять сроки? «Дадим, дадим, дадим!» Это не мобилизация, это — пустозвонство, это дискредитация самой сути социалистического соревнования! Ты с самого начала знаешь, что срок нереален, и ты же его выставляешь!
— Я бро-саю клич!
— Клич, — устало развел руками парторг. — Клич! Бросил клич и пошел в шахматы играть. Трое суток задерживают шихтоподачу, напортачили с монтажом, какой-то чепухи не хватает — сидят, анекдоты травят. «Нет того-то, сего-то». А пост стройки зачем?! Молодежь к вам направили, они жаждут найти причины неполадок, понять, чего не хватает, почему не хватает?.. Нашли концы, хотят все поправить, идут в пост; а его начальник с художником пятую партию в шахматы добивают. Трепач ты, Селезнев!
— Да, ошиблись и завком и мы, — сказал Мочалов угрюмо. — Не хотел я, с самого начала предчувствовал. Но думали…
— Думали! А вот я тебя самого спрошу. Что же это у вас за организация такая, что комсорг за порог — и сразу тишь? Вот эта, Камаева, заместитель твоя, где она, что она?
— Она работала, стенгазету… металлолом… собрания проводила… Я ей поручал… — заикаясь, начал Селезнев.
— Отличная деятельность! — перебил Иващенко. — Отличная! Стенгазета и металлолом — главные заботы! И поста содействия стройке домны и комсомола! Член завкома всю власть захватил и всеми распоряжается — одному поручает заниматься металлоломом, сам бросает кличи, третьего за билетами в цирк посылает. А комсорг грызет гранит науки.
— Я могу бросить, — обиделся Мочалов.
— Не в том дело, что ты уехал, — с досадой сказал Иващенко. — А в том, что, уезжая, ты должен так все оставить, чтобы твой отъезд не отразился ни на чем. Вот вам и проверка деловых качеств. На секретаре, оказывается, все держалось. Он уехал, а Камаева разрешает собой командовать. «Я ей поручал!» Это не работа, товарищи… И плакатиками, пылью в глаза не прикроетесь.
С некоторым удивлением смотрел Павел на парторга. У Павла уже сложилось впечатление, что парторг — человек покладистый, тихо-скромный, дотошный, этакий «парткомыч», который, случится, и покричит по делу, но и забудет, что ли.
Сейчас ходил по комнате взволнованный, разящий каждым словом, справедливо возмущенный… Отец, что ли? Мочалов и Селезнев стояли перед ним, опустив головы, как школьники, получившие двойки. Даже возражать перестали. Ощущение вины передалось самому Павлу, он невольно замер, словно тоже очень а чем-то виноват.

— Слушай, Слава, — сказал Иващенко, останавливаясь перед Селезневым. — Может, тебе пойти в цех? Скажем, подручным… Вон как ты раздобрел, ручки белые. Этак, чтоб дать отдых языку. Поговорка есть: в семье не без урода. Неужто тебе так интересно быть уродом в нашей хорошей семье? Уродом — это что, интересно? Неужто тебе интересно? Ответь.
Селезнев молчал. Недружелюбно взглянул на Павла и тотчас опустил глаза.
— Пожалуй, я выйду, я вам мешаю, — понял Павел.
— Это ему мешаете, — возразил Иващенко. — Нам вы не мешаете. Ты что-нибудь имеешь сказать, Лев?
— Придется сделать выводы…
— Давайте делать. Первый вывод — о комсорге. Вот что выходит, когда он уезжает, оставляет без своего глаза.
— Так! — решительно-мрачно кивнул головой Лев.
— А второй вывод — о людях, которые с малой головой попадают на большой пост. Таких надо изгонять. Из-го-нять. Слышишь, Селезнев, это я говорю о тебе.
— Слышу…
— Вот поживешь, поработаешь, как все другие на производстве, может, ты еще что-нибудь и поймешь. Пост… что же, пост содействия стройке домны как будто уже и не нужен. Хотя я считаю, что его и не было. Так, вывеска одна, мыльный пузырь.
— Я все-таки старался… — пробормотал Славка.
— Якобы! Ты всем умеешь пыль в глаза пустить, что якобы ты стараешься! До того, что сам поверил, будто ты стараешься. Вот-вот, об этом-то мы и говорим. Есть работа, а есть якобы работа. Ребята, ребята, неужели это интересно: быть в жизни этаким «якобы»?..
Воцарилось молчание. Славка стоял бледный, осунувшийся — таким Павел его еще не видел, представить даже не мог.
— Говоришь, три дня у тебя есть? — другим тоном спросил Иващенко у комсорга.
— Уже два с половиной. Да это неважно. Вы такое рассказали… задержусь уж.
— Поедешь. А потому время будем ценить. По домам. Митинг завтра утром, то есть уже сегодня.
Все зашевелились, комсорг взял со стола чемоданчик — видимо, так с автобуса и приехал сюда. Пошли по коридору, сразу заговорив о постороннем, что-де заносы на дорогах, обещают тридцать пять градусов мороза, в школе занятия отменили. Внизу Иващенко спохватился:
— Идемте ко мне домой, что вам на стульях спать-то?
— Если я пойду, — сказал Павел, — то уж просплю до утра, а я хочу посмотреть…
— Гм… — с любопытством посмотрел на него Иващенко. — Неужто так зацепило?
— Зацепило.
— Все будет нормально. Металл идет. Силком не тащу, но ежели… раскладушка у меня дома всегда в готовности.
Павел отказался. Постоял, глядя, как уходят, скрипя по снегу подошвами, трое разных людей — устало, с ворохом проблем. Он только прикоснулся, только подглядел, а для них это жизнь, сама суть жизни, которой они отданы с головой… «Ничего этот Лев, — подумал он, — крепкий, хоть он больше и молчал, но этот не пустозвон, весомый какой-то. Жаль, что я его раньше не узнал. Ничего, все наладится…»
Странно опять: скажи кто-нибудь ему неделю назад, что он будет так близко к сердцу принимать все общественные дела где-то далеко на металлургическом комбинате, не поверил бы… А сейчас очень захотелось остаться, узнать, что же будет делать этот Лев Мочалов, похожий и на композитора, и на спортсмена, и на юриста одновременно, какие будут собрания, и как будут кричать о работе, и переломится ли Селезнев — ну, хоть не уезжай совсем, оставайся тут и живи.
Мороз, однако, не дал ему долго размышлять. Схватясь за нос, Павел побежал прочь, подальше от искушения вернуться в кабинет. Нет, к черту, там заснешь — и пушкой не разбудишь. Лучше в будку мастеров.
Добежал, спасаясь от мороза, позорной рысью до будки, взлетел по трапу, ворвался, мелко стуча зубами, с болящей кожей лица. Шипел и тер щеки, уши, хлопал руками, ха, будка родимая, спасение!..
Сонно зудели приборы, уютно мигали лампочки. У стола с телефоном и журналом — ни души. Но под стеной на полу спало несколько
человек. Двое из них были Николай Зотов и Юра. Третий, седой, явно не из смены. Павел удивленно признал в нем кинооператора «Новостей дня». Четвертый был в отличном пальто, накрылся меховой шапкой. Не веря еще глазам, Павел склонился, приподнял шапку — это был Белоцерковский, голова на фотоаппарате, под бока подмостил какие-то войлочные пластины, спиной прижался к раскаленной батарее.
«Да как же он к тому же хорошо устроился, — с завистью подумал Павел, — так-так, однако где они войлоку набрали?» Он заглянул за щиты с приборами и обнаружил там целую кучу этого войлока вперемешку с упаковочными планками. Надрал себе, сколько хватило терпения, устроил ложе под раскаленными трубами, улегся боком, опершись на локоть, спиной — к трубам. Грелся.
«Но ведь дом у Рябинина может сгореть!» — подумал он и удивился, как эта простая мысль не пришла ему раньше и как он не высказал ее Рябинину, не предупредил.
Не так уж редко бывает, что именно такие вот частные дома горят, а у него система отопительная, сама по себе, помнится, топка горела, и уголь выпал, Рябинин его еще ногой затоптал. А если бы не заметил, ушел на работу, а уголек тлел, тлел и разгорелся бы…
Вот Мишка Рябинин на работе, в столовой, вдруг прибегают, кричат: «Дом твой горит!»
Ведь он, пожалуй, так бы и побежал, в колпаке, в фартуке. Но что сделаешь? Полыхает костром. Дом хоть и каменный, но веранда, мебели полно, радиола эта самая, проводка замкнулась, пожарные боятся тушить: током бьет…
— Ну, носом клюет. Послушай, ты мне нужен!
Павел ошалело открыл глаза. Белоцерковский уже сидел на корточках перед ним, тряс за плечо. Краем глаза заметил, что больше в зале никого нет, войлочные подстилки пусты.
— Что? Чугун? — хрипло спросил Павел.
— Нет, — сказал Белоцерковский. — И ты мне скажи: кто же тогда счастлив?
Глава 17
— Да, я напился, — говорил Белоцерковский, пока они шли по мосту к домне. — Но, как честный человек, оставил тебе. Можешь не пить, но это не значит, что ты можешь мне не отвечать!
— Почему ты не уехал?
— Не твое дело. Может, у меня есть тайные замыслы.
Он споткнулся о порог железной двери, чуть не растянулся, но удержался на ногах.
Дыма в цеху поубавилось, хоть он был чувствителен, но дышать можно. Домна вулканически-монотонно гудела. Горновые собрались в кружок на мостике у печи, грели спины, прислоняясь к теплому кожуху домны, травили что-то, посмеивались.
— Я циник, — сказал Белоцерковский. — Я и не отказываюсь. Более того, считаю, что только циник может выжить в этом мире.
— Нет, — сказал Павел.
— Аргументируй! — потребовал Белоцерковский, но, не ожидая ответа, горячо продолжал сам: — Может, ты витаешь в облаках, писатель, куда ж там! А я реалист, я думаю, как бы мне выжить, как бы что-нибудь успеть ухватить в этой короткой, тяжелой жизни. И я должен успеть. Урвал крошку пирога — это мое, запишем в актив. Еще урвал — еще одна галочка. При этом я имею мужество хотя бы честно называть себя циником. А тебе, кроме фальшивых, трескучих слов, нечего возразить мне в ответ!
Они тем временем дошли до канавы и остановились, наткнувшись на естественное препятствие. Канава была чистая, веселенькая, словно никогда и не было в ней никаких крокодилов, даже, кажется, подмели.
— Ладно, оставим, как ты выражаешься, трескучие слова, — сказал Павел. — Один только вопрос: а что, эти твои урывки — счастье?
— Счастье — журавлик в небе… Я по крайней мере знаю, что не упускаю времени.
— Нет, — сказал Павел, — ты упускаешь время. То самое, что для счастья. На мелочи. Урывки.
— Из мелочей наберу большой мешок.
— Большой мешок мелочей? Мешок мелочей, набранный ценой жизни, такой борьбы, топча других… Ведь так? Надо топтать?
— Надо!
— При подходящих условиях ты мог бы вырасти в порядочного фашиста.
— Мог бы! — с нервным вызовом согласился Белоцерковский. — Преувеличение, но ладно.
— Почему преувеличение? Если цинизм, так уж до конца.
— Иметь и повелевать лучше, чем быть нищей единицей в стаде, — презрительно сказал Белоцерковский.
— Иметь и повелевать? Пустяки! К счастью это не имеет никакого отношения. Можно быть несчастным повелителем. Можно, наоборот, быть счастливым, как ты говоришь, «в стаде».
— Это да, — согласился Белоцерковский. — Так что ж тогда счастье?
— Пьян ты изрядно. «Повелитель»!..
— Нет, я соображаю!
— Циники не учитывают одной штуки, без которой счастье невозможно. Счастье требует гармонического отношения с миром.
— Гармони…
— Гармонического.
— Ну, так. И что?
— Оно невозможно без чистой совести.
— Ах, со-весть! — сардонически воскликнул Белоцерковский. — «А что это такое?» — спросила кошка, кушая мясо.
— Вот-вот. Совесть. Какой бы большой кусок мяса кошка ни стащила, она всегда знает, чье мясо она съела. Это помимо нашей воли, как бы ни велели себе забыть. «И мальчики кровавые в глазах». Оставим уйму других аспектов, но одной нечистой совести пре-до-ста-точ-но! Чтобы исчезло всякое твое гармоническое отношение с миром.
Белоцерковский пристально смотрел в глаза Павлу, даже жутко как-то смотрел, засунув руки в карманы, покачиваясь, и ничего не говорил.
— Не понимаю, зачем с тобой об этом говорю, — сказал Павел. — Ты поразительно лихо добился того, что я тебя презираю, что ли. Сам не знаю, зачем еще с тобой говорю…
— Нет, нет, говори, — поспешно сказал Белоцерковский. — Это важно, скажи еще, что ты хотел…
— Да ничего, просто я верю: жизнь справедлива. Изобретаем наказания, судим, сажаем в тюрьму, но это чепуха в сравнении с совершенно беспросветным наказанием, которое определила сама жизнь нарушающим ее законы. Жизнь попросту лишает подлецов настоящего счастья. Всякие фикции, мешки мелочей — да. Подлинное счастье подлецам недоступно.
— М-да, что-то ты тут загибаешь… — сказал Белоцерковский. — Что ж тогда делать бедному подлецу? Повеситься? А если он стал подлецом нечаянно? Он не знал. Он больше не будет!
— Уйди ты от меня, паяц! — раздраженно сказал Павел. — С таким вопросом напиши письмо в «Пионерскую правду», может, что-нибудь ответят.
Тут Федор Иванов крикнул им посторониться, прошел, неся на горбу мятые железные листы, свалил их в канаву у летки.
— Чего не спите, полунощники? Не будет кина, долго еще не будет!
— Чего это ты делаешь?
— Газ прорывает, сложили горн на халтуру…
Он показал на кирпичную кладку вокруг летки. Только тут Павел увидел, что из швов между кирпичами хлещет пламя, вырывается с гудением, синее, шумя, как десятки примусов. Федор принялся замысловато ставить листы, не то пытаясь приглушить, не то загородить это пламя.
— Хо-хо… — сказал Белоцерковский. — Я пьян и то не понимаю, как же это они складывали?
— Вот так.
— Это же жуткий брак!
— Зачем жуткий? Обыкновенный… — с сердцем сказал Федор, воюя с неподатливыми листами.
— Ты же принимал!
— Что, я рентгенаппарат, чтоб видеть, перевязаны там внутри швы или нет?
— Надо перекладывать?!
— Нет. Домну уж не остановишь.
— А как?
— Что-нибудь придумаем.
— Да что? Что тут придумаешь? Полный огня горн!
— Сообразим… — Федор кончил воевать, вытер обшлагом изможденное, с черными кругами под глазами лицо. — Выходить из положения надо — будем соображать. Так оно печка ничего, раздулась бы и пошла, но повозиться с ней еще придется, ох, придется. Слушайте, а не путались бы вы еще тут, идите в будку спать…
Он ушел, слышно только было, как ругается с кем-то:
— Спихнули, разбежались, самописцы врут, лампы гаснут, гоните немедленно сюда этих артистов-кибернетиков!.. Я на ощупь определять не могу!
— Пошли к ребятам. Погреемся, послушаем, что они травят, — уныло сказал Белоцерковский. — Сейчас, я только глоток… Вожу с собой «эн-зэ», на случай ночевки в джунглях, иногда так невыносимо станет, хлобыстнешь, думаешь: ну, ладно.
Кожух печи был теплый, даже горячий. Горновые расселись живописно — кто телогрейку подстелил, кто доску. Грелись, как на печке в деревне, только на деревенских непохожие — в прожженных, перепачканных сажей штанах и куртках, с черными лицами, одни зубы да глаза светятся. Сидят, хохочут…
— У нас в Обухове был дед, восемьдесят восемь лет. Прогнал жену. Говорит: жена — это сатанинское отродье, она сделана из собачьего хвоста. Забавный был дед. У него были кот, собака и петух, он с ними приходил в пивную, пили все вместе водку, потом пели и представляли. Однажды пьяный кот съел петуха.
— Быть не может! — усомнился Юра под общий хохот. — Кот не съест петуха.
— Так пьяный кот-то! Животное!
— Петух, он за себя постоит. Тем более с пьяным. У нас был петух, ему зеркало ставили, он с ним дрался — начисто разбил. Хорошее зеркало было, так по дурости загубили.
— А у нас, — робко сказал длинный молоденький парнишка, которого все звали Васей, — ежик был. Мышей в избе, букашек, тараканов — всех поел. Как-то посылает меня маманя в подполье за яблоками, глядь, ни одного! Он их под печь перетаскал. Я перенес обратно, а он опять таскает. Два-три на спину — и пошел, под печку об стенку потрется, сбросит и рыльцем их в угол. Разохотился, таскает!
— Это да! Верю, — закивал головой Юра. — Ежи, они такие, да.
— А зимой спал. Дряни всякой себе наносит и спит. Я его разбужу, он конопли пожует и опять спит, ну, потешный!
— Не хотел работать зимой.
— He-а. Коноплю только ест. Для него это лучше нет — конопля…
Уютно тут было, под печкой. Грели спину отлично. Корпус чуть вибрировал, и пламя из горна гудело, как примусы, и фурмы монотонно гудели, навевая дремоту, хорошо так, по-домашнему, спокойно…
— Не спите! — закричал Федор снизу. — Да, да, вы!
— Это он вам, — уточнил Коля Зотов. — Здесь газ может скопиться. Ноги протянешь — не согнешь. Спать нельзя.
«Жалко, — думал Павел, — что спать нельзя. Какая она теплая, эта домна, приятная! Может, преувеличение про газ-то? Если бы газ, тут бы клетки с голубями висели…»
— Ты! — вдруг пьяно крикнул Белоцерковский, так что Павел испуганно дернул головой; тот уставился на Васю, тыча пальцем его в грудь: — Ты! Молодой! Скажи мне: ты счастлив?
— А? — испугался Вася.
— Перестань, — сказал Павел.
— Нет, скажи, ты счастлив? — допытывался Белоцерковский.
Вася беспомощно оглянулся.
— Ну, что вы у него спрашиваете? — добродушно вмешался Николай Зотов. — Он у нас еще маленький, дитя, деревенщина. Как говорится, только вчера лапти за светофором оставил, каупер с шихтоподъемником путал. Мы все счастливые. Вот мой домохозяин говорит: счастливый я, одних воскресений прожил на свете двенадцать лет. Думаю: ах, дед; врешь, сейчас я проверю, тебя уличу. Сел, на бумажке посчитал — точно! Ему восемьдесят, живуч еще, здоров. Бабка придет к жене, жалуется: «Не умирает дед, хоть ты что. Копила деньги на похороны, а купила телевизор».
— Ну, бабка у тебя тоже здорова!
— Веселая! Вчера пришел с ночной, стучу, стучу — слышно, откликается, а не открывает. Стучал минут двадцать, закоченел, зубами лязгаю, ору: «Или ты керенки в подушку зашиваешь, бабка?» А она спросонья перепутала стены, двадцать минут дверь искала.
Все опять грохнули смехом.
Павел оглянулся на Белоцерковского, тот клевал носом. Павел затормошил его, он проснулся и сразу же спросил, словно и не засыпал:
— Так кто счастлив? Я вас спрашиваю, поднимите руки!
Павлу было стыдно за него. Отвести в будку, что ли?
— Поддал человек? — сочувственно сказал Николай. — Бывает…
Павел потащил Белоцерковского, который уже лыка не вязал, вывел наружу, свесил на перила моста и держал так долго. Виктора вдруг стошнило, но после этого он сразу протрезвел, озабоченно и испуганно спросил:
— Я что, глупости болтал?
— Нет, просто пьян, как свинья.
— У этой домны воздух отравный, потому меня развезло. Я не представляю, как они работают, это же двадцать лет жизни прочь, я б ни за что не пошел, скопытился. Конечно, надбавка за вредность, молоко им, кажется, дают, но…
В ярко освещенном, но пустынном зале будки мастеров над обшарпанным столом одиноко склонился Векслер, морща лоб, изучал записи в журнале. Он был уставший, разморенный, как после бани, лицо пошло мешочками, костюм помялся и расстегнулся, и пальто он приспустил с плеч. Он удивленно покосился на Белоцерковского, как на видение.
А того в тепле катастрофически разморило. Павел доволок его до войлочных подстилок у батарей, свалил на них, как куль. На подстилке, сложив по-турецки ноги, сидел седой кинооператор «Новостей дня», очищал вареное яичко, и перед ним на газете лежали куски хлеба, масло в баночке, солонка.
— Вы-то что мучаетесь? — сочувственно сказал Павел. — Вы разве не сняли?
— Я снял всякую суету, потока чугуна не снял.
— Вот старый псих, — сказал Белоцерковский в войлок, не поднимая лица. — Домонтировал бы другой поток, все равно один хрен.
— Здесь показывали халтуру, а не плавку, — сказал старик. — А монтировать из старых лент — тоже халтура, молодой человек. Я документалист. Мне нужен данный поток.
«Какою ценой, как сказал Хромпик, — подумал Павел. — Какою ценой он снимет несколько метров, потом в кино кто-то будет смотреть, скучая… И этих, которые горн выкладывали, циников… Знали ведь, что делают, какое кладут ответственное место. Какой же это равнодушной, ленивой гадиной нужно быть, чтобы… гм…»
Старик оператор что-то спросил у него, он с трудом разлепил глаза. Старик предлагал поесть. Павлу есть не хотелось.
— Что там слышно, скоро чугун? — спросил старик.
— Будет ли он вообще?..
— Конечно, будет. Криворожская, например, дала через тридцать два часа, а эта ведь крупнее.
И он безмятежно принялся очищать следующее яйцо.
Глава 18
Потеплело вроде на литейном дворе, то ли этими открываниями, огнем да дымом подогрели, то ли теплый бок печи сыграл роль, что, пожалуй, было вернее. Потому что бочок тот был стена стеной, брюхо этакое теплое, необъятное… Стоит, матушка, плавит чугун. Глухо, подземно рокочет, содрогается, точками-глазочками ослепительно сверкает, шумит у летки — и плавит, а что-то там получится?.. А ну как мусор пойдет?
Точно потеплело. С потолка частые стали падать капли: оттаял потолок, вроде редкий дождик защелкал.
Федор все чаще и подолгу прилипал к глазкам, прикрыв их синим стеклом, высматривал какие-то одному ему ведомые мультипликации, потом бегал, колдовал над приборами, одно велел закрыть, другое усилить, добавить, убавить. И снова смотрел.
Что он там видел, неизвестно; Павел пытался заглядывать — одно ослепительное, до боли в глазах, сияние, никаких подробностей, ни пятнышка; сияние — и все.
В четыре часа утра пришел Иващенко из дому, помятый, с обиженным, измученным лицом: говорит, не спится, бессонница измучила, решил пойти в компанию, поглядеть, что оно тут, как. Они с Векслером уселись рядышком на железном сундуке, продолжили нескончаемый разговор о том, где летом лучше всего отдыхать. Иващенко склонялся к путешествию на пароходе по Волге, Векслер горячо пропагандировал Терскол под Эльбрусом как нечто уникальное.
Потом Иванов исчез, выяснилось, часок поспал. Прибежал бодрый, подтянутый и деловитый, сразу велел разделывать шлаковую летку.
Она была с тыльной части домны, высоко, с неудобными подходами, замазанная дырка в стене. Ребята туда полезли, пристроились среди железных балок, по очереди долбили ломами, крякая, взопрели все, долбили долго и с малым результатом.
Да, пожалуй, она, печка, все-таки ничего, как сказал Федор, раздулась бы и пошла, но возни с нею, еще ох, возни, невооруженным глазом видно…
И в один миг весь колоссальный зал осветился невероятным ослепительным светом. Стали видны самые отдаленные закоулки, лица у людей сделались голубыми, от шлаковой летки понеслись тревожные крики. Сломя голову Павел бросился туда.
Горновые, как обезьяны, повисли на железных балках, у каждого — удивленное голубое лицо. А из развороченной дыры, как из пробитой молочной цистерны, стремительно била толстенная бело-огненная упругая струя, взглянешь на нее — и все вокруг темнеет.
Сбрасывали в кучу ломы, вытирали лица, заслонялись рукавицами, остерегаясь щелкающих бенгальских искр, довольно скалились. Вдруг заговорили все, ожили, засмеялись. Уж рады, рады уж были так! Струя хлестала и хлестала, как из прорвы. Николай Зотов смотрел на нее восторженными, загипнотизированными глазами, как ребенок, обернулся, сказал наивно-радостно:
— О, прё!.. Ха-ро-ош… Тю!.. А вонючий! Как только тут люди работают!
— Обратите внимание, — сказал возбужденный Векслер. — Шлака небывало много, и он очень подвижный!
— Это хорошо? — спросил Павел.
— Прекрасный признак! Однако зажимайте носы!
От струи пошла такая нестерпимая, немыслимая вонь, едкая и злая, что из глаз выступали слезы. Иващенко начал чихать — быстро, раз за разом, без остановки, вызвав дружный хохот всех, и тут все уже, не выдержав, стали пятиться, разбегаться.
Федор Иванов лишь на минутку подошел, взглянул и умчался, ругаясь и грозясь: шихтоподача остановилась. Тут чугун надо выпускать, шихту сверху досыпать, возмещать объем, а они — мудрецы, артисты, комики, кибернетики! — надо же, именно сломались! Вверху зарокотало: подача, словно испуганно, возобновилась. Федор, снова оказавшийся у канавы, крикнул:
— Давай кислород!
Кажется, он сам не ждал.
Со стороны казалось: только прикоснулся. Он сжег всего полтрубки. Половинку единственной трубки — и разверзлось. Лопнуло, прорвало, как проколотый иглой давно созревший пузырь. Только коротко бабахнул удар грома, Федор Иванов отскочил от канавы, как пружиной выброшенный, а из печи хлынуло бурлящее, кипящее молоко, сразу наполнив канаву до краев, казалось, вот-вот перехлестнется… И пошло!
Слепящая быстрая лента стрельнула по желобам, по всем зигзагам их до самой стены, уходя куда-то дальше, под стену. И поднялась отчаянная стрельба, в зале застреляли десятки ружей, пистолетов: бах! тах! та-та!.. Павел завертел головой, ничего не понимая. Выстрелы возникали на поверхности молочного ручья. Он понял, что это сыплющиеся с потолка капли попадают на расплавленный металл…
— Ах, чтоб вы, та-та-та, ла-ла-ла!.. — орал с перекошенным, зверским лицом Федор Иванов сквозь грохот стрельбы, и вдруг все побежали врассыпную, панически, по ярко освещенной желтой площадке, сбежались вдруг в кучу над чем-то или кем-то, не то били его, не то тащили. Холодея, Павел бросился туда — и увидел.
Расплавленная струя прорвалась, куда ей не надо, полилась с высоты четырехэтажного дома прямо на железнодорожные пути — вмиг куска полотна как не бывало, ни рельсов, ни шпал, горелая клякса, и по краям дымится земля, и горит случайно оставленная тут товарная платформа… И тушить некому.
Пока заворачивали струю, пока бегали вниз, матерились, тушили платформу, из печи все хлестало и хлестало. Летка сама собой расширилась, металл выкатывался волнами, как бы пульсировал, биясь о края канавы, раскидывая брызги.
Векслер, совершенно равнодушный к инциденту с платформой, согнувшись, стоял в одиночестве над канавой, словно бы палочкой хотел измерить глубину. Повернул к Павлу недоумевающее лицо.
— Впервые в жизни вижу выпуск, столь мощный, как он вообще все им не разнес! Видите, я говорил: прогреется как следует…
Стали возвращаться ребята, перемазанные песком, сажей, становились на краю канавы, смотрели в огонь, плывущий под ногами. Федор Иванов пристально всмотрелся, снял шапку, вытер ею серое, вконец изможденное лицо, и вдруг глаза его загорелись, лицо расцвело, он удивленно-недоумевающе сказал:
— Да чугун-то хороший!..
Тут наконец все кинулись пожимать друг другу руки. Ах ты, боже мой, и людей-то при торжестве было всего с десяток, и никого-то не было, чтоб крикнуть «ура»! Особенно любовно трясли руку Федора, каждый считал за честь и обязанность пожать именно ему, а он так растроганно, охотно, по-детски улыбался, откровенно радовался, — глаза красные, на лбу сажа, волосы прилипли сосульками, а сам светится, смущенно улыбается, втягивая голову в плечи. Чуть виновато сказал, принимая пожатие Иващенко:
— Да вот, все хорошо, так пути сожгли, ну, не можем без аварий, не можем!
— Что ты, прости господи, — возмутился Иващенко, — о таких пустяках, за час починят! Ты посмотри, хлещет-то, хлещет, что она, доверху полна, что ли?
— Это невероятно, — сказал Векслер, — первый чугун и такого качества, видно же, без всякой лаборатории видно. Дружок, поплескайте в песок, пожалуйста, надо взять лепешечек на память.
Оказывается, это тоже важный ритуал. Коля Зотов металлической ложкой наплескал чугуна, лепешки сразу потемнели, схватились, и каждый палочкой, проволочкой стал откатывать в сторону свою, которую облюбовал, чтоб остыла в песочке, очень мило это получалось у взрослых людей. Все так и расползлись по площадке, занимаясь каждый своей лепешечкой. Иващенко, тот целый каравай себе покатил, пожадничал.
Поток же все хлестал, и хлестал, и хлестал, не оскудевая.
— Ну, красавица! — растроганно сказал вдруг Федор, уперев руки в бока, склоня голову набок, любовно разглядывая домну. — Ну, молодец, вот спасибо!
Она же, распаренная, усталая, раскрытая наконец, довольная от похвалы, прямо забулькала, извергая все новые порции, так искренне старалась, трогательная толстуха, громадища милая!.. Давай, давай, хорошая, еще немножко, где там еще по углам. И она старалась, истекала до конца, ничего себе не оставляла, выливалась и выливалась этак мирно и добро…
«Все-то, в общем, проще, чем думалось, очень просто, — подумал Павел, морща лоб. — Дали ей разогреться, сварили как следует, сожгли полтрубы, и вот чугун. Люди стоят, радуются. Мастер не плачет. Цех прямо сияет, однако же от свиста этого, стрельбы прямо уши болят».
Белоцерковский сидел в сторонке на ступеньке белой царской лестницы у подножия домны. С тупым выражением, неподвижно смотрел в журчащий огонь. Его мучило похмелье.
— Пшикнули! — сказал Белоцерковский. — Красиво пшикнули, так и живем, пшикаем себе.
— Ага, — сказал Павел, уже не принимая его всерьез. — И на здоровье, уж это нам дано.
— Дано, дано… — задумчиво повторил Белоцерковский. — Себе, что ли, пшикнуть? Хохмы ради… Лепешечку-то себе взял?.
— Взял.
— У-ти! Положишь на письменный прибор, умиленно будешь всем показывать… не могу!
— Дурак ты… — не обижаясь, сказал Павел.
— Ну, братцы, фантастика! — Федор Иванов подошел к ним, опустился на ступень. — Скоро ковш переполнится. Ну?.. Те наши старушки — просто ребенки перед нею. Мартенам теперь солоно придется, задавим, задавим!
— Ну что, Федя, законно отдыхать? Пустил машину.
— Ого!. Теперь, братцы, только все-то и начинается. Вся колготня впереди. Это еще не тот металл, хорош для первого раза; а вообще сырой, тут месяц будем только над технологией колдовать, да в график ее, да в режим, плавка за плавкой.
— Брак в горне, — подсказал Павел.
— Д-да, ума не приложу, придется подумать, это ты мне напомнил… В общем, только начни. Это уж — наше, без торжества.
— Федя, ты герой, — пьяно-насмешливо сказал Белоцерковский. — Ты человек-гранит, я упомяну тебя в своих мемуарах.
— Хоть когда бы фотокарточку дал, — улыбаясь, сказал Федор. — Снимает пятый год — и ни одной карточки, хоть какой паршивенькой на память. Щелкни сейчас.
— Я работаю только за гонорары, — сказал Виктор.
— Я тебе заплачу, честное слово, ну, будь же друг!
— Фотокорреспонденты все такие, — успокоил Павел. — И меня сколько снимали, а за фотографией в ателье хожу. Не проси.
— И то, — сказал Федор, смеясь, — вид у меня сейчас аховый.

Домна наконец разродилась. Речка стала делаться тоньше, спокойнее, превратилась в узкий ручеек.
Сквозь сверкающую летку хотелось заглянуть в печь. Представлялось, что там были сверкающие озера, целые архипелаги раскаленных добела глыб, пещерные своды. Павел пошел посмотреть, куда же вылился весь этот чугун. Идя вдоль канавы, он добрался до боковой двери цеха, открыл ее и очутился на мостике, этаком железном балконе с прутьями-перилами.
Желоб вытыкался из стены цеха как раз под этим балконом, и из него ручеек сливался в подставленный гигантский ковш на железнодорожной платформе. Перегнувшись. над перилами, Павел заглянул с высоты в ковш, и ему стало жутко.
Ковш был огромен, такой перевернутый царь-колокол с корявыми, облипшими застывшим металлом краями, полнехонький жидкого малиново-огненного металла. Поверхность жидкости покрывалась темнеющей, трескающейся корочкой, по ней вспыхивали голубые огоньки, а падавшая сверху струйка разбивала корочку, впрямь очень похожая на цедящееся молоко.
Павел покачал перила.
— Опробуете прочность? — раздалось за спиной, и на балкончик втиснулся Иващенко. — Да, тут над ковшиком-то стоять неуютно… Ух ты, полный надоили. Ради него весь сыр-бор. Странно, а?
— Да…
— Я, между прочим, думал, полночи ворочался… Не привлечет вас такая тема: что есть прогресс? — сказал Иващенко, увлекая и пропуская Павла впереди себя в цех. — Мы иногда смешиваем понятия. Склонны принимать достижения чисто технические за абсолютный прогресс. Или, скажем, количество учебных заведений, институтов, дворцов. Но ведь само по себе это еще далеко не все. Так ведь?
— Да, так.
— Говоря примером, некий Иванов создает эту вот домну. Прогресс это? — риторически спросил Иващенко, подняв палец, и сам же ответил: — Да, в том случае, если Иванов — борец за лучшее переустройство мира. Просто технический прогресс, он и в фашистской Португалии какой-нибудь есть. Нет, у нас прогресс техники непременно предполагает прогресс человека, и поэтому важнее всего — кто он, каков он, создатель домен Иванов! Если бы я писал очерки ваши, я бы под этим и только этим углом рассматривал все. Это ведь самое главное!
Под стеной лежала горка металлических труб, Павел облюбовал ее, присел на минуту, достал записную книжку. Голова у него была пухлая, мысли путались, но одну вещь он непременно должен был записать, и он записал: «Сегодня в пять часов двадцать минут утра я видел человека, который был подлинно счастлив: борец за лучшее переустройство мира Федор Иванов».
Продолжить, однако, ему не удалось, потому что вдруг раздался страшный взрыв, даже не столько взрыв, сколько непонятное дьявольское шипение с грохотом, закричали люди, на фоне огня побежали фигурки.
— Человек упал! — кричали. — Человек бросился!
Павел охнул и тоже побежал. «Димка!» — мелькнула мысль.
У двери, ведущей на балкончик, той самой, которую они с Иващенко только что оставили, сгрудились люди, выглядывали. Павел не мог видеть, что там, но сквозь дверь поверх голов он увидел, что из ковша валит сильный дым. Люди проталкивались из двери со страшными глазами
— Да как же его угораздило-то?
— Жуть! Упал — облако, и все…
— Это тот, пьяный? Корреспондент?
— Спьяну. Ну!
— Вот она, водка-то.
— Вот и так. Был человек — и нет.
— Жалко, молодой еще парень…
— Жить бы да жить…
— Он сам вроде бросился…
— Надо заявить куда-то?
Павел протолкался на мостик, заглянул через перила в ковш. В нем не было никаких следов Димки, только широкое свежее пятно среди корки, само уже покрывающееся темной пленкой, со вспыхивающими огоньками. Неразвеявшийся дым ел глаза.
— Инженера по технике безопасности жалко, — сказал очутившийся тут Николай Зотов. — Вот кому нагорит. И оберу… Кор-рес-пон-денты!..
Павел посмотрел на него и только тут, холодея, понял, что в ковш бросился не Димка, а… Белоцерковский! Димка же не мог броситься. Он умер раньше. Кладбище… Могила в мерзлой земле… А здесь — Белоцерковский. Недаром они такие внешне разные, все-таки очень похожи. Ведь он же их уже путал… И такой конец…
Склонив голову, ни на кого не глядя, Павел протолкался в цех. Ему стало холодно, очень холодно, настолько холодно, что-он застонал. Тяжело, мучительно застонал.
И… проснулся.
Он все так же сидел на трубах, склонив голову. Записная книжка валялась у ног на полу. Из-под труб сильно дуло, спина заледенела, ее даже заломило.
Несколько секунд он приходил в себя, потом вскочил, подобрал книжку, быстро пошел к домне, оттуда на мостик, ведущий в будку мастеров. Его всего трясло.
Возле батареи, на слежавшемся войлоке клубком свернулся и крепко спал Белоцерковский. Аппарат валялся рядом. Павел сел на корточки, пощупал руками, заглянул в лицо, закрыл его шапкой и только тут, наконец, полностью поверил, что то был сон.
«Что это такое, что мне кошмарные сны стали сниться? — подумал он. — Переутомление, что ли? В конце концов так дальше нельзя!..»
Словно боясь, что и сейчас он спит, Павел крепко потер глаза, потер виски. Снова потряс Белоцерковского за плечи: нет, не просыпается, но живой, целый, невредимый, никакой не самоубийца. Тьфу!
Умер Дима Образцов. Далеко. Давно. Как же это он сказал тогда? «Имею ли я право ухватить в этой жизни свое?» Да, сидели под каким-то тентом, за пивом, жаркий был день, столкнулись нос к носу на улице, взяли пива, и он так судорожно доказывал: «Имею я право ухватить свое?» Или это Белоцерковский говорил? Все в голове перепуталось! Нет, Димка пришел и сказал насчет огня: «Я сам погасил». Жизнь справедлива?
Воспаленными глазами Павел обвел будку. Зудели приборы. Жар шел от батарей. Потрогав их, Павел подумал, что самым разумным, самым мудрым сейчас будет выспаться.
Он подбил войлок, улегся, прижимаясь спиной к батарее, дал себе задание не видеть никаких снов, в крайнем случае — только хорошие. И тут же заснул.
Ему приснилось, что над ним сидит Женя. Она протягивала руку, хотела будить его и не решалась. Во-первых, он понял, что она на него не зла, во-вторых, подумал: «Может, это судьба?» Ему снилось, что он притворяется спящим, так хитро притворяется, сам же сквозь веки наблюдает за ней. Удовлетворенно решил: хороший сон, надо спать подольше, видеть этот хороший сон.
Но вместо этого решительно сел, спросил:
— Ты давно здесь сидишь?
— Нет, не очень, — сказала Женя. — Ты так вкусно спал, просто жаль будить. Но, может, тебе надо быть… Там митинг во дворе, я подумала…
— Батюшки мои, проспал! Все проспал! — с ужасом воскликнул он. — Который час?
— Девять утра, — сказала Женя.
Оглавление
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18


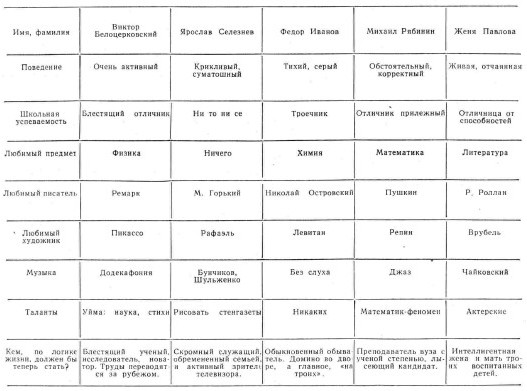 Табличка предназначалась только «для себя», для проверки своих способностей разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти.
Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении.
Хотя и многие вундеркинды выросли в гениев, хотя и большинство недоумков так и осталось недоумками.
Иной в юности гремит, блестяще идет в институт, там все ему прочат великое будущее… И вдруг хлоп! Исчез, как сквозь землю провалился. И забыли, что такой-то гремел!… Лишь случайно можно обнаружить его где-нибудь за столом, в тихом скромном углу, с девяти до шести с часовым обеденным перерывом: он уже ни на что не претендует, не будоражит умы, не горит. Выгорел.
Существует категория людей с коротким запалом, которого хватает лишь, чтобы с блеском готовиться, а придет пора действовать, ради которой-то и была подготовка, весь этот сыр-бор и блеск, они выгорели…
Обидная картина. Уверенно предсказать будущее человека в наш кибернетический век все так же невозможно, как и при скифах.
Табличка предназначалась только «для себя», для проверки своих способностей разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти.
Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении.
Хотя и многие вундеркинды выросли в гениев, хотя и большинство недоумков так и осталось недоумками.
Иной в юности гремит, блестяще идет в институт, там все ему прочат великое будущее… И вдруг хлоп! Исчез, как сквозь землю провалился. И забыли, что такой-то гремел!… Лишь случайно можно обнаружить его где-нибудь за столом, в тихом скромном углу, с девяти до шести с часовым обеденным перерывом: он уже ни на что не претендует, не будоражит умы, не горит. Выгорел.
Существует категория людей с коротким запалом, которого хватает лишь, чтобы с блеском готовиться, а придет пора действовать, ради которой-то и была подготовка, весь этот сыр-бор и блеск, они выгорели…
Обидная картина. Уверенно предсказать будущее человека в наш кибернетический век все так же невозможно, как и при скифах.
 Тут только он, пристальнее вглядевшись, заметил на ее шее поперечные морщины, которые искусно скрывало зеленоватое ископаемое ожерелье. Лицо ее было свежо и молодо, но выдавали руки — сухонькие, желтые, в той обильной микроскопической сети морщинок, которую упорное смазывание кремами, кажется, только усугубляет. И когда он это увидел, в нем что-то дрогнуло. Стеклянная стенка вдруг стала мягкой.
— Ты красива, — упорно сказал он. — И не лги, одна ты не потому.
— Я по идейным соображениям, — сказала она, смеясь.
— О! Это уже что-то!
— Да, по идейным… Слушай, ты не женщина, вам это трудно понять. Но знаешь ли, что сотворила эта статистика, когда ее объявили, эти самые песенки?.. Мужчины моментально приняли это к сведению, женщины тоже. Мы перепугались, а вы, особенно молодежь, вы стали такими самоуверенными! Куда же: «Мы дефицитные мужчины, мы ценность!» Жена говорит мужу: «Я от тебя уйду». Он отвечает: «Уходи, десять других найду». А как сейчас ведут себя парни? Они хамят, грубят, издеваются, девчонки терпят, хихикают, словно так и надо: ведь это к ним снисходят, одаряют вниманием!
— Допустим, девчонки ныне сами… такие хамоватые.
— Это защита! От страха и борьбы за жизнь, а иначе ведь с вами пропадешь! Так и вылетишь в десятые.
— Гм…
— Они только не знают, что и в девятке остаться не великое счастье. Современный этот самоуверенный нахал, превратившийся в мужа…
— А, в этом и причина, что ты решила быть одна?
— Что ты, конечно, нет.
— Не понимаю.
— Я нарочно завела этот разговор, чтоб ты перестал проникать мне в душу: стеклянные стенки, видишь ли, и прочее…
— Извини еще раз.
— Все в порядке. Я думаю, это была последняя война, когда так выбили мужчин. В новой войне мы уже будем гибнуть одинаково: мужчины, женщины, дети, так что все выровняется.
— Ты так безнадежно говоришь, словно война завтра…
— О, я ничего не знаю!.. Была у нас читательская встреча в цехе. Я пошла посмотреть плавку — красиво. Стою, думаю: вот, как вы пишете, из этого металла будут тракторы и комбайны. И ракеты. Может, я стою над этим ручьем, а это льется как раз та самая ракета, и я смотрю на свою смерть. Вот так, тут, возле домны начиналась.
— Наши с тобой смерти плавятся скорее всего где-нибудь в Руре, — заметил Павел. — Но ты не бойся: у нас есть чем защититься от их ракет!
— Слушай! — вдруг, склонившись к его уху, быстро спросила она. — Я точно еще не старая? Скажи только правду! Очень прошу тебя! Я пригляделась, сама себя уже не вижу. Ты вот… свежим взглядом… Я старею?
— Господь с тобой…
— Только не лги! Пашка!
— Женька! Все хорошо, — улыбаясь, искренне сказал Павел. — Я, знаешь, как тебя увидел, просто был… ну, повержен. Да.
— Спасибо. Ты сам не знаешь, как меня утешаешь!.. О боже мой, столько в этой жизни чудовищного: болезни, заботы, холод, старость, смерть, — а они еще — эти ракеты, бомбы, ракеты, бомбы!.. И чем же это мы, люди, занимаемся, вот ответь ты мне, писатель?Ты оптимист или пессимист?
— Помесь, — сказал Павел. — Сложный оптимист, по Ромену Роллану: сквозь тернии к радости, с окровавленными ногами, но обязательно к радости. Насколько я помню, Ромен Роллан был твой любимый писатель.
— Был… Забавно, на госэкзамене в пединституте он мне достался…
— Почему ты не стала преподавать?
— Я два года преподавала.
— Ну и что?
— Не умею. Вернее, не то. Школа требует долбежки. Я этого не смогла.
— Долбежки не надо.
— Ну, это идеально, так все и говорят, но когда доходит до дел… Вероятно, я была неопытная, поддалась панике. В общем, ушла в библиотеку — тут в сто раз спокойнее.
— Опять спокойнее?
— Ладно. Давай о другом.
— Где ты живешь?
— Литейная, семь, квартира семь. Счастливые цифры.
— Я не о том. Это отдельная квартира?
— Нет, коммунальная. У меня комната. Любопытные соседки.
— Не очень приятно.
— Я привыкла, не обращаю внимания.
Он представил себе на миг ее жизнь: приходит с работы, готовит что-нибудь на общей кухне, потом закрывается в комнате, лежит, читает книги. Иногда приходят знакомые, мужчины; соседки подслеживают и злословят.
— А твои актерские способности? Забросила?
— Ага.
— В самодеятельности не пытаешься?
— Да ну!.. Расстраиваться?
— Тогда я не понимаю, чем ты живешь…
— Чем живут многие. Надеждами. Инерцией.
Тут только он, пристальнее вглядевшись, заметил на ее шее поперечные морщины, которые искусно скрывало зеленоватое ископаемое ожерелье. Лицо ее было свежо и молодо, но выдавали руки — сухонькие, желтые, в той обильной микроскопической сети морщинок, которую упорное смазывание кремами, кажется, только усугубляет. И когда он это увидел, в нем что-то дрогнуло. Стеклянная стенка вдруг стала мягкой.
— Ты красива, — упорно сказал он. — И не лги, одна ты не потому.
— Я по идейным соображениям, — сказала она, смеясь.
— О! Это уже что-то!
— Да, по идейным… Слушай, ты не женщина, вам это трудно понять. Но знаешь ли, что сотворила эта статистика, когда ее объявили, эти самые песенки?.. Мужчины моментально приняли это к сведению, женщины тоже. Мы перепугались, а вы, особенно молодежь, вы стали такими самоуверенными! Куда же: «Мы дефицитные мужчины, мы ценность!» Жена говорит мужу: «Я от тебя уйду». Он отвечает: «Уходи, десять других найду». А как сейчас ведут себя парни? Они хамят, грубят, издеваются, девчонки терпят, хихикают, словно так и надо: ведь это к ним снисходят, одаряют вниманием!
— Допустим, девчонки ныне сами… такие хамоватые.
— Это защита! От страха и борьбы за жизнь, а иначе ведь с вами пропадешь! Так и вылетишь в десятые.
— Гм…
— Они только не знают, что и в девятке остаться не великое счастье. Современный этот самоуверенный нахал, превратившийся в мужа…
— А, в этом и причина, что ты решила быть одна?
— Что ты, конечно, нет.
— Не понимаю.
— Я нарочно завела этот разговор, чтоб ты перестал проникать мне в душу: стеклянные стенки, видишь ли, и прочее…
— Извини еще раз.
— Все в порядке. Я думаю, это была последняя война, когда так выбили мужчин. В новой войне мы уже будем гибнуть одинаково: мужчины, женщины, дети, так что все выровняется.
— Ты так безнадежно говоришь, словно война завтра…
— О, я ничего не знаю!.. Была у нас читательская встреча в цехе. Я пошла посмотреть плавку — красиво. Стою, думаю: вот, как вы пишете, из этого металла будут тракторы и комбайны. И ракеты. Может, я стою над этим ручьем, а это льется как раз та самая ракета, и я смотрю на свою смерть. Вот так, тут, возле домны начиналась.
— Наши с тобой смерти плавятся скорее всего где-нибудь в Руре, — заметил Павел. — Но ты не бойся: у нас есть чем защититься от их ракет!
— Слушай! — вдруг, склонившись к его уху, быстро спросила она. — Я точно еще не старая? Скажи только правду! Очень прошу тебя! Я пригляделась, сама себя уже не вижу. Ты вот… свежим взглядом… Я старею?
— Господь с тобой…
— Только не лги! Пашка!
— Женька! Все хорошо, — улыбаясь, искренне сказал Павел. — Я, знаешь, как тебя увидел, просто был… ну, повержен. Да.
— Спасибо. Ты сам не знаешь, как меня утешаешь!.. О боже мой, столько в этой жизни чудовищного: болезни, заботы, холод, старость, смерть, — а они еще — эти ракеты, бомбы, ракеты, бомбы!.. И чем же это мы, люди, занимаемся, вот ответь ты мне, писатель?Ты оптимист или пессимист?
— Помесь, — сказал Павел. — Сложный оптимист, по Ромену Роллану: сквозь тернии к радости, с окровавленными ногами, но обязательно к радости. Насколько я помню, Ромен Роллан был твой любимый писатель.
— Был… Забавно, на госэкзамене в пединституте он мне достался…
— Почему ты не стала преподавать?
— Я два года преподавала.
— Ну и что?
— Не умею. Вернее, не то. Школа требует долбежки. Я этого не смогла.
— Долбежки не надо.
— Ну, это идеально, так все и говорят, но когда доходит до дел… Вероятно, я была неопытная, поддалась панике. В общем, ушла в библиотеку — тут в сто раз спокойнее.
— Опять спокойнее?
— Ладно. Давай о другом.
— Где ты живешь?
— Литейная, семь, квартира семь. Счастливые цифры.
— Я не о том. Это отдельная квартира?
— Нет, коммунальная. У меня комната. Любопытные соседки.
— Не очень приятно.
— Я привыкла, не обращаю внимания.
Он представил себе на миг ее жизнь: приходит с работы, готовит что-нибудь на общей кухне, потом закрывается в комнате, лежит, читает книги. Иногда приходят знакомые, мужчины; соседки подслеживают и злословят.
— А твои актерские способности? Забросила?
— Ага.
— В самодеятельности не пытаешься?
— Да ну!.. Расстраиваться?
— Тогда я не понимаю, чем ты живешь…
— Чем живут многие. Надеждами. Инерцией.
 — А это что рядом? Домик для сравнения?
— Да, — сказал Павел, чувствуя себя как чертежник несколько смущенно, — а этот прямоугольник слева — тридцатиэтажный дом.
— А это что рядом? Домик для сравнения?
— Да, — сказал Павел, чувствуя себя как чертежник несколько смущенно, — а этот прямоугольник слева — тридцатиэтажный дом.
 Краем сознания он отметил, что вокруг совсем стемнело и светит фонарь. Значит, он просидел на скамье долго, но сколько, понятия не имел.
— Я не заметил, как ты смылся, — говорил Белоцерковский.
— Димка, брат, но в человеке должно же хоть что-нибудь гореть! — сказал Павел. — Солнце. Костер. Свечка, наконец, черт возьми!
— Ладно, ладно, твоими устами да мед пить, — добродушно говорил Белоцерковский, подталкивая его в дом. — Пошли одеваться. По-дурацки как-то напились. Во-первых, я не Димка…
Тут Павел потрясенно посмотрел на него. Действительно, это ведь не Димка. Того Димки нет, он умер. Есть Виктор Белоцерковский. Как это он спутал? Ну и напился! И возник вопрос: почему спутал? Они же ведь совсем непохожи… Или похожи? Погоди, как же это получается: та схема, таблица, составленная в трамвае, она предсказывала Белоцерковскому нечто совершенно великолепное, блестящий новатор, труды переводятся за рубежом… И вот этот жалкий, цинизм, неверие ни во что… Да, ведь этим, именно этим мертвый Димка и живой Виктор сходятся.
— С кем ты меня спутал?
— Да, это я сейчас не с тобой говорил, — сказал Павел. — Видишь ли, был один случай, в высшей степени непонятный случай. Теперь вот я смотрю на тебя и, пожалуй, начинаю что-то понимать. В огне все дело, понимаешь, в огне, и, глядя на тебя, я и тот странный случай понимаю.
— Чрезвычайно рад быть тебе полезным! — радостно сказал Белоцерковский. — Тихо, тихо, о корыто не споткнись.
При виде заваленного объедками стола Павла затошнило. Он плохо помнил, как оделись. Потом вышли, размещались в машине, а она не заводилась. Суета, было много суеты, хозяин толкал, девицы толкали, Павел толкал и упал в снег. Полежал с удовольствием. Следующий проблеск: ярко светя фарами, машина летит с бешеной скоростью по улице, и Белоцерковский, хохоча, говорит: «А вот с ветерком!»
— Витя, тебя сейчас остановят! — визжали девушки, хватаясь за него.
— Хотите на пари? У меня, брат, опыт! — смеялся Белоцерковский, нажимая на акселератор.
«Сейчас врежемся», — без страха подумал Павел, наблюдая, как столбы с фонарями бешено проносятся слева и справа. Он уселся плотнее, стараясь угадать, в какой столб они врежутся, но вдруг улицы кончились, и перед фарами не оказалось ничего, кроме черного неба и белого поля.
Белоцерковский один отвел девушек до двери баракоподобного дома. Павел подождал в кабине, вздремнул.
— Дамы остались тобой недовольны, — сказал Белоцерковский, усаживаясь за руль. — Надо же, как тебя разобрало, эх, не надо было водку с коньяком мешать.
— В гостиницу, пожалуйста, — сказал Павел, путая машину Белоцерковского с такси.
— Нет. Едем ко мне домой, в центр.
— Я не хочу. Довези меня до гостиницы.
— Нельзя, Паша, свинья ты будешь в таком случае. Я не развлекаться тебя везу, а для дела, как мужчину: для алиби перед женой. Понял? Мы были на вокзале в ресторане, пили «Плиску». Повтори!
— Пошел к черту.
— Ладно, я буду говорить, ты только кивай. Понимаешь, мне совсем не нужно, чтоб жена что-нибудь знала. Она мне пока верит… преданная такая, чудная жена.
Краем сознания он отметил, что вокруг совсем стемнело и светит фонарь. Значит, он просидел на скамье долго, но сколько, понятия не имел.
— Я не заметил, как ты смылся, — говорил Белоцерковский.
— Димка, брат, но в человеке должно же хоть что-нибудь гореть! — сказал Павел. — Солнце. Костер. Свечка, наконец, черт возьми!
— Ладно, ладно, твоими устами да мед пить, — добродушно говорил Белоцерковский, подталкивая его в дом. — Пошли одеваться. По-дурацки как-то напились. Во-первых, я не Димка…
Тут Павел потрясенно посмотрел на него. Действительно, это ведь не Димка. Того Димки нет, он умер. Есть Виктор Белоцерковский. Как это он спутал? Ну и напился! И возник вопрос: почему спутал? Они же ведь совсем непохожи… Или похожи? Погоди, как же это получается: та схема, таблица, составленная в трамвае, она предсказывала Белоцерковскому нечто совершенно великолепное, блестящий новатор, труды переводятся за рубежом… И вот этот жалкий, цинизм, неверие ни во что… Да, ведь этим, именно этим мертвый Димка и живой Виктор сходятся.
— С кем ты меня спутал?
— Да, это я сейчас не с тобой говорил, — сказал Павел. — Видишь ли, был один случай, в высшей степени непонятный случай. Теперь вот я смотрю на тебя и, пожалуй, начинаю что-то понимать. В огне все дело, понимаешь, в огне, и, глядя на тебя, я и тот странный случай понимаю.
— Чрезвычайно рад быть тебе полезным! — радостно сказал Белоцерковский. — Тихо, тихо, о корыто не споткнись.
При виде заваленного объедками стола Павла затошнило. Он плохо помнил, как оделись. Потом вышли, размещались в машине, а она не заводилась. Суета, было много суеты, хозяин толкал, девицы толкали, Павел толкал и упал в снег. Полежал с удовольствием. Следующий проблеск: ярко светя фарами, машина летит с бешеной скоростью по улице, и Белоцерковский, хохоча, говорит: «А вот с ветерком!»
— Витя, тебя сейчас остановят! — визжали девушки, хватаясь за него.
— Хотите на пари? У меня, брат, опыт! — смеялся Белоцерковский, нажимая на акселератор.
«Сейчас врежемся», — без страха подумал Павел, наблюдая, как столбы с фонарями бешено проносятся слева и справа. Он уселся плотнее, стараясь угадать, в какой столб они врежутся, но вдруг улицы кончились, и перед фарами не оказалось ничего, кроме черного неба и белого поля.
Белоцерковский один отвел девушек до двери баракоподобного дома. Павел подождал в кабине, вздремнул.
— Дамы остались тобой недовольны, — сказал Белоцерковский, усаживаясь за руль. — Надо же, как тебя разобрало, эх, не надо было водку с коньяком мешать.
— В гостиницу, пожалуйста, — сказал Павел, путая машину Белоцерковского с такси.
— Нет. Едем ко мне домой, в центр.
— Я не хочу. Довези меня до гостиницы.
— Нельзя, Паша, свинья ты будешь в таком случае. Я не развлекаться тебя везу, а для дела, как мужчину: для алиби перед женой. Понял? Мы были на вокзале в ресторане, пили «Плиску». Повтори!
— Пошел к черту.
— Ладно, я буду говорить, ты только кивай. Понимаешь, мне совсем не нужно, чтоб жена что-нибудь знала. Она мне пока верит… преданная такая, чудная жена.
 Он лег на бок на кору и стружки, среди приятно пахнущих стволов берез и елей, надвинул шапку на самые глаза, и стало ему тепло-тепло, уютно, как в детстве. Звуки сверху он слышал, как сквозь туман, и они были прекрасной, убаюкивающей музыкой. Он провалился в сон, один из лучших, вкуснейших снов своей жизни.
Наверху вскоре кончили без него (неловко, конечно, но уж так хочется поспать!), собрали инструменты, кто-то искал рукавицу (Павел думал: сейчас досплю, отдам ему), Федор Иванов кричал:
— Никто не остался?
Павел прекрасно слышал, но затаился, не хотел отзываться, хитро посмеиваясь во сне. Постепенно звуки затихли, похоже, убрали лестницу, звякали крышкой и ключами, завинчивая фурму.
Павел все спал, переполненный тишиной и миром. Но по помосту зашуршало, защелкали какие-то камешки, и вдруг ужасающий грохот раздался, стойки затрещали, на Павла посыпались камни, уголь. Он ошалело вскочил и только тут по-настоящему понял все: что он проспал, что его забыли в домне и никто не хватился, что началась загрузка.
Вокруг была кромешная тьма. Натыкаясь на стойки, продираясь сквозь них (опять ужасающий грохот, опять посыпалось!), он кинулся искать на ощупь стены и летку, чтобы хоть закричать в нее, может, кто-нибудь услышит. Наконец, он уперся в стену, продирался вдоль нее, щупал, щупал и нашел место с вывалившимися кирпичами, он узнал его, ужас сделал его каким-то прозорливым, но не было свежего тока воздуха. Он наткнулся на холодный, застывший раствор, выпучившийся из летки: ее запечатали…
И тогда он понял, что безнадежно замурован. Загрузят домну, зажгут, и он будет метаться в полке, пока не сгорит, превратится в металл, вернее, в примесь к нему, пойдет в комбайны, и мясорубки, и ракеты… Почетнейшая гибель! Раствориться в комбайнах!..
Он сделал отчаянное усилие — и закричал. Закричал жутким, сдавленным, неестественным голосом, от которого и проснулся весь в холодном поту, и он еще несколько секунд ошалело лежал, уставясь на березовый ствол и туго, с трудом вспоминая, где он. В ушах лопнули пузыри, и он услышал, как наверху стучат, пилят, хохочут.
Он торопливо полез наверх, выбрался: ого, до окончания полка еще порядком и порядком!.. И его окутало с ног до головы жаркое счастье.
Это было что-то необычное: один дух, один ритм, понимание без слов, азарт. Помост словно сам собой получался ровный, гладкий, ну, прямо хоть на велосипеде езди, хотя в этом не было решительно никакой надобности: ведь сгорит же, не все ли равно какой. Так нет же, видит Николай, что ошметок торчит, приладился, повис, пилкой чик-чик, аккуратно срезал ошметок, полюбовался: красиво.
У Федора Иванова лицо совсем осунулось, глаза красные, шапку не то потерял, не то где оставил, волосы буйным колтуном, мокрые сосульки прилипли ко лбу. Отбросил кувалду, выпрямился, посмотрел, прищурясь, и вдруг расцвел, хлопнул руками себя по бокам:
— Ах, ребятки мои!.. Молодцы вы мои! Да я вам… да я же вам…
— По сто грамм к обеду поставлю, — подсказал Николай Зотов, скаля зубы.
— Да черт вас знает, что вам уж и сделать, дьяволы. Ах!
Федор сконфуженно махнул рукой, вытер платком лицо, отошел в сторонку, присел на бревно, тяжело дыша.
— Уж ты-то чего надрываешься? — спросил он Павла. — Я тебе наряд не закрою. Твое дело — писать. Вот будешь писать, отметь: мол, работают отлично, стараются, не считаются с временем, если надо…
— Здесь был… не вижу его, — сказал Павел, — Хромпик Илья Ильич, пожилой. Он что, вправду начальник цеха?
— Привет! Мой начальник.
— Он говорил, что задувка эта сложная, неизвестная.
— Это так.
— А что может случиться?
— Да… все может случиться. Думаю, не случится.
— Когда теперь зажигать?
— Скоро.
— Точнее.
— Вот-вот. Уже дымом пахнет.
— Ну, в котором часу? Сегодня? Или… завтра?
— Эй, эй, мудрецы, не надо, не надо! — закричал Федор, срываясь с места. — Эту балку напоследок, замком, вам сказал!
Наведя порядок, он вернулся, устало плюхнулся на бревно, внимательно посмотрел на Павла.
— Слушай, Пашка, чем лезть ко мне с вопросами, пошел бы ты отдохнул. На тебе лица нет. Иди в будку мастеров, поспи.
— Сейчас пойду, только скажи мне такую вещь. Могло бы случиться так, что кто-нибудь внизу заснул, а все ушли, закрыли, забыли о нем, и он бы тут сгорел?
— И правда ты уже одурел… — испуганно сказал Федор. — Да перед тем, как закрыть, я тут каждый сантиметр обнюхаю и общупаю.
— Зачем?
— Как зачем? Закрывается навсегда, так уж напоследок все проверишь. Потом, может, где инструмент забыли. Чего ж ему сгорать?
— А, ну ладно, тогда пойду… Красивый помост, жаль, что сгорит.
— Самому жаль…
Осилив лестницу и пролезая на четвереньках сквозь фурму, Павел едва не столкнулся лбом с чьей-то головой.
— А! — сказал парторг Иващенко. — Это вы? А я думаю: что за новый доменщик появился в ботиночках?
— Так. Погрелся.
— Измазались вы, стойте, почищу… Это что, в столице всех так гоняют? Читаешь все: «Корреспондент переменил профессию».
— Матвей Кириллович, — спросил Павел, — уж вы-то точно знаете. Когда зажигание?
— Точно не точно, но уже скоро, вот-вот. как говорят доменщики, дымком пахнет.
— А точнее?
— Так вы бы у обер-мастера спросили: Иванов должен лучше меня знать.
Павел развел руками.
— Я ничего не понимаю… А Иванов молчит. Почему он молчит?
— Ага! — усмехнулся Иващенко. — Это уж он такой. Точно. Даром языком болтать не любит. Скажи он срок, а что-либо подведет — он же и опозорится.
— Но я успею поспать?
— О да, поспать вам надо: вид у вас усталый… Я хотел вам сказать… Давеча наорал. Вы спрашивали, о ком писать. Ну вот, нашли же!
Павел открыл железный сундук, развернул свое пальто, молча стал переодеваться. Иващенко подержал ему пальто.
— Ах, золотые, золотые ребята, и ничего-то мы не умеем про них сказать! Вы непременно напишите, что работают люди не по обязанности — от души, можно сказать. «Ребята, надо!» Они отвечают: «Об чем речь? Надо — значит, будет сделано». Высока сознательность, коммунистическая ответственность перед обществом. Опишите, прошу вас, это как самое главнее! Без этого бы мы ничего не сделали! Может, вы даже записали бы, чтоб не забыть?
Павел вытащил записную книжку и написал в ней: «Сознательность».
Парторгу это понравилось, он удовлетворенно закивал:
— Конечно, можно упомянуть еще и то, что коллектив, безусловно, политически зрелый. Регулярно, без всяких срывов в доменном цехе проводятся политзанятия и, отметьте, при большой активности участников. Очень большой. Иные лекторы приходят просто мокрые. Позавчера была у них очень бурная беседа о международном положении. Да, и самое главное-то: переходящее знамя доменный цех держит уже третий год!
Забавно, но когда Павел тогда разбежался побеседовать, парторг на него накричал; теперь Павел очень хотел уйти, а парторг разговорился так душевно и горячо.
— А хотите, так и быть, вам тему подарю? Отличнейшая тема, поле для размышлений! Вы подумайте: в старое время требовались десятилетия, а то целые поколения, чтобы какой-нибудь мужик из деревни или другой слой — горожане, мещане какие-нибудь превратились в индустриального пролетария. Тем более с социалистическим сознанием! А теперь этот процесс идет с колоссальной быстротой. Они проходят школу трудовых резервов, затем буквально считанные годы на заводе — и перед нами настоящий рабочий класс!
— Да, — сказал Павел, — это так.
— Вот что поразительно. И мы настолько привыкли, что не удивляемся!
Тут подошел давешний пожарник, вмешался с вопросом:
— А что оно, граждане начальники, загорится скоро?
— Скоро, скоро, — сказал Иващенко. — Скоро только блохи ловятся.
— А чего еще? Чиркай спичку да зажигай.
— Вы полагаете, — спросил парторг, улыбаясь, — что домны зажигаются спичкой?
Пожарник смутился и отошел. Павел тоже смутился: и он до сих пор не знал, как зажгут домну. Черт его знает, а в самом деле?..
— Вот так-то, — сказал Иващенко. — Я бы на вашем месте просто запутался, потонул бы в темах и проблемах, которые вертятся вокруг одной только этой домны, а она — это капля в море нашего движения. По недавней статистике в Советском Союзе каждые восемь часов вступает новый промышленный объект. Каждые восемь часов! Но я вас заговорил, а вам и поспать-то негде. Вот ключ от кабинета политпросвещения, с утра там никого нет. Только ключ потом не забудьте вернуть!
— Вот за это спасибо! — поблагодарил Павел.
Он лег на бок на кору и стружки, среди приятно пахнущих стволов берез и елей, надвинул шапку на самые глаза, и стало ему тепло-тепло, уютно, как в детстве. Звуки сверху он слышал, как сквозь туман, и они были прекрасной, убаюкивающей музыкой. Он провалился в сон, один из лучших, вкуснейших снов своей жизни.
Наверху вскоре кончили без него (неловко, конечно, но уж так хочется поспать!), собрали инструменты, кто-то искал рукавицу (Павел думал: сейчас досплю, отдам ему), Федор Иванов кричал:
— Никто не остался?
Павел прекрасно слышал, но затаился, не хотел отзываться, хитро посмеиваясь во сне. Постепенно звуки затихли, похоже, убрали лестницу, звякали крышкой и ключами, завинчивая фурму.
Павел все спал, переполненный тишиной и миром. Но по помосту зашуршало, защелкали какие-то камешки, и вдруг ужасающий грохот раздался, стойки затрещали, на Павла посыпались камни, уголь. Он ошалело вскочил и только тут по-настоящему понял все: что он проспал, что его забыли в домне и никто не хватился, что началась загрузка.
Вокруг была кромешная тьма. Натыкаясь на стойки, продираясь сквозь них (опять ужасающий грохот, опять посыпалось!), он кинулся искать на ощупь стены и летку, чтобы хоть закричать в нее, может, кто-нибудь услышит. Наконец, он уперся в стену, продирался вдоль нее, щупал, щупал и нашел место с вывалившимися кирпичами, он узнал его, ужас сделал его каким-то прозорливым, но не было свежего тока воздуха. Он наткнулся на холодный, застывший раствор, выпучившийся из летки: ее запечатали…
И тогда он понял, что безнадежно замурован. Загрузят домну, зажгут, и он будет метаться в полке, пока не сгорит, превратится в металл, вернее, в примесь к нему, пойдет в комбайны, и мясорубки, и ракеты… Почетнейшая гибель! Раствориться в комбайнах!..
Он сделал отчаянное усилие — и закричал. Закричал жутким, сдавленным, неестественным голосом, от которого и проснулся весь в холодном поту, и он еще несколько секунд ошалело лежал, уставясь на березовый ствол и туго, с трудом вспоминая, где он. В ушах лопнули пузыри, и он услышал, как наверху стучат, пилят, хохочут.
Он торопливо полез наверх, выбрался: ого, до окончания полка еще порядком и порядком!.. И его окутало с ног до головы жаркое счастье.
Это было что-то необычное: один дух, один ритм, понимание без слов, азарт. Помост словно сам собой получался ровный, гладкий, ну, прямо хоть на велосипеде езди, хотя в этом не было решительно никакой надобности: ведь сгорит же, не все ли равно какой. Так нет же, видит Николай, что ошметок торчит, приладился, повис, пилкой чик-чик, аккуратно срезал ошметок, полюбовался: красиво.
У Федора Иванова лицо совсем осунулось, глаза красные, шапку не то потерял, не то где оставил, волосы буйным колтуном, мокрые сосульки прилипли ко лбу. Отбросил кувалду, выпрямился, посмотрел, прищурясь, и вдруг расцвел, хлопнул руками себя по бокам:
— Ах, ребятки мои!.. Молодцы вы мои! Да я вам… да я же вам…
— По сто грамм к обеду поставлю, — подсказал Николай Зотов, скаля зубы.
— Да черт вас знает, что вам уж и сделать, дьяволы. Ах!
Федор сконфуженно махнул рукой, вытер платком лицо, отошел в сторонку, присел на бревно, тяжело дыша.
— Уж ты-то чего надрываешься? — спросил он Павла. — Я тебе наряд не закрою. Твое дело — писать. Вот будешь писать, отметь: мол, работают отлично, стараются, не считаются с временем, если надо…
— Здесь был… не вижу его, — сказал Павел, — Хромпик Илья Ильич, пожилой. Он что, вправду начальник цеха?
— Привет! Мой начальник.
— Он говорил, что задувка эта сложная, неизвестная.
— Это так.
— А что может случиться?
— Да… все может случиться. Думаю, не случится.
— Когда теперь зажигать?
— Скоро.
— Точнее.
— Вот-вот. Уже дымом пахнет.
— Ну, в котором часу? Сегодня? Или… завтра?
— Эй, эй, мудрецы, не надо, не надо! — закричал Федор, срываясь с места. — Эту балку напоследок, замком, вам сказал!
Наведя порядок, он вернулся, устало плюхнулся на бревно, внимательно посмотрел на Павла.
— Слушай, Пашка, чем лезть ко мне с вопросами, пошел бы ты отдохнул. На тебе лица нет. Иди в будку мастеров, поспи.
— Сейчас пойду, только скажи мне такую вещь. Могло бы случиться так, что кто-нибудь внизу заснул, а все ушли, закрыли, забыли о нем, и он бы тут сгорел?
— И правда ты уже одурел… — испуганно сказал Федор. — Да перед тем, как закрыть, я тут каждый сантиметр обнюхаю и общупаю.
— Зачем?
— Как зачем? Закрывается навсегда, так уж напоследок все проверишь. Потом, может, где инструмент забыли. Чего ж ему сгорать?
— А, ну ладно, тогда пойду… Красивый помост, жаль, что сгорит.
— Самому жаль…
Осилив лестницу и пролезая на четвереньках сквозь фурму, Павел едва не столкнулся лбом с чьей-то головой.
— А! — сказал парторг Иващенко. — Это вы? А я думаю: что за новый доменщик появился в ботиночках?
— Так. Погрелся.
— Измазались вы, стойте, почищу… Это что, в столице всех так гоняют? Читаешь все: «Корреспондент переменил профессию».
— Матвей Кириллович, — спросил Павел, — уж вы-то точно знаете. Когда зажигание?
— Точно не точно, но уже скоро, вот-вот. как говорят доменщики, дымком пахнет.
— А точнее?
— Так вы бы у обер-мастера спросили: Иванов должен лучше меня знать.
Павел развел руками.
— Я ничего не понимаю… А Иванов молчит. Почему он молчит?
— Ага! — усмехнулся Иващенко. — Это уж он такой. Точно. Даром языком болтать не любит. Скажи он срок, а что-либо подведет — он же и опозорится.
— Но я успею поспать?
— О да, поспать вам надо: вид у вас усталый… Я хотел вам сказать… Давеча наорал. Вы спрашивали, о ком писать. Ну вот, нашли же!
Павел открыл железный сундук, развернул свое пальто, молча стал переодеваться. Иващенко подержал ему пальто.
— Ах, золотые, золотые ребята, и ничего-то мы не умеем про них сказать! Вы непременно напишите, что работают люди не по обязанности — от души, можно сказать. «Ребята, надо!» Они отвечают: «Об чем речь? Надо — значит, будет сделано». Высока сознательность, коммунистическая ответственность перед обществом. Опишите, прошу вас, это как самое главнее! Без этого бы мы ничего не сделали! Может, вы даже записали бы, чтоб не забыть?
Павел вытащил записную книжку и написал в ней: «Сознательность».
Парторгу это понравилось, он удовлетворенно закивал:
— Конечно, можно упомянуть еще и то, что коллектив, безусловно, политически зрелый. Регулярно, без всяких срывов в доменном цехе проводятся политзанятия и, отметьте, при большой активности участников. Очень большой. Иные лекторы приходят просто мокрые. Позавчера была у них очень бурная беседа о международном положении. Да, и самое главное-то: переходящее знамя доменный цех держит уже третий год!
Забавно, но когда Павел тогда разбежался побеседовать, парторг на него накричал; теперь Павел очень хотел уйти, а парторг разговорился так душевно и горячо.
— А хотите, так и быть, вам тему подарю? Отличнейшая тема, поле для размышлений! Вы подумайте: в старое время требовались десятилетия, а то целые поколения, чтобы какой-нибудь мужик из деревни или другой слой — горожане, мещане какие-нибудь превратились в индустриального пролетария. Тем более с социалистическим сознанием! А теперь этот процесс идет с колоссальной быстротой. Они проходят школу трудовых резервов, затем буквально считанные годы на заводе — и перед нами настоящий рабочий класс!
— Да, — сказал Павел, — это так.
— Вот что поразительно. И мы настолько привыкли, что не удивляемся!
Тут подошел давешний пожарник, вмешался с вопросом:
— А что оно, граждане начальники, загорится скоро?
— Скоро, скоро, — сказал Иващенко. — Скоро только блохи ловятся.
— А чего еще? Чиркай спичку да зажигай.
— Вы полагаете, — спросил парторг, улыбаясь, — что домны зажигаются спичкой?
Пожарник смутился и отошел. Павел тоже смутился: и он до сих пор не знал, как зажгут домну. Черт его знает, а в самом деле?..
— Вот так-то, — сказал Иващенко. — Я бы на вашем месте просто запутался, потонул бы в темах и проблемах, которые вертятся вокруг одной только этой домны, а она — это капля в море нашего движения. По недавней статистике в Советском Союзе каждые восемь часов вступает новый промышленный объект. Каждые восемь часов! Но я вас заговорил, а вам и поспать-то негде. Вот ключ от кабинета политпросвещения, с утра там никого нет. Только ключ потом не забудьте вернуть!
— Вот за это спасибо! — поблагодарил Павел.
 Обстановка была чрезвычайно ординарная: что продавалось в мебельном магазине, то, не мудрствуя лукаво, и покупалось и ставилось по соображениям не эстетики, а практики.
На стенах — литографии только с Репина: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход…».
За стеклом буфета — парадная выставка фужеров, чашек и тарелочек с позолотой, употребляющихся либо по большим праздникам, либо вовсе никогда.
На верху буфета — кипы газет, «Огоньков», вязанье с клубком и спицами, плюшевая мартышка и школьный глобус. Под потолком дешевенькая люстра о трех рожках.
Зато было тут и нечто не совсем обычное — полстены книг под самый потолок. Полки были самодельные, некрашеные, из скверно остроганных досок, рядов десять, не меньше, и так плотно набитые книгами, что прогнулись под ними. Рядом с книгами — мобилизующая цитата, каллиграфически написанная на белом картоне:
«НАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО ЕСЛИ ДО 1917 ГОДА НЕДОСТАТОК ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛ ПРИЗНАКОМ КЛАССОВОГО НЕРАВЕНСТВА, ТО В НАШЕ ВРЕМЯ ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИЗНАК ДУШЕВНОЙ ЛЕНИ, ТУПОСТИ И ЗАЗНАЙСТВА!» (Кинорежиссер Сергей Герасимов.)
— Так, собираю разные книжицы… — немного смущенно проговорил Федор, перехватив взгляд Павла. — Страсть. Сам понимаю, что глуповато, всего не соберешь, в библиотеку все равно бежишь, но не могу. Жена и та отступилась, вот только эти архаровцы таскают, сколько могут достать. Так я уж так и распределил: в самом низу — для тех, кто ползает, разная мура, терзайте! Повыше — для тех, кто переходит от обезьяны к человеку. А сюда вот достает уже народ сознательный, с ремнем знакомый, потому иногда ставит книги на место. Самое же ценное — под потолком.
— Ну-ну, оригинальная система, — заинтересовавшись, сказал Павел. — Что же у тебя под потолком?
— Металлургия, — гордо сказал Федор. — Две полки одной металлургии, капля в море, это же черт знает, сколько нового выходит, и все нужно знать, иначе пропал. Пониже — классики: Толстой, Достоевский, Пушкин, Бунин вот. Кое-кто из современных, достойнейшие.
— А недостойные?
— У пола.
— Можно взглянуть?
Присев на корточки, Павел принялся перебирать книги нижних полок — довольно пострадавшие, изодранные, разрисованные карандашами — и обнаружил знакомые имена, кое-кого из друзей и даже некоторых весьма маститых. Пожалуй, кой-кого хватил бы удар, увидь они эту, так сказать, составленную читателем Ивановым наглядную табель о рангах.
— Не ищи, не ищи, там тебя нет, — успокоил, улыбаясь, Федор. — Как по знакомству, ты у меня посередке… На, пожалуйста, распишись на своей книге, может, в классики выйдешь, буду хвастаться.
Павел с удовольствием расписался и воткнул книгу на место — между каким-то исследованием о скифах и книгой «Автомобиль „Волга“».
— Это зачем?
— А как же, в каждую лотерею покупаю билет. В последний раз рубль выиграл.
(«Так. Одно „предсказание“ оказалось верным», — подумал Павел, вспоминая свои предположения.)
— Там за телевизором вообще-то мой рабочий стол, — говорил Федор, — только туда не пролезть, надо обойти.
Они слегка подвинули папашу, внимательно смотревшего на экран (судя по всему, там шел КВН), протиснулись между столом и диван-кроватью, обошли телевизор, и тут Федор разложил откидную доску, вмонтированную в книжные полки, как стало модно делать.
Вместе с полкой вывалились кипа бумаг, чертежи и преогромнейшая растрепанная книга древнего вида толщиной в добрых два кирпича и с матерчатым переплетом, не то оборванным, не то объеденным мышами.
— Это библия, — сказал Федор.
— Что-о?
— Библия. Большая ценность, — гордо сказал Федор, не без усилия взвешивая пухлый фолиант в одной руке. — На толкучке совершенно случайно купил, тридцать рублей и неделя домашнего скандала, дорого она мне обошлась…
— Свят-свят, али в богословие ударился?
— При чем богословие? Астронавтами интересуюсь.
— Кем?
— Астронавтами, ты ведь знаешь эти гипотезы — о космических пришельцах и прочее, нержавеющий столб в Индии, японские статуэтки в скафандрах, Баальбек, все эти изображения, в том числе и поиски в библии: мол, гибель Содома и Гоморры и все такое. Ну, я на толкучке как увидел, так и схватил: самому посмотреть!
— Да, да, теперь понимаю…
— Дед продавал, такой настырный попался, продать-то продал, но битый час лекцию читал: что бог есть. «Вы, случайно, — говорит, — не баптист?» «Нет, — говорю, — я доменщик». «А это что за секта такая?» «Мы, — говорю, — огнепоклонники». «Отдавай назад библию, — говорит, — вы язычники и еретики». Едва ноги унес. А книга, скажу тебе, великолепная, столько сказок своим лягушатам почерпнул! Какие легенды, какие предания, но ведь послушай, не из пальца все абсолютно высосано — за чем-то стоит жизнь, подлинные события? А про астронавтов я даже впятеро больше нашел!
— Я читал, — сказал Павел, — но что-то не помню там никаких пришельцев…
Заглянула в комнату жена Зинаида, крикнула:
— Идите, бесприютные мои, на кухню, уже можно!
— Пошли, — обрадовался Федор, — и эту грандиозную книгу возьмем, я кое-что тебе прочту — упадешь.
Заинтригованный, Павел пошел за Федором, они едва протолкались через переднюю, где Зинаида одевала по одному и выставляла за дверь соседских детей.
— Гляди не перепутай, — мимоходом сказал Федор, — своих оставь дома. Я потом сосчитаю.
— Иди, иди, — отозвалась жена. — Своих я знаю, все в отца, чокнутые. Не путайся, а то заставлю всех укладывать.
— Представляю себе: уложить шестерых, — сказал Павел.
— Детей? Нет, их не трудно, — сказала Зинаида. — Деда трудно.
— Дед упрямый до невозможности, — подтвердил Федор. — Весь в свою дочь.
— Лучше скажи: с зятем два сапога пара.
Павел обнаружил, что он уже отличает Федоровых детей от чужих: эти действительно были в отца, с близко посаженными глазенками, смуглые, большеротые, ушастые лягушата разных калибров. Вот так Федор, значит, и размножился делением. Ух, кровь-то, ну, копии Федора! Вот кому не приходится сомневаться: не в проезжего ли молодца… А, должно быть, приятно, черт бы его взял, смотреть и видеть себя в шести зеркальцах: умрешь, а ряшки твои будут гулять по жизни. Многодетным людям, может, и умирать чуточку легче…
— Однако порубаем мы с тобой сейчас отлично, — говорил Федор, подталкивая Павла в чистенькую, уютную кухню, явно только что прибранную. На столе дымились две тарелки супа и на решеточке сковорода, полная горячей картошки с мясом.
И тут Павел вспомнил, что с прошлого вечера ничего не ел, и он почувствовал такой зверский аппетит, что все жилки в нем затряслись. Он накинулся на суп, потом на эту царскую картошку с мясом, вкуснее чего, казалось, ничего на свете выдумать невозможно. Он блаженствовал, наслаждался, стараясь изо всех сил только не слишком жадно хватать куски. Федор же, наоборот, ел рассеянно, надолго забывая нести в рот ложку, но целиком нырнул в книгу, с уважением, осторожно листая ветхие бурые страницы. Нашел закладку.
— Страница девятьсот восемьдесят третья, «Книга пророка Иезекииля», читал?
— Не помню.
— В том-то и дело, что никто эту библию от начала до конца не осиливает, а этот Иезекииль тут затерялся… Я удивляюсь исследователям: может, просто не заметили? Вот послушай:
Обстановка была чрезвычайно ординарная: что продавалось в мебельном магазине, то, не мудрствуя лукаво, и покупалось и ставилось по соображениям не эстетики, а практики.
На стенах — литографии только с Репина: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход…».
За стеклом буфета — парадная выставка фужеров, чашек и тарелочек с позолотой, употребляющихся либо по большим праздникам, либо вовсе никогда.
На верху буфета — кипы газет, «Огоньков», вязанье с клубком и спицами, плюшевая мартышка и школьный глобус. Под потолком дешевенькая люстра о трех рожках.
Зато было тут и нечто не совсем обычное — полстены книг под самый потолок. Полки были самодельные, некрашеные, из скверно остроганных досок, рядов десять, не меньше, и так плотно набитые книгами, что прогнулись под ними. Рядом с книгами — мобилизующая цитата, каллиграфически написанная на белом картоне:
«НАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО ЕСЛИ ДО 1917 ГОДА НЕДОСТАТОК ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛ ПРИЗНАКОМ КЛАССОВОГО НЕРАВЕНСТВА, ТО В НАШЕ ВРЕМЯ ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИЗНАК ДУШЕВНОЙ ЛЕНИ, ТУПОСТИ И ЗАЗНАЙСТВА!» (Кинорежиссер Сергей Герасимов.)
— Так, собираю разные книжицы… — немного смущенно проговорил Федор, перехватив взгляд Павла. — Страсть. Сам понимаю, что глуповато, всего не соберешь, в библиотеку все равно бежишь, но не могу. Жена и та отступилась, вот только эти архаровцы таскают, сколько могут достать. Так я уж так и распределил: в самом низу — для тех, кто ползает, разная мура, терзайте! Повыше — для тех, кто переходит от обезьяны к человеку. А сюда вот достает уже народ сознательный, с ремнем знакомый, потому иногда ставит книги на место. Самое же ценное — под потолком.
— Ну-ну, оригинальная система, — заинтересовавшись, сказал Павел. — Что же у тебя под потолком?
— Металлургия, — гордо сказал Федор. — Две полки одной металлургии, капля в море, это же черт знает, сколько нового выходит, и все нужно знать, иначе пропал. Пониже — классики: Толстой, Достоевский, Пушкин, Бунин вот. Кое-кто из современных, достойнейшие.
— А недостойные?
— У пола.
— Можно взглянуть?
Присев на корточки, Павел принялся перебирать книги нижних полок — довольно пострадавшие, изодранные, разрисованные карандашами — и обнаружил знакомые имена, кое-кого из друзей и даже некоторых весьма маститых. Пожалуй, кой-кого хватил бы удар, увидь они эту, так сказать, составленную читателем Ивановым наглядную табель о рангах.
— Не ищи, не ищи, там тебя нет, — успокоил, улыбаясь, Федор. — Как по знакомству, ты у меня посередке… На, пожалуйста, распишись на своей книге, может, в классики выйдешь, буду хвастаться.
Павел с удовольствием расписался и воткнул книгу на место — между каким-то исследованием о скифах и книгой «Автомобиль „Волга“».
— Это зачем?
— А как же, в каждую лотерею покупаю билет. В последний раз рубль выиграл.
(«Так. Одно „предсказание“ оказалось верным», — подумал Павел, вспоминая свои предположения.)
— Там за телевизором вообще-то мой рабочий стол, — говорил Федор, — только туда не пролезть, надо обойти.
Они слегка подвинули папашу, внимательно смотревшего на экран (судя по всему, там шел КВН), протиснулись между столом и диван-кроватью, обошли телевизор, и тут Федор разложил откидную доску, вмонтированную в книжные полки, как стало модно делать.
Вместе с полкой вывалились кипа бумаг, чертежи и преогромнейшая растрепанная книга древнего вида толщиной в добрых два кирпича и с матерчатым переплетом, не то оборванным, не то объеденным мышами.
— Это библия, — сказал Федор.
— Что-о?
— Библия. Большая ценность, — гордо сказал Федор, не без усилия взвешивая пухлый фолиант в одной руке. — На толкучке совершенно случайно купил, тридцать рублей и неделя домашнего скандала, дорого она мне обошлась…
— Свят-свят, али в богословие ударился?
— При чем богословие? Астронавтами интересуюсь.
— Кем?
— Астронавтами, ты ведь знаешь эти гипотезы — о космических пришельцах и прочее, нержавеющий столб в Индии, японские статуэтки в скафандрах, Баальбек, все эти изображения, в том числе и поиски в библии: мол, гибель Содома и Гоморры и все такое. Ну, я на толкучке как увидел, так и схватил: самому посмотреть!
— Да, да, теперь понимаю…
— Дед продавал, такой настырный попался, продать-то продал, но битый час лекцию читал: что бог есть. «Вы, случайно, — говорит, — не баптист?» «Нет, — говорю, — я доменщик». «А это что за секта такая?» «Мы, — говорю, — огнепоклонники». «Отдавай назад библию, — говорит, — вы язычники и еретики». Едва ноги унес. А книга, скажу тебе, великолепная, столько сказок своим лягушатам почерпнул! Какие легенды, какие предания, но ведь послушай, не из пальца все абсолютно высосано — за чем-то стоит жизнь, подлинные события? А про астронавтов я даже впятеро больше нашел!
— Я читал, — сказал Павел, — но что-то не помню там никаких пришельцев…
Заглянула в комнату жена Зинаида, крикнула:
— Идите, бесприютные мои, на кухню, уже можно!
— Пошли, — обрадовался Федор, — и эту грандиозную книгу возьмем, я кое-что тебе прочту — упадешь.
Заинтригованный, Павел пошел за Федором, они едва протолкались через переднюю, где Зинаида одевала по одному и выставляла за дверь соседских детей.
— Гляди не перепутай, — мимоходом сказал Федор, — своих оставь дома. Я потом сосчитаю.
— Иди, иди, — отозвалась жена. — Своих я знаю, все в отца, чокнутые. Не путайся, а то заставлю всех укладывать.
— Представляю себе: уложить шестерых, — сказал Павел.
— Детей? Нет, их не трудно, — сказала Зинаида. — Деда трудно.
— Дед упрямый до невозможности, — подтвердил Федор. — Весь в свою дочь.
— Лучше скажи: с зятем два сапога пара.
Павел обнаружил, что он уже отличает Федоровых детей от чужих: эти действительно были в отца, с близко посаженными глазенками, смуглые, большеротые, ушастые лягушата разных калибров. Вот так Федор, значит, и размножился делением. Ух, кровь-то, ну, копии Федора! Вот кому не приходится сомневаться: не в проезжего ли молодца… А, должно быть, приятно, черт бы его взял, смотреть и видеть себя в шести зеркальцах: умрешь, а ряшки твои будут гулять по жизни. Многодетным людям, может, и умирать чуточку легче…
— Однако порубаем мы с тобой сейчас отлично, — говорил Федор, подталкивая Павла в чистенькую, уютную кухню, явно только что прибранную. На столе дымились две тарелки супа и на решеточке сковорода, полная горячей картошки с мясом.
И тут Павел вспомнил, что с прошлого вечера ничего не ел, и он почувствовал такой зверский аппетит, что все жилки в нем затряслись. Он накинулся на суп, потом на эту царскую картошку с мясом, вкуснее чего, казалось, ничего на свете выдумать невозможно. Он блаженствовал, наслаждался, стараясь изо всех сил только не слишком жадно хватать куски. Федор же, наоборот, ел рассеянно, надолго забывая нести в рот ложку, но целиком нырнул в книгу, с уважением, осторожно листая ветхие бурые страницы. Нашел закладку.
— Страница девятьсот восемьдесят третья, «Книга пророка Иезекииля», читал?
— Не помню.
— В том-то и дело, что никто эту библию от начала до конца не осиливает, а этот Иезекииль тут затерялся… Я удивляюсь исследователям: может, просто не заметили? Вот послушай:
 Горы газет, журналов, брошюр покрывали и кровать, и стол, и подоконник, и весь пол, так что нельзя было пройти, не наступив на них. А единственным, но веским украшением стен была приколотая кнопкой фотография хорошенькой, весьма модно причесанной девушки с лукавыми, лучистыми глазками.
— Это кто? — спросил Павел.
— Да это так, одна хорошая девочка, — сказал Славка. — Член бюро.
— Член бюро?
— Ага. Я вполне серьезно! Одна из лучших активисток, культмассовый сектор в бюро комсомола ведет прямо на высоте.
На столе среди бумаг лежала еще фотография, аккуратно заправленная в стеклянную рамку. Тут была девушка черненькая, с прямыми волосами и строгим лицом.
— Еще член бюро… — сказал Павел.
— Нет, это лучшая активистка самодеятельности. Драматический талант — и непередаваемо читает приветствия разным слетам. Отличная девочка, глубокая… Не тронь, не тронь!
Но Павел углядел под рамкой еще стопку фотографий и потащил всю. Были тут и любительские, и сделанные в ателье, и крохотные, с уголками, на паспорт. И все — девушки.
— Положь! — завопил Славка. — Вот черт, это я вчера в своем архиве делал ревизию, не хватай своими гнусными лапами!
— Почему в архиве? Ты повесь на стене в ряд, получится целая первичная организация. Все здешние?
— Ну их… Иных уж нет, а те далече, в смысле замужем. Ты сядь, сядь в качалку и убери руки!
Открыв створку окна, Славка достал большой кулек с апельсинами и бутылку бренди, которая в тепле тотчас запотела. Рюмок не было, поэтому Славка поставил пластмассовый стаканчик для бритья и баночку из-под горчицы. Роль тарелочекпод ветчину и сыр играла бумага, в которую их в магазине завернули. В качестве приборов Славка положил с одной стороны охотничий нож, хромированный, с острейшим, устрашающим лезвием, наводивший на мысль о кровавых поединках с медведем в тайге, с другой — толстый перочинный нож, имевший массу лезвий, пилочек, шил, ножницы и вилку, роль которой он в данном случае и призван был исполнить.
Славка разлил коньяк по посудинкам, и Павлу досталась баночка, из нее пить было неудобно и противно: на дне виднелись остатки прилипшей горчицы; он отпил и поставил. Взял апельсин.
Горы газет, журналов, брошюр покрывали и кровать, и стол, и подоконник, и весь пол, так что нельзя было пройти, не наступив на них. А единственным, но веским украшением стен была приколотая кнопкой фотография хорошенькой, весьма модно причесанной девушки с лукавыми, лучистыми глазками.
— Это кто? — спросил Павел.
— Да это так, одна хорошая девочка, — сказал Славка. — Член бюро.
— Член бюро?
— Ага. Я вполне серьезно! Одна из лучших активисток, культмассовый сектор в бюро комсомола ведет прямо на высоте.
На столе среди бумаг лежала еще фотография, аккуратно заправленная в стеклянную рамку. Тут была девушка черненькая, с прямыми волосами и строгим лицом.
— Еще член бюро… — сказал Павел.
— Нет, это лучшая активистка самодеятельности. Драматический талант — и непередаваемо читает приветствия разным слетам. Отличная девочка, глубокая… Не тронь, не тронь!
Но Павел углядел под рамкой еще стопку фотографий и потащил всю. Были тут и любительские, и сделанные в ателье, и крохотные, с уголками, на паспорт. И все — девушки.
— Положь! — завопил Славка. — Вот черт, это я вчера в своем архиве делал ревизию, не хватай своими гнусными лапами!
— Почему в архиве? Ты повесь на стене в ряд, получится целая первичная организация. Все здешние?
— Ну их… Иных уж нет, а те далече, в смысле замужем. Ты сядь, сядь в качалку и убери руки!
Открыв створку окна, Славка достал большой кулек с апельсинами и бутылку бренди, которая в тепле тотчас запотела. Рюмок не было, поэтому Славка поставил пластмассовый стаканчик для бритья и баночку из-под горчицы. Роль тарелочекпод ветчину и сыр играла бумага, в которую их в магазине завернули. В качестве приборов Славка положил с одной стороны охотничий нож, хромированный, с острейшим, устрашающим лезвием, наводивший на мысль о кровавых поединках с медведем в тайге, с другой — толстый перочинный нож, имевший массу лезвий, пилочек, шил, ножницы и вилку, роль которой он в данном случае и призван был исполнить.
Славка разлил коньяк по посудинкам, и Павлу досталась баночка, из нее пить было неудобно и противно: на дне виднелись остатки прилипшей горчицы; он отпил и поставил. Взял апельсин.
 И пошла, удаляясь, через балки, камни, угольные кучи, ковыляя на своих каблуках, какая-то вопиюще тоненькая, неприкаянная.
И пошла, удаляясь, через балки, камни, угольные кучи, ковыляя на своих каблуках, какая-то вопиюще тоненькая, неприкаянная.
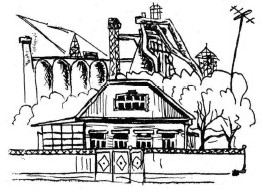
 — Слушай, Слава, — сказал Иващенко, останавливаясь перед Селезневым. — Может, тебе пойти в цех? Скажем, подручным… Вон как ты раздобрел, ручки белые. Этак, чтоб дать отдых языку. Поговорка есть: в семье не без урода. Неужто тебе так интересно быть уродом в нашей хорошей семье? Уродом — это что, интересно? Неужто тебе интересно? Ответь.
Селезнев молчал. Недружелюбно взглянул на Павла и тотчас опустил глаза.
— Пожалуй, я выйду, я вам мешаю, — понял Павел.
— Это ему мешаете, — возразил Иващенко. — Нам вы не мешаете. Ты что-нибудь имеешь сказать, Лев?
— Придется сделать выводы…
— Давайте делать. Первый вывод — о комсорге. Вот что выходит, когда он уезжает, оставляет без своего глаза.
— Так! — решительно-мрачно кивнул головой Лев.
— А второй вывод — о людях, которые с малой головой попадают на большой пост. Таких надо изгонять. Из-го-нять. Слышишь, Селезнев, это я говорю о тебе.
— Слышу…
— Вот поживешь, поработаешь, как все другие на производстве, может, ты еще что-нибудь и поймешь. Пост… что же, пост содействия стройке домны как будто уже и не нужен. Хотя я считаю, что его и не было. Так, вывеска одна, мыльный пузырь.
— Я все-таки старался… — пробормотал Славка.
— Якобы! Ты всем умеешь пыль в глаза пустить, что якобы ты стараешься! До того, что сам поверил, будто ты стараешься. Вот-вот, об этом-то мы и говорим. Есть работа, а есть якобы работа. Ребята, ребята, неужели это интересно: быть в жизни этаким «якобы»?..
Воцарилось молчание. Славка стоял бледный, осунувшийся — таким Павел его еще не видел, представить даже не мог.
— Говоришь, три дня у тебя есть? — другим тоном спросил Иващенко у комсорга.
— Уже два с половиной. Да это неважно. Вы такое рассказали… задержусь уж.
— Поедешь. А потому время будем ценить. По домам. Митинг завтра утром, то есть уже сегодня.
Все зашевелились, комсорг взял со стола чемоданчик — видимо, так с автобуса и приехал сюда. Пошли по коридору, сразу заговорив о постороннем, что-де заносы на дорогах, обещают тридцать пять градусов мороза, в школе занятия отменили. Внизу Иващенко спохватился:
— Идемте ко мне домой, что вам на стульях спать-то?
— Если я пойду, — сказал Павел, — то уж просплю до утра, а я хочу посмотреть…
— Гм… — с любопытством посмотрел на него Иващенко. — Неужто так зацепило?
— Зацепило.
— Все будет нормально. Металл идет. Силком не тащу, но ежели… раскладушка у меня дома всегда в готовности.
Павел отказался. Постоял, глядя, как уходят, скрипя по снегу подошвами, трое разных людей — устало, с ворохом проблем. Он только прикоснулся, только подглядел, а для них это жизнь, сама суть жизни, которой они отданы с головой… «Ничего этот Лев, — подумал он, — крепкий, хоть он больше и молчал, но этот не пустозвон, весомый какой-то. Жаль, что я его раньше не узнал. Ничего, все наладится…»
Странно опять: скажи кто-нибудь ему неделю назад, что он будет так близко к сердцу принимать все общественные дела где-то далеко на металлургическом комбинате, не поверил бы… А сейчас очень захотелось остаться, узнать, что же будет делать этот Лев Мочалов, похожий и на композитора, и на спортсмена, и на юриста одновременно, какие будут собрания, и как будут кричать о работе, и переломится ли Селезнев — ну, хоть не уезжай совсем, оставайся тут и живи.
— Слушай, Слава, — сказал Иващенко, останавливаясь перед Селезневым. — Может, тебе пойти в цех? Скажем, подручным… Вон как ты раздобрел, ручки белые. Этак, чтоб дать отдых языку. Поговорка есть: в семье не без урода. Неужто тебе так интересно быть уродом в нашей хорошей семье? Уродом — это что, интересно? Неужто тебе интересно? Ответь.
Селезнев молчал. Недружелюбно взглянул на Павла и тотчас опустил глаза.
— Пожалуй, я выйду, я вам мешаю, — понял Павел.
— Это ему мешаете, — возразил Иващенко. — Нам вы не мешаете. Ты что-нибудь имеешь сказать, Лев?
— Придется сделать выводы…
— Давайте делать. Первый вывод — о комсорге. Вот что выходит, когда он уезжает, оставляет без своего глаза.
— Так! — решительно-мрачно кивнул головой Лев.
— А второй вывод — о людях, которые с малой головой попадают на большой пост. Таких надо изгонять. Из-го-нять. Слышишь, Селезнев, это я говорю о тебе.
— Слышу…
— Вот поживешь, поработаешь, как все другие на производстве, может, ты еще что-нибудь и поймешь. Пост… что же, пост содействия стройке домны как будто уже и не нужен. Хотя я считаю, что его и не было. Так, вывеска одна, мыльный пузырь.
— Я все-таки старался… — пробормотал Славка.
— Якобы! Ты всем умеешь пыль в глаза пустить, что якобы ты стараешься! До того, что сам поверил, будто ты стараешься. Вот-вот, об этом-то мы и говорим. Есть работа, а есть якобы работа. Ребята, ребята, неужели это интересно: быть в жизни этаким «якобы»?..
Воцарилось молчание. Славка стоял бледный, осунувшийся — таким Павел его еще не видел, представить даже не мог.
— Говоришь, три дня у тебя есть? — другим тоном спросил Иващенко у комсорга.
— Уже два с половиной. Да это неважно. Вы такое рассказали… задержусь уж.
— Поедешь. А потому время будем ценить. По домам. Митинг завтра утром, то есть уже сегодня.
Все зашевелились, комсорг взял со стола чемоданчик — видимо, так с автобуса и приехал сюда. Пошли по коридору, сразу заговорив о постороннем, что-де заносы на дорогах, обещают тридцать пять градусов мороза, в школе занятия отменили. Внизу Иващенко спохватился:
— Идемте ко мне домой, что вам на стульях спать-то?
— Если я пойду, — сказал Павел, — то уж просплю до утра, а я хочу посмотреть…
— Гм… — с любопытством посмотрел на него Иващенко. — Неужто так зацепило?
— Зацепило.
— Все будет нормально. Металл идет. Силком не тащу, но ежели… раскладушка у меня дома всегда в готовности.
Павел отказался. Постоял, глядя, как уходят, скрипя по снегу подошвами, трое разных людей — устало, с ворохом проблем. Он только прикоснулся, только подглядел, а для них это жизнь, сама суть жизни, которой они отданы с головой… «Ничего этот Лев, — подумал он, — крепкий, хоть он больше и молчал, но этот не пустозвон, весомый какой-то. Жаль, что я его раньше не узнал. Ничего, все наладится…»
Странно опять: скажи кто-нибудь ему неделю назад, что он будет так близко к сердцу принимать все общественные дела где-то далеко на металлургическом комбинате, не поверил бы… А сейчас очень захотелось остаться, узнать, что же будет делать этот Лев Мочалов, похожий и на композитора, и на спортсмена, и на юриста одновременно, какие будут собрания, и как будут кричать о работе, и переломится ли Селезнев — ну, хоть не уезжай совсем, оставайся тут и живи.
 Домна наконец разродилась. Речка стала делаться тоньше, спокойнее, превратилась в узкий ручеек.
Сквозь сверкающую летку хотелось заглянуть в печь. Представлялось, что там были сверкающие озера, целые архипелаги раскаленных добела глыб, пещерные своды. Павел пошел посмотреть, куда же вылился весь этот чугун. Идя вдоль канавы, он добрался до боковой двери цеха, открыл ее и очутился на мостике, этаком железном балконе с прутьями-перилами.
Желоб вытыкался из стены цеха как раз под этим балконом, и из него ручеек сливался в подставленный гигантский ковш на железнодорожной платформе. Перегнувшись. над перилами, Павел заглянул с высоты в ковш, и ему стало жутко.
Ковш был огромен, такой перевернутый царь-колокол с корявыми, облипшими застывшим металлом краями, полнехонький жидкого малиново-огненного металла. Поверхность жидкости покрывалась темнеющей, трескающейся корочкой, по ней вспыхивали голубые огоньки, а падавшая сверху струйка разбивала корочку, впрямь очень похожая на цедящееся молоко.
Павел покачал перила.
— Опробуете прочность? — раздалось за спиной, и на балкончик втиснулся Иващенко. — Да, тут над ковшиком-то стоять неуютно… Ух ты, полный надоили. Ради него весь сыр-бор. Странно, а?
— Да…
— Я, между прочим, думал, полночи ворочался… Не привлечет вас такая тема: что есть прогресс? — сказал Иващенко, увлекая и пропуская Павла впереди себя в цех. — Мы иногда смешиваем понятия. Склонны принимать достижения чисто технические за абсолютный прогресс. Или, скажем, количество учебных заведений, институтов, дворцов. Но ведь само по себе это еще далеко не все. Так ведь?
— Да, так.
— Говоря примером, некий Иванов создает эту вот домну. Прогресс это? — риторически спросил Иващенко, подняв палец, и сам же ответил: — Да, в том случае, если Иванов — борец за лучшее переустройство мира. Просто технический прогресс, он и в фашистской Португалии какой-нибудь есть. Нет, у нас прогресс техники непременно предполагает прогресс человека, и поэтому важнее всего — кто он, каков он, создатель домен Иванов! Если бы я писал очерки ваши, я бы под этим и только этим углом рассматривал все. Это ведь самое главное!
Под стеной лежала горка металлических труб, Павел облюбовал ее, присел на минуту, достал записную книжку. Голова у него была пухлая, мысли путались, но одну вещь он непременно должен был записать, и он записал: «Сегодня в пять часов двадцать минут утра я видел человека, который был подлинно счастлив: борец за лучшее переустройство мира Федор Иванов».
Продолжить, однако, ему не удалось, потому что вдруг раздался страшный взрыв, даже не столько взрыв, сколько непонятное дьявольское шипение с грохотом, закричали люди, на фоне огня побежали фигурки.
— Человек упал! — кричали. — Человек бросился!
Павел охнул и тоже побежал. «Димка!» — мелькнула мысль.
У двери, ведущей на балкончик, той самой, которую они с Иващенко только что оставили, сгрудились люди, выглядывали. Павел не мог видеть, что там, но сквозь дверь поверх голов он увидел, что из ковша валит сильный дым. Люди проталкивались из двери со страшными глазами
— Да как же его угораздило-то?
— Жуть! Упал — облако, и все…
— Это тот, пьяный? Корреспондент?
— Спьяну. Ну!
— Вот она, водка-то.
— Вот и так. Был человек — и нет.
— Жалко, молодой еще парень…
— Жить бы да жить…
— Он сам вроде бросился…
— Надо заявить куда-то?
Павел протолкался на мостик, заглянул через перила в ковш. В нем не было никаких следов Димки, только широкое свежее пятно среди корки, само уже покрывающееся темной пленкой, со вспыхивающими огоньками. Неразвеявшийся дым ел глаза.
— Инженера по технике безопасности жалко, — сказал очутившийся тут Николай Зотов. — Вот кому нагорит. И оберу… Кор-рес-пон-денты!..
Павел посмотрел на него и только тут, холодея, понял, что в ковш бросился не Димка, а… Белоцерковский! Димка же не мог броситься. Он умер раньше. Кладбище… Могила в мерзлой земле… А здесь — Белоцерковский. Недаром они такие внешне разные, все-таки очень похожи. Ведь он же их уже путал… И такой конец…
Склонив голову, ни на кого не глядя, Павел протолкался в цех. Ему стало холодно, очень холодно, настолько холодно, что-он застонал. Тяжело, мучительно застонал.
Домна наконец разродилась. Речка стала делаться тоньше, спокойнее, превратилась в узкий ручеек.
Сквозь сверкающую летку хотелось заглянуть в печь. Представлялось, что там были сверкающие озера, целые архипелаги раскаленных добела глыб, пещерные своды. Павел пошел посмотреть, куда же вылился весь этот чугун. Идя вдоль канавы, он добрался до боковой двери цеха, открыл ее и очутился на мостике, этаком железном балконе с прутьями-перилами.
Желоб вытыкался из стены цеха как раз под этим балконом, и из него ручеек сливался в подставленный гигантский ковш на железнодорожной платформе. Перегнувшись. над перилами, Павел заглянул с высоты в ковш, и ему стало жутко.
Ковш был огромен, такой перевернутый царь-колокол с корявыми, облипшими застывшим металлом краями, полнехонький жидкого малиново-огненного металла. Поверхность жидкости покрывалась темнеющей, трескающейся корочкой, по ней вспыхивали голубые огоньки, а падавшая сверху струйка разбивала корочку, впрямь очень похожая на цедящееся молоко.
Павел покачал перила.
— Опробуете прочность? — раздалось за спиной, и на балкончик втиснулся Иващенко. — Да, тут над ковшиком-то стоять неуютно… Ух ты, полный надоили. Ради него весь сыр-бор. Странно, а?
— Да…
— Я, между прочим, думал, полночи ворочался… Не привлечет вас такая тема: что есть прогресс? — сказал Иващенко, увлекая и пропуская Павла впереди себя в цех. — Мы иногда смешиваем понятия. Склонны принимать достижения чисто технические за абсолютный прогресс. Или, скажем, количество учебных заведений, институтов, дворцов. Но ведь само по себе это еще далеко не все. Так ведь?
— Да, так.
— Говоря примером, некий Иванов создает эту вот домну. Прогресс это? — риторически спросил Иващенко, подняв палец, и сам же ответил: — Да, в том случае, если Иванов — борец за лучшее переустройство мира. Просто технический прогресс, он и в фашистской Португалии какой-нибудь есть. Нет, у нас прогресс техники непременно предполагает прогресс человека, и поэтому важнее всего — кто он, каков он, создатель домен Иванов! Если бы я писал очерки ваши, я бы под этим и только этим углом рассматривал все. Это ведь самое главное!
Под стеной лежала горка металлических труб, Павел облюбовал ее, присел на минуту, достал записную книжку. Голова у него была пухлая, мысли путались, но одну вещь он непременно должен был записать, и он записал: «Сегодня в пять часов двадцать минут утра я видел человека, который был подлинно счастлив: борец за лучшее переустройство мира Федор Иванов».
Продолжить, однако, ему не удалось, потому что вдруг раздался страшный взрыв, даже не столько взрыв, сколько непонятное дьявольское шипение с грохотом, закричали люди, на фоне огня побежали фигурки.
— Человек упал! — кричали. — Человек бросился!
Павел охнул и тоже побежал. «Димка!» — мелькнула мысль.
У двери, ведущей на балкончик, той самой, которую они с Иващенко только что оставили, сгрудились люди, выглядывали. Павел не мог видеть, что там, но сквозь дверь поверх голов он увидел, что из ковша валит сильный дым. Люди проталкивались из двери со страшными глазами
— Да как же его угораздило-то?
— Жуть! Упал — облако, и все…
— Это тот, пьяный? Корреспондент?
— Спьяну. Ну!
— Вот она, водка-то.
— Вот и так. Был человек — и нет.
— Жалко, молодой еще парень…
— Жить бы да жить…
— Он сам вроде бросился…
— Надо заявить куда-то?
Павел протолкался на мостик, заглянул через перила в ковш. В нем не было никаких следов Димки, только широкое свежее пятно среди корки, само уже покрывающееся темной пленкой, со вспыхивающими огоньками. Неразвеявшийся дым ел глаза.
— Инженера по технике безопасности жалко, — сказал очутившийся тут Николай Зотов. — Вот кому нагорит. И оберу… Кор-рес-пон-денты!..
Павел посмотрел на него и только тут, холодея, понял, что в ковш бросился не Димка, а… Белоцерковский! Димка же не мог броситься. Он умер раньше. Кладбище… Могила в мерзлой земле… А здесь — Белоцерковский. Недаром они такие внешне разные, все-таки очень похожи. Ведь он же их уже путал… И такой конец…
Склонив голову, ни на кого не глядя, Павел протолкался в цех. Ему стало холодно, очень холодно, настолько холодно, что-он застонал. Тяжело, мучительно застонал.