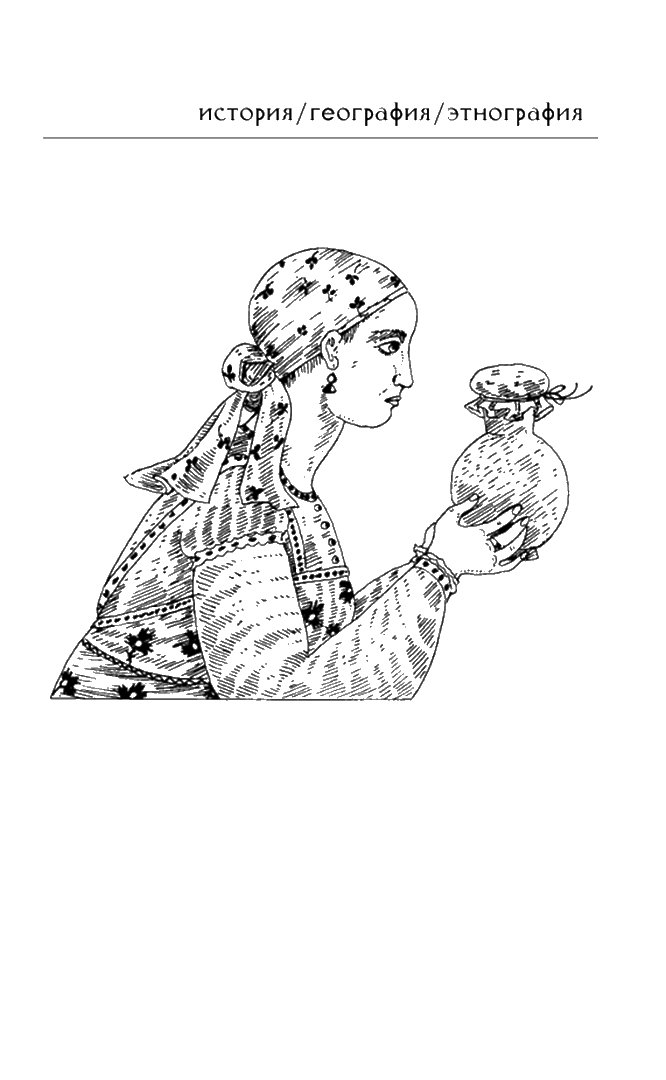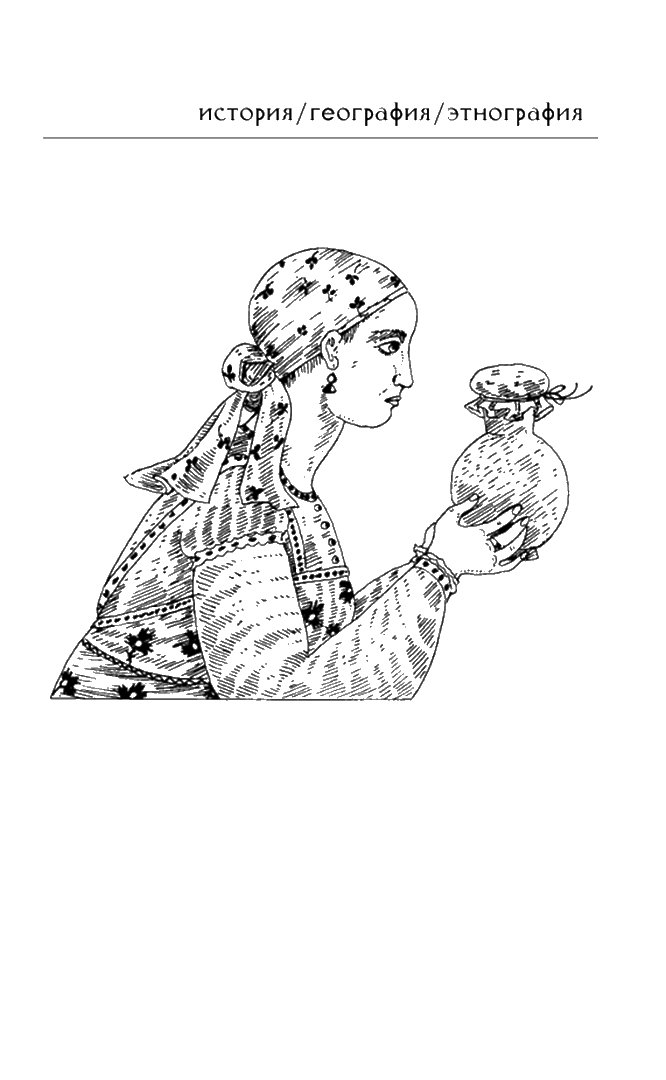
Владимир Безгин
ПОВСЕДНЕВНЫЙ МИР
РУССКОЙ КРЕСТЬЯНКИ
ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

*
Составитель серии Владислав Петров
Иллюстрации Ирины Тибиловой
© Владимир Безгин, 2017
© ООО «Издательство «Ломоносовъ», 2017
Моей дочери Юле
Предисловие

Настоящая книга представляет собой, по сути, одну из первых попыток всестороннего исследования повседневной жизни русской крестьянки в период поздней империи, на переломе эпох.
Особенность обыденности русской крестьянки состоит в том, что границы ее публичной жизни и интимного круга «размыты». Традиционная «прозрачность» деревенского быта практически лишала ее личного пространства, а существование в обществе регламентировалось интересами патриархальной семьи и общинным укладом. Тем не менее общинный и семейный уровни повседневности деревенской женщины в своей взаимосвязи еще не выступали для специалистов цельным объектом изучения.
Исследование базируется исключительно на документальной основе. Наряду с этнографическими источниками использован широкий круг архивных материалов, введенных в научный оборот впервые.
Большая часть документов была извлечена автором из фондов центральных
{1} и местных архивов. Ценная информация об общественном статусе русской крестьянки, ее положении в сельской семье, содержании женских работ в хозяйстве, характере внутрисемейных отношений обнаружена в фонде Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева
{2}. В корреспонденциях деревенских информаторов, преимущественно представителей сельской интеллигенции, содержатся важные сведения о распорядке дня крестьянки, участии ее в отхожих промыслах, личных отношениях супругов в крестьянской семье.
Ценным подспорьем в работе стали следственные дела
{3}, сведения полиции
{4}, приговоры окружных судов
{5} и решения волостного судопроизводства
{6}. Обращение к этой группе источников позволило рассмотреть судебную практику решения уголовных и гражданских дел с участием крестьянок, изучить особенности женского имущества в собственности двора, дать анализ криминогенности селянок, рассмотреть правовые коллизии с участием деревенских женщин, возникавшие в семейной повседневности и общественной жизни.
Изучение демографической ситуации, уровня сельской преступности, нравственного облика деревни стало возможным благодаря привлечению материалов текущей губернской статистики
{7}. Статистические сборники
{8}, издаваемые губернскими учреждениями и земствами центрально-черноземных губерний в 1880–1910 годах, содержат материал, характеризующий различные стороны крестьянской жизни.
Определенную помощь в изучении проблемы оказали материалы периодической печати. В «толстых» общественно-политических и литературно-художественных журналах конца XIX века постоянно публиковались статьи, очерки, исследования, обзоры, воспоминания, отражающие состояние русской деревни и положение в ней крестьянки. Вопросы обычного права, традиций и обычаев деревни, сельских суеверий нашли отражение в публикациях журналов «Этнографическое обозрение», «Живая старина», «Русская старина». Атмосферу сельских будней помогли ощутить корреспонденции из деревни, помещенные в «Губернских ведомостях». Эпизоды крестьянского быта, извлеченные из публикаций местной периодики, хорошо иллюстрируют сельскую повседневность.
Воспоминания сельских старожилов
{9}, крестьянские мемуары
{10}, материалы полевых этнографических экспедиций
{11}дали возможность не только услышать «голос крестьянства» и почувствовать приметы ушедшей эпохи, но и восстановить повседневные отношения села вековой давности, определить степень сохранности селом традиций предыдущих поколений.
Необходимо сказать и о том, что в основу книги легли результаты исследовательских проектов, выполненных автором при финансовой поддержке научных фондов, в частности Российского гуманитарного научного фонда. Рукопись настоящего издания подготовлена при финансовой помощи РГНФ в рамках Конкурса подготовки научно-популярных трудов 2015 года по теме «На «миру» и в семье (русская крестьянка конца XIX — начала XX века».
Автор выражает благодарность за оказанную помощь в работе над книгой сотрудникам Российской государственной библиотеки, Российской публичной исторической библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива, Государственного архива Тамбовской области, а также коллегам, родным и близким.
В СЕМЬЕ

Бабья доля
При всей значимости роли мужчины в сельской повседневности — это в большей мере мир женщины. Именно особое положение крестьянки в семейном быту, самобытность мировосприятия, значение в воспроизводстве традиций послужили основанием для того, чтобы рассмотреть ее судьбу отдельно.
«Все мужики женщину считают ниже себя как по силе, так и по уму, а потому смотрят на нее свысока и снисходительно», — сообщала в своем отчете дочь священника А. И. Зорина из Жиздринского уезда Калужской губернии в 1899 году
{12}. По мнению нижегородских крестьян, «настоящим главой семьи, полновластным и бесконтрольным хозяином является всегда мужчина — «большак», «большой», и роль женщины — всегда роль подчиненная, второстепенная»
{13}. По наблюдению информатора даже в детских играх деревенские ребята воспроизводили привычные для их семей гендерные роли, занимая по отношению к девочкам позицию покровителя и распорядителя
{14}.
Подчиненное мужу, зависимое от него положение крестьянки обуславливали патриархальные начала сельской семьи. Традиционно именно мужик нес «государево тягло», выступал объектом фискальной политики. Характер аграрного труда, требующий значительных физических усилий, также определял ведущую роль мужчины в крестьянском дворе. Сельская община осуществляла распределение земельных наделов по «ревизским» или наличным, но неизменно мужским душам, игнорируя право на пользование землей женской части семьи.
Положение крестьянки находило свое наглядное проявление в ее семейном статусе. Главой крестьянского двора был большак — как правило, старший в семье мужчина. Он представлял интересы крестьянской семьи на сходе и самостоятельно руководил ее хозяйством. Все решения в повседневной жизни семьи большак принимал единолично. По представлению крестьян большак имел право выбранить домашних за леность, за хозяйственное упущение или безнравственные проступки. Он обходился с ними строго, повелительно, используя начальственный тон, и при необходимости прибегал к наказанию провинившихся. Если случившийся в семье конфликт выходил за ее пределы и становился предметом обсуждения сельского схода, то последний, как правило, принимал сторону отца-домохозяина.
Нравы в крестьянской семье были просты, а порой грубы и лишены излишней сентиментальности. В деревне не было принято выказывать нежные чувства по отношению друг к другу. Как правило, муж обращался к жене голосом, не терпящим возражений. Все его распоряжения жена и члены семьи выполняли беспрекословно. По мнению корреспондента Этнографического бюро семинариста В. А. Шестерикова, жителя с. Коскова Вологодской губернии, «жена подчинялась мужу вовсе не из-за уважения к нему, а из страха, чтобы не получить побоев»
{15}. Если жена оказывалась виновата перед мужем: сварила невкусный обед, не исполнила указанную работу, потратила деньги не по назначению и т. и., — она должна была просить прощения, упав ему в ноги. Муж же был вправе простить супругу или наказать ее.
Не было принято в селе, чтобы женщина встревала в разговор мужчин, перебивала мужа, что-то говорила, пока он ее об этом не спросит. Баба не имела права вмешиваться в распоряжения мужа по хозяйству. В свою очередь, мужчина не лез в домашние заботы жены, так называемые «бабьи дела». Никакой критики решений и действий мужа со стороны жены не допускалось. Правда, были случаи, когда по представлению крестьян жена имела право бранить мужа: если он разорял дом, пропивал деньги, вещи.
Муж, хотя и мог по убеждению сельских жителей совершать различные действия без оглядки на домочадцев, на практике обыкновенно советовался с женой в принятии важных решений: при значительной продаже или покупке, устройстве брака младших членов семьи и т. и.
{16}
Свое расположение к жене муж выказывал тем, что иногда, как говорили в селе, «одаривал» ее. Таким знаком внимания могли быть платок, шаль, отрез материи и прочее, купленное на базаре или у заезжего торговца. Не демонстрируя на словах супруге почета и уважения, на деле муж, как правило, заботился о ней. Так, по свидетельству из Ярославской губернии, мужья старались одеть жен по возможности лучше, порой отказывая себе во многом; при поездках куда-либо уступали место в санях или тарантасе, сами предпочитая идти пешком
{17}.
В семейной повседневности женщины относились к мужчинам с должным пиететом, как к людям, больше их знающим и понимающим. Если в обыденной жизни члены крестьянской семьи обращались друг к другу на «ты», то жены, как правило, величали своих мужей по имени и отчеству. Так, в некоторых воронежских селах, например в с. Старая Чигла, жена была просто обязана называть мужа и его братьев по имени и отчеству, тем самым выказывая свое к нему и его семье уважение
{18}. Муж жену называл только по имени: «Марья, поди-ка попои лошадей»
{19}. Дети родителей по имени и отчеству не звали, а обращались — «тятенька», «маменька». Напротив, в письмах дети всегда обращались к родителям на «вы» и по имени и отчеству
{20}.
Судьба женщины в русской деревне была изначально иной, чем мужская. И это различие проявлялось с момента появления на свет девочки, которое воспринималось как истинное несчастье. Ведь ее рождение не сулило семье земельной прирезки; единственное, что могло утешить, — это пара новых рабочих рук в хозяйстве.
Все семейное воспитание дочери было подчинено одной цели: подготовить к выполнению главного предназначения женщины — быть матерью и женой. В отличие от сыновей, родители не стремились обучить дочерей грамоте («не в солдаты идти — прясть надо»). Даже в зажиточных семьях дочерям редко давали возможность закончить школу. В лучшем случае дочь могли отдать черничкам на выучку Псалтыря, Часослова. Такое положение определялось традиционным взглядом крестьян на женское образование. Они говорили, что «бабе грамота не нужна, ее дело родить и нянчить ребят»
{21}. В глазах родителей дочь от рождения была отрезанным ломтем, ведь ее удел — замужество. «Этот товар. — говорил курский крестьянин о дочерях, — не следует долго держать, чем скорее сбыл, тем лучше»
{22}.
Социализация девочек определялась традиционными представлениями о месте и роли женщины в семье. Мать стремилась прежде всего передать дочери умение и навыки по ведению домашнего хозяйства. С детства крестьянская девочка была включена в напряженный трудовой ритм, а по мере взросления менялись и ее производственные функции. Девочек лет с пяти-шести отправляли в няньки или поручали полоть огород. Крестьянские бабы часто использовали дочерей в качестве помощниц в своих работах. Весной девочки занимались белением холстов, а с осени до весны пряли
{23}. Родители всегда давали детям только ту работу, которая им была по силам. Трудовое обучение в селе осуществлялось, выражаясь современным языком, с учетом возрастных особенностей детей. Так, крестьянскую девочку лет в одиннадцать сажали за прялку, на тринадцатом году обучали шитью и вышивке, в четырнадцать — вымачивать холсты. Одновременно учили доить коров, печь хлеб, грести сено
{24}. Одним словом, обучали всему тому, что было необходимо уметь в крестьянском быту. Трудолюбие высоко ценилось общественным мнением деревни.
 Крестьянские девочки. Начало XX века
Крестьянские девочки. Начало XX века
Деревенские девушки «на людях» должны были придерживаться определенных правил. Эти установления нигде не были зафиксированы, но благодаря устной традиции были хорошо известны всем местным жителям. Так, по сведениям из Волховского уезда Орловской губернии (1899 год), девушка не должна присутствовать там, где находились пьяные мужчины, ей запрещалось ходить в кабак, на сходку и т. и. С женатыми молодыми мужчинами не разрешалось долго стоять и разговаривать, особенно вечером. Запрещалось ходить без юбки в одной рубахе
{25}.
В тринадцать-четырнадцать лет крестьянские девочки вступали в период девичества. Обычно этот возрастной переход в селе связывали с наступлением у девушки регул. В женской обрядности села наступление первой менструации у девушки сопровождалось определенным ритуалом, имевшим символическое значение. На девочку надевали рубашку матери, в которой та «носила первая кровя». Делалось это для того, чтобы у дочери были дети, как у матери
{26}. Свидетельством перехода девицы в разряд невест являлся в ряде русских сел обряд одевания поневы. По обычаю, существовавшему во Владимирской губернии, при первом месячном очищении подруги выносили «нечистую» девушку на снег и поливали ее водой, а рубаху, бывшую на ней, сжигали
{27}.
Включение девочек в трудовую деятельность и распределение трудовых обязанностей, приготовление приданого, участие в подростковых и молодежных беседах, праздничной обрядности — все это различные стороны процесса социализации, постепенного приобщения подрастающих поколений к традициям деревни.
Замужество
Брак был важнейшим этапом в жизни крестьян. Посредством него достигалась полноценность сельского бытия.
В глазах сельских жителей женитьба выступала непременным условием обретения статуса полноправного члена общины. Холостого мужчину, даже зрелого возраста, в селе называли «малым» и к его голосу не прислушивались. Супружеский союз являлся основой материального благосостояния хозяйства. В деревне говорили: «В нашем быту без бабы невозможно: хозяйство порядком не заведешь, дом пойдет прахом»
{28}. Поэтому при выборе невесты внимание в первую очередь обращали на ее физические качества, а уже потом на все остальное. Брак для крестьян был необходим с хозяйственной точки зрения. В средней полосе России, в черноземных губерниях, экономические возможности семьи во многом зависели от величины ее земельного надела, полагавшегося лишь женатым мужчинам. Такой порядок побуждал родителей стремиться к скорейшей женитьбе сына, чтобы расширить семейный надел и приобрести в дом дополнительную работницу. Родители невесты, в свою очередь, спешили «спихнуть девку с хлеба».
Не последнюю роль в решении о заключении брака играла репутация невесты, особенно ценились ее трудолюбие и умение работать
{29}. Если брали невесту из другого села, то значение имела не только оценка семьи, но и деревни в целом. Так, жители тамбовского с. Носины предпочитали не брать пару из соседнего с. Новотомникова. По воспоминаниям Л. Ф. Маркиной (1910), отец не разрешил сыну взять невесту из этого села, сказав: «Она из легкобрюшников, они на работу не спешат, их граф избаловал»
{30}.
После того как потенциальная невеста была определена и сельская сваха доносила, что препятствия для заключения брака отсутствуют, родители жениха засылали сватов. Приход сватов сопровождался обрядовыми действиями, традиционным словесным набором и символическим торгом. Согласие завершалось молитвой и обильной трапезой. В крестьянском быту договоренность об условиях сделки сопровождалась взаимным ударением правых рук — оттого законченное сватовство называлось «рукобитье»
{31}. После совершения взаимного целования сватов с обеих сторон давались торжественные обещания. Это означало, что стороны пришли к соглашению о сроке свадьбы и о величине предстоящих расходов
{32}. Нарушение данного слова влекло за собой, на основе норм обычного права, юридические последствия. Оскорбленная сторона могла потребовать возмещение понесенных затрат и компенсацию за «бесчестье», поскольку отказ жениха от заключения брака оскорблял девичью честь и бросал тень на репутацию девушки
{33}.
Выбор невесты был уделом родителей, а точнее, зависел от решения главы семейства. Мнение жениха спрашивали редко, личные симпатии не имели решающего значения, а брак являлся прежде всего хозяйственной сделкой.
Следуя традиции и боясь остаться «вековушой», сельская девушка стремилась выйти замуж как можно быстрее. Но брак ей приносил не столько радость, сколько перемену в судьбе, и не всегда к лучшему. В семье мужа ее ждал тяжкий труд, а нередко и враждебность со стороны свекрови. Поэтому больше ее волновала не материальная состоятельность жениха, а отношения в новой семье
{34}. По мере ослабления патриархальных устоев и роста самостоятельности сельской молодежи положение в этом вопросе постепенно менялось, и брачный выбор переставал быть исключительной прерогативой родителей. Увеличилось число браков, заключенных без родительского благословения.
Браки в русском селе традиционно были ранними. Этнограф Г. Звонков на примере Елатомского уезда Тамбовской губернии отмечал их заключение в возрасте 13–16 лет, упоминая о случаях женитьбы 12—13-летних парней на 16—17-летних девушках
{35}. По данным статистики на конец 60-х годов XIX века, в Европейской России возраст 57 процентов невест и около 38 процентов женихов не превышал двадцати лет
{36}.
В работе Ф. Ильинского «Русская свадьба в Белгородском уезде Курской губернии», выполненной по программе исследования Русского географического общества, говорится, что «молодые люди женятся в 18–19 лет, девушки выходят замуж в 16–17 лет. Двадцатилетний неженатый парень уже редкое явление среди крестьян. А 20-летняя девушка считается засидевшейся невестой и выходит замуж за парней, отбывших воинскую службу»
{37}. К аналогичным выводам пришли современные тамбовские исследователи, изучавшие брачное поведение крестьян на основе метрических книг сельских приходов. Наиболее распространенным возрастом вступления в брак мужчин в Алексеевском приходе (Моршанский уезд Тамбовской губернии) был промежуток между 18 и 19 годами (59 процентов всех брачных пар), а возрастная группа 17–20 лет вообще составляла 73 процента
{38}.
 Свадьба в русском селе. Начало XX века
Свадьба в русском селе. Начало XX века
По данным земского врача А. О. Афиногенова в Рязанском уезде той же губернии до двадцати лет замуж выходило свыше 80 процентов, а в Рузском уезде Московской губернии — 61,4 процента крестьянок
{39}. Средний возраст 90 процентов крестьянок, вступивших в брак, составлял в Воронежской губернии 16–20 лет. В северных и центральных губерниях крестьянские девушки вступали в брак в более зрелом возрасте. Например, в Череповецком уезде Вологодской губернии в возрасте до 20 лет в брак вступило лишь 16,1 процента крестьянок, а от 20 до 25 лет — 48,2 процента
{40}.
Женитьба на девушке старше двадцати лет считалась для деревенских парней делом малопривлекательным. Для девушек, не вышедших замуж в срок, возникала угроза остаться «старой девой». Следует помнить и о том, что без мужа женщина в селе не имела самостоятельного значения, поэтому девичеству она предпочитала самую плохую партию. Положение замужних женщин, согласно нормам обычного права, было выше, чем тех, что в браке не состояли
{41}.
Идеальная, с точки зрения крестьян, разница в возрасте новобрачных составляла два-три года в пользу жениха. Для невесты считалось бесчестием выйти замуж за «старика», то есть мужчину старше ее более чем на три года. Исходя из демографической ситуации, это было вполне оправданно. Средняя продолжительность жизни мужчин в селе была на два-три года меньше, чем у женщин. С увеличением возрастной разницы брачующихся для крестьянки возрастала вероятность раннего вдовства
{42}.
Браки в русской деревне были не только ранними, но и всеобщими. По данным демографической статистики конца XIX века, вне брака оставалось не более 4 процентов жителей села
{43}. К мужчинам и женщинам брачного возраста, не создавшим семью, общественное мнение села относилось крайне неодобрительно. В глазах крестьян это воспринималось как неисполнение заповедей Божьих и поругание народных традиций. Оправданием безбрачия в глазах крестьян служили только физические или умственные недостатки. С пониманием относились сельские жители к монашествующим, тем, кто решил посвятить свою жизнь Богу и давал обет безбрачия. Существовала в деревне и категория женщин, которые не вступили в брак по тем или иным причинам, их называли «черничками».
В крестьянской среде конца XIX — начала XX века сохранялось понятие святости венца. Жители села осуждали незаконное сожительство, считая это преступлением, поруганием религии и чистоты брачного очага. Невенчанный брак в деревне был явлением редким. Крестьяне к гражданскому браку относились с подозрением. В таких случаях женщину часто презирали. Ее ставили в один ряд с гулящими девками и подвергали всяческим оскорблениям. Осуждая женщину за незаконную связь, общество тем не менее обращало внимание на хозяйственность крестьянки. Умелое ведение хозяйства выступало важным условием, смягчавшим оценку ее нравственного облика
{44}.
Осень традиционно являлась временем крестьянских свадеб — это объяснялось окончанием сельскохозяйственных работ и появлением у крестьян денежных средств для того, чтобы «сыграть свадьбу». На осень — зиму в селе приходилось большинство престольных праздников, к которым крестьяне стремились с целью экономии приурочить свадебные торжества. По данным А. И. Шингарева, в селах Ново-Животинном и Моховатке Подгоренской волости Воронежского уезда 81,7 процента от всего годового количества свадеб приходилось на период с октября по февраль
{45}. В Тамбовском уезде (1885 год) только на октябрь — ноябрь приходилось 64 процента всех браков за год
{46}. Браки не совершались в марте (Великий пост) и декабре (Рождественский пост) — в это время венчание воспрещалось. На период Великого поста, по подсчетам В. И. Никольского, приходилось и минимальное количество зачатий, что составляло 5.5 процента
{47}. Если принять, что в среднем в месяц приходилось 8,3 процента от годового числа зачатий, то следует признать, что даже в такой трудно поддающейся контролю сфере, как половые отношения, крестьяне в большинстве своем придерживались установлений православной церкви.
Другой максимум деревенских свадеб приходился на зиму, январь — февраль. Традиция зимних браков была связана с показателями медицинского характера. По наблюдению священников и врачей осенне-зимние свадьбы, а соответственно и зачатия были более благоприятны для рождения здоровых детей осеннего периода. Женщины по опыту предыдущих поколений понимали, что летние роды несут много инфекций, а зачатие ребенка весной грозит выкидышем, так как в это время приходится много работать на земле. По расчетам исследователя Б. Н. Миронова доля зимних свадеб у населения Европейской России в период 1906–1910 годов составляла 42,2 процента
{48}. Сезонность сельских браков была результатом взаимодействия церковных установлений и особенностей аграрного труда.
С замужеством для русской крестьянки начинался новый этап в ее жизни. Изменение общественного статуса влекло за собой обретение ею новых функций, обусловленных традициями семейного быта.
Чадородие
По народным представлениям главное предназначение женщины заключалось в продолжении рода. Само соитие между мужчиной и женщиной по православным канонам было оправдано лишь как средство для зачатия детей. Рождение ребенка воспринималось как милость Божья, а отсутствие детей у супругов расценивалось как наказание за грехи.
Первый ребенок у тамбовских крестьянок в среднем рождался в 18 лет и 4 месяца
{49}. Наступление физической стерильности наступало к 40 годам, то есть за пять — семь лет до наступления менопаузы. К этому времени детородная функция крестьянской женщины, как правило, прекращалась: тяжелые условия труда и быта вкупе с огромными физическими нагрузками преждевременно лишали женщину способности к деторождению
{50}. Таким образом, фертильный период у сельской женщины конца XIX века составлял 20–22 года. По подсчетам демографов русская крестьянка в этот период рожала в среднем семь — девять раз. Среднее число родов у крестьянок в Тамбовской губернии составляло 6.8 раза, а максимум — 17
{51}. Приведем отдельные выписки, сделанные из отчета гинекологического отделения тамбовской губернской земской больницы за 1897–1901 годы: «Евдокия Мошакова, крестьянка, 40 лет, замужем 27 лет, рожала 14 раз»; «Акулина Манухина, крестьянка, 45 лет, замужем 25 лет, рожала 16 раз»
{52}. В условиях отсутствия искусственного регулирования рождаемости количество детей в семье зависело исключительно от репродуктивных возможностей женщины.
В уходе за младенцами сельские бабы руководствовались обыденными представлениями, которые были далеки от элементарных требований гигиены. Так, в деревне считали, что ребенка достаточно перевернуть в сутки раза два-три, а для того, чтобы он не «промок», подкладывали кучу тряпок. При отсутствии матери в рабочую пору ребенку приходится лежать целыми часами в собственных экскрементах
{53}.
Можно себе представить, в каком ужасном положении находились дети, завернутые в пропитанные мочой и калом пеленки, особенно в летнюю жаркую пору. Сделается совершенно понятным и ничуть не преувеличенным наблюдение протоиерея Гиляровского, что от такого мочекалового компресса и жары «кожа под шейкой, под мышками и в паху сопревает, получаются язвы, нередко наполняющиеся червями» и т. д. Также нетрудно дополнить всю эту картину массой комаров и мух, которые охотно привлекаются тяжелой атмосферой около ребенка
{54}. Мыли новорожденных не чаще одного раза в неделю, белье не стирали, а только высушивали
{55}.
Пищу грудных детей составляло молоко из рожка с гуттаперчевой соской, нередкой коровьей титькой, а также жовка, все это содержалось в крайней нечистоте
{56}. В страдную пору с грязным вонючим рожком ребенка оставляли на весь день под присмотром малолетних нянек
{57}. «Пока мать по прошествии дня вечером возвратится к ребенку, у последнего перебывает во рту: и рожковое молоко, и соска из жеванного кислого хлеба, морковь, яблоко, огурец и т. и. неподобающая для грудного ребенка снедь»
{58}.
В воззвании доктора В. П. Никитенко «О борьбе с детской смертностью в России» указывалась основная причина смерти младенцев как в Центральной России, так и в Сибири: «Ни еврейки, ни татарки не заменяют собственного молока соской, это исключительно русский обычай и один из самых гибельных. По общему свидетельству, отказ от кормления младенца грудью — главная причина их вымирания»
{59}. Отсутствие грудного молока в питании младенцев делало их уязвимыми для кишечных инфекций, особенно распространенных в летнюю пору
{60}. Большинство детей в возрасте до года умирали в русском селе по причине диареи.
Высокая младенческая смертность играла роль стихийного регулятора воспроизводства сельского населения. По данным обследований (1887–1896 годы), в возрасте до пяти лет в среднем по России умирало 43,2 процента детей, а в ряде губерний — свыше 50 процентов
{61}. Наибольшее число младенцев, примерно каждый четвертый, умирало в летние месяцы. Причиной тому служили кишечные инфекции, характерные для этого времени года. По данным врача Г. И. Попова, от поноса в 1890-е годы гибло от 17 до 30 процентов грудных детей
{62}. Мало ситуация изменилась и в начале XX века. По данным «Врачебно-санитарных хроник» за 1908–1909 годы, младенческая смертность в этот период составляла в Тамбовской губернии от 16 до 27,3 процента
{63}.
К смерти младенцев в деревне относились спокойно, говоря: «Бог дал — Бог взял». «Если ртов много, а хлебушка мало, то поневоле скажешь: «Лучше бы не родился, а если умрет, то и слава Богу, что прибрал, а то все равно голодать пришлось бы»
{64}. Появление лишнего рта, особенно в маломощных семьях, воспринималось с плохо скрываемым раздражением со стороны домочадцев. При появлении очередного ребенка свекровь в сердцах упрекала сноху: «Ишь ты, плодливая, облакалась детьми, как зайчиха. Хоть бы подохли твои щенки»
{65}. В воронежских селах бабы о смерти младенцев говорили так: «Да если бы дети не мерли, что с ними и делать, так и самим есть нечего, скоро и избы новой негде будет поставить»
{66}. Осуждая аборт, рассматривая его как преступление перед Богом, деревенские бабы не считали большим грехом молиться о смерти нежеланного ребенка
{67}.
В условиях отсутствия в селе контрацептивов сельские девушки, преимущественно незамужние, с целью избежать зачатия прибегали к народным средствам. Для предотвращения беременности в деревне некоторые девицы глотали ртуть, пили разведенный в воде порох, настой неродихи, медвежьей лапы. Широко использовали менструальные выделения. Месячные смешивали с мочой и пили. С этой же целью в бане бросали в печь сорочку с первой ночи или вырезали из рубахи пятна от месячных, сжигали их. а пепел разводили водой и тоже употребляли внутрь
{68}.
В селе считали, что при половом сношении сразу же после месячных беременность исключена. С целью предотвращения повторной беременности затягивали период грудного вскармливания. Продление лактации широко практиковалось в ряде сел до 1920-х годов. «Если последующая беременность долго не наступает, — отмечалось в документе 1920-х годов, — кормят, пока ребенок не застыдится, до 3, 4, 7 лет». Этот метод до некоторой степени защищал женщин от новых беременностей, так как, по данным русских врачей, около 80 процентов женщин не имели менструаций при кормлении грудью
{69}.
Детородные функции и состояние здоровья крестьянок в целом зависели прежде всего от условий труда и быта. В деревне говорили: «Борода кажет мужа, а женщину нужа». Непосильные повседневные работы, плохое питание изнашивали женский организм, вели к раннему старению. Основываясь на своих наблюдениях, знаток женской обыденности Костромского края доктор Д. Н. Жбанков утверждал по этому поводу: «Обыкновенно свежие и здоровые 20-летние девушки через 5–7 лет замужней жизни быстро делаются 40-летними и в этой форме застывают до настоящей старости. Масса выкидышей, всевозможных женских болезней есть прямой результат усиленной летней работы беременных. По моим наблюдениям, у женщин, мужья которых ходили на сторону, было среднее число по 5,2 детей у каждой и совсем бесплодных среди них 10,84 %; у женщин же с оседлыми мужьями было детей 9,2 и бесплодных среди них только 3,33 %»
{70}.
Большинство работ, выполняемых крестьянками по дому или в поле, было связано с поднятием тяжестей. «Немало женских заболеваний — изгибов и загибов матки, ее воспаление с последующим бесплодием или рождение «истомленных детей» — обязаны происхождением своим непосильным работам», — констатировал саратовский земский врач С. П. Миронов
{71}. В результате такой «надрывной» работы у крестьянок часто случались выкидыши. Из 1059 опрошенных врачом П. Богдановым рожавших женщин у 195 в общей сложности было 294 выкидыша. В Тамбовском уезде в 1897–1899 годах на 2164 родовспоможений, произведенных и учтенных медиками, приходилось 267 мертворожденных, 142 мнимоумерших и 187 выкидышей, что составляло 35 процентов от числа детей, родившихся живыми
{72}.
Земский врач В. И. Никольский, обследовавший крестьянок Тамбовского уезда в 1885 году, писал: «У нас женщина несет тяжелую полевую работу, она вредна для нее, так как связана с усиленной механической работой. Особенно вредна прополка, когда целый день приходится ходить, согнувшись в тазобедренных сочленениях под острым углом». По данным автора, изменения формы и положения матки составляли 16,6 процента всех заболеваний половой сферы у сельских женщин
{73}. Для предупреждения выпадения матки бабки засовывали больным во влагалище картофелины, свеклу, репу, иногда деревянные шары
{74}.
На состояние женского здоровья влияла и демографическая ситуация в деревне, когда нарушалось традиционное соотношение мужского и женского труда. В период Первой мировой войны по причине мобилизации мужского населения во многих крестьянских семьях женщины были вынуждены выполнять мужские работы.
Традиционно женским занятием в селе считалась вымочка конопли. Происходило это обычно в начале — середине октября, крестьянки часами простаивали по колено в студеной воде. Следствием простуды ног и живота был эндометрит, или, как говорили в деревне, «застудилась». Определенную роль в возникновении гинекологических заболеваний играли венерические болезни. Многие заболевания половой сферы были следствием несоблюдения женщинами гигиены. По наблюдениям земских врачей количество гинекологических больных в селе резко возрастало в жаркую летнюю погоду
{75}. Причина тому — отсутствие гигиены половых органов в страдную пору по причине постоянного присутствия мужчин. Необходимой чистоплотности не было и зимой. В тесных избах мужчины и женщины проводили большую часть времени вместе, и бабы опять же не имели возможности приводить себя в надлежащий порядок. Да и само состояние крестьянского жилища создавало благоприятную атмосферу для развития патогенных микробов.
Современного исследователя не может не поражать то безразличие, с которым бабы относились к своему здоровью. Женские хвори обнаруживали, как правило, на стадии обострения или в хронической форме. Крестьянки порой просто не замечали выделений по причине грязного платья. Свою роль играло и невежество. Некоторые бабы в Орловской губернии лечиться у докторов от женских болезней считали за великий конфуз: «Бабе свое нутро перед людьми выворачивать зазорно». Когда такой пациентке доктор предлагал осмотреть ее, та стремительно убегала из больницы и старалась скрыть от всех слова доктора, чтобы потом не заслужить упрека от баб: «Тебя давно все оглядели»
{76}. Таким образом, невежество крестьянок и стереотипы сознания выступали в определенной мере препятствием для профилактики и лечения гинекологических заболеваний.
Одним из самых значимых событий в жизни русской крестьянки было рождение ребенка. Главную роль в сельском родовспоможении играла повитуха. Повивальные бабки имелись в каждой деревне. Обычно это были пожилые вдовы добропорядочного поведения.
Современники расходились во взглядах применительно оценки повивального искусства. Одни, подобно земскому врачу В. И. Никольскому, считали их квалификацию крайне низкой, а действия — приносящими более вред, чем пользу. «А повивальное искусство! Здесь делается все, чтобы исковеркать женщину. Никакой язык не в силах описать того варварства, с которым фактически мучают каждую роженицу», — сетовал упомянутый доктор в своей диссертации 1885 года
{77}. Другие, напротив, высоко оценивали профессиональные навыки повитух. По их мнению, повивальные бабки при родах действовали достаточно грамотно и обладали умением принимать самые сложные роды.
На повитух приходилось подавляющее большинство деревенских родов. К помощи профессиональных акушерок крестьяне прибегали редко. По данным земского врача П. Богданова, в 1888 году из 14500 зарегистрированных родов в Кирсановском уезде Тамбовской губернии акушерками было принято только 100–130, то есть менее 1 процента
{78}. При трудных родах крестьяне скорее шли к священнику просить, чтобы он открыл царские врата и оставил их открытыми до благополучного разрешения от бремени, чем обращались за медицинской помощью
{79}. Главной причиной этого была бедность населения — во многих случаях просто не имелось лошади с подводой, чтобы отправить роженицу в больницу за 30, а порой и за 50 верст.
В следующие двадцать лет ситуация практически не изменилась. Доктор А. С. Сергеевский в «Обзоре родовспомогательной деятельности по Моршанскому уезду за 1904–1909 гг.» признавал: «Сама жизнь крестьянки, вероятно, создала поговорку о том, что «баба где стоит, там и родит». Горькая, обидная поговорка, но правды в ней много: поле, хлев, лес, луга, выгон, железная дорога и тюрьма — где застанут русскую женщину роды, там она и разрешается от бремени»
{80}. В Моршанском уезде Тамбовской губернии, по данным земского врача, большинство родов, а точнее, 66,9 процента происходило в сельских избах. Медицинский персонал оказывал помощь лишь в 1,4 процента случаев
{81}. По отчету Сеславинского участка Козловского уезда Тамбовской губернии за 1912 год, родов на дому было принято 237, а в больнице — 34
{82}.
«Лишь немногие женщины села знали о существовании докторов-акушеров, и никто из них не пользовался помощью этих специалистов, — писал в своих воспоминаниях воронежский крестьянин Ив. Столяров. — Дети рождались с помощью бабок-повивалок без всяких дипломов, научившихся путем практики. Когда же роды проходили в поле (и это случалось частенько), бабку-повивалку заменяла одна из женщин, уже имевшая детей. Если роженица была в поле одна с мужем, то обязанности «бабки» выполнял муж!»
{83}
Определенную роль играли и стереотипы крестьянского мышления. Недоверие к акушеркам, по мнению Д. К. Зеленина, проистекало из взгляда крестьян на них как на «барышень», то есть существ беспомощных, слабых
{84}. В восприятии сельской женщиной акушерки существовало определенное предубеждение — ведь она была представителем иного сословия, ей не были ведомы порядки и нравы крестьянского мира. Повитуха же была своей бабой, крестьянкой. От нее роженица ждала не только специальной помощи, но и замены ее в семейном хозяйстве. Бабка топила печь, варила обед, кормила детей, ходила за скотиной и т. и.
{85} Одним словом, повитуха делала все, чтобы временная нетрудоспособность женщины не отразилась на привычном домашнем укладе.
 Крестьянка с люлькой
Крестьянка с люлькой
Суровая проза крестьянской жизни требовала скорейшего возвращения роженицы к активному труду, особенно в страдную пору. Бывший земский начальник из Тамбовской губернии А. Новиков, хорошо знавший крестьянский быт и положение в нем женщины, в своих воспоминаниях с досадой сетовал по этому поводу: «Ни болезни, ни роды — ничто бабу не спасает. Если родила в рабочую пору, то на третий день иди вязать снопы. Можно ли после этого удивляться, что все они больны женскими болезнями»
{86}.
Развод
Браки в крестьянской среде были прочными, а разводы — явлением крайне редким. В своих воспоминаниях о детстве в тамбовской деревне митрополит Вениамин (Федченков) писал, что на пятьдесят верст кругом он не слышал ни об одном случае развода
{87}. В 1912 году в Европейской России почти на 115 млн. человек православных всех возрастов было расторгнуто всего 3532 брака, в 1913 году на 98,5 млн. человек — 3791 брак, причем
подавляющая часть разводов приходилась на город
{88}.
Народные традиции и нормы церковного права делали добровольное расторжение брака практически невозможным. Исследователь С. С. Крюкова на основе изучения брачных традиций второй половины XIX века установила причины разводов у крестьян в повседневной жизни. Это несогласие в семейной жизни; уход одного из супругов в секту; неспособность мужа выполнять супружеские обязанности; бесплодие жены; длительная отлучка одного из супругов
{89}. К этим причинам следует добавить и неспособность одного из супругов выполнять хозяйственные работы. Жесткие требования к разводу были продиктованы не только церковным уставом, но и экономическими условиями жизни крестьянской семьи. Ведь при разводе или смерти супруги в крестьянском хозяйстве нарушалось традиционное соотношение мужских и женских рук, необходимое для нормальной производственной деятельности. Нередко на другой день после похорон мужик толковал о новой бабе. «Без бабы в доме никак невозможно, — говорил он, — надо невесту искать»
{90}. В этом не было ни жестокосердия, ни пренебрежения к умершей супруге, а только суровые реалии крестьянского быта.
Прелюбодеяние в обычном праве не признавалось основанием для расторжения брака. В этом случае от обманутого мужа ожидали вразумления неверной жены, а не развода. Жен, уличенных в измене, жестоко избивали. На такие расправы в селе смотрели как на полезное дело: по понятиям крестьян, с женой всегда нужно обращаться строго, чтобы она не забаловалась. «Жену не бить — толку не быть!»
{91}
Для официального расторжения брака, церковного развода, требовалось решение правящего архиерея; поэтому в русской деревне второй половины XIX — начала XX века существовали «самовольные разводы». Дать количественную оценку этому явлению невозможно, поскольку такие разводы («расходки») нигде не регистрировались. По наблюдениям Ф. Костина из Орловского уезда, «рассорившиеся супруги часто расходятся. Большей частью со двора уходит жена, а муж остается дома. Иногда муж заявляет в волости, чтобы жене не давали паспорт. И тогда жена обыкновенно живет у кого-либо из родственников. Супруги иногда расходятся добровольно и живут врозь, но только те, у кого нет детей»
{92}. Отсутствие детей в семье после нескольких лет совместной жизни в глазах крестьян являлось веской причиной для прекращения супружества. «У кого детей нет — во грехе живет», — гласила народная пословица.
Гражданский развод в селе санкционировался негласно общиной и общественным мнением. Тот же Ф. Костин писал: «В нашей местности разводы бывают при вмешательстве сельского схода и народного суда. При таких разводах вторично жениться супругам, конечно, нельзя, но они имеют полное право, по народному мнению, жить раздельно, не притесняя один другого. Когда желают разойтись и просят об этом общество, то должны указать причины. Когда есть дети, то их оставляют с отцом, будь они девочка или мальчик. Но если мать пожелает взять с собой девочку, то это ей позволяется. Если муж и жена разводятся, не имея детей, то ей разрешается взять свое имущество и приданое. Если разводятся супруги, имея детей, то жене не все выдается, а часть холстов, детских рубашек оставляется. После развода муж не обязан выдавать жене ни месячины, ни других пособий, и она должна жить, как хочет. Когда после развода у крестьян от любовниц рождаются дети, то они были обязаны кормить их до совершеннолетия, и если девочка, то выдать замуж, если мальчик — определить его куда-то в зятья или в усыновление. Но большей частью таких детей определяют в воспитательные дома или подкидывают»
{93}.
Второй брак в деревне не осуждался, но вызывал определенный суеверный страх из-за боязни того, что он будет недолговечным и несчастным. Третий брак по народным понятиям считался недопустимым. Крестьяне считали, что такой мужик берет на себя страшный грех, идя против Божественной воли. В деревне говорили: «Первая жена от Бога, вторая — от человека, третья — от черта». Второй брак был необходим, по мнению крестьян, только в том случае, если у вдовца были малолетние дети, а в семье не было женщины, способной к уходу за ними. В этом случае вдова — самая подходящая невеста для вдовца, как опытная женщина. К бракам вдовцов на девушках относились неодобрительно. В 1875–1886 годы в Тамбовской губернии в 56 процентах случаев вдовцы женились на вдовах
{94}. Для совместного проживания порой сходились пожилые (мужчины старше 60 лет, женщины — 50 лет) одинокие крестьяне. Такой союз в селе считали неприличным, памятуя о том, что Бог создал брак «для умножения рода человеческого»
{95}.
Вдовы, не вышедшие замуж повторно, составляли в селе особую категорию, игравшую немаловажную роль в повседневной жизни деревни. Некоторые из бобылок охотно предоставляли свою избу местной молодежи для проведения «вечерок». Другие промышляли знахарством и гаданием, беря плату продуктами. Иные бросали хозяйство и уходили в работницы, а если физических сил не было, то жили, собирая милостыню. В начале XX века в тамбовских селах крестьянские вдовы пекли просфоры, получая по 2–3 копейки за каждую.
Старость
Для сельской женщины переход в последнюю в жизненном цикле возрастную группу был связан с утратой способности к деторождению. Другим критерием была утрата бабой статуса хозяйки, большухи. Наступление старости, по мнению крестьян, также определялось неспособностью женщины в полной мере выполнять функции «работницы» в семье.
Не имея физической возможности принимать деятельного участия в хозяйственных работах семьи, старухи активно формировали общественное мнение села и распространяли деревенские новости. Пожилые женщины были в деревне источником возникновения и передачи слухов, сплетен и пересудов. Информация, передаваемая старухами, разлеталась по селу значительно быстрее, чем передвигались пожилые крестьянки.
Как и старики, женщины в старости занимались своеобразным общественным служением, но их практический жизненный опыт был востребован в иной сфере. Они были хранительницами всего комплекса крестьянских обрядов и бытовых знаний; именно старухи выполняли роль вопленниц на похоронах и подголосниц на свадьбах. Многие из них знали народную медицину и становились знахарками, повитухами.
Старухи также выступали носителями православных традиций. Они строго следили за исполнением молитвенного правила младшими членами семьи, соблюдением постных дней, почитанием церковных праздников. Среди прихожан пожилые женщины составляли большинство. Без них не обходился ни один молебен и крестный ход в селе. Старухи и вдовы играли ведущую роль в ряде ритуальных действий, как связанных с православной верой, так и основанных на народном суеверии.
 Старуха
Старуха
С некоторой долей условности можно утверждать, что в крестьянской традиции старость воспринималась прежде всего как период ожидания смерти и подготовки к ней. Близость к смерти пожилых крестьянок придавала их действиям особый, сакральный смысл. Беседы о грядущей кончине, приготовление для себя «смерётной одежды» или гроба составляют важную и неотъемлемую часть субкультуры пожилых крестьян и крестьянок.
В семейной повседневности занятия старых женщин были связаны с уходом за детьми: они пестовали грудных младенцев, ходили с ребятишками в лес по грибы и ягоды, рассказывали сказки. По сути, присмотр за внуками был для старухи главной заботой. Суждения современников по этому поводу схожи: «Где, бабка, ни бери, а внука корми»
{96}. В страду работающие в поле родители вынуждены оставлять детей «вместе с хилою и дряхлою старушонкой-бабушкой»
{97}, даже если она нуждалась в присмотре не меньше малолетних внучат.
Старухи, бывшие еще в силах, выполняли домашние работы. Чаще всего это был уход за скотиной и птицей, а также приготовление пищи. Знаток жизни русского села, писатель А. Н. Энгельгардт отмечал: «Старуха печет хлебы и готовит кушанье для застольной, смотрит за свиньями, утками и курами»
{98}. «Только сама старуха да еще старшая сноха знают, как их [пироги] «ставить» с вечера, как подмесить на ночь и как утром «развалять», разложить в посудины»
{99}, — писал П. И. Замойский.
На протяжении XIX века старики в крестьянской семье продолжали выполнять хозяйственные функции, по возможности стараясь соблюдать традиционное разделение работ на мужские и женские. Отношение к ним зависело как от их работоспособности, так и от благосостояния и типа крестьянской семьи: большим почетом пользовались богатые старики в неразделенной семье
{100}.
Христианская нравственность, все нормы поведения жителей села требовали безусловного уважения родителей на протяжении всей их жизни. «Дети обязаны родителей во всем слушать, покоить и кормить во время болезни и старости», — сообщал об обычаях крестьян житель Орловской губернии в конце XIX века
{101}. «Богатство» в детях воплощалось в гарантии обеспеченной старости. Стариков-родителей сыновья поочередно брали к себе на жительство, а если те оставались доживать свой век с одним из них, то другие должны были обеспечивать их всем необходимым. К тем, кто не исполнял долг перед родителями, применяли меры общественного воздействия. Известны случаи, когда волостной суд принуждал непутевых детей к исполнению своих обязанностей, определяя приговором годовую норму натурального довольствия для прокормления стариков. «В волостных судах, — отмечал С. И. Барыков, характеризуя Архангельскую губернию начала XX века, — так много встречается жалоб на отказ со стороны детей в пропитании, что ясно говорит о том, как плохо выполняются обязанности по отношению к старикам-родителям»
{102}.
Нравственная эрозия патриархального уклада деревни на рубеже веков затронула и сферу внутрисемейных отношений. Сельское духовенство это почувствовало одним из первых. Священники. Покровский из с. Раева Моршанского уезда Тамбовской губернии в 1898 году писал: «Старики не почитаются, им желают скорейшей смерти. Сын не стесняется бранить, а порой и бить отца. Мне часто приходилось слышать выражения типа «когда ты сдохнешь, старый пес?». Слепой матери-старухе не укажут, где стоит вода»
{103}. Из Орловской губернии сообщали, что «к матери в старости проявляли пренебрежительное отношение, могли попрекнуть куском хлеба, отказывали в новой одежде»
{104}. Корреспондент из Владимирской губернии приводит рассказ о старухе, которой при живых сыновьях пришлось жить подаянием, потому что дети «не захотели ее брать»
{105}.
По сведениям из Орловской губернии, старикам и старухам оказывали уважение, если они были еще в силах работать, но в голодное время к ним относились грубо, кормили плохо и почти не ухаживали. Крестьяне смотрели на это снисходительно, говоря: «Хотя бы уж самим-то животы не подвело, а старикам все равно помирать пора»
{106}. Не будем искать в этом жестокосердие и забвение сыновнего долга. Голод нередко ставил сельскую семью на грань вымирания. Стремясь сохранить потенциал хозяйственного возрождения двора, крестьянин воспринимал стариков как лишние рты. С точки зрения физического выживания семьи их немощь была балластом.
Семейная иерархия
Повседневная жизнь русской крестьянки была неразрывно связана с семьей, частью которой она являлась. Именно в рамках семейного круга, начиная с рождения и кончая смертью, проходила большая часть ее жизни.
Большак обладал в семье неограниченной властью и мог быть лишен ее только решением сельского схода. Община вмешивалась в исключительных случаях — когда действия большака вели к разорению двора, потери его тяглоспособности
{107}. Основанием для передачи «большины» другому члену семьи была также утрата дееспособности. Так, решением Пичаевского волостного суда Тамбовской губернии в 1914 году крестьянка Анна Шорина была признана полной хозяйкой и утверждена в праве наследства, так как ее муж потерял рассудок и находился на излечении в психиатрической больнице
{108}.
Большак выступал организатором и руководителем всего производственного процесса крестьянского двора
{109}. С вечера он распределял работу на следующий день, и его распоряжения подлежали неукоснительному исполнению
{110}. Прерогативой большака были определение сроков и порядка проведения полевых работ, продажа урожая и покупка необходимого в хозяйстве. В его руках находились все деньги, зарабатываемые семьей, и в расходовании их никто не имел права требовать у него отчета
{111}. Только он мог выступать в качестве заимодавца или заемщика. Именно домохозяин отвечал перед обществом за отбытие двором мирских повинностей. По сельскому обычаю он был волен отдать своих детей в работники, не спрашивая на то их согласия.
Глава семьи вел все дела хозяйства, свободно распоряжался его имуществом, заключал обязательные соглашения, но наряду со всем этим владельцем двора не являлся. Существовавший обычай воспрещал домохозяину предпринимать важнейшие распорядительные действия, например отчуждение имущества, без согласия всех взрослых членов семьи
{112}. Большак не имел права завещать имущество никому, кроме своих ближайших родственников. В противном случае такое завещание не утверждалось сельским сходом. После его смерти двор оставался в распоряжении семьи, а большаком становился его сын или брат, реже вдова. Если двор по смерти хозяина и делился, то это происходило не по гражданскому закону, а в рамках обычая
{113}.
 Крестьянская семья. Касимовский уезд Рязанской губернии. 1914 год
Крестьянская семья. Касимовский уезд Рязанской губернии. 1914 год
Всем домашним хозяйством безраздельно ведала «большуха». Она распределяла между невестками хозяйственные работы, устанавливала очередность приготовления пищи, ведала сохранностью и выдачей продуктов и, главное, зорко следила за неукоснительным исполнением каждой своих обязанностей. Помимо работ по дому заботой хозяйки были огород, уход за скотом, выделка пряжи, изготовление одежды для домочадцев. Если в семье было несколько невесток, она смотрела за тем, чтобы шерсть, лен, конопля были распределены между ними соразмерно их трудовому вкладу. Все коллективные работы, требующие женских рук, осуществлялись при ее непосредственном контроле и участии. От нее во многом зависела четкая работа всего механизма крестьянской экономики.
Весьма близко к реальности описывает женские обязанности в патриархальной семье современный исследователь Т. А. Невская: «Одна невестка готовила пищу, другая пекла хлеб, третья — кормила свиней и домашнюю птицу. Через неделю, а в некоторых семьях и каждый день, невестки менялись своими обязанностями. Как правило, старшим невесткам доставались наиболее ответственные работы, а младшая невестка была первое время на «подхвате». Самая старшая сноха осуществляла за всеми остальными «догляд». Молодые девушки в приготовлении пищи участие никогда не принимали, лишь помогая старшим. При этом свекровь только изредка помогала снохам в хлопотах по дому, чаще всего она в это время занималась рукоделием или присматривала за внуками»
{114}.
Личные качества хозяйки играли в семейной атмосфере определяющую роль. Не случайно в народе говорили: «При хорошей большухе ангелы в семье живут, а при плохой семью нечистый обуяет»
{115}. Семейная повседневность часто становилась ареной противоборства хозяйки и снох — как метко заметил исследователь М. Левин, происходила «борьба за ухват и квашню»
{116}. В своем стремлении сохранить контроль над семейным очагом свекровь не останавливалась ни перед чем, включая и физическое насилие. Безграничная власть свекрови над снохами была отражением диктата большака по отношению к своим домочадцам.
Снохи, будучи «чужеродками», связанными с семьей мужа лишь косвенными родственными узами, держались обособленно. Кроме мужа сноха в значительной степени зависела от свекра и свекрови. Следует отметить, что положение снох было различным. Большое значение имело, умеет ли она работать. В зависимости от этого она пользовалась большим или меньшим уважением. На ее положение в семье также оказывало влияние наличие детей. Например, многодетные снохи вели себя более свободно
{117}. В более выгодном положении находились снохи, имевшие сыновей.
Для патриархальной семьи было важно рождение именно мальчиков, сулившее увеличение земельного надела. По сведениям К. К. Федяевского, приводимым по Воронежскому уезду: «В больших семьях били снох за повторное рождение девочек. Мужей таких снох посылали в соседний уезд в годовые работники, позволяя проведывать жену и детей лишь Великим постом»
{118}.
В разные периоды жизни статус замужней женщины менялся, но именно ей принадлежала ключевая роль. В молодости ее положение в роли невестки было незавидным, она была наиболее эксплуатируемым членом крестьянского семейства. Но с годами, когда ее супруг становился «большаком», а дети вырастали и женились, она становилась полноправной хозяйкой, и теперь уже она выступала для своей юной невестки деспотом
{119}.
Разделы
До отмены крепостного права в российской деревне преобладала патриархальная (составная) крестьянская семья, как правило, многочисленная. Например, в 1857 году в Воронежской губернии обычная семья состояла в среднем из десяти человек (если точно — 9,6), в Курской губернии этот показатель был равен 9,1, в Тамбовской — 9,0
{120}. Во второй половине XIX века численность сельской семьи уменьшается. В Воронежской губернии в 1884 году это уже меньше семи человек — в среднем 6,8, а в 1897 году — 6,6
{121}. Аналогичная тенденция по уменьшению крестьянских семей отмечена и в других губерниях.
Традиционный уклад, в том числе и семейный, в селах Центрального Черноземья отличался большей прочностью, чем в других регионах страны. Так. максимальное количество крупных семей с численностью свыше 10 человек было зарегистрировано по переписи 1897 года в воронежских селах. Доля таких семей в губернии составляла 14.8 процента
{122}. Семья воронежского крестьянина Леона Измайлова насчитывала 54 человека. Она состояла из домохозяина с женой (76 и 74 года), 6 женатых сыновей (от 36 до 55 лет). 7 женатых внуков, 9 внуков неженатых, 10 внучек незамужних. 3 малолетних правнуков и 4 правнучек. Всего 26 мужчин и 28 женщин
{123}.
Крупная семья представляла собой своеобразную форму трудовой кооперации, половина ее численного состава были работниками. Поэтому такие семьи чаще всего были зажиточными. Многосемейность придавала крестьянскому хозяйству устойчивость и выступала залогом экономического благополучия. По сведениям за 1889 год. глава многочисленного семейства, крестьянин д. Грязнуши Больше-Лазовской волости Тамбовского уезда И. Я. Золотухин обладал 703 десятинами земли, владел 6 домами и 16 нежилыми постройками, держал лошадей — 40 голов, коров — 30, свиней — 90, имел 7 плугов, 30 железных борон, 3 сеялки и 2 молотилки
{124}.
Крестьяне видели четкую связь количества работников в семье с ее хозяйственной состоятельностью. Отмечая преимущества большой семьи, они говорили, что если в «семье мелкой умрет хозяин, то все пойдет прахом». Очевидно, в их глазах многочисленность семьи выступала гарантом от разорения. Действительно, в малой семье смерть одного работника автоматически вела к расстройству хозяйственной жизни, в то время как в большой это не отражалось на благосостоянии крестьянского двора. А. Н. Энгельгардт пишет: «Крестьянский двор зажиточен, пока семья велика и состоит из значительного числа рабочих, пока существует какой-нибудь союз семейный, пока семья не разделена и работы производятся сообща. Обыкновенно этот союз держится, пока жив старик, и распадается со смертью его»
{125}.
Патриархальная семья представляла собой уменьшенную копию общины. В ней воспроизводились патриархальные отношения с присущим им авторитаризмом и общностью имущества двора. Отношения строились на безоговорочном подчинении младших членов семьи старшим, а власть хозяина над домочадцами была абсолютной. В жизни неразделенных семей наглядно прослеживалась преемственность поколений, непосредственность в передаче опыта от отцов к детям. Глава двора стремился оградить семейную повседневность от всего, что могло бы нарушить привычный уклад, изменить традиции, ослабить его власть. Поэтому он часто противился обучению детей, неохотно отпускал сыновей в дальний промысел, старался не допустить выдела.
Но в силу развития товарно-денежных отношений, ослабления патриархальных устоев сельского быта, роста крестьянского индивидуализма постепенно происходил процесс увеличения числа малых семей, которые и стали к началу XX века главной формой семейной организации русского крестьянства. Глубинные изменения, связанные с модернизацией традиционного общества, вызвали к жизни тенденцию дробления крестьянских дворов. Деревню, образно говоря, захлестнула волна семейных разделов. Этот процесс, имевший объективную природу, продолжался с начала 1880-х по конец 1920-х годов и привел к тому, что патриархальная семья уступила место семье нуклеарной, то есть состоящей только из родителей и детей либо одних супругов.
Семейные разделы, начавшиеся после отмены крепостного права, стали в русской деревне распространенным явлением. В период с 1861 по 1882 год в 46 губерниях Европейской России разделилось 2371248 крестьянских семей
{126}. За два пореформенных десятилетия в 43 губерниях Европейской России в среднем ежегодно происходило 116229 семейных разделов
{127}. В течение десяти лет (1874–1884 годы) число семей бывших помещичьих крестьян увеличилось на 20,7 процента, бывших государственных и удельных — на 20 процентов
{128}.
По мере увеличения количества крестьянских семей сокращалась их средняя численность. В Воронежской губернии средняя численность крестьянской семьи за 1857–1882 годы уменьшилась с 10,3 до 7,3 человека (а по земским статистическим исследованиям на 1 января 1890 года в среднем на семью по губернии приходилось 5,95 человека), в Рязанской губернии — с 9,7 до 6,3 человека
{129}. Уменьшение численности крестьянской семьи происходило одновременно с увеличением естественного прироста населения.
К концу XIX века, по данным Министерства внутренних дел, в 46 губерниях Европейской России в 1883–1890 годах происходило ежегодно по 150 тыс. разделов. Большая патриархальная семья постепенно уходила в прошлое. Благочинный Шацкого округа в рапорте, направленном в Тамбовскую духовную консисторию (1894 год), сообщал, что «теперь редко можно встретить семью из трех-четырех братьев»
{130}. «Ныне перевелись семьи в 20–30 человек, состоящие из деда, его 3–4 сыновей, внучат и правнучат», — с сожалением признавал священник И. Покровский, автор монографического описания с. Раева Моршанского уезда Тамбовской губернии
{131}. Сельские корреспонденты Этнографического бюро были единодушны в своих утверждениях о том, что «больших семей мало», «семьи преимущественно малые» и т. п.
{132}
Неразделенные семьи (с тремя-четырьмя работниками) к концу XIX века составляли всего около 10 процентов в промышленных и 17 процентов в земледельческих губерниях. При этом численность сельского населения Европейской России выросла с 50,3 млн. человек в 1860 году до 86,1 млн. человек в 1900 году. Среднедушевой крестьянский надел за сорок лет сократился с 4,8 до 2,6 десятины. К началу XX века средняя величина земельного надела в Центральном Черноземье колебалась от 2,4 десятины в Воронежской до 1,7 десятины в Курской губернии
{133}.
Темпы численного роста крестьянских дворов явно превосходили естественный прирост населения. В 12 уездах Воронежской губернии, согласно данным земской статистики, за 1875–1884 годы разделилось 70404 семейства, или 22,3 процента, а за следующее десятилетие в 1885–1895 годах — 105 882 семейства, или 33,5 процента
{134}. К концу XIX века этот процесс привел к превращению сельской семьи из рабочего союза в кровный.
Процесс дробления крестьянских хозяйств провоцировали периодические земельные переделы. На это обратили внимание специалисты из земского отдела Министерства внутренних дел, авторы аналитического доклада «Исторический очерк законодательства о семейных разделах (1861–1905 гг.)». В нем говорилось: «Наблюдается прямая зависимость: чем чаще переделы, тем сильнее семейные разделы. Это объясняется тем, что при переделах земля разверстывается и на неотделенных членов семьи. Считая эту землю своей, а не отцовскою, сыновья при первой же возможности стараются выделить ее в особое хозяйство, обыкновенно довольно слабое, т. к. у них нет достаточной рабочей силы и необходимого инвентаря».
Стремление сыновей выйти из-под опеки отца-домохозяина было вполне закономерным. В жизнь вступало новое поколение крестьян, которое, в отличие от своих предшественников, не испытывало особого пиетета перед прежними установлениями.
Другой весомой причиной семейных разделов был крестьянский быт. И сельские власти, и сами крестьяне единогласно утверждают, что громадное большинство семейных разделов происходило из-за женских свар. Так, в 1887 году в Ежевской волости Глазовского уезда причиной двенадцати разделов из семнадцати были «междоусобные ссоры, начинающиеся большей частью в женском полу». В Песковской волости из 121 раздела 99 произошли «по вражде женщин». Вот суждения крестьян по этому поводу: «Тесно жить молодым женам, да ведь три горшка в печь не влезут»; «Две-три снохи могли устроить из семейного очага кромешный ад»
{135}; «У нас все разделы от баб»
{136}.
По сообщению А. Петрова, в Больше-Избердеевской и Шехманской волостях Липецкого уезда Тамбовской губернии причинами семейных дележей являлись по преимуществу бабьи дрязги, ссоры между братьями вследствие недобросовестного отношения некоторых членов семьи к труду, их пьянство и расточительство
{137}. Современный исследователь пишет, что разделы «между дядьями и племянниками, братьями большей частью происходили от неприятностей при расчете и расходе общих денег»
{138}. К другим причинам семейных разделов следует отнести снохачество, появление мачехи или отчима, эгоизм старшего брата
{139}.
По поводу «женского» фактора семейных разделов дореволюционный исследователь С. Барыков проницательно отмечал: «Разумеется, дело не в «бабьих ссорах», а в том, что у женщин, благодаря их занятию домашним хозяйством, больше поводов для всякого рода недоразумений и столкновений. Женщина скорее замечает и интенсивней мужчин чувствует ту неравномерность в имущественном положении отдельных членов семьи, которая неизбежна при развитии отхожих промыслов и других «сторонних» заработков»
{140}.
За отходом мужчин мужской власти во многих домах не оставалось, и молодые женщины не хотели подчиняться женской, более мелочной и деспотичной власти свекрови, которая к тому же не могла поддерживать свое влияние физической силой
{141}.
Можно утверждать, что процесс семейных разделов был обусловлен как модернизацией российского села, так и возросшей социальной мобильностью деревенских жителей, которая существенно изменила культурный облик крестьянской семьи. В разделенной семье положение женщины было более свободным и сама она получила большую самостоятельность. Очевидно, что в результате семейных разделов процесс эмансипации крестьянки пошел быстрее.
Дети
Говорить о какой-то системе целенаправленного воспитания в крестьянской семье не приходится. Мудрость народной педагогики заключалась в том, что сельские дети росли в естественных условиях, окружающую среду познавали посредством опыта, навыки обретали через подражание взрослым. Обыкновенно крестьянский ребенок находился на улице с раннего утра до поздней ночи и являлся домой только за тем, чтобы поесть или сообщить отцу или матери о том, что такой-то его побил
{142}.
Об отсутствии пригляда за маленькими детьми свидетельствуют многочисленные несчастные случаи с детьми в селе, отраженные в полицейских сводках. Приведем лишь некоторые из них по Моршанскому уезду Тамбовской губернии: «В сентябре 1904 г. в д. Сретенке Гагаринской волости задавлена лошадью, оставленная без присмотра девочка Наталья Ульянова, 1 года»
{143}; «14 июня 1904 г. в д. Петровке Александровской волости в лохани с помоями по недосмотру утонула крестьянская девочка Прасковья Чуфистова, 1 года 8 месяцев»
{144}.
Такая ситуация была характерна и для других российских деревень. Например, в сводках о происшествиях по Воронежской губернии за 1911 год читаем: «17 июня в слободе Новой Меловатке Богучарского уезда у крестьянина Моисея Гучкина свинья отъела кисть правой руки у ребенка, находившегося без присмотра в люльке»; «9 августа в слободе Березовке Богучарского уезда в канаве наполненной водой утонула дочь крестьянки Ляхненко — Ульяна, 7 месяцев, находившаяся без присмотра»
{145}. Таким образом, большинство несчастных случаев с крестьянскими детьми были результатом отсутствия родительского контроля.
В летнюю пору много крестьянских детей гибло в местных водоемах. Только за вторую половину мая 1901 года в Воронежской губернии утонуло 17 мальчиков и 7 девочек
{146}. В Курской губернии за июль 1912 года была зафиксирована гибель 19 крестьянских детей, в течение месяца утонуло 12 мальчиков и 7 девочек
{147}.
В своих играх сельские дети повторяли мир взрослых, воспроизводили их манеру поведения. Девочки в играх воссоздавали подобие семейных отношений. Мальчики гуляли отдельно от девочек, играли в городки, деревянные шары. Изображая верховых урядников, ездили верхом на палке
{148}. Зимой строили снежные крепости, играли в «казаков-разбойников». Повседневные игры мальчиков и девочек не в меньшей мере, чем серьезная помощь взрослым, формировали стереотипы будущих жизненных ролей. Мальчишечьи игры выковывали мужские эмоции и волевые качества: выносливость, упорство, умение постоять за себя и друга. Игры девочек были ориентированы на женский, материнский труд
{149}.
 Крестьянские дети. 1860-е годы
Крестьянские дети. 1860-е годы
Дети в игре воспроизводили почти все жизненные ситуации: играли в свадьбу, прием гостей, рождение младенца. Это приобщало их к традиции, вводило в обрядовую культуру. Изображая обряд, дети запоминали порядок его ведения, правильное использование вещей в том или ином ритуале. Передавая поведение взрослых в играх, чадо не всегда приобретало только положительные навыки; так, например, крестьянин описывает игру в «хозяйку» шестилетней девочки: «Волосы на ней были всклокочены, лицо вымазано сажей, она бранилась у печи нехорошими словами, с остервенением передвигая горшки, и наконец, схвативши чашку, со злостью поставила на стол и крикнула своим куклам: «Нате, пожрите!»
{150}.
Первые пять — семь лет жизни ребенка обычно проходили под материнской опекой. В отчетах корреспондентов Этнографического бюро говорится, что «воспитание и уход за малолетними детьми… лежит на матери»: «Как бабушки, так и няньки ухаживают за ребенком временно, главный же уход за ребенком всецело лежит на обязанности матери. Измученная, усталая, возвратясь с работы, она первым долгом бежит к ребенку и, забыв свою усталость, кормит грудью, очищает от грязи его. ухаживает за ним, даже ночью она часто не знает покоя, т. к. ребенок кладется спать на постель к матери»
{151}.
Приобщение девочек к труду начиналось очень рано. Крестьяне считали, что «маленькое дело — лучше большого безделья»; поэтому уже с четырехлетнего возраста дети помогали взрослым в работах по дому, на дворе и огороде. Девочки в пять — семь лет часто помогали матери ткать, наматывая нитки на берестяные трубочки для челнока. К семи годам девочка овладевала навыками прядения, и отец делал ей личную прялочку маленького размера. Шести — восьмилетних девочек матери брали с собой на реку полоскать белье, в семь — девять лет их учили шить и вышивать
{152}. Девочки-подростки пасли скотину, одной из их обязанностей была прополка огородных растений.
По мере взросления сельской девушки усложнялись и трудовые операции, которые она выполняла по хозяйству. По утверждению сельских жителей: «С 9—11 лет дочь помогала матери жать в поле, для чего ей изготавливали маленький серп. В 12 лет маленькая мастерица могла изготовить себе наряд. А к 14–15 годам — завершению подросткового периода — девочка была уже способна готовить себе приданое»
{153}.
В родительском доме на девочку смотрели как на временную гостью: «Дочка — чужая скотинка», «Дочь — чужое сокровище». «Дочь — работница для чужого поля, ключница для чужого отца, ларечница для чужой матери»
{154}. Поэтому вся жизнь девочки была подготовкой к замужеству — к роли жены, матери, хозяйки. При этом основным посредником в передаче «женских» знаний и умений в рамках семьи была мать.
Совершеннолетие девушки (16–18 лет) обозначалось тем, что она принималась в общество взрослых девушек и парней, участвовала в их играх, хороводах и увеселениях
{155}. Переход в новую возрастную группу сопровождался символами девичьего совершеннолетия (прическа, одежда, украшения, стандарты поведения), подчеркиванием разными способами половых признаков и др. С 16 лет на девушек обращали больше внимания, начинали их звать полным именем, нередко присоединяя к нему и отчество, Машка становилась Машей или Марьей Петровной
{156}.
В многодетной семье обязанностью старших детей было присматривать за своими младшими братьями и сестрами. Заменяя нянек, они должны были забавлять малюток, качать их в люльке, кормить кашей, поить молоком и давать соску
{157}. Маленьких детей оставляли под присмотром старшей сестры, даже если ей было лет пять-шесть. Бывало, она заигрывалась с подружками, а дитя оставалось без надзора. Поэтому нередки были в деревнях случаи смерти малолетних детей, когда «ребенка свинья съела, солома задавила, собака изуродовала»
{158}.
В большей мере это касалось бедняцких семей. В отчете в Синод за 1913 год из Орловской епархии сообщали: «Дети бедняков, брошенные часто без присмотра, гибнут в раннем детстве по этой причине (из-за отсутствия присмотра. —
В. Б.). Особенно это замечается в семьях малоземельных крестьян. Здесь отец и мать, занятые целый день добыванием куска хлеба, весь день проводят вне дома, а дети предоставлены сами себе. Теперь не редкость, что в доме нет ни одного старого человека, под надзором коего можно было оставить детей. Как правило, маленькие дети остаются вместе с такими же малыми сестрами и братьями, поэтому без надлежащего присмотра они целый день голодные, холодные и в грязи»
{159}.
Особенности крестьянского труда и сельского быта находили свое отражение в отношениях родителей и детей. Родители чаще всего вели себя нарочито грубо, считая, что доброта и ласка по отношению к детям могут им навредить и они «забалуют». В обращении с детьми, особенно не достигшими совершеннолетия, они почти всегда использовали приказной тон, и только малолетние могли рассчитывать на более мягкое обращение. Матери оказывали больше ласки детям, чем отцы
{160}. Детей крестьяне наказывали мало и редко: секли в редких случаях, чаще ограничивались угрозами. Если приходилось сечь, то это делал отец
{161}. Прибегали и к другим видам наказания: высмеивали, лишали части одежды
{162}.
В деревне существовала своеобразная система общественного воспитания. Крестьянский обычай признавал допустимым вразумлять, а при необходимости наказывать чужих детей. Это в первую очередь касалось соседей, которые могли оперативно пресекать шалости малолетних сорванцов. Приведу типичный диалог соседок. «Тетка Арина, я седни (то есть сегодня) твоего Ванютку крапивой отстегала, все огурцы у меня на огороде помял» — «И спасибо на этом. Вот ужо придет, так я ему еще прибавлю»
{163}.
Традиционно с неодобрением относились крестьяне к обучению дочерей в школе. Они считали, что знания девочке ни к чему, «ее дело прясть». Преобладание в сельской школе мальчиков и низкий уровень грамотности женской части деревни были следствием стереотипов крестьянского сознания.
Образование для женщины считалось не только не обязательным, но и липшим. В Пермской губернии анкетное исследование выявило, что «громадное большинство населения относится сочувственно к обучению мальчиков, но нельзя то же сказать относительно обучения девочек». Некоторые из корреспондентов заявляли, что «обучать девочек каждую не стоит». Типичными по смыслу были высказывания: «Для чего бабе быть грамотной, ведь у печи с кочергой и ухватом много знания не требуется, а в солдаты баб не берут»
{164}. По сведениям из Костромской губернии, «на обучение девочек денег не тратят, и они учатся у грамотных братьев, отцов и различных грамотных старых дев и вдов. Эти простые женщины занимаются также чтением по покойникам и чтением писем и пр.»
{165}
 Крестьянка с девочками
Крестьянка с девочками
Уровень грамотности русской крестьянки отражают статистические данные по Курской губернии. Так, в Белгородском уезде по материалам исследований, проведенных в 1885 году, «грамотность среди крестьянского населения не превышала 5,5 %, из которых 4 % составляло взрослое население обоего пола… В возрасте до 10 лет грамотными были 2,5 % мальчиков, это в 2,5 раза выше соответствующего показателя у девочек. В возрасте с 10 до 19 лет почти каждый второй крестьянский юноша был грамотным, у девушек только каждая десятая»
{166}.
К концу XIX века крестьяне начали понимать значимость образования и чаще отдавать детей в церковно-приходские школы. Многие крестьяне в это время отмечают, что «не ходят в школу только дети самых нерадивых родителей». Крестьянин Гдовского уезда Петербургской губернии Григорий Богомолов подчеркивал, что «полезно было бы ввести обязательное образование не только мальчиков, но и девочек, как будущих матерей и воспитательниц молодого поколения»
{167}.
Перемены во взглядах русских крестьян на обучение своих детей в целом и девочек в частности были обусловлены ходом самой жизни, наглядно демонстрирующей преимущества образования. Обретение знаний стало одной из форм адаптации сельского населения в условиях модернизирующегося общества.
Работы и заботы
Важное значение для положения женщины в семье имел ее трудовой вклад в хозяйство: чем значительнее он был, тем больше ее уважали. Если в силу обстоятельств женщина частично или полностью теряла способность к труду, это вело к изменению ее места в системе внутрисемейных отношений, вплоть до полной потери влияния.
Степень свободы женщины зависела от ее социальной роли. Болыпухи, хотя и должны были подчиняться мужу, все же сами имели некоторую власть над другими членами семьи. В случае смерти мужа и при отсутствии в доме взрослых мужчин большуха получала право распоряжаться всем семейным имуществом и даже земельным наделом, однако сохраняла его только до момента взросления сыновей и создания ими семей
{168}.
Женский труд был важен прежде всего при выполнении сельскохозяйственных работ. Во время пахоты и посевной роль женщин была вспомогательной, но в период жатвы она выходила на передний план. Именно женскими руками осуществлялись основные операции по сбору хлебов. Крестьянки жали серпами, изготавливали свясла, вязали снопы, складывали снопы в крестцы для просушки. Если по каким-то причинам в
период жатвы женские руки были не востребованы в своем дворе, они использовались в качестве наемных в других хозяйствах.
Активно привлекался женский труд при обработке зерна. Крестьянки участвовали в молотьбе и веянии хлеба, как ручным способом, так и с применением машин. Работали вручную, технику, даже самую простую, использовали далеко не везде и не всегда.
Среднестатистический показатель занятости крестьянок Центрального Черноземья в земледелии составлял 14 процентов от их годового рабочего времени. Однако в зависимости от количества женских рабочих рук в хозяйстве и размера земельного надела этот показатель мог сильно меняться.
Крестьянский труд отличался высокой степенью интенсивности и не ограничивался только земледельческими работами. В 1907 году журнал «Нужды деревни» (№ 21) описал «трудовой крестьянский год в цифрах». Согласно приведенным данным, крестьянин затрачивал на ведение сельского хозяйства 25–40 процентов трудового времени. В различные периоды года резко менялись как количество рабочих дней, так и напряженность работы в течение дня. Так. средняя продолжительность рабочего дня составляла в феврале 2,8. в апреле — 6.3. в июне — 9,3 часа
{169} (тут, конечно, не учитывается еще женский труд по дому). По расчетам С. Г. Струмилина, осуществленным в начале 1920-х годов, когда вряд ли крестьянин стал работать меньше по сравнению с началом XX века, каждый трудоспособный член крестьянской семьи был занят на разных работах в год около 2000 часов
{170}.
Сухие цифры подтверждаются суждениями наблюдателей. Вот что пишет по этому вопросу князь Г. Е. Львов: «Я видел труд земледельца… и впечатления юных лет и последующие в ближайшем соприкосновении с мужицкой работой и в личном участии в ней говорят одно: такой тяжелой работы, как у нас, нет нигде… Работают не по 8 часов в день, а по 20, не днями, сутками… И домашняя жизнь у печки, у двора, такая же, с теми же чертами. Бабы сидят ночь за прядевом и холстами, вздувают огонь печи к свету, к скотине выходят несколько раз за ночь…»
{171}
Значительную часть времени в повседневном труде занимал уход за скотом, без которого не мыслила своего существования ни одна крестьянская семья. В русской деревне животноводство никогда не играло ведущей роли, но содержание домашнего скота на семейном подворье было неотъемлемой частью крестьянского хозяйства. В черноземной полосе стойловое содержание скота продолжалось пять-шесть месяцев, что требовало от крестьянской семьи ежедневно ухаживать за животными. Представление о количестве времени, затрачиваемого на уход за скотом, дает выдержка из отчета по Тамбовской губернии за 1916 год: «Зимний уход за скотом следующий: рано утром задается сено, затем в 9 часов утра — яровая солома, в 11 часов дня — свекла, жмых, отруби, в 5 дня опять свекла, жмых, отруби, вечером яровая солома. Водопой в 6–7 часов утра и вечером. Чистка хлева производится с 4 до 5 дня»
{172}.
Велика была роль крестьянки в кустарном производстве. В тех местах, где имелись конопляники или посевы льна, в ее обязанности входили уборка, вымочка, сушка и другие операции, необходимые для производства пеньки и сукна
{173}. С осени до самой весны бабы пряли сукно и холст. Этот процесс был долгим и трудоемким. Полгода порой уходило, чтобы приготовить холст. Коноплю надо было собрать и высушить, затем вымочить и снова высушить. Для выделения кострика ее толкли в специальных ступах, расчесывали, пряли нитки, выбеливали. В доме стояла мелкая удушливая пыль, сильно раздражающая дыхание
{174}.
В селах Павловского уезда Воронежской губернии в зимнюю пору женщины вязали шерстяные чулки, ткали кушаки, которые потом сбывали на ярмарках Войска Донского по цене от 80 копеек до 2 рублей
{175}. Вплоть до начала XX века крестьянская одежда в большинстве своем изготавливалась из домотканого сукна.
Нелегким был труд крестьянки. Помимо упомянутых полевых работ на ее плечах лежали обязанности по уходу и содержанию скота, приготовлению пищи, уборке избы и стирке одежды. Каждая баба в селе должна была не только держать огород, но и по окончании уборки овощей произвести рубку капусты, выборку картофеля. Сельские женщины производили все необходимые для семьи заготовки на зиму: солили огурцы, квасили капусту, сушили грибы и пр. Хозяйка следила за тем, чтобы все домочадцы имели необходимую одежду, а в случае необходимости занималась ее починкой. В круг обязанностей женщины входило также приготовление пищи для всей семьи. Наиболее тяжелым днем у женщин была суббота. В этот день топили баню или мылись в печи, убирали помещение, стирали
{176}.
Вот как современник описывает обычный день крестьянки: «Возьмем, например, один бабий зимний день в нашей черноземной полосе. Встает хозяйка очень рано в 4–5 часов утра и при свете керосинового ночника начинает ткать или прясть — она обязана одеть семью своим домашним холстом. После нескольких часов работы в неловком сидячем положении баба идет по воду, тащит в гору по два ведра на коромысле. Дома нужно что-нибудь состряпать на завтрак, нужно подоить коров, покормить маленьких детей, затем стряпанье обеда. Хорошо, если не надо печь хлеб, а то приходится замесить пуда два муки, размешать их как следует. Далеко не каждому под силу вымесить дежу с хлебным тестом. После обеда стирка белья на реке или в пруду. Нелегко вымыть и выстирать посконную рубаху, грязную до последней степени, выстирать без мыла. Да и прежде, чем полоскать белье на реке, его нужно выпарить в горячей печи, вставляя и вынимая рогачом чугуны — так до глубокой ночи. Вечером после заботы об ужине, кормежке детей и уборке скотины — баба снова садится прясть и ткать. На сон остается 3, максимум 4 часа»
{177}.
Основной домашней обязанностью крестьянок было приготовление пищи. Во время, о котором идет речь, этот процесс был крайне трудоемким. С одной стороны, большинство употребляемых в пищу продуктов требовало дополнительной обработки (варки, жарки, квашения и т. д.). Крестьянки выпекали хлеб, рубили и солили овощи, готовили домашний творог, масло и т. д. С другой стороны, умение распорядиться подчас скудными семейными запасами, чтобы накормить семью, являлось жизненной необходимостью для большинства крестьянских хозяйств. Много времени отнимали растопка печи и ношение воды.
Женщины свободного времени почти не имели, только вечером, после дойки коров, они освобождались от домашних работ. В это время они выходили на час-полтора за ворота, усаживались на скамейках, «завалинках» или бревнах около домов, встречались с соседками, говорили о хозяйственных нуждах, смотрели, как гуляет и веселится молодежь. Зимой они ходили друг к другу «калякать» на посиделки.
В селе существовало четкое разделение работ на «мужскую» и «женскую». Выполнять мужчине, даже мальчику, работу по дому считалось зазорным. Жители села в повседневной жизни старались придерживаться этих неписаных правил из-за боязни осуждения и насмешек со стороны односельчан. Нарушение правил допускалось для холостяков, вдовцов.
Сфера женского труда в крестьянской семье не ограничивалась работами во дворе, производством тканей и одежды, приготовлением пищи, сбором ягод и грибов. Зачастую женщина выполняла и многие мужские работы. В первую очередь это касалось крестьянок в малых семьях, где в конце пореформенного периода наметился отток мужчин на заработки в другие губернии. Если муж находился в отхожем промысле, был призван на действительную службу или мобилизован на войну, все хозяйственные работы исполняла женщина.
По мере развития рыночных отношений в России женский труд получил оценку в денежном эквиваленте и был востребован на рынке труда. Крестьянки нанимались для выполнения сельскохозяйственных работ, участвовали в кустарных промыслах, реже — уходили в города. Из разных губерний шли сообщения, что убрать урожай удалось исключительно благодаря работоспособности женщин.
В работе Н. А. Скворцова «Война и мирные завоевания женщины», изданной спустя несколько месяцев после начала Первой мировой войны, говорится, что Россия не знала еще такого небывалого применения женского труда. «Ушедших на войну мужчин и парней с полным успехом заменили бабы и девки… В деревнях, главным образом, женщины взяли на себя труд оказания помощи семьям, которые, благодаря войне, остались без кормильца: таким семьям помогли убрать урожай девки из дворов односельчан. В настоящее время поступают сообщения, что и реализация урожая в нынешнем году производится женщиной… Старосты, сотские и другие чины деревенской администрации призваны, и, пока были назначены выборы, за ушедших исполняли все их административные обязанности женщины с полным знанием дела»
{178}.
 Уборка льна в Тамбовской губернии. Начало XX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
Уборка льна в Тамбовской губернии. Начало XX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
 Уборка сена крестьянками Ивановской волости Тамбовской губернии. Начало XX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
Уборка сена крестьянками Ивановской волости Тамбовской губернии. Начало XX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
Таким образом, потеря мужских рабочих рук в деревнях вела к быстрой феминизации сельскохозяйственных работ. По сообщениям газет, «некоторые солдатки, не имеющие работников, сами пашут, сеют, косят и мечут сено в стога. Вся мужицкая работа исполняется ими»
{179}. Эти женщины имели право голоса и на сходах, которые в период войны часто становились «бабьими сходами».
Изменения в сознании сельских тружениц привели к росту их самооценки, а это, в свою очередь, способствовало большей свободе в выборе супруга и распоряжении своим трудом. Женщины стали активно выступать за семейные разделы, которые вели к малой, более демократичной форме семьи. Но и в больших патриархальных семьях роль женщины постепенно возрастала.
Обиход и гигиена
Русские крестьяне были весьма непритязательными в домашнем обиходе. Постороннего человека поражал аскетизм внутреннего убранства их жилищ. Большую часть комнаты занимала печь, служащая как для обогрева, так и для приготовления пищи. В 1892 году в селе Кобельке Богоявленской волости Тамбовской губернии из 533 дворов 442 отапливались «по-черному» и только 91 — «по-белому»
{180}. По подсчетам доктора медицины В. И. Никольского, обследовавшего медицинское и санитарное состояние жителей Тамбовского уезда, на каждого члена семьи, состоящей из семи человек, приходилось всего лишь 21,4 кубического аршина воздуха. В зимнее время воздух в избах был переполнен миазмами и чрезвычайно сильно нагрет
{181}.
Санитарное состояние крестьянского жилища зависело прежде всего от того, каков в нем был пол. Если пол имел деревянное покрытие, то в избе было относительно чисто. Земляные полы застилали соломой, на которую дети и больные члены семьи отправляли свои естественные надобности; по мере загрязнения солому меняли. О санитарных требованиях русские крестьяне имели смутное представление.
Полы, в большинстве своем земляные, служили источником грязи, пыли и сырости. Зимой в избах содержался молодняк скота — телята и ягнята, следовательно, о какой-либо опрятности не могло быть и речи
{182}. Семинарист А. Соболев, выходец из Тотемского уезда Вологодской губернии, в своем отчете в Этнографический фонд за 1898 год так описал состояние жилища местных крестьян: «Изба служит и кухней, и спальней, и скотней, где живут куры, часто телята и ягнята, иногда даже коровы, особенно больные, а пол моется раз в год… В избе постоянно такой специфический запах, который свежего человека может легко довести до тошноты и вперед не позволит зайти в крестьянскую избу»
{183}. Схожее суждение о санитарном состоянии крестьянского жилища содержится в исследовании А. И. Орглерта: «В хатах зимой помещаются молодые телята, приплод от овец и поросят, которые пропитывают земляной пол мочой и извержениями, делая атмосферу крестьянского жилища ниже всякой критики»
{184}. Приверженность крестьян к традиционному типу жилища и функциональному назначению его помещений представители просвещенного общества усматривали в присущем жителям села консерватизме. Сельский священник сетовал в газетной статье: «Сколько вы, например, ни рассказывайте мужичку, даже богатому, о пользе для здоровья чистого воздуха в избах зимой, как ни убеждайте его о необходимости вентиляций, о больших окнах, о высоких потолках, он все же будет верно думать: «Все равно телята и ягнята загрязнят и продушат избу»
{185}.
Чистота сельской избы зависела от частоты и качества уборки помещения. Дом крестьянки мели два раза в день, утром и вечером. Правда, в страдную пору уборку производили реже. Полы, как правило, мыли перед двунадесятыми или престольными праздниками, то есть не чаще, чем один-два раза в месяц. Обязательной являлась генеральная уборка перед Пасхой, в ходе которой не только скребли полы, но и очищали от грязи стены, потолок, мыли столы и лавки. В качестве средства очищения поверхностей от грязи в русском селе использовали речной песок.
В каждой избе были стол и лавки вдоль стен. Иная мебель практически отсутствовала. Не во всех семьях имелись скамейки и табуретки. Спали обычно зимой на печах, летом — на полатях. Чтобы было не так жестко, стелили солому, которую накрывали дерюгой. Как здесь не вспомнить слова воронежского поэта И. С. Никитина:
Невестка за свежей соломкой сходила,
На нарах в сторонке ее постлала, —
К стене в изголовье зипун положила.
О чистоте постелей в сельских избах можно говорить только относительно. Часто постелью служил «соломенник», то есть мешок, набитый ржаной или яровой соломой. Солома эта не менялась иногда по целому году, в нее набиралась масса пыли и грязи, заводились клопы
{186}. Почти не было постельного белья, лишь подушки иногда одевались в наволочки, но подушки были не всегда. Простыню заменяло рядно, домотканая подстилка, а одеяло не знало никаких пододеяльников.
Не было в сельском быту и надлежащей гигиены питания. Пищу в крестьянских семьях, как правило, употребляли из общей посуды, столовых приборов практически не знали, пили из кружек по очереди. Посуду крестьяне после приема пищи не мыли, а только ополаскивали в холодной воде и ставили на место. Настоящим образом посуда мылась не более одного-двух раз в год
{187}. По сообщению из Олонецкой губернии, «посуду, есть досуг вымыть, вымоют, а то больше так: уберут со стола, и лежит она грязная до новой надобности, а там сполоснут — и баста»
{188}. Дефицита воды в русских деревнях не было, но ее доставка из колодца для бытовых нужд всегда была делом трудоемким.
В уборных вода не употреблялась: отхожее место строилось или во дворе (в средней полосе и на юге), или в северных деревнях — в хлеву, соединенном с избой одной крышей (предусмотрительно: не страшны бури и снегопады). «Строилось» — слишком громко сказано: обычно это была легкая отгородка от глаз домашних, а иногда и таковой не было. Отхожие продукты бросались лопатой в навоз (потом все шло на удобрения), и место освобождалось для следующих операций. Конечно, не было не только туалетной, но и вообще никакой бумаги: использовались сено, солома, травка, иногда даже палочки от плетня
{189}. А в ряде сел и уборных не было. Так, в воронежских селах отхожих мест не устраивали, а «человеческие экскременты были рассеяны по полям, на дворах, задворках и пожирались свиньями, собаками, курами»
{190}.
Этнографические источники конца XX века содержат сведения о наличии в крестьянских избах вредных насекомых: тараканов, клопов, блох. Можно сделать вывод о том, что они являлись неизменными спутниками сельского быта. Для борьбы с тараканами крестьяне прибегали к достаточно простому, но эффективному способу — их вымораживали. В зимнюю пору семья переставала топить печь, а сама перебиралась жить на два-три дня к соседям. С целью избавиться от клопов крестьяне прибегали к различным приемам. Их выкуривали «баганом», отпаривали кипятком, мазали щели керосином
{191}. В селах Калужской губернии для уничтожения клопов употребляли папоротник, который развешивали по стенам избы; против блох использовали полынь, ее клали в постель; тараканов травили бурой, подсыпая порошок в молочную кашу
{192}.
По свидетельству корреспондентов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева, «избы крестьян полны всякого рода насекомых, как-то: тараканами, клопами и блохами; на самих же крестьянах иногда бывают и бельевые вши»
{193}. Головная вошь — обычный спутник всего населения; особенно их много водится на детях. Бабы в свободное время «ищут друг у друга в голове»
{194}. Мать, лаская своего ребенка, непременно поищет в его волосах паразитов
{195}. В путевых заметках А. Н. Минха находим наблюдение автора о любимом занятии крестьянок одного из сел: «Баба деревянным гребнем, употребляемым для расчески льна, роется в голове другой, а частое щелканье доказывает изобилие насекомых в волосах наших русских женщин»
{196}.
По причине грязного белья, особенно в летнюю пору, заводились бельевые, или, как их называли в деревне, «партяные», вши. Их уничтожали посредством выжарки белья в печи
{197}. В летнюю пору крестьян одолевали блохи, даже Петров пост мужики называли блошиным постом. В этот период в вологодских деревнях можно было наблюдать такую картину: «В избе сидели мужик и баба, совершенно голые, и занимались ловлей блох, нимало не стесняясь, — так принято и ничего здесь нет предосудительного»
{198}.
Традиционным средством поддержания чистоты тела в русской деревне была баня, но бань при этом было катастрофически мало. По сведениям А. И. Шингарева, в начале XX века бань в с. Моховатке имелось всего две на 36 семейств, а в соседнем Ново-Животинном — одна на десять семейств. Большинство воронежских крестьян, по подсчетам автора, мылись раз-два в месяц в избе в лотках или просто на соломе
{199}. По сообщению из Костромской губернии за 1899 год: «В бане моются каждую субботу, по несколько семей за раз, мужчины и женщины вместе»
{200}. В тех местностях, где бани отсутствовали, крестьяне парились вечером в печах, протопленных с утра. В печи стелили солому; залезши внутрь, кропили мокрым веником на стенки для достижения пара. По окончании процедуры окатывали себя теплой водой, стоя у лохани, и вытирались полотенцем
{201}.
Этнографические источники дают основания утверждать, что традиция совместного мытья в бане сохранялась в ряде русских деревень и в конце XIX века. Как пишет корреспондент тенишевского бюро, в с. Колицко и Большой Двор Онисимовской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии «мужчины и женщины, даже и девушки не стесняются вместе мыться. Нальют в корыто воды и все с одного корыта и моются. Я спросил у крестьян: «Давно ли у вас этот обычай взят?» — «Испокон веку»
{202}. Крестьяне, жители Кадниковского уезда Вологодской губернии, «еще и по настоящее время (1898 год) ходят мыться в баню все вместе, не различая пола и возраста. Вытопят одну баню в деревне и идут в нее мыться все желающие: женатые мужики, их жены, а вместе с ними и молодые парни и девки»
{203}.
Купаться в открытых водоемах в русской деревне не было принято. Да и температура воды делала купальный сезон кратким. Крестьяне никаких купален не делали, а так как до XX века было принято купаться нагишом, то женщины очень редко пользовались водоемами, да и мужчины почти не купались. Бултыхаться в воде было уделом ребятишек.
Личная гигиена у крестьян практически отсутствовала. Умывались деревенские жители один раз утром, и то без мыла, а в течение дня — только когда слишком перепачкаются на работе
{204}. Мыла крестьяне практически не знали, и если его приобретали, то использовали исключительно для мытья головы детям. В качестве же моющего средства традиционно использовали щелок, который изготавливали следующим образом: в чугун клали золу и наливали некоторое количество воды, затем туда опускали раскаленные камни, и накрывали крышкой
{205}.
Не было и необходимой чистоты носильных вещей. Корреспондент тенишевского бюро из Пошехонского уезда Ярославской губернии делился своими наблюдениями: «Белье меняется весьма редко вследствие экономии. Простирывается белье крайне плохо и неумело»
{206}. Или вот информация из Мещовского уезда Калужской губернии, согласно которой крестьяне «рубахи меняют очень редко; иногда чуть ли не два месяца носят одну рубаху и портки; вымоют в холодной воде, поколотят вальком и опять наденут»
{207}. Нижнего белья (трусов, лифчиков) крестьяне не знали. Маленькие дети вне зависимости от пола бегали в рубахах. Мальчикам постарше надевали штаны с вырезом в паху для удобства отправления естественных надобностей. Юбки девушки начинали носить в пятнадцать лет
{208}. С наступлением регул сельские девушки укладывали между ног кусок материи, который крепили к поясу. По мере загрязнения его полоскали в воде, отбивая рубелем, а после сушки использовали вновь.
 Купание в реке. Начало XX века
Купание в реке. Начало XX века
Женская собственность
Семейно-имущественные отношения в среде крестьянства были подчинены необходимости обеспечить функционирование крестьянского двора как хозяйственной единицы. Исходя из этой задачи, нормы обычного права русской деревни рассматривали семейное имущество как единое целое, игнорируя имущественные права отдельной личности. Это было следствием исторически сложившегося государственного подхода к крестьянской семье как к тягловой единице, где неделимая семейная собственность являлась главным условием благосостояния хозяйства и его платежеспособности. Государство стремилось закрепить семейный надел и необходимый сельскохозяйственный инвентарь в потомственной собственности всего крестьянского двора, лишая при этом права личной собственности как самого домохозяина (большака), так и отдельных членов семьи. Как пишет юрист Ф. Ф. Барыков, исследовавший порядок наследования в русской деревне, «крестьянское имущество есть общая принадлежность дома, семьи, находящаяся в заведовании домохозяина; отдельной личной собственности у членов семьи почти нет, и потому по смерти их наследство не открывается»
{209}.
Заведовал общесемейным имуществом большак, который извлекал из него доход и производил расходы на нужды всей семьи, но, как уже говорилось, обычай воспрещал домохозяину предпринимать важнейшие распорядительные действия без согласия всех взрослых членов семьи. Это ограничение преследовало цель не допустить разорения хозяйства. В случае неплатежеспособности двора сельское общество также ограничивало домохозяина в его действиях по распоряжению семейным имуществом
{210}.
Ни один из членов семьи не мог указать точно свою долю в собственности крестьянского двора, которую, пожалуй, можно даже определить как собственность артельного типа ввиду того, что во владение ею были включены не только родственники. но и другие работники (приемыши, зять-примак), ставшие членами семьи. В своих записках (1905 год) владелец имения в Орловской губернии сенатор Н. А. Хвостов так определял природу собственности крестьянской семьи: «В крестьянском самосознании имущество двора всегда понималось как принадлежащее всей семье. Иначе быть не могло. Весь уклад крестьянских семей, все порядки семейной жизни основаны на трудовом начале. Если дети будут знать, что у них нет никаких прав на общее имущество двора, то ни один из них не станет отдавать свой заработок отцу. Крестьянская семья — это рабочая артель, связанная кровными узами, мальчик с малых лет начинает зарабатывать для дома»
{211}.
Глава крестьянского двора зорко следил за тем. чтобы все денежные средства, получаемые членами семьи, шли в общую казну. С сыновей-отходников отец, отправляя их на заработки, брал обещание, что они каждую полученную копеечку будут отправлять домой. Если этого не происходило и сын не посыпал семье заработанных денег, отец мог лишить его доли наследства. В этом находил свое выражение принцип трудового участия каждого члена семьи в формировании артельной крестьянской собственности.
Крестьянки обладали достаточно широкими имущественными правами, что обеспечивалось их трудом в семье. Знаток обычного права Е. Т. Соловьев на основе изучения народного быта вынес однозначное суждение: «Обычай относительно бабьего добра ясно указывает на то, что русская женщина есть самостоятельная имущественная единица»
{212}.
По крестьянской традиции собственностью бабы признавалось ее приданое. Оно в сельском быту рассматривалось как награждение члена семьи, выходившего навсегда из ее состава. Содержание сундучка («коробьи») невест было схожим. Там находились платки, ситец, кружева, чулки. Приданое вкупе с «кладкой», то есть с вещами (реже деньгами), подаренными на свадьбе, считалось в деревне собственностью женщины и было для нее своеобразным страховым капиталом. Земский начальник А. Новиков замечал: «Почему у бабы страсть собирать холсты и поневы? Деньги всякий муж при случае отнимет, т. е. выбьет кнутом или ремнем, а холстов в большинстве случаев не трогают»
{213}.
На женскую собственность сельской традицией было наложено табу, она считалась неприкосновенной. «Даже в самые лютые периоды выбивания податей, когда в соседнем Ливенском уезде в начале 90-х годов полиция продавала хлеб из запасных магазинов, последних лошадей и коров, и даже где-то захватывала и продавала муку, данную от Красного Креста, то и там, при всей этой оргии, не слышно было, чтобы становые и урядники где-нибудь покусились на сундучки девочек-подростков», — отмечал в своих записках сенатор Н. А. Хвостов
{214}.
«Нажитая вне хозяйства», а в документах — «благоприобретенная» собственность женщины не могла входить в семейный раздел. Однако это не всегда учитывалось противной стороной. Так, крестьянская вдова Ирина Зорина в 1880 году подала жалобу на своего деверя, который после смерти брата отказался выдать вдове те самые «нажитые вне хозяйства» вещи и часть ее приданого. Волостной суд постановил: «…сказанные вещи выдать вдове Зориной, чтобы жить в отделе от деверя ее Прохора Степанова Зотова»
{215}.
Согласно деревенской традиции, снохе разрешалось иметь отдельное имущество. Оно могло состоять из скотины, двух-трех овец или телка, а также денег, собранных на свадьбе
{216}. Это приданое не только обеспечивало ее необходимой одеждой, но и выступало источником небольшого дохода. Средства, полученные от продажи шерсти с овцы и приплода, шли на ее личные нужды. В некоторых местах, например в селе Осиновый Гай Кирсановского уезда Тамбовской губернии, жены имели даже свою недвижимую собственность — землю, от трех до восемнадцати десятин, и самолично распоряжались получаемым с нее доходом. По крестьянскому обычаю, снохам отводили полоску для посева льна, конопли или выделяли пай из семейного запаса шерсти, конопляного волокна. Из этих материалов они изготавливали себе, мужу и детям одежду
{217}. Часть произведенного сукна могла быть продана.
Домохозяин не имел права посягать на «бабьи заработки», то есть средства, полученные от продажи грибов, ягод, яиц
{218}. В деревне говорили: «У баб наших своя коммерция: первое — от коров, кроме того, что на стол подать, — остальное в их пользу, второе — ото льна: лен в их пользу»
{219}. Заработок от поденной работы, произведенной в нерабочее время с согласия главы крестьянского двора, также оставался в распоряжении женщины. При этом сноха должна была самостоятельно удовлетворять свои потребности и нужды своих детей. По существовавшей в русской деревне традиции из общесемейных средств на сноху, кроме питания и снабжения ее верхней одеждой, не тратилось ни копейки. Все остальное она должна была приобретать сама
{220}. Приданое, а также все нажитое женщиной в браке при семейном разделе не делилось
{221}. По обычному праву приданое, являясь отдельной собственностью женщины, после смерти переходило ее наследникам.
Имущественные споры если и возникали в крестьянской семье, то после смерти одного из супругов. Спор о праве собственности на имущество мужа или жены разрешался волостным судом следующим порядком: в случае смерти жены все ее мер, одежда и обувь), — оставалось родителям жениха и могло быть использовано в качестве «кладки» для второй жены при повторной женитьбе. В случае же смерти мужа кроме одежды мужа у жены ничего не отбиралось, потому что купленное на деньги мужа имущество составляло плату «за потерю девичьей чести»
{222}.
Имущественные права женщин, не способных возглавить крестьянское хозяйство (незамужние дочери, сестры, тетки, бездетные или имевшие только дочерей снохи или невестки), были существенно ограничены. Они, по нормам обычного права, не имели доли в общей семейной собственности. Если кто-либо из них желал выделиться и жить самостоятельно, то им предоставлялся самый минимум имущества, размер которого зависел от различных обстоятельств и заранее нигде не фиксировался. Бездетная вдова чаще всего не получала части имущества, следовавшей ее мужу, а возвращалась в родительский дом. Семья мужа была обязана возвратить ей только приданое, если она его с собой принесла
{223}.
Общая семейная собственность — основная особенность обычного права русских крестьян. Наследование выражалось в распределении общего имущества, а не в переходе права собственности
{224}. По смерти домохозяина (большака) все имущество двора становилось общей собственностью его сыновей, если они оставались жить вместе — одним хозяйством, или делилось ими поровну, если они расходились врозь
{225}. Если один из братьев, живущий нераздельно с отцом, умер еще при его жизни, то при разделе племянникам выделялась часть, какая следовала бы умершему брату
{226}.
Традиционный порядок наследования имущества крестьянского двора приведен в ответах корреспондента Этнографического бюро В. П. Каверина. Житель с. Костино-Отдельце Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в 1900 году сообщал: «Отцовский дом и все хозяйство по смерти отца достаются всем братьям поровну… Не участвуют в наследстве замужние дочери, а также дочери-вдовы, хотя бы они после смерти мужей жили при отце»
{227}. По обычаю крестьян деревень Волховского уезда Орловской губернии, при распределении наследства хата доставалась младшему брату, а старший должен был выстроить новую избу. За уступку дома и усадьбы младший брат расплачивался со старшим постройкой, скотиной или деньгами
{228}.
Нормы обычного права, когда дело касалось наследования имущества крестьянского двора, в отношении мужчин и женщин принципиально различались. Женщина вообще не рассматривалась как член двора, поскольку женщины «семьи продолжать не могут»
{229}. Поэтому женщина не получала никаких владельческих прав, пока в семье оставались мужчины.
Отношение к вдовам варьировалось в зависимости от местности: в одних областях вдова становилась главой двора и полностью наследовала все имущество, в других — не получала никаких имущественных прав. Главным фактором при определении вдовьих владельческих прав было наличие или отсутствие малолетних детей
{230}. Так, по обычаю крестьян Тамбовской губернии, жена после смерти мужа, если не было детей, становилась единственной владелицей всего имущества, в том числе и усадьбы. Для признания ее права на наследство не требовалось письменных актов — жена просто владела имуществом после смерти супруга
{231}. Вдова при совершеннолетних детях оставалась жить в доме, и дети были обязаны ее содержать. Если она желала жить отдельно, то ей должны были выстроить жилое помещение («келью») и давать «отсыпное» (то есть кормить) до смерти
{232}.
Дочери по смерти отца при наличии сыновей недвижимого имущества не получали; это отмечено большинством исследователей русской деревни. По наблюдению цивилиста А. Х. Гольмстена, «дочери наследуют лишь движимое имущество и делят его поровну»
{233}. Дело в том, что они должны были оставить семью по выходе замуж и поэтому им доставалось только такое имущество, которое не является органической частью хозяйства, — приданое
{234}.
Молодые незамужние дочери, согласно общему правилу, могли при наличии доброй воли братьев получить часть наследства; с братьями же они жили до замужества и получали от них приданое. В Борисоглебском уезде Тамбовской губернии встречался такой обычай в наследовании: если по смерти хозяина оставалась дочь — девица в возрасте невесты (16–20 лет), то она получала от братьев десятую часть движимого имущества. Если же она перешагнула этот возраст, то она получала в наследство уже значительно больше — пятую или шестую часть
{235}. Старые девы («вековуши») за свой трудовой вклад получали от братьев жилье и пропитание. При отсутствии у умершего домохозяина сыновей его имущество обыкновенно переходило к незамужним дочерям, включая даже надельную землю, если женщины могли справиться с хозяйством и уплачивать налоги
{236}. В 1916 году жительница д. Марьинки крестьянка Булычева просила Казыванский волостной суд Тамбовского уезда признать ее наследницей движимого и недвижимого имущества умерших родителей. Суд иск удовлетворил
{237}.
Вдовец из имущества умершей жены получал только постель, а остальное имущество возвращалось ее родителям; если же после нее оставались дети, то все имущество переходило к ним
{238}.
Если вдовая сноха имела сына, то она наследовала всю часть имущества, которая полагалась ее умершему мужу. Но если она имела девочек, то часто ничего не наследовала; в лучшем случае она получала лишь седьмую часть доли мужа
{239}.
Побои мужа и «ласки» свекра
Побои
Одной из неприглядных сторон обыденности крестьянки было семейное насилие. Современники, представители образованного общества, много и не без основания писали о семейном гнете, возмущались, и справедливо, грубостью нравов, царивших в крестьянской семье. Но так ли оценивали свое положение сами крестьянки? Есть основания утверждать, что всевластие мужа воспринималось без сопротивления. С детства девушка видела обращение отца с матерью, помнила ее неоднократные наставления о покорности в грядущем замужестве. Была свидетелем, возможно не единожды, сцен публичной расправы над строптивыми женами. Сельская баба воспринимала побои со стороны мужа как должное, как жизненный крест, который следует смиренно нести. По свидетельству А. И. Шингарева, «один маленький, захудалый мужик колотил здоровую и рослую жену следующим образом: «грозный» муж взбирался на лавку, покорная жена подходила к нему и он бил ее по щекам»
{240}.
С точки зрения норм обычного права побои жены не считались преступлением. Рукоприкладство в деревне было чуть ли не нормой семейных отношений. «Бить их надо — бабу да не бить, да это и жить будет нельзя». Мужик бил свою жену беспощадно, с большей жестокостью, чем собаку или лошадь, — например, за то, что жена скажет поперек, или из-за ревности. Били палкой, и рогачом, и сапогами, ведром — в общем, чем попало
{241}.
Информация о фактах домашнего насилия содержится, как ни странно, даже в погребальных причитаниях русских женщин. В отличие от античной традиции (о мертвых или хорошо, или ничего) в посмертном плаче крестьянок содержится и негативная оценка умершего. Вот один из таких примеров:
По царевым кабакам да находилася,
У питейных я домов да настоялася,
Я завыручку глядела — надрожалася,
Называлась свою надежицу, накланялась,
Я бесчестьица, победнушка, наслухалась,
Уж я смертных побоев натерпелася…
{242}
Безотчетная власть мужа над женой отразилась в народных поговорках: «Бью не чужую, а свою»; «хоть веревки из нее вью»; «жалей, как шубу, а бей, как душу»
{243}. Этот варварский обычай, шокировавший просвещенную публику, в деревне был делом обыденным. Мужики в семейных побоях особой проблемы не видели. «Баба живуча как кошка, изобьешь так. что посинеет вся, ан смотришь, отдышится»
{244}, — говорили они, как бы оправдывая свою жестокость по отношению к женам.
Если муж бывал пьян, побои часто превращались в истязания. Вот что по этому поводу писал современник: «Чем попало пьяницы бьют своих жен. Бьют кулаками, палками, кнутом, веревками, бросаются ножом и калечат, грызут зубами, выбивают глаза, перебивают руки, ноги, делают вывих, ломают ребра, выбивают зубы, челюсти, пробивают головы до самого мозга, вырывают волосы целыми прядями, привязывают к стене, запирают в скотный сарай на ночь. Обезумевшие от вина с пеной у рта, калечат собственных детей, режут их, сжигают на огне, ругают бранными словами своих матерей и отцов, наносят им увечья, часто забивают насмерть»
{245}.
Как правило, в семейной расправе помимо мужа принимали участие и другие домочадцы. Вот что записано в Курском окружном суде со слов крестьянки Цуркиной о нанесенных ей побоях: «Ее муж Иван и его дед Филипп Цуркин наносят ей побои палками, рогачом и плетью, что однажды, привязав ее сволоку потолка косами, так что ноги ее не доставали пола, муж придерживал ее, чтобы она не оборвалась, а дед порол ее полчаса плетью, так что из спины сквозь рубаху и фуфайку текла кровь, а потом и муж стал ее бить и бил ее до тех пор, пока у нее не оборвались косы»
{246}.
В патриархальной семье решение о наказании «провинившейся» принимали сообща, а мужчины приводили его в действие. В. В. Тенишев в своем исследовании дает пример такой семейной расправы: «Свекровь застала невестку в соитии с холостым братом мужа. На семейном совете порешили наказать «гулену». Муж, свекровь и старший брат попеременно избивали ее плетью. В результате истязания несчастная более месяца лежала при смерти»
{247}. Иной раз для жестоких побоев было достаточно лишь подозрения женщины в супружеской неверности. «Мать и сын в течение нескольких дней били беременную невестку. После очередного избиения она «выкинула» ребенка и сошла с ума»
{248}.
Порой жесткого истязания женщины «домашним» казалось мало, и они прибегали к ее публичному «осрамлению». Так, в Горельский волостной суд Тамбовской губернии с жалобой на мужа в марте 1872 года обратилась крестьянка Д. Она заявила, что муж ее Сергей Антонов Бетин ни за что избил ее, изорвал на ней рубаху, юбку и много вырвал волос. Через два дня свекор, деверь и муж насильно вязали ей руки в овчину и так водили по селу. Суд приговорил виновного к семи дням ареста
{249}.
Таким образом, наказание женщины в патриархальной крестьянской семье не было частным делом мужа. Если вина бабы затрагивала честь семьи, бросала тень на ее репутацию, то большак и родня считали себя вправе судить и наказывать виновную.
В сельской повседневности поводов для семейного рукоприкладства всегда было более чем достаточно. «Горе той бабе, которая не очень ловко прядет, не успела мужу изготовить портянки. Да и ловкую бабу бьют, надо же ее учить»
{250}. Такая «учеба» в селе воспринималась не только как право, но и как обязанность мужа. Крестьяне говорили, что если «бабу не учить — толку не видать». О живучести таких взглядов в селе свидетельствуют данные по Больше-Верейской волости Воронежской губернии, собранные краеведом Ф. Железновым. В своем исследовании за 1926 год он приводил результаты ответов крестьян на вопрос «Надо ли бить жену?». Около 60 процентов опрошенных
ответили утвердительно, считая это «учебой»
{251}.
Часто такое «обучение» жен заканчивалось трагически. В местных газетах того времени периодически появлялись сообщения о скорбном финале семейных расправ. «Тамбовские губернские ведомости» в номере 22 за 1884 год сообщали, что «в д. Александровке Моршанского уезда 21 февраля крестьянка, 30 лет от роду, умерла от побоев, нанесенных ей мужем»
{252}. Избиение мужьями жен даже беременных, или, как говорили в селе, «на сносях», было явлением, к сожалению, нередким. «22 октября 1882 года крестьянин с. Большое Городище Корочанского уезда Петр Бидин нанес тяжкие побои своей жене Клавдии Васильевне Бидиной, которая, будучи беременной, в тот же вечер произвела выкидыш», — сообщал корреспондент «Курских губернских ведомостей»
{253}.
Факты рукоприкладства в крестьянских семьях с завидной регулярностью регистрировались в губернских сводках о происшествиях. Из полицейских отчетов только за один год узнаем: «В д. Карандаковой Мценского уезда Орловской губернии 2 февраля 1879 г. крестьянин Емельянов нанес своей жене Пелагее тяжкие побои, от чего последовал выкидыш мертвого младенца, а сама она умерла»
{254}; «В д. Мало-Никольской Челябинского уезда Оренбургской губернии крестьянин Петр Малышев 26 января 1879 г. убил поленом свою жену Устинью»
{255}; «Крестьянка с. Широкомасов Темниковского уезда Тамбовской губернии Агафья Дмитриева, 28 лет, скоропостижно умерла 16 февраля 1879 г. от побоев, нанесенных мужем в нетрезвом виде»
{256}.
Спустя два десятилетия ситуация не изменилась. Сводки, поступавшие из великорусских губерний в начале XX века, изобилуют примерами подобного рода. «В с. Лебяжьем Ставропольского уезда Самарской губернии 4 января 1900 г. крестьянин Федор Майнаков нанес жене своей Татьяне Яковлевой, 55 лет, тяжкие побои, от которых она померла»; «10 января 1900 г. в с. Кузьмищеве Тарусского уезда Калужской губернии запасной канонир из крестьян Герасим Савичев убил поленом свою жену Евдокию Савичеву»; «в д. Новосильской Елецкого уезда Орловской губернии 15 января 1900 г. умерла крестьянка Наталья Баркова от нанесенных мужем ее Михаилом Барковым побоев»
{257}.
Причиной смерти крестьянки часто была банальная житейская ссора, приведшая к семейному скандалу и последующему рукоприкладству. По сообщению уездного исправника от 3 августа 1906 года, в с. Красивом Изосимовской волости Козловского уезда Тамбовской губернии крестьянин Иван Воропаев во время ссоры убил бруском свою жену Александру
{258}. В «Ведомостях о происшествиях по Воронежской губернии за 1912 г.» читаем: «В слободе Бутурлиновке Бобровского уезда крестьянин Коржов, 37 лет, во время ссоры с женой, не пожелавшей жить с ним, нанес последней раны ножом в бок, от чего та умерла»
{259}; «В с. Сторожевом Коротоякского уезда 21 июля крестьянин Чесноков во время ссоры нанес кулаком побои своей жене Дарье, от которых та умерла»
{260}. Из рапорта борисоглебского уездного исправника от 6 февраля 1915 года следует, что «29 января с. г. в 1 час дня в д. Новой Верхне-Шибряйской волости крестьянин Михаил Григорьев Рябов во время ссоры со своей женой Февроньей нанес ей удар по голове дубовым толкачом, от которого она тут же скончалась. Рябов объяснил, что нанес удар жене за ослушание и нежелание исполнить его просьбу, заранее же обдуманного решения не имел»
{261}. По всей видимости, большинство убийств жен, совершенных крестьянами, происходило в состоянии аффекта и вряд ли они носили намеренный характер.
Источником проявления мужской агрессии мог стать отказ жены от половой близости с супругом. Так, крестьянин с. Прасковьина Козловского уезда Тамбовской губернии Сергей Николаев Астахов 25 сентября 1913 года убил жену с особой жестокостью. По словам обвиняемого жена, с которой он прожил двадцать лет, в последнее время к нему охладела. В день убийства он лег с ней для полового сношения, но та оттолкнула его со словами: «Какой ты мне муж?!» По его словам, затем он жену «бил сначала по голове колотушкой, а когда она сломалась, схватил топор и бил ее до тех пор, пока голова ее не превратилась в жидкую кашицу»
{262}.
Еще одна типичная ситуация, касающаяся отношений мужа и жены, раскрывается в деле «о причинении телесных повреждений крестьянке… Анне Родионовой Кураковой ее мужем Кураковым Никитой Федоровым». Уголовное дело выросло из бытовой ссоры. По словам обвинительницы, «вечером после рабочего дня они с мужем легли спать в «каморке» (избушке) на скотном дворе. Там она имела с ним «дело», потом он вдруг стал придираться к ней, говоря, что она ему не нужна, что она «холодная», на что жена ему ответила: «Ищи, какую погорячей», а муж не растерялся и говорит: «Уже найдена». Затем муж стащил жену с постели, поднял рубашку, ударил несколько раз по спине. После этого происшествия Анна ушла от мужа, мотивировав это тем, что перед описанным случаем он бил ее еще три раза»
{263}.
Взгляд обвиняемого ею мужа на ту же ситуацию совершенно другой. После «дела» жена его Анна стала вести себя неблагопристойно и позволила себе оскорблять свекровь, его мать. Он просил ее прекратить, но она продолжала обзывать его самыми «пасквильными словами и этим невольно вынудила его дать ей нравоучение». Поскольку слова не произвели должного эффекта, то он был вынужден взять ремень, которым и «порол ее, сколько ему хотелось»
{264}.
Семейная ссора супругов Колмаковых, крестьян с. Бурнак Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, произошедшая 31 января 1915 года, закончилась убийством жены мужем. На допросе Иван Колмаков, 54 лет, показал, что на его предложение совершить половой акт супруга, Екатерина Колмакова, отказала, назвав его «кобелем». По словам мужа, он только хотел проучить жену за дерзость, но она вырвалась, побежала и, споткнувшись о порог, упала, ударившись боком. По заключению врача смерть женщины наступила в результате кровотечения легких и печени
{265}. Очевидно, что за лукавыми словами женоубийцы скрывалось желание представить смерть супруги как результат несчастного случая.
Другой способ уйти от ответственности, к которому прибегали семейные убийцы, это попытка имитации суицида. Так, 5 февраля 1912 года в с. Верхняя Карачана Новохоперского уезда Воронежской губернии «крестьянин Савельев при ссоре удушил свою жену Татьяну и мертвую повесил в сенях своего дома»
{266}. В с. Роговатом Нижнедевицкого уезда той же губернии 19 мая 1912 года был «обнаружен труп повешенной крестьянки Фоминой 20 лет», в насильственной смерти подозревались ее муж Дмитрий и его мать Евдокия Фомина
{267}. Аналогичное происшествие случилось «в слободе Красненькой Новохоперского уезда 23 июня 1912 г.», где была «обнаружена повешенной крестьянка Дьяченкова, 35 лет»; виновным в ее смерти признали мужа
{268}.
Убийство жены могло быть результатом супружеской измены. По всей видимости, по этой причине «23 апреля 1908 г. в 9 часов вечера в с. Красном Лебедянского уезда Тамбовской губернии крестьянин Андрей Коратеев, возвратившись в этот день из Петербурга, лишил жизни жену свою Марфу Андрееву, 22 лет, утопив ее в сажалке»
{269}. «15 сентября 1911 г. в с. Крестьянском Коротоякского уезда Воронежской губернии крестьянин Петр Васильев убил свою жену Ефросинью. Причина убийства — безнравственное поведение покойной»
{270}.
То, что шокировало стороннего наблюдателя, воспринималось в деревне как обыденное явление. Насилие порождал о насилие, создавало примеры для подражания. Интересное суждение о сельских нравах приводит в своих мемуарах А. Новиков, прослуживший семь лет в должности участкового земского начальника Козловского уезда Тамбовской губернии: «В крестьянской семье более, чем где-либо, проявляется победа грубой физической силы; уже молодой муж начинает бить свою жену; подрастают дети, отец и мать берутся их пороть; старится мужик, вырастает сын, и он начинает бить старика. Впрочем, «бить» на крестьянском языке называется «учить»: муж учит жену, родители учат детей, да и сын учит старика-отца, потому что тот выжил из ума. Нигде вы не увидите такого царства насилия, как в крестьянской семье»
{271}.
Проблема заключалась отнюдь не в особой жестокости русского мужика, а в необходимости следовать традиции, соответствовать образу «грозного мужа». «Крестьянин сознает, что он глава жены, что жена должна бояться своего мужа, вот он и выражает свое превосходство перед нею, внушает ей боязнь, уважение к себе кулаком да вожжами», — делился своими наблюдениями о деревенских нравах священник из Курской губернии
{272}.
Общественное мнение села в таких ситуациях всегда было на стороне мужа. Соседи, не говоря уже о посторонних людях, в семейные ссоры не вмешивались. «Свои собаки дерутся, чужая не приставай», — говорили в селе. Жаловались бабы посторонним очень редко, даже если их били до полусмерти. «Муж больно бьет, зато потом медом отольется»
{273}. То есть и сама женщина относилась к побоям как к своеобразному проявлению любви супруга. Не отсюда ли пословица: «Бьет — значит любит!»?
В объяснении этого явления есть и психологический фактор. Побои жены выступали для мужика компенсатором за унижение, которое он испытывал в повседневной жизни со стороны помещика, чиновника, земского начальника, урядника. Сталкиваясь с произволом «сильных мира сего», ощущая состояние зависимости, крестьянин искал выход негативным эмоциям. Это рождало желание продемонстрировать свою власть, пусть даже в пределах семейного круга.
Такое стремление к самоутверждению принимало порой самые неожиданные формы. Информатор из Орловской губернии в своем сообщении в адрес Этнографического бюро приводил следующий случай: «Муж поспорил, что жена его не посмеет отказаться при всех лечь с ним. Была призвана жена и беспрекословно исполнила требуемое, муж выиграл пари, а мужики даже поднесли и бабе водки «за храбрость»
{274}.
Была ли у сельской женщины возможность оградить себя от рукоприкладства мужа-самодура, защитить свою честь и достоинство? Некоторые женщины пытались найти управу на мужей в волостных судах. Исследователи конца XIX века расходились в оценке эффективности таких обращений крестьянок. Юрист И. М. Красноперов считал, что волостные суды не спешили встать на защиту чести и достоинства женщин, считая это дело семейным. Из 118 случаев побоев мужьями своих жен, зарегистрированных в волостных книгах, приговорами к наказаниям по суду закончились только четыре, да и то не столько за побои, сколько за дебоширство и пьянство
{275}. В то же время, по мнению специалиста в области обычного права С. В. Пахмана, волостные суды не только не уклонялись от разбора дела о личных обидах между супругами, но весьма энергично защищали жен от деспотизма мужей
{276}.
Сложности при разбирательствах дел о домашнем насилии обуславливались круговой порукой и заведомо ложными свидетельскими показаниями, нередко носившими массовый характер. Вот красноречивый пример. В феврале 1880 года крестьянка Дарья Андреева была жестоко избита своим мужем Егором Андреевым за то, что не дала денег на водку. После этого она пришла в дом соседа Ивана Лязгина, где «не могла стоять на ногах, повалилась на пол, попросила «испить водицы», и затем с нею началась агония. Дали знать мужу, он пришел и начал пинать ногами умирающую, упрекая ее в том, что она, старая ведьма, притворяется. Но «притворщица» самым неприятным образом испустила дух».
Когда по факту смерти Дарьи Андреевой началось следствие, волостной старшина Соколов несколько раз выезжал на место происшествия, собирал свидетельские показания, но ничего не смог узнать: «Не только «общественники», но и даже ближайшие свидетели катастрофы: Лязгин (весьма почтенный старец) и все члены его семьи под присягой готовы были утверждать, что Егор Андреев — примернейший супруг в мире, что он с покойной Дарьей Николаевной жил душа в душу, так что даже со стороны на них завидно было глядеть…».
Следствие зашло в тупик. «Все огулом стояли за Андреева», и волостной старшина, расследовавший это дело, под общим давлением совершил подлог документов. Он заменил первый рапорт по факту убийства на другой, где сказано, что крестьянка умерла от сердечного приступа. Однако подлог был обнаружен раньше, чем Д. Андрееву похоронили: окружной врач прибыл освидетельствовать тело, и на его объективное заключение общество повлиять уже не могло. Подобный пример не единичен
{277}.
Многие женщины, будучи не в силах выносить надругательства, уходили в дом родителей. Однако это рассматривалось как нарушение женщиной обычных норм, и поэтому она чаще всего через некоторое время возвращалась в семью мужа, а родители, давшие приют дочери, осуждались крестьянами как потворщики «женского своеволия»
{278}.
Снохачество
Особо следует сказать о таком явлении в жизни деревенской семьи, как снохачество. Надо признать, что половая близость между главой крестьянской семьи (большаком) и снохой не была явлением исключительным, а для патриархального уклада сельского быта в какой-то мере и обыденным. «Нигде, кажется, кроме России, — отмечал В. Д. Набоков, — нет по крайней мере того, чтобы один вид кровосмешения приобрел характер почти нормального бытового явления, получив соответствующее техническое название — снохачество»
{279}.
Наблюдатели отмечали, что этот обычай был жив и в конце XIX века, причем одной из причин его сохранения являлся сезонный отток молодых мужчин на заработки. Так, по наблюдению этнографа А. В. Балова, в это время в ярославских селах «снохачество, или незаконное сожительство свекра со снохой, — явление довольно нередкое»
{280}. Хотя снохачество осуждалось просвещенным обществом, в ряде мест, где оно было распространено, крестьяне не считали его правонарушением
{281} и не придавали ему особого значения. В глазах крестьян снохачество было грехом, но не преступлением. Более того, иногда о снохаче с долей сочувствия говорили: «Сноху любит. Ен с ней живет как с женой, понравилась ему»
{282}.
Иначе снохачество трактовал закон. Даже если половые отношения свекра и снохи не были результатом насильственных действий, то все равно они считались преступными, так как нарушали запрет на сексуальную связь между близкими родственниками, в данном случае по свойству, а следовательно, были не чем иным, как кровосмешением. При этом действующее уголовное законодательство за кровосмешение в первой степени свойства (то есть с тещей или свекром, зятем или снохой) предусматривало наказание в виде ссылки на жительство в Сибирь или отдачу в исправительные арестантские отделения. В лучшем случае обвиняемому выносили приговор о тюремном заключении сроком от шести месяцев до года и лишении прав состояния
{283}. Таким образом, оценка снохачества в обыденном сознании крестьян отличалась от требований официального законодательства.
Причину этого следует видеть в особенностях крестьянского быта. Во-первых, следует упомянуть об обычае ранних браков, чем пользовались отцы, склонные к снохачеству. Они умышленно женили своих сыновей совсем молодыми для того, чтобы пользоваться их неопытностью
{284}. Во-вторых, условия для распространения снохачества в сельской среде создавали отхожие промыслы крестьян. «Молодой супруг не проживет иной раз и году, как отец отправляет его на Волгу или куда-нибудь в работники. Жена остается одна под слабым контролем свекрови»
{285}. Из Волховского уезда Орловской губернии информатор в 1899 году сообщал: «Снохачество здесь распространено потому, что мужья уходят на заработки, видятся с женами только два раза в год, свекор же остается дома и распоряжается по своему усмотрению»
{286}. Автор корреспонденции из Пошехонского уезда Ярославской губернии отмечал, что при господстве в уезде отхожих промыслов молодые люди нередко через месяц или два уезжают на чужую сторону на год, а то и более, как, например, все лица, живущие в услужении в торговых заведениях Петербурга и Москвы
{287}. Аналогичны по содержанию сведения из Медынского уезда Калужской губернии. «Часты случаи в семьях, где молодой муж, работая на фабрике, годами отсутствует или отбывает военную службу, а свекор начинает снохачить самым дерзким и грубым образом»
{288}.
Снохачество было следствием неограниченной власти главы семьи. Пользуясь отсутствием сына (отход, служба), а иногда и в его присутствии свекор принуждал сноху к половой близости. В ход шли все средства: и уговоры, и подарки, и посулы легкой работы. Обычно такая целенаправленная осада давала свой результат. В ином случае уделом молодухи становилась непосильная работа, сопровождаемая придирками, ругательствами, а нередко и побоями
{289}.
Типичный пример приведен в корреспонденции (1899 год) жителя с. Крестовоздвиженские Рябинки Волховского уезда Орловской губернии В. Т. Перькова: «Богатый крестьянин Семин 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сыновей на «шахты», сам остался с двумя невестками. Начал он подбиваться к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно, что свекор в скорости сошелся с невесткой. Далее он начал «лабуниться» к младшей. Долго она не сдавалась, но вследствие притеснения и подарков — согласилась. Младшая невестка, заметив «амуры» свекра со старшей, привела свекровь в сарай во время их соития. Кончилось дело тем, что старухе муж купил синий кубовый сарафан, а невесткам подарил по платку»
{290}.
Схожую ситуацию выбора женщиной выгодной для себя житейской и жизненной стратегии описал информатор из Пошехонского уезда Ярославской губернии: один крестьянин женил сына на молодой красавице, чтобы самому приблизиться к ней, а затем отправил сына на заработки в Петербург. Пока сын отсутствовал, свекор сошелся с невесткой, родился внебрачный ребенок, и отец в итоге заставил сына бросить семью и дом и окончательно уехать в город
{291}.
Жизнь женщин, отказавших своим свекрам в удовлетворении их плотских желаний, по мнению сельского корреспондента из Калужской губернии, становилась невыносимо мучительной
{292}. По словам крестьянки, испытавшей на себе снохачество, в случае отказа свекру тот мстил снохе, наговаривая на нее сыну всякие гадости, будто она имела в его отсутствие связь с посторонними мужчинами
{293}. Специалист по гражданскому праву дореволюционной поры Е. Т. Соловьев в своем труде отмечал, что «когда сноха не желает быть сожительницей свекра, ей достаются от него жестокие побои, арест в подполе, погребе или в холодном амбаре»
{294}.
 Семья в праздничный день. Орловская губерния. 1911 год
Семья в праздничный день. Орловская губерния. 1911 год
Порой снохачи добивались своего, прибегая к грубой физической силе. В сводках о происшествиях по Воронежской губернии за 1911 год находим, что «17 июня в с. Борщеве Коротоякского уезда крестьянин Лаврентий Селезнев изнасиловал жену своего родного сына Прасковью Селезневу»
{295}. Годом ранее находим: «В апреле 1910 г. в слободе Варваровке Бирюченского уезда крестьянин Варфоломей Роговец в клуне изнасиловал свою невестку крестьянку Евдокию Роговец»
{296}.
Снохачество, возможно, вызывалось и другими причинами. Иной раз инициаторами его были снохи, искавшие укрепления своего имущественного и морального положения в большой семье на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств (смерти мужа и проч.). Вот типичное сообщение из Воронежской губернии: «Крестьянин с. Олыпана Утянский 25 октября 1912 г. по обоюдном согласию совершил кровосмешение с невесткой Евдокией»
{297}.
Семейные любовные коллизии не всегда разрешались благополучно и порой приводили к трагическому финалу. Так, по сообщению полиции, 15 апреля 1911 года в с. Горках Коротоякского уезда Воронежской губернии крестьянка Мария Токарева на почве любовной связи отрезала часть полового члена свекру Терентию Токареву
{298}. Доходило и до убийств: по сообщению газеты «Козловская мысль» от 3 октября 1902 года, «крестьянин с. Поповка Подгоренской волости Козловского уезда Тамбовской губернии Филимон Волков убил свою жену за незаконное сожительство ее с его отцом»
{299}. Случай убийства сыном отца-снохача, по информации сельского корреспондента за 1899 год, имел место в с. Бежаницы Псковской губернии
{300}. По сообщению полиции, «20 декабря 1910 г. в с. Баранове-Колодезе Ливенского уезда Орловской губернии крестьянка Матрена Грезова из-за ревности убила рубелем свою невестку Ефросинью Грезову»
{301}. Согласно рапорту уездного исправника, «в с. Сошках Фащевской волости Липецкого уезда Тамбовской губернии 6 марта 1911 г. в 4 часа вечера крестьянин Петр Хоборов с целью лишить себя жизни выпил раствор сулемы, от чего проболел 7 дней и, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, 13 марта скончался. Причина самоотравления, как предполагают, была связь его жены с отцом покойного»
{302}.
В начале XX века в окружном суде слушалось дело Матрены К. и ее свекра Дмитрия К., обвиняемых в детоубийстве. Обвиняемая Матрена К., крестьянка, замужняя, 30 лет, призналась, что на протяжении шести лет, подчиняясь настоянию свекра, состояла в связи с ним и прижила от него сына, которому в настоящее время около пяти лет. От него же она забеременела вторично. Свекор Дмитрий К., крестьянин, 59 лет, узнав о приближении родов, приказал ей идти в ригу и, как только она родила, схватил ребенка, зарыл его в землю в сарае
{303}.
Изредка молодые бабы пытались найти защиту от сексуальных посягательств со стороны свекра в волостных судах, но те, как правило, устранялись от разбора подобных дел. По признанию сельского информатора из Тверской губернии, «до волостного суда дела о снохачестве не доходят»
{304}. Аналогичный вывод содержится в корреспонденции, присланной из Ярославской губернии: «Нам никогда не приходилось слышать, чтобы дело о снохачестве разбиралось на волостном суде»
{305}. А порой жалоба снохи на «ласки» свекра в волостной суд могла иметь обратный результат. Так. Сараевский волостной суд. разбиравший дело в связи с обвинением крестьянкой свекра «в принуждении к прелюбодеянию», приговорил истицу к четырехдневному аресту за «клевету»
{306}.
Правда, юрист дореволюционной поры И. Г. Оршанский в своем исследовании приводил и противоположный пример, когда по жалобе снохи на принуждение свекра к снохачеству последний решением волостного суда был лишен «большины»
{307}. Но это было скорее исключением, чем правилом. В тех случаях, когда преступная связь свекра со снохой открывалась, виновной, как правило, признавалась женщина, которую ожидала жестокая расправа со стороны мужа.
Следует согласиться с утверждением А. П. Богораз, что «среди архивных дел различных фондов за рассматриваемый период не было выявлено ни одного дела по обвинению снохи в убийстве свекра или причинении вреда его здоровью. Это свидетельствует о том, что большинство дел не доходило до властных инстанций, решалось внутри семьи, а также позволяет предположить, что данное сексуально-психологическое воздействие действительно было традиционным и как насилие не воспринималось»
{308}.
При этом, по нашему мнению, очевидно, что крестьяне сознавали всю тяжесть греха такой связи. Так, в Орловской губернии снохачество оценивалось как большое преступление перед православной верой, за которое не будет прощения от Бога на том свете
{309}. Ярославские крестьяне приравнивали снохачество к кровосмешению с дочерью. «Муж и жена — одно тело, един дух. Отец, живший с женой сына, все равно, что живет со своим сыном или дочерью»
{310}. По сведениям, полученным от крестьян Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, снохачи на сходе при решении общественных дел игнорировались, и каждый мог им сказать: «Убирайся к черту, снохач, не твое тут дело»
{311}. В селах Псковщины к снохачеству относились неодобрительно, снохачей в местных деревнях величали «блудниками», «срамниками»
{312}. Крестьяне Калужской губернии в качестве наказания даже удаляли снохачей из сельского общества
{313}.
По мере распада патриархальной семьи и увеличения числа крестьянских разделов снохачество как явление сельского быта стало исчезать. Преобладающей в деревне стала малая семья, в которой по причине раздельного проживания родителей и женатых детей снохачеству объективно не было места. Эта тенденция была подмечена информаторами Этнографического бюро. Один из них, житель Васильсурского уезда Нижегородской губернии С. В. Корвин-Круковский, в частности, сообщал, что «с ослаблением родительской власти, с более частыми и распространенными в настоящее время семейными разделами и выделами, — более частые в старину случаи снохачества в настоящее время становятся все более и более редкими»
{314}.
НА «МИРУ»

Общественный статус
Сельский мир, будучи по своей сути миром мужским, сформировал по отношению к женщине стереотипы, которые сам же и культивировал в повседневной жизни. Мужик воспринимал бабу как существо низшее по положению; по этой причине она и должна была находиться у него в подчинении. В деревне считали, что женщину надлежит держать в строгости, пресекая присущие ей пороки, а при необходимости применять силу для ее вразумления. Невысоко оценивали и умственные способности женщины. «У бабы волос долог, да ум короток», — говорили в селе. Женщине считалось предосудительным высказывать свое мнение при обсуждении мирских дел («не бабское это дело»). Порицалась женская склонность к многословию («язык, что помело»), пересудам и склокам. Вмешательство женщин в «мужские» дела вызывало раздражение. Нередко мужики тяготились присутствием женщин, а их уход воспринимался с облегчением. Может, в этих случаях они и произносили известную фразу: «Баба с воза — кобыле легче».
Все сказанное не означает, что в повседневном общении, вне посторонних глаз, мужчина не был ласков, внимателен и заботлив по отношению к супруге. Но выказывать нежные чувства к жене на людях в русском селе считалось зазорным.
Традиционно женщины не несли ответственности перед общиной, не принимали участия в мирских сходах
{315}. Б. Н. Миронов так сформулировал один из принципов общинной жизни: «Женщины не имеют никаких денежных и натуральных обязательств перед общиной и государством, но зато не имеют и никаких прав, в частности не участвуют в общественном управлении и не имеют доли в общинной собственности и права на земельный надел»
{316}.
Однако сельские бабы не оставались безмолвными: если не прямо, то косвенно, через своих мужчин, они могли донести свое мнение до сельского схода. На сходе муж отстаивал позицию всей своей семьи (в том числе и женской ее половины) по тому или иному вопросу
{317}.
Впрочем, по причине массового оттока из деревни мужчин на отхожие промыслы, что в большей мере было характерно для нечерноземных губерний страны, происходило постепенное «размывание» половой однородности сельского схода. Если в первые пореформенные десятилетия появление женщины на сходе было явлением исключительным — такое право иногда давалось специальным решением схода вдовам, возглавившим многодетные семьи после смерти главного кормильца, — то к исходу XIX века участие в сходах женщин стало обычным явлением: «…отсутствующих домохозяев-крестьян нередко заменяют их жены. Против опроса бабы, заменяющей на сходе мужа, никаких протестов встречать не приходилось»
{318}.
Степень участия женщин в общественных делах различалась в зависимости от местных традиций. В одних местах женщины участвовали в сходах и как самостоятельные хозяйки, и как представительницы мужей, в других они допускались исключительно в качестве домохозяек, в третьих женщинам дозволялось принимать участие в обсуждении всех дел. в четвертых — лишь некоторых, а кое-где им вообще отказывали в праве быть на сходе. Где-то женщина имела право голоса наравне с мужчинами, где-то обладала только совещательным голосом, а где-то все ее участие ограничивалось ответами на вопросы, которые ей при необходимости могли задать
{319}.
По сообщению С. Гришина, информатора Этнографического бюро из с. Волконское Дмитровского уезда Орловской губернии (1898 год), «на сельские сходы крестьян вызывают по распоряжению старосты: «гони на сходку». Все идут, нисколько не переодевшись, кто в чем был. На сельских сходах участие женщин не допускается, исключение составляет отсутствие хозяина (заработки), тогда могут пригласить хозяйку, и то если вопрос касается уплаты податей или отбывания повинностей»
{320}. Корреспондент тенишевской программы Рязанов из д. Саламакова Обоянского уезда Курской губернии так описывал созыв местного схода (1899 год): «Созывают сход десятские, сотские по распоряжению старосты. Идя на сход, не надевают лучшей одежды, но все же одеваются почище. Меняют при этом только верхнюю одежду. Женщинам и посторонним лицам не запрещается присутствовать на сходах»
{321}. В Елецком уезде Орловской губернии (1898 год) отсутствующих домохозяев нередко заменяли их жены. Не было препятствий против участия в сходе вдов или девушек, самостоятельно ведущих хозяйство, а также опекунш малолетних
{322}.
Следует отметить, что население черноземных губерний в вопросе участия женщин в работе сельского схода было более консервативно, чем в районах, где отхожий промысел играл большую роль в хозяйственной жизни села. Негативное отношение к участию женщин в сельском сходе сохранялось в деревне и в первые годы советской власти. «К женщинам относятся по-старому. На сход не пускают, а если они приходят, то ругают их матерщиной и смеются над ними»
{323}.
Одним из критериев принадлежности крестьянина к поземельной общине было право семьи, интересы которой он представлял, на земельный надел. В 1880-е годы в материалах земских статистических сборников по Тамбовской губернии упоминаются случаи, когда общинная земля выделялась вдовам: в д. Бурьяново Борисоглебского уезда «одной вдове, оставшейся после смерти мужа с малолетними сиротами, мир давал бесплатно по полдесятины в каждом поле. Теперь, когда дети подросли, мир потребовал с означенной вдовы уплаты на будущее время податей»
{324}. Этот эпизод показывает, что традиция распределения наделов исключительно мужчинам, членам общины, претерпевала изменение. Односельчане учитывали положение вдовьего хозяйства. Помимо сохранения за семьей, оставшейся без хозяина, земельного надела, мир оказывал и другие действенные формы помощи с целью обеспечения ее платежеспособности. В д. Михайловское того же уезда вдовы выплачивали подати наравне со всеми, но при этом миром производились «запашка, посев и уборка хлеба», а в с. Туголуково «трем вдовам, по разрешению мира, выдается на пропитание хлеб из общественного магазина»
{325}.
В исключительных случаях женщина могла стать главой двора и при живом муже. К такой мере в селе прибегали, если большак в силу тех или иных обстоятельств не мог обеспечить исправную уплату податей. Например, Колыбельский волостной суд удовлетворил жалобу крестьянки Настасьи Ельчаниновой на мужа Никиту Ельчанинова. Она обвинила его в том, что он пьет, не выплачивает подати в срок. Суд решил «назначить к управлению в дому и распоряжению всем жену его с сыном…»
{326}.
К концу XIX века в российских селах учащаются случаи главенства в семье женщин. Так, в Ильинской волости Казанского уезда Казанской губернии женщинами возглавлялись около 8 процентов хозяйств. В некоторых случаях, когда после смерти вдового главы семьи сыновья не могли по каким-либо обстоятельствам (по нетрудоспособности, из-за отсутствия и т. и.) возглавить хозяйство, управление домом передавалось снохе
{327}.
Одинокая женщина (вдова, солдатка) могла самостоятельно вести семейное хозяйство, распоряжаться денежными суммами и другим имуществом, заключать сделки по своему усмотрению. Она имела право требовать для себя и своих детей долю при выделении из семьи мужа или при разделе хозяйства после смерти свекра.
По мере эмансипации деревни права крестьянок постепенно расширялись. Среди них выделялись те, что самостоятельно арендовали землю, нанимали работников, вели хозяйство и получали прибыль, хотя правом обработки общинной земли обладали только общинники-мужчины и порой только они могли участвовать в мирских сходах, где решались важнейшие вопросы.
В местности со значительными отхожими промыслами, где отсутствующих хозяев заменяли жены, женщины играли существенную роль в хозяйственной жизни села. Из Больше-Бадиловской волости Тульского уезда корреспондент информировал, что «значительное число взрослых членов общины живет в Петербурге в кучерах… так что в общине уже бабы пашут землю»
{328}. «Если баба держит надел или мужей нет дома, то и баба выходит на сход»
{329}, — писали из Торховской общины Тульского уезда. «Женщины за отсутствием мужей и вдовы допускаются на сходы на равных правах с мужчинами», — сообщали из Старухинской общины Чернского уезда Тульской губернии
{330}.
Б. Н. Миронов отмечает, что к концу XIX века в крестьянской среде, с одной стороны, «снисходительное отношение к женщинам все еще преобладало», но с другой — «в целом можно говорить о повышении роли женщин в общественной жизни, что само по себе являлось большой социальной новацией»
{331}.
В силу объективных условий развития страны, обусловленных процессом модернизации, затронувшей все сферы жизни российского общества, положение женщины в сельской общине менялось. Возросшая социальная мобильность крестьянства «ломала» пределы деревенской околицы, существенно расширяя жизненное пространство сельских жителей. Развитие товарно-денежных отношений все активнее втягивало крестьянское хозяйство в действие рыночного механизма. Рынок диктовал как производственную стратегию крестьянских дворов, так и жизненные планы сельской семьи. Как ни парадоксально, но крестьянские женщины — самая консервативная часть села — оказались наиболее восприимчивы, а самое главное, готовы к коренным переменам в традиционном укладе села.
Бабьи бунты
Говоря об общественной жизни крестьянки, следует сказать о таком феномене сельской действительности, как «бабьи бунты». Во время острых конфликтов безропотная, забитая, угнетенная баба в одночасье становилась в авангарде крестьянского протеста, придавая ему эмоциональный фон и решительность действий.
Положение крестьянской женщины вне, но около «мира» давало ей определенные преимущества, которыми она пользовалась, становясь в отдельные моменты рупором общинных интересов. Основываясь на материалах, собранных сотрудниками Этнографического бюро, В. В. Тенишев по этому поводу замечал: «Часто бывает открытое неповиновение властям со стороны женщин, да их редко привлекают к ответственности, «ибо баба глупа и не понимает, что делает». Более ловкие бабы зачастую злоупотребляют этим и дозволяют себе по отношению к властям то, что мужчине безнаказанно никогда не пройдет»
{332}.
Протестное движение крестьянок, получившее название «бабьи бунты», проявилось в рамках аграрного движения начала XX века. Всплеск общественной активности женской части села, очевидно, был связан как с нарастанием социальных противоречий в российском обществе в целом, так и с изменением в деревне по причине мужского отхода и мобилизации крестьян на русско-японскую войну, демографической ситуации, делавшей женщину фигурой знаковой во всех отношениях.
Активное участие крестьянки приняли в аграрных беспорядках, охвативших черноземную полосу с 1905 года. «Эмансипе от революции» А. Коллонтай по этому поводу замечала: «…Забитая, веками угнетаемая «баба» неожиданно очутилась одним из непременных действующих лиц разыгравшейся политической драмы…»
{333}.
Особо острой была реакция селянок на мероприятия власти, осуществляемые в ходе столыпинской аграрной реформы. Неприятие женщин вызывали попытки выдела из общественной земли участков (отрубов) и землеустроительные работы. Так, среди участников «прогремевшего» в 1910 году на всю страну «волотовского дела», выразившегося в массовом неповиновении крестьян, более половины были женщины. При этом следует заметить, что и в начале столыпинской реформы, и на ее заключительном этапе за спинами крестьянок часто обнаруживались «подстрекатели» — мужчины-домохозяева.
С началом Первой мировой войны противодействие проведению землеустроительных работ приобрело наибольшую степень ожесточенности. 6 августа 1914 года в с. Махровке Борисоглебского уезда Тамбовской губернии во время сельского схода, где должны были избрать уполномоченных по выделу земли, солдатки требовали остановить выдел, поскольку они без мужей «не могут найти своих законов». Крестьянин П. П. Медведев, названный тамбовским губернатором зачинщиком, убеждал «прогнать землемера и волостного старшину-отрубника, потому что «там (то есть на фронте) кровь проливают, а они тут нашу землю режут». В результате тридцать солдаток напали на избу, в которой укрылся волостной старшина. Под воздействием этих событий отрубники на время отказались от выдела»
{334}.
В соседней Воронежской губернии «бабьи бунты» приобрели не меньший размах. Центром событий в августе 1914 года стало с. Козловка Бобровского уезда. Здесь тридцать крестьянок 10 августа явились к землемеру Прышкову и потребовали прекратить нарезку земли до возвращения мужей с фронта. 11 августа они разбросали межевые столбы, затем около двухсот женщин, собравшись сначала у волостного правления, принялись громить дома богатых собственников, ломали печи, расхищали мебель, домашнюю утварь. Мужики их подбадривали: «Бейте, бабы, вам ничего не будет, ваши мужья на войне». Бабы кричали: «Пойдем в Воронеж, заберем ружья мужей и разгромим здесь все»
{335}. В начале сентября недовольные разверсткой надельной земли крестьяне с. Копыл Борисоглебского уезда на сельском сходе угрожали землемеру Лукьянову
{336}. Наконец, в октябре на поле, где должны были отводиться земли для отрубников с. Челнаво-Покровского Козловского уезда, примерно двести крестьян и солдаток не дали провести землеустроительные работы. Солдатки, взволнованные слухами, что выделы приведут к тому, что они лишатся земли, просили остановить работы до окончания войны, грозили «разорвать пополам» отрубников и землемера и сожгли имущество отрубников, находившееся на поле. В результате возобновление выделов последовало лишь через месяц, когда в село прибыли земский начальник и стражники
{337}.
Осенью 1914 — весной 1915 года в семи селениях Козловского и Борисоглебского уездов прошла целая серия массовых волнений. Вооруженные дубинами и палками солдатки уничтожали межевые знаки, избивали отрубников, сжигали их имущество, нападали на землеустроителей и представителей сельской и волостной администрации, вступали в столкновения с полицией.
Таким образом, отношения между общинниками и противниками общины обострились. Сторонники правительственной аграрной политики пытались воспользоваться тем, что наиболее активная часть крестьян призвана на военную службу, и решить спор о земле в свою пользу. Но крестьяне-общинники не смирились с попытками разрушения общины и в ряде случаев смогли добиться кратковременного успеха, прекратив землеустроительные работы. Наиболее активно участвовали в борьбе с отрубниками жены и сестры
призванных в армию крестьян.
Весной следующего года столкновения общинников и отрубников возобновились. Так, 26 апреля 1915 года в с. Чигорак Борисоглебского уезда солдатки с палками во главе со старостой С. М. Зацепиным «воспрепятствовали прибывшему в село землемеру произвести работы по выделу отрубов»
{338}. «Нам угрожает опасность», — писал приставу 1-го стана Борисоглебского уезда землемер В. Лукьянов после того, как общинники с. Сергиевки Пичаевской волости на его глазах избили 2 мая 1915 года своих односельцев, пытавшихся выйти на отруба. Солдатки кричали: «Станем по колено в крови и всех перебьем, но землю делить не станем»
{339}. Неспокойно было иве. Малые Алабухи того же уезда. На сельском сходе крестьянки, показывая на своих грудных детей, восклицали: «Вот они несчастные!» Слышались крики солдаток: «Наши мужья на войне кровь проливают, а мы прольем ее здесь»
{340}.
Выдвижение женщин на передовые позиции в противостоянии властей и общинников можно объяснить специфическими чертами социальной психологии крестьянства, которое было твердо уверено в неподсудности женщин за акты сопротивления властям
{341}. «Баба без ответа, с нее никто не взыщет», — говорили в деревне
{342}. Так, борисоглебская крестьянка М. В. Дунаева, участница волнений в мае — июне 1915 года, с убежденностью говорила: «…Бабам дано право, и они хотя бы перебили все приезжающее в село Архангельское начальство, им никакой ответственности за это не будет, и даже приезжай царь и его убьют и не будут виноваты… А зачем черт носит начальство в Архангельское, ведь оно нам совсем не нужно, мы его побьем, и нам ничего не будет, потому что у нас дети, а начальство можно побить, потому что приезжало отрезать землю…»
{343}. Подобные настроения вообще были характерны для тамбовского крестьянства. В с. Чигорак Борисоглебского уезда во время массовых волнений против землеустройства общинники подбадривали односельчанок: «Солдатки, вы крепче держитесь, вам ничего не будет»
{344}.
 Крестьяне с. Питим Моршанского уезда Тамбовской губернии. Начало XX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
Крестьяне с. Питим Моршанского уезда Тамбовской губернии. Начало XX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
 Крестьяне с. Липовка Моршанского уезда Тамбовской губернии. Конец XIX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
Крестьяне с. Липовка Моршанского уезда Тамбовской губернии. Конец XIX века.
Из фондов Тамбовского областного краеведческого музея
Весной 1915 года «феминизированный» тип волнений распространился на всю империю. В связи с этим солдаты и казаки (в отличие от полиции) все реже решались применять оружие. Возрастало женское влияние и на сельских сходах
{345}.
В течение 1916 года крупных столкновений между крестьянами и властями, которые закончились бы арестом общинников, в документах не зарегистрировано. Это объясняется, видимо, тем, что власти стали крайне осторожны в проведении землеустройства. В циркулярах главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина от 22 августа и 20 ноября 1914 года и от 29 апреля 1915 года рекомендовалось «приостанавливать те землеустроительные работы, по которым не достигнуто полюбовного соглашения сторон, а применение установленного законом обязательного порядка могло бы вызвать неприязненные в среде населения отношения».
В результате землеустроительные комиссии предпочитали в спорных случаях откладывать работы до окончания войны. Показательно постановление Козловской уездной землеустроительной комиссии от 20 августа 1916 года о приостановлении выдела земель крестьян с. Березовки Челнавской волости Козловского уезда, в котором главной причиной такого решения называется то, что «в настоящее время за отсутствием большого числа населения на войне могут произойти недоразумения с женами призванных»
{346}.
Таким образом, масштаб крестьянского протеста стал одной из причин корректировки правительственных мер. Волна «бабьих бунтов», прокатившаяся по российским селам в начале Первой мировой войны, привела к фактическому свертыванию землеустроительных работ в ходе столыпинской аграрной реформы. Можно сказать, что «безмолвное большинство» было услышано, или, точнее, заставило себя услышать.
И даже то, что все эти «бабьи бунты» были инспирированы и направляемы общиной, которая стремилась «отыграть» утраченные позиции, а бабы, преимущественно солдатки, стали послушным орудием для достижения этой цели, не исключает готовность к этим действиям самих крестьянок.
В волостном суде
В обыденной жизни деревенская баба могла не единожды вступать в различные правоотношения. С организацией волостного суда у крестьянки появилась законная основа для защиты своих интересов в судебном порядке. Однако в ряде случаев традиция допускала в отношении крестьянки внесудебную расправу, насилие со стороны мужа или домашних, а также применяемые обществом позорящие наказания.
Материалы волостных судов дают исследователю возможность установить степень участия деревенской женщины в крестьянском судопроизводстве по гражданским и уголовным делам, а также оценить роль сельской юстиции в защите ее прав.
Анализ записей решений волостных судов позволяет сделать вывод, что в 60-е годы XIX — начале XX века сельские жительницы не только осознавали свои права, но и были готовы отстаивать свои интересы посредством судебного разбирательства. По данным, приведенным исследователем Г. В. Лаухиной, в двух волостных судах Костромской губернии с 1861 по 1896 год на 1562 дела приходится 263 дела, или 17 процентов дел, где женщина выступала истцом или ответчиком, пострадавшей или обвиняемой стороной. В Холмовском суде той же губернии в этот же период таких дел было не менее 300, что составляет не менее 25 процентов всех дел
{347}.
Волостной суд, как и сельская община, стоял на страже интересов хозяйствующей семьи, стремясь не допустить ее разорения, и, как следствие, утраты платежеспособности. Суд, как уже говорилось, мог ограничить право главы семейства распоряжаться имуществом двора с целью недопущения разорения хозяйства. В Митропольский волостной суд Тамбовского уезда той же губернии в 1913 году поступила жалоба крестьянки с. Коровина, которая сообщала, что муж ее свое имущество продал и деньги пропил. Суд постановил наложить арест на имущество крестьянина и запретить растраты
{348}. В 1914 году Пичаевский волостной суд Тамбовской губернии признал крестьянку Анну Шорину, по ее заявлению, полной хозяйкой на том основании, что ее муж находится на излечении в психиатрической больнице
{349}.
Таким образом, в ряде случаев волостной суд по жалобе жены мог лишить мужа «большины» и передать право на семейное имущество супруге. Однако следует отметить, что иски по таким делам волостной суд, даже при наличии на то веских оснований, удовлетворял не всегда. В качестве примера приведем дело, рассмотренное волостным судом в 1914 году, о признании крестьянина с. Кутли Пичаевской волости Андрияна Ефремовича Перевязкина расточителем имущества. Из прошения супруги Авдотьи Семеновны Перевязкиной явствует, что она не имеет средств на содержание детей — сына, 16 лет, и дочери, 13 лет, поскольку муж ее, 75 лет, ведет нетрезвую жизнь. На суде, на который ответчик не явился, свидетель Александр Иванович Федотов подтвердил слова Авдотьи Перевязкиной, но пояснил, что водку глава семейства пьет не всегда, а когда есть деньги. В иске суд отказал, мотивируя тем, что «ответчик водку пьет не всегда, а когда есть деньги и поэтому расточить имущество не может»
{350}.
С другой стороны, надо сказать, что волостные суды, руководствуясь нормами обычного права, за редчайшими исключениями стояли на защите женской собственности. В записи из книги решений Ильинского волостного суда Орловской губернии говорится: «1896 г. апреля 5 Ильинский волостной суд в составе председателя Алексея Волосатова, судей: Карпа Котлярова, Дмитрия Афонина и Петра Гусева, разбирал уголовное дело по жалобе крестьянина села Ильинского Савелия Мишакина на невестку свою Дарью Мишакину об уводе самоуправно овцы, стоящей 5 рублей, и уноса иконы, стоящий 3 рубля. Просил взыскать с ответчицы за икону 3 рубля и 3 рубля за прокорм овцы в одну зиму. Ответчица объяснила, что проработала все лето у свекра, а осенью прошлого года он выгнал ее со двора, не дав никакого пропитания. Она взяла свою приданку (овцу) и благословение (икону). Суд предложил примирение, но стороны отказались. Постановил: истцу в иске отказать, т. к. Дарья Мишакина взяла овцу и икону не Савелия Мишакина. а как свою собственность»
{351}. Волостной суд практически всегда удовлетворял иски о возврате приданого жен после их смерти родителям, что подтверждает особый правовой статус привнесенного имущества
{352}.
Среди самых распространенных дел были споры между свекровью и овдовевшей снохой по поводу дележа собственности. Уходящая из семьи сноха часто «норовила унести сверх того, что ей полагалось по обычаю», чему, конечно, сопротивлялась свекровь
{353}. В одном из прошений, адресованных в Слободской уездный съезд мировых посредников Вятской губернии, крестьянка Анна Кудрявцева обвиняет свою сноху Екатерину в том, что после смерти мужа своего Петра та пытается захватить его имущество. Анна отказывала снохе «по тому общему праву», что муж ее умер еще до раздела, а сама она вышла замуж. Действительно, в случаях, когда имущество супругами наживалось еще в рамках неразделенной семьи и муж умирал до раздела, право наследования его имущества вдовой, вышедшей замуж, становилось проблематичным, вплоть до исключения ее из состава наследников
{354}.
Нередко сноха, выделявшаяся из семьи мужа после его смерти, в жалобах на свекра (или деверя) основной упор делала на всяческие чинимые ей «обиды и притеснения». Крестьянка Евдокия Никулина заявляла в прошении, что вынуждена «отклонить от себя свой женский стыд и сказать суду сущую правду, которую суд должен хранить как ту тайну, о которой говорится в Апостоле при бракосочетании двух супругов «Тайна сия велика есть». По рассказу жалобщицы, при жизни мужа, прикованного болезнью к кровати, «свекор мой не давал мне выйти на двор не только для уборки скота, но даже для естественной нужды, везде ловил, хватал, склонял меня к блуду с ним, говоря, что он меня наградит чем-то, чему, конечно, я свидетелей представить не могу, да и при таких делах свидетелей не бывает, но я, не желая менять свой супружеский венец на столь гнусный поступок, все меры принимала избегать даже встречи свекра, а когда муж мой помер, мне окончательно житья не стало… почему я и нашла за лучшее удалиться на жительство к отцу своему». Заявление о сексуальных домогательствах сыграло не последнюю роль при разрешении конфликта: Евдокии выделили часть имущества мужа Абрама Никулина
{355}.
Как говорилось выше, крестьянка часто становилась жертвой насилия со стороны мужа. Поэтому особенно интересно выяснить, как часто женщины прибегали к судебной защите, чтобы унять семейного изверга, и как суды реагировали на такие обращения.
Следует сразу признать, что семейные побои не часто становились предметом разбирательства в волостных судах. По сведениям, собранным О. Покровским, изучавшим приговоры волостных судов Костромской губернии, «при сильном распространении в данной местности семейных побоев за 35 лет только две женщины нашли в себе смелость пожаловаться на своеобразные проявления супружеской ласки. В 1873 году получил за это 5 розог крестьянин д. Малая Куда-нова Таврило Андреев. В 1894 году крестьянин д. Жукова Никанор Сарычев был арестован на 7 дней. В Холмовском волостном суде за это время было подано 9 подобных исков»
{356}. С другой стороны, на основе изученных материалов волостных судов за 1860—1870-е годы современный исследователь Л. И. Земцов утверждает, что «крестьянки активно пытались найти защиту в волостном суде» и «абсолютное большинство проступков по отношению к женщине волостным судом наказано»
{357}.
Иногда инициатором обращения в волостной суд с жалобой на жестокое обращение мужика с женой выступали должностные лица села. П. Березанский в своем исследовании обычного права крестьян Тамбовской губернии приводил в качестве примера решение Стрельниковского волостного суда. В этом суде слушали жалобу сельского старосты на крестьянина Ф., который часто бил свою жену до полусмерти. Суд определил наказать семейного дебошира двадцатью ударами розгами и потребовал, чтобы он оставил все свои дурные поступки и жил в своем семействе «смирно»
{358}.
Число дел о семейных побоях заметно увеличилось в волостных судах к концу XIX века, и надо сказать, что порой суды довольно решительно наказывали семейных деспотов. Так, крестьянин с. Воейкова Тимофей Иванов по жалобе его супруги на то, что он «всегда в пьяном виде бьет ее без пощады», решением волостного суда был подвергнут двадцати ударам розгами
{359}. Немало примеров, когда волостные суды за нанесение побоев женам приговаривали мужей к наказанию розгами от десяти до двадцати ударов, приводит правовед А. X. Гольмстен
{360}. Иногда, впрочем, суд ограничивался указанием мужу — жену не тиранить, а жену наставлял слушаться мужа
{361}. Бывало и так, что состоящие из мужиков выборные волостные суды становились на сторону обвиняемого, опасаясь своим решением поколебать авторитет и власть мужа над женой, дать «бабам повадки». Например, Шаловский волостной суд Богородского уезда Московской губернии приговорил крестьянку к двум суткам ареста за то, что она позволила себе драться с мужем, хотя, судя по всему, рукоприкладством как раз занимался муж
{362}.
Чтобы не допустить повторения насилия, с мужей-дебоширов брали подписку в том, что они будут обращаться с женой и прочими родственниками должным образом
{363}. Вот содержание одного из таких обязательств: «Я, нижеподписавшийся, Г., в присутствии волостного суда, обязуюсь впредь родную сестру свою не обижать и не причинять ей каких-либо побоев и дерзостей, в противном случае волостной суд волен меня, Г., наказать розгами по своему усмотрению»
{364}. Таким образом, волостные суды видели свою задачу не только в наказании виновного, но и в профилактике преступлений.
Правда, действенность таких расписок вызывала у современников сомнение. Один из сельских информаторов по этому поводу сообщал в Этнографическое бюро, что «подписки для мужа не имеют никакого значения, а жене скорее вредят, так как озлобляют мужа, наказанного по жалобе жены, и заставляют его обращаться с ней хуже прежнего»
{365}.
Жалобы в волостной суд мужей на неповиновение жен были нечасты; обыкновенно мужья решали подобные проблемы с помощью кулаков. Но если такое случалось, суд обыкновенно внушал женам необходимость послушания, указывая, что они должны «жить в полном повиновении и послушании». «За непослушание» мужьям жены, по приговорам волостных судов, наказывались арестом на несколько суток, общественными работами и даже розгами
{366}. Родители не имели права давать приют своей дочери, если она самовольно ушла от мужа. В противном случае они приговаривались волостным судом к аресту и обязывались немедленно возвратить бежавшую в дом мужа
{367}.
Если совместное проживание супругов признавалось невозможным или муж выгонял жену из дома, суд назначал женщине денежное содержание. Так, Нижеслободский волостной суд Олонецкой губернии в 1882 году обязал мужа выдавать жене ежемесячно по 3 рубля на содержание ее и ребенка
{368}. Интерес представляет решение того же суда в 1888 году по жалобе жены на побои и изгнание из дома. Суд приговорил взыскивать с мужа в пользу жены по 3 рубля 50 копеек в месяц и, кроме того, отобрать у него принадлежащую жене корову, обязав его выдавать на ее прокорм потребное количество сена и соломы. К приговору присовокуплена записка следующего содержания: «По несостоятельности моего мужа, Афанасия Разумова, к платежу по сему решению денег, я изъявила желание получить урожай нынешнего года и на будущее время пользоваться наделом земли на душу мужа, о чем составлен приговор схода 21 августа»
{369}.
Отношения в крестьянской семье были далеки от идиллии, ругань и брань между родными были делом обычным. В конфликтах между родителями и детьми судьи всегда становились на сторону родителей. Волостной суд строго карал тех, кто, нарушив сыновний долг послушания, позволял себе оскорблять или, хуже того, бить родителей. 12 ноября 1872 года Воейковский волостной суд Данковского уезда Рязанской губернии слушал словесную жалобу крестьянки сельца Бого-словки Матрены Спиридоновой, которая заявила, что ее сын Михаил Кузьмин «ругал ее скверноматерными словами… начал ее бить, разбил во многих местах до крови». Судьи постановили: за оскорбление матери подвергнуть Кузьмина наказанию розгами к 20 ударам
{370}. Это было максимальное наказание, которое мог назначить волостной суд.
Строго волостной суд наказывал побои и оскорбления, нанесенные ближайшим родственникам. Тот же Воейковский волостной суд в мае 1869 года вынес решение о взыскании с крестьянки с. Богдановки Пелагеи Степановой штрафа в три рубля серебром за побои и матерщину в адрес сестры Авдотьи
{371}. С крестьянина Семена Иванова, который «прибил пришвом от стана» своего родного брата Сергея, суд взыскал в пользу потерпевшего три рубля
{372}. Волостной суд наказывал и за рукоприкладство со стороны родственников по свойству. В той же Воейковской волости крестьянин д. Новой Иван Дмитриев был подвергнут аресту на двое суток за постоянные побои свояченицы
{373}. По жалобе крестьянки Любови Алексеевой на сноху Федосью Кондратьеву, заявившей, что та нанесла ей побои кулаками по лицу, а по рукам била рогачом, волостной суд 14 сентября 1875 года принял решение: «за нанесение обиды свекрови подвергнуть Кондратьеву трехдневному аресту при волостном правлении и взыскать с нее в пользу судей 75 коп.»
{374}.
По утверждению Л. И. Земцова, «крестьянский волостной суд последовательно и целенаправленно осуждает бьющих (не только мужа, тестя, деверя, но и свекровь, и золовку) и защищает крестьянку»
{375}. Если невестка подвергалась притеснению в нераздельной семье, то наказание волостной суд мог распространить и на большака и большуху. Примером может служить дело, рассмотренное 12 апреля 1871 года Воейковским волостным судом по жалобе крестьянина с. Сухой Рожни Ефима Ермилова на крестьянина Ивана Ильина. Заявитель сообщал, что осенью 1870 года выдал замуж за сына Ильина Антона свою дочь Екатерину, которую теперь Ильин «без всякой причины» гонит со двора. Суд приговорил Ивана и Антона Ильиных к десяти и двадцати ударам розгами соответственно, а большуху, жену Ивана, к аресту на шесть дней
{376}.
Иногда суд присуждал обиженной денежную компенсацию. Так, за нанесение побоев солдатке Аграфене Конопкиной крестьянином Ф. тот был оштрафован волостным судом на пять рублей
{377}. Нередко наряду со штрафом к виновному применяли и телесные наказания. В 1891 году волостной суд рассмотрел дело о бесчестии крестьянской девицы Елены Новиковой и признал виновным крестьянина Петра Васильева, жителя д. Решетовка Рождественской волости Козловского уезда. С Васильева было взыскано три рубля в пользу потерпевшей, и, кроме того, он получил 19 ударов розгами. Жалоба осужденного на приговор волостного суда в Борисоглебское уездное по крестьянским делам присутствие быта оставлена без удовлетворения
{378}.
Почти во всех решениях волостных судов по делам о побоях женщин наблюдалась одна особенность: оскорбление замужней женщины каралось сильнее, нежели вдовы или девицы. За побои замужней женщины обидчик наказывался или 15–20 ударами розог, или штрафом в 5—10 рублей, тогда как за побои девушки или вдовы карали штрафом от 60 копеек до 2 рублей или подвергали трехдневному аресту
{379}. Таким образом, за одно и то же преступление волостной суд определял разную меру ответственности, так как общественный статус замужней женщины был выше, чем у незамужних девиц и вдов.
Рост самосознания сельской женщины находил свое проявление в том, что крестьянка стремилась защитить в суде не только свою женскую честь, но и человеческое достоинство. Крестьянки, оскорбленные напрасным наветом, для защиты чести и достоинства обращались в волостной суд, прося поступить с обидчиком «по закону». Словесные обиды волостной суд рассматривал наравне с обидами действием
{380}. В деревне считали, что оскорбления, высказанные публично, подрывают репутацию, бросают тень на доброе имя, и приравнивали их к клевете и доносам. Поэтому обидчик в таких случаях строго наказывался
{381}.
Как правило, при доказанном словесном оскорблении волостной суд приговаривал виновного к штрафу в пользу потерпевшего, а если оскорбитель был пьян, то и к телесному наказанию. Сохранилось решение Перкинского волостного суда Моршанского уезда Тамбовской губернии об оскорблении крестьянки с. Черкина Агафьи Немытшевой Антоном Кудрявцевым, который, будучи в подпитии, называл ее «воровкой» и «б…ю». Суд приговорил взыскать с обидчика штраф 1 рубль 50 копеек, а за пьянство дать 5 ударов розгами
{382}.
Можно утверждать, что в целом система волостного судопроизводства, при всех изъянах и недостатках, могла обеспечить сельской женщине гарантию ее имущественных прав и действенную защиту ее чести и достоинства. Изученные документы свидетельствуют, что правовой статус крестьянки менялся по мере влияния на деревню модернизационных процессов, сопровождавшихся как эмансипацией женской части села, так и ростом правовой культуры деревенского населения.
Публичные наказания
Наибольшей жестокостью отличались в русском селе коллективные расправы над преступником, которые дореволюционные исследователи, может быть, не совсем точно, но зато ясно для рядового читателя называли самосудом.
Традиция деревенской расправы отличалась устойчивостью. В корреспонденции из деревни Муравьеве Краснохолмского уезда Тверской губернии дано описание сельского самосуда в 1920 году. Селькор, очевидец произошедшего, рассказал о расправе местных жителей над Клавдией Морозовой, обвиненной в пожаре, который уничтожил половину деревни. Приведу отрывок из этого письма: «Раздался крик: «Бей ее!», и вся озверевшая толпа с проклятиями и иступленными воплями набросилась на Морозову. Милиционер ничего не мог поделать, и дикий самосуд свершился, в нем приняли участие и дети. Били ее каблуками, поленьями, вырывали волосы, рвали одежду, особенно зверствовали женщины, с матерей брали пример и дети. Морозову убили. Но убить толпе было мало, на тело плевали, ругали, потом потащили топить в пруду»
{383}.
Особой категорией сельских самосудов следует признать расправы, учиненные на почве суеверия. Во время деревенских напастей, скажем мора скота или стихийных бедствий, причину несчастий порой видели в сельских колдунах и ворожейках, убийство которых, с точки зрения русских крестьян, было не только не преступным, но и похвальным. По утверждению знатока обычного права Е. И. Якушкина, «крестьяне не считали грехом убить колдуна, от тайных действий которого никто не может уберечься»
{384}.
Самочинные расправы в селе часто совершались, как говорили крестьяне, «всем миром». Показательным в этом отношении является преступление, совершенное 4 февраля 1879 года в д. Врачевке Тихвинского уезда Новгородской губернии. Жертвой его стала солдатка Екатерина Игнатьева, слывшая колдуньей. Началось с того, что несколько женщин стали «выкликать», что Игнатьева их испортила. Крестьяне пожаловались на колдунью уряднику, но он никаких действий не произвел. Тогда местные жители заперли старуху в избе, заколотив окна и двери, и подожгли крышу. В самочинной расправе принимало участие семнадцать крестьян, еще около трехсот односельчан наблюдали самосуд, не вмешиваясь в происходящее, уверенные в том, что с колдуньей поступили правильно. Из семнадцати человек, преданных суду, четырнадцать было оправдано; троих суд приговорил к церковному покаянию
{385}.
Крестьяне хорошо понимали, что в этом вопросе не могут надеяться на закон, который не рассматривал колдовство как преступление, и, неудовлетворенные таким положением вещей, брали инициативу в свои руки. Информатор Этнографического бюро из Орловского уезда А. Михеева сообщала: «Убить колдуна или сжечь его мужики даже за грех не считают. Например, жила одна старуха, которую все считали за колдунью. Случился в деревне пожар, мужики приперли ее дверь колом, избу обложили хворостом и подожгли»
{386}.
Служителями сатаны, как считали в деревне, были ведьмы; они, по мнению крестьян, портили людей, изводили скотину. Повсеместно ведьм считали виновницами летних засух и неурожаев. Сглазом объяснялось, почему вдруг корова перестала доиться или молодая девушка «таяла» на глазах
{387}. В с. Истобном Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии в начале XX века крестьяне чуть не убили девушку, которую подозревали в ворожбе. Она якобы ходила голая по селу и снятой рубахой разгоняла тучи. Только вмешательство священника спасло несчастную от гибели
{388}.
Для таких расправ была характерна особая жестокость и всякое игнорирование родственных связей. Убийство сыном матери-колдуньи произошло в ноябре 1893 года в Мышкинском уезде Тверской губернии. В Карачаевском уезде Орловской губернии крестьянин Злынев убил жену, решив, что она его испортила — он страдал половым бессилием
{389}. По воззрениям крестьян человек, вступивший в сношения с дьяволом, сам разрывал связь со своими близкими.
В разделе о семейном насилии уже говорилось, что домашняя расправа над крестьянкой порой выходила за пределы двора и принимала характер публичной экзекуции.
В случае нарушения сельской бабой норм обычного права и общественных установлений она — по решению сельского схода, а чаще самочинной расправой — могла быть подвергнута позорящим наказаниям, которые, как правило, осуществлялись прилюдно. Дело в том, что по традиции русского села наказание должно было иметь назидательный характер, как говорили в деревне, «для острастки другим».
Публичное наказание провинившихся крестьянок выглядело следующим образом: «Заковывали в железо и «вязали столбу на несколько дней», водили обнаженных «с музыкой», с венками из «будяков» (репьев) на головах, по пути избивая, засыпая глаза придорожным песком, заставляя танцевать или целовать измазанные дегтем ворота… Причем «особо отличались» во время ритуала опозорения — гиканьем, криками, оскорблениями, бросанием камней в падшую женщину, — дети, подростки, но главным образом женщины-соседки»
{390}. Здесь очень точно подмечена активная роль женщин в коллективной расправе над себе подобной.
О том же пишет М. Горький в рассказе «Вывод»
{391}. Писатель воспроизвел сцену публичной расправы над неверной женой, произошедшей 15 июля 1891 года в селе Кандыбине, свидетелем чего ему довелось стать. «Все ее тело в синих и багровых пятнах… девичья грудь рассечена, и из нее сочится кровь. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная лента кожи. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах — живот чудовищно вспух и страшно посинел». Вид избитой женщины вызвал у молодого литератора чувство жалости и сострадания, он попытался вмешаться и прекратить самочинную расправу, за что был жестоко избит крестьянами. Ничто не могло остановить безумную толпу, жаждущую лишь одного — достойного наказания для виновной. «Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает. Бегут мальчишки… Иногда один из них забегает вперед и кричит в лицо женщины циничные слова. Взрыва смеха в толпе заглушают все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное…» В массовое действие втянуты все члены общины, толпа объединена чувством «праведного» гнева, каждый стремится словом, жестом выразить свое отношение к происходящему. Больше всего поражает реакция женщин, которые как будто испытывают удовольствие от созерцания унижения и побоев, которым подвергалась их товарка. Словно каждая из них, не единожды битая своим мужем, радуется тому, что не она оказалась жертвой народной расправы.
Действительно, русская баба, сама будучи объектом насилия, воспроизводила его. Терпя побои, воспринимая их как должное, она репродуцировала эту «традицию» у подрастающего поколения. Приведу описание сцены семейной расправы, произошедшей в с. Александровке. Этот документ, обнаруженный нами в архиве редакции газеты «Красный пахарь», датирован 1920 годом. «На расправу сбежалась вся деревня и любовалась избиением, как бесплатным зрелищем. Кто-то послал за милиционером, тот не спешил, говоря: «Ничего, бабы живучи!». «Марья Трифоновна, — обратилась одна из баб к свекрови, — за что вы человека убиваете?». Та ответила: «Задело. Нас еще не так били». Другая баба, глядя на это избиение, сказала своему сыну: «Сашка, ты что ж не поучишь жену?». И Сашка, совсем парнишка, дает тычок своей жене, на что мать замечает: «Разве так бьют?». По ее мнению так бить нельзя — надо бить сильнее, чтобы искалечить женщину. Неудивительно, что маленькие дети, привыкнув к таким расправам, кричат избиваемой отцом матери: «Дура ты, дура, мало еще тебе!»
{392}.
За нетяжкие преступления, такие, как кража одежды, обуви, пищи, в селе подвергали «посрамлению», то есть применяли наказания, вовсе не известные официальному законодательству. Одно из таких — подвергать человека публичной экзекуции, унижающей честь и достоинство, «срамить» его. Крестьяне объясняли существование этого обычая тем, что «сраму и огласки более всего боятся»
{393}.
Подобная расправа описана в акте, составленном 22 мая 1874 года волостным старшиной Ермаковской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии Петровым. Вот выдержки из него: «…По улице с. Ермакова идет толпа народа, сопровождаемая бряцаньем колокольчиков, бубенчиков и битьем в заслонку. В толпе этой ведется женщина, оказавшаяся крестьянкой с. Ермакова Катериною Евдокимовою, обнаженная сверху до пояса с распростертыми и привязанными к колу руками и обверченная полотном. Это, как объяснялось дознанием, было наказанием за кражу Евдокимовой полотна… Сделать над ней такое наказание распорядилось общество крестьян, к которому она принадлежит, с участием старосты Ивана Васильева… Сход крестьян требовал, чтобы раздеть Евдокимову донага, но он как староста не велел этого делать… Крестьяне Ермаковского общества, показали, что наказание Евдокимовой назначили с общего согласия… по причине развратной жизни Евдокимовой, пьянствовавшей и замеченной в кражах…»
{394}.
Такого рода самосуд носил прежде всего демонстрационный характер. Символикой и ритуалом «вождения» вора община показывала свою власть и предупреждала жителей деревни, что в случае воровства кары не избежит никто. По приговору сельского схода уличенного вора, порой нагишом, с украденной вещью или соломенным хомутом водили по селу, стуча в ведра и кастрюли. Во время такого шествия по селу каждый желающий мог ударить преступника
{395}. Били по шее и в спину, чтобы истязаемый не мог определить, кто наносит удары. После такого публичного наказания вора сажали в «холодную», а затем передавали в руки властей
{396}.
С этой же целью, «для сраму», применялись общественные работы. Женщин заставляли мыть полы в волостном правлении или принародно мести улицы на базаре. В селе Новая Слобода Острогожского уезда Воронежской губернии мать и дочь за дурное поведение очищали слободскую площадь от навоза
{397}.
С введением в русском селе волостной юстиции «осрами-тельные» наказания стали применяться реже. Но при этом бывало и так, к позорящим наказаниям приговаривали волостные суды: в материалах комиссии по преобразованию волостных судов содержатся приговоры о вождении воров-рецидивистов по селу с навешенными на шею украденными вещами
{398}. Несколько примеров такого рода, относящихся к 1870-м годам, приводит юрист М. В. Духовской. В Черкасском уезде Киевской губернии за кражу шестнадцати снопов овса крестьян М. был приговорен к вождению по селу с навешанными на шею снопами, «дабы осрамить его». В той же губернии Семеновский волостной суд крестьянку А. П. за кражу курицы приговорил к штрафу в один рубль, а также в пример другим указал провести ее с ворованной курицей через село. Аналогичные наказания выносили и суды великорусских губерний
{399}. Таким образом, в ряде мест волостные суды продолжали применять виды наказания, непредусмотренные действующим законодательством.
Вера, суеверие, обряд
Православие — не просто составная часть культуры русского народа. Влияние его на деревенскую жизнь было всеобъемлющим. Семейно-брачные отношения, этические нормы поведения, формы проведения досуга, различные виды взаимопомощи формировались и приобрели присущие им черты под воздействием православия
{400}. В XIX веке, как и в предыдущие столетия, крестьяне четко осознавали свою принадлежность к православной вере. Это выражалось в общепринятом обращении на сельских сходах: «Православные!»
Православные традиции были органически вплетены в канву повседневной крестьянской жизни. Вера Христова зримо и незримо сопровождала крестьянина от рождения до смерти. Рубежные события в его жизни определялись христианскими таинствами — крещения, венчания, отпевания. Ощущение церковной соборности достигалось посредством участия в воскресной литургии и причастия. Азы православной веры постигались в сельской семье через регулярные действия (исполнения утреннего и вечернего правила, молитв перед едой, чтения Евангелия) и зримые образы — креста, икон, священных предметов. Цикл крестьянской жизни был неразрывно связан с церковным календарем. Церковные праздники были ориентирами, с которыми крестьяне соотносили все наиболее значимые события своей жизни. В повседневности они считали следующим образом: такое-то событие произошло на Покров (а не 1 октября); на заговенье осеннее (а не 15 октября); на Казанскую (а не 22 октября) и т. д. Так же крестьяне считали семейные события: рождения, крещения, свадьбы и др. Говорили, что такому-то исполнилось столько-то лет на Святого Илью-пророка (20 июля)
{401}.
 На Пасху. Тамбовская губерния. 1904 год
На Пасху. Тамбовская губерния. 1904 год
Брак в восприятии крестьянина был не только жизненной необходимостью, но исполнением божественной заповеди. Ему предшествовала целая череда обрядов, в большинстве своем православных по содержанию. Так, во время сватовства, когда согласие на будущий брак уже было достигнуто, присутствующие зажигали свечи, усердно молились, после чего давали друг другу обещания, скрепляя их взаимным целованием. Обещание держалось крепко, нарушение его считалось серьезным грехом. «Грешно будет нарушить слово, — говорили крестьяне, — хотя люди его не слышали, зато свидетелем Бог, он может покарать гордых родителей». Венчанию предшествовало родительское благословление, когда отец и мать жениха осеняли иконой молодых, прося Господа, чтобы их брак был счастливым. А перед выездом в церковь жених или дружка трехкратно посолонь обходили брачный поезд с молитвой с целью предотвратить молодых от всякой нечисти
{402}.
Таинство венчания совершалось в сельском храме. «Обряд венчания — одно из самых великих таинств для крестьянина. Он не только уважает его, но и благоговейно готовится к нему, со страхом встречает. Тут Бог благословляет человека на новую жизнь, решает для него счастье или несчастье. Был жених добрый. А невеста честная — присудит Господь толику во брачной жизни, нет — не пошлет Господь и радости. Момент таинства поэтому самый крупный и страшный в жизни — момент исполнения предопределения Божьего. Отсюда и названия таинства — Судом Божьим»
{403}.
По православным понятиям семья являлась «малой церковью», то есть призвана была блюсти основы христианской жизни каждого своего члена. Носителями религиозных воззрений в патриархальной семье выступало старшее поколение, которое следило, чтобы молодежь не пропускала праздничные богослужения и аккуратно выполняла религиозные предписания. Под праздники читали Евангелие вслух, после ужина бабы становились на колени и наказывали детям молиться усердно. Ежедневные молитвы, как правило, пели, и поэтому крестьянские дети с раннего возраста знали наизусть «Отче Наш», «Царю Небесный», «Богородица Дево, радуйся», «Достойно есть» и другие молитвы.
В сопровождении взрослых дети примерно с пяти лет каждый праздник посещали церковь. Родители приучали ребенка к вере в Бога, внешнему смирению, наставляли вести себя в церкви чинно, степенно, молиться с усердием. В семь-восемь лет крестные родители отводили ребенка к исповеди и первому причастию. При этом они старались подготовить его к этому важному событию, рассказывали о необходимости очищения грехов и поясняли смысл причащения святых даров. Своевременная исповедь и причащение становились нормой жизни. Детей приучали и к соблюдению христианских постов, что включало прежде всего распространение пищевых запретов. Для соблюдения этих норм применялись как принудительные меры, так и шуточные угрозы, воспринимаемые маленькими детьми как вполне реальные
{404}.
Особое значение придавалось воспитанию стыдливости и целомудренности. Ведь само слово «невеста» в русском языке означает неведение греха, непорочность, которой христианство придавало почти мистическое значение. Русские свадебные обряды поощряли невесту и ее родителей, если та сохраняла духовную и телесную чистоту
{405}.
В массе своей неграмотные крестьяне видели пользу школы прежде всего в том, что в ней их детей учили Закону Божьему
{406}. Они всячески одобряли участие своих детей в церковном хоре, высоко ценили умение читать Псалтырь. Часослов, Деяния.
Данные 80—90-х годов XIX века и современные исследования убедительно говорят о преобладании духовно-нравственной литературы в круге чтения крестьян. В сообщении корреспондента из Орловской губернии Малоархангельского уезда Алексеевской волости (1889 год) говорится, что любимое чтение большинства (и особенно пожилых и среднего возраста) крестьян — духовная литература
{407}.
Крестьянское сознание определенно связывало поведение человека с состоянием его веры. Для того чтобы иметь хорошую репутацию, сельский житель должен был регулярно посещать церковь и аккуратно, на виду у всей деревни, выполнять предписанные обычаем религиозные обряды. По данным историка Б. Н. Миронова, в начале XX века к исповеди на Пасху приходило 85–90 процентов православного населения старше семи лет
{408}. В оценке крестьянами односельчанина его благочестие играло важнейшую роль. Положение и авторитет крестьянина в общине определялись не только его трудовыми навыками и умением вести хозяйство, но и соблюдением им норм христианской морали. Помня о том, что «вера без дел мертва», крестьяне судили о человеке не только по его набожности, а по тому, как он выполняет Христовы заповеди.
Повсеместно сношение с женщиной во время поста считалось грехом. Если у супругов рождался ребенок в первой половине декабря, его называли насмешливо «постником», подчеркивая, что зачатие произошло в Великий пост. Отца такого ребенка священник «усовещал за невоздержанность»
{409}. Крестьяне в основном соблюдали запрет на половую близость во время постов, и это подтверждается наблюдениями земских врачей. Д. Н. Жбанков, на основе сведений за 1872–1881 годы о рождаемости в с. Большом Пронского уезда Рязанской губернии, приходит к выводу, что минимум зачатий приходится на летние месяцы (рабочее время) и март, то есть период Великого поста
href="#c_410" rel="nofollow noopener noreferrer">{410}. Аналогичные выводы сделал и В. И. Никольский, изучавший динамику рождений у жителей Тамбовского уезда
{411}. И. И. Молессон, исследовавший проблемы рождения и смерти населения Тамбовской губернии за период с 1898 по 1900 год, в своей работе писал: «Наименьшее число рождений приходится на декабрь, а затем на апрель. Декабрьские рождения соответствуют мартовским зачатиям… в марте (Великий пост) совершенно не бывает новых браков, кроме того, истощение во время и тотчас после поста не может, конечно, благоприятствовать обилию зачатий»
{412}.
Воронежский крестьянин И. Столяров в своих воспоминаниях о детстве в деревне (конец XIX века) пишет, что посты в деревне соблюдались очень строго. В постные дни не пили молока не только взрослые, но и дети. Питались во время поста только квасом, кислой капустой, картофелем и пшенной кашей
{413}. К аналогичным выводам приходит и сторонний наблюдатель. Вот что по этому поводу говорит в книге, посвященной народным обычаям, А. Х. Минх (1890 год): «Русский народ строго соблюдает посты, решающийся без зазрения совести на кражу сочтет страшным грехом оскоромиться в постный день. Крестьяне постятся в среду и пятницу. В Рождественский сочельник не едят до звезды, а в Крещенский до воды»
{414}. Во время Великого и Успенского постов старались не есть первую еду рано, в особенности по средам и пятницам. Девки и молодые женщины говели до позднего обеда — «разве только та баба позавтракает, которая кормит грудного ребенка или нездорова»
{415}.
Соблюдение постов (всего в году насчитывалось более двухсот постных дней) определяло режим питания и рацион потребляемых продуктов. В церковный или престольный праздник на крестьянском столе были щи. вареное мясо, рыба, студень, блинчики, оладьи. Конечно, обилие праздничного стола во многом зависело от имущественного положения крестьянской семьи
{416}.
Несоблюдение поста отмечалось редко и даже считалось «богоотступничеством». Следует отметить, что крестьянин, который длительное время не исповедовался и не причащался, лишался права быть свидетелем на суде
{417}.
Крестьянские дети приобщались церковной традиции с юных лет, познавая все на собственном опыте. Особую роль в этом играл пример родителей, и прежде всего матери.
Высокий идеал нравственного совершенства виделся не только в умерщвлении плоти путем воздержания от скоромной пищи, но и в проявлении любви к ближнему, в милосердии и сострадании к тем, кто в них нуждался. Посты служили напоминанием о необходимости обратиться к людям нуждающимся и страждущим — нищим, заключенным, странникам, больным. На деле это осуществлялось по-разному — в виде подаяния, открытой или тайной милостыни, безвозмездной помощи
{418}.
Таким образом, православная вера была органически встроена в жизнь русской крестьянки. В своей обыденности женщина старалась руководствоваться требованиям христианской морали, хотя очевидно, что при всей искренности восприятия крестьянкой православных канонов большее внимание она уделяла обрядовой стороне веры. При этом в женском сознании существовал пласт представлений, являвшихся по своей сути суевериями.
Суеверия
Деревенские женщины в большей мере, чем мужчины, были подвержены суевериям. Этнограф Д. Н. Ушаков утверждал, что «носителем древних верований, старинных обычаев, преданий является преимущественно женское население»
{419}. Аналогичное мнение о суеверии крестьянок высказывало приходское духовенство. Так, в отчете о состоянии Воронежской епархии за 1912 год отмечалось, что «не исчезли еще в народе и остатки языческих суеверий, например вера в ворожбу, гадания, разные приметы. Суеверия эти распространены главным образом среди женщин»
{420}.
Много суеверий было связано с едва ли не самым значимым событием в жизни крестьянки — свадьбой. Женщины стремились обезопасить себя и оградить свою жизнь в замужестве от вмешательства «нечистой силы». Особенно невесты боялись «сглазу» и «порчи». Роль оберега выполняли иголки, которые втыкали в подвенечный наряд.
В селах Тамбовской губернии, когда невесту «убирали к венцу», ей сыпали мак на голову, в обувь и даже за пазуху, что должно было обеспечить жизнь в замужестве в полном довольствии. Серьги невесте в уши вдевала женщина, которая находилась со своим мужем в наилучших отношениях. Считалось, что таким образом она сообщает молодой «судьбу» иметь лад в супружеской жизни
{421}.
Во время венчания невеста старалась первой встать на подножный платок, чтобы главенствовать в семье. С той же целью держали венчальную свечу выше, чем у жениха
{422}. Молодые жены в новгородских селах с целью иметь власть над мужем и во избежание его побоев и неверности прибегали к услугам знахарок, которые делали наговоры на вино или кушанье, которые они потом ставили супругам на стол
{423}.
Ряд суеверий сельских жителей определенно имеет гендерную окраску. Например, женщинам запрещалось резать птицу. не говоря уже о домашних животных
{424}. Под Новый год большим грехом считалось прясть. В течение года этот запрет действовал накануне пятницы и в саму пятницу
{425}. В иных селах в пятницу бабы не пряли, чтобы не «запылить Богородицу», которая «в этот день ходит по избам»
{426}. В день Усекновения главы Иоанна Предтечи воспрещалось срезать на огороде капусту и есть плоды круглой формы. В понедельник первой недели Великого поста совсем нельзя было прясть, сучить нитки и вить веревки, чтобы не «выкрутить» червей на капусту и сады. В течение целой недели, от Троицы до петровских дней, нельзя было колотить вальком белье и новую ткань во время ее беления
{427}.
Весьма значима роль женщины в аграрной магии русского села. Началу жатвы в Московской губернии предшествовал «зажин». Его осуществляла старуха, которая вечером выходила на ниву, где клала три земных поклона и жала три снопа, складывая их крестообразно
{428}. По окончании жатвы оставляли одну полосу — «Илье на бороду», приговаривая: «Батюшка Илья, зароди на лето побольше хлебушка!» Когда жатва была окончена, жнея ложилась на землю и каталась со словами: «Отдай мою силушку на яровую жнивку!»
{429} Так же поступали и в селах Новгородской губернии
{430}. Орловские бабы во время «дожинок» катались по жнивью со словами: «Жниво, жниво, отдай мою силу!», дабы вернуть потраченные при жатве силы
{431}.
Первый выгон скота в селе, как правило, на Егория (26 апреля), деревенские бабы производили веточками вербы, оставленными с Вербного воскресенья. Крестьянки верили, что это обезопасит скот от болезней. В селах Калужской губернии во время отела коровы для прекращения ее мук заставляли кого-либо из девочек пролезть под воротами
{432}.
 Знахарка лечит ребенка наговоренной водой.
Рязанская губерния. 1914 год
Знахарка лечит ребенка наговоренной водой.
Рязанская губерния. 1914 год
Отдельные суеверия были связаны с домашним обиходом. Крестьянки в Курской губернии, прежде чем поставить хлеб в печь, крестили тесто и рисовали на нем крест. Здесь же, когда резали петуха и варили его. косточку от правого крыла вынимали и вплетали девушкам в косу, чтобы они долго не спали, а рано вставали как петухи
{433}. Обязательным для хозяйки в деревне считалось класть поверх всякой открытой посуды палочки крест-накрест, чтобы в пищу или питие не проник «лукавый»
{434}. В Орловской губернии, чтобы не было в доме блох, в Чистый четверг девушка или молодая женщина до восхода солнца должна была без одежды вымести сор из избы
{435}.
В оценке соотношения языческих и христианских элементов в воззрениях русских крестьян следует согласиться с утверждением М. Власовой, что «они составляют единое целое, единую веру, которую, безусловно, нельзя назвать двоеверием»
{436}. Совершенно справедливое утверждение: наследие язычества в крестьянском сознании и духовной жизни села не было равноценно православию — оно играло, по сути, второстепенную, подчиненную роль.
Обряды
Сельские обряды — это форма народной памяти, в которой сконцентрирован вековой опыт отношения человека к окружающему миру. Изучение крестьянских обрядов дает исследователю богатый материал для научного осмысления сельской повседневности. Многообразная ритуальная жизнь русской деревни отражала в себе практически все стороны крестьянского бытия. Сельский обряд сопровождал человека от рождения до смерти. Хранительницей и носительницей обрядовых традиций в селе была женщина. Сама дающая жизнь, она занимала ведущее место в обрядах, связанных с пограничными моментами в крестьянской судьбе — жизнью и смертью.
Новорожденных крестили в церкви на второй-третий день. По причине высокой детской смертности родители стремились принести ребенка ко «святой купели» как можно раньше; считалось, что младенцы, умершие крещеными, становятся ангелами. Таинство крещения совершалось в сельском храме в присутствии восприемников, которые отныне становились ответственными перед Богом за благочестивую жизнь своего крестника. По приходе из церкви устраивали крестины и накрывали праздничный стол. На почетное место усаживали кума и куму. Следует отметить, что крестьяне придавали большое значение духовному родству. В Моршанском уезде Тамбовской губернии в середине XIX века крестьяне считали непростительным грехом поссориться с кумом или кумой. Желая исключить возможность совершения такого греха, предпочитали не приглашать в крестные родственников и не вступать в отношения кумовства с теми, с кем жили в одном доме
{437}.
Целый комплекс обрядовых действий в русской деревне был связан с рождением ребенка. Главную роль в них играла повитуха. Избегали приглашать тех повитух, у которых повитые дети умирали; считалось, что у них «тяжелая рука»
{438}.
Усилия повивальной бабки включали в себя как испытанные приемы, стимулирующие родовые потуги, так и ритуальные действия, направленные на защиту роженицы и младенца от влияния бесовских сил
{439}. По приходе в дом роженицы повитуха первым делом зажигала лампаду и свечи. Это считалось столь обязательным, что при болезненности младенца подозревали, что «он, верно, родился без света». Все домочадцы вместе с повитухой усердно молились. Роженица просила у всех прощения, как перед исповедью, чтобы Бог простил и дал легкие роды.
Наряду с этим широко использовались действия, совершавшиеся по принципу подражательной магии. Стремясь ускорить роды, развязывали все узлы на одежде роженицы, распускали ей волосы, раскрывали все двери, ворота, шкафы, сундуки, вынимали печную заслонку
{440}. В Тамбовской губернии при родах повитуха заставляла «арженицу». так здесь называли роженицу, снимать всю одежду и даже крест. По суеверным воззрениям считалось, что каждую вещь, носимую во время родов, женщина должна выстрадать
{441}. В особо тяжелых случаях обращались к священнику с просьбой открыть «царские врата» в сельском храме, что, по мнению крестьян, способствовало скорейшему разрешению от бремени.
Заговоры повитух включали в себя обращения к Господу, Богородице и различным святым. Традиционной покровительницей в родах считали Соломониду (Соломею), которая, согласно апокрифическому Протоевангелию Иакова, принимала божественные роды у Девы Марии. Религиозный элемент проявлялся очень четко. Скорой и усердной помощницей в родах крестьянки считали Анну-пророчицу. Почетом у рожениц пользовались святая великомученица Варвара и Екатерина Великомученица, так как сами «трудились родами». Во время родовых потуг повитуха приговаривала: «Матерь Божья, святые угодники, Иисусе Христе, ослобоните рабу Божию, пошлите ей на все хорошее»
{442}.
Весь процесс рождения сопровождался чередой последовательных действий. Этот ритуал носил обязательный характер, выступал неким свидетельством самого факта рождения. По утверждению этнографа А. К. Байбурина, «в традиционной культуре событие, соотнесенное с ритуалом (смерть, рождение), может и произойти, но человек считается умершим и родившимся только после совершения соответствующих обрядов»
{443}.
Пеленание младенца сопровождалось молитвой и крестным знамением. Если ребенок сильно кричал, то бабка «вспрыскивала с уголька», для чего в чашку с водой клала уголь, затем набирала этот раствор в рот и трижды брызгала в лицо младенца со словами: «Господи, спаси младенца!»
{444}.
Одним из обрядов, совершаемых повитухой, было «крещение в горшке». К нему прибегали в тех случаях, когда ребенок рождался слабым и мог не дожить до крещения. В таких случаях младенца торопились окрестить, боясь, чтобы он не умер «богдашкой» (некрещеным). Исходя из канонов православия, повивальная бабка не могла совершать таинство крещения, но страх родителей перед тем, что младенец умрет некрещеным, оказывался сильнее догматических запретов. Во время обряда повитуха зажигала свечи вокруг горшка с водой, с положенной молитвой опускала ребенка в купель и надевала ему крест. Если новорожденный доживал до утра, то его везли в церковь, где священник совершал таинство и читал огласительные молитвы, но уже без погружения в воду
{445}.
Непременным этапом комплекса родильного обряда было парение роженицы и младенца в бане или печи. Этим достигалось как очищение женщины от родовой скверны, так и профилактика новорожденного от возможных болезней. При первом парении ребенка в печи бабка приговаривала: «Парю я раба Божия младенца (имя) от скорбутныя, от щепо-ты, от скорбутныя ломоты, — от денныя и ночныя, от полуденныя и полунощныя; от девки косматки, от бабы пустоволоски. Освободи, Господи, от отцовские думы и материнския. Аминь, Аминь. Аминь»
{446}.
По крестьянским представлениям все новорожденные младенцы при появлении на свет бывают помяты, и поэтому их надо обязательно править руками. Поэтому, как говорили в деревне, повитуха «отпаривала» и «правила» новорожденного. Все манипуляции: обжимание головки, выпрямление ножек, ручек и т. п. — сопровождались приговором:
Что не я тебя парю,
Не я тебя правлю:
Парит тебя бабка Соломия
И здоровье подает.
Действия охранительного свойства повитуха совершала и по отношению к роженице. В бане бабка терла ей лоб солью и при этом говорила: «Как эта соль не боится ни жару, ни вару, ни опризорищей, ни оговорищей, так бы раба Божия (имя) не боялась ни опризорищей, ни оговорищей»
{447}. Повивальная бабка ей одной известными способами делала все, чтобы быстрее поставить женщину на ноги. После родов в бане повитуха «правила» роженице «живот». Для того чтобы вернуть «золотник» (то есть матку) на место, бабка заставляла родильницу вставать на четвереньки и опереться руками, затем сильно вс тряхивала ее за лодыжки. При этом в некоторых местах употребляли интересный приговор: «Срастайся низушка, сустав в сустав, только х… место оставь»
{448}. Трудно судить, насколько действенными были все эти приемы. Очевидно одно, что все действия повивальной бабки были подчинены одной цели — быстрее вернуть роженицу к ее повседневным заботам.
Вот как описывает процесс реабилитации роженицы и участие в нем современник: «После крестин бабка-повитуха остается в доме роженицы на неделю-две. Обязанности ее в это время состоят в том, чтобы заботиться о ребенке, ежедневно обмывать и пеленать его и хлопотать вместо роженицы по хозяйству. Родительницу она парит в бане или печи, поит различными лекарственными травами и правит опустившийся после родов живот, растирая при этом деревянным маслом. Настой водки на калгане употребляют как средство, способствующее подъему живота; анис и богородскую траву пьют для того, чтобы из груди свободнее шло молоко»
{449}.
Завершалось пребывание повитухи в доме у роженицы обрядом «размывания рук». Исполнение его давало по представлению крестьян частичное очищение роженице и позволяло повитухе идти принимать очередные роды. Последовательность действий в обряде была следующей. В таз с водой бросали горсть овса или хмеля, затем три горящих угля. Посередине избы крестообразно клали топор и веник. Женщина становилась на них правой ногой. Повитуха лила воду на руки женщине так, чтобы она стекала ей по локтям. Та, в свою очередь, подхватывала воду с правого локтя левой рукой и пила, так повторялось три раза. Затем это же делала повитуха. По окончании ритуала они усердно молились Богу, а роженица трехкратно кланялась бабке и просила у той прощения. В завершение всего повивальной бабке давали мелкую монету или дарили кусок полотна, ковригу хлеба, солонку соли
{450}. В случае смерти сельской повитухи в последний путь проводить ее приходили все женщины, у которых она принимала роды.
Наиболее известным из сельских ритуалов, связанных с заклинанием смерти, был обряд опахивания. Очевидно, этот обряд, не единожды описанный этнографами, возник в русской деревне в дохристианский период. В дальнейшем, сохранив свой предохранительный смысл, он органически вобрал в себя и христианскую атрибутику. К опахиванию в селе прибегали в случаях эпидемий, падежа скота. О бытовании этого обряда в конце XIX века свидетельствуют наблюдения этнографов-современников. Так, опахивание было зафиксировано в Орловской, Рязанской, Ярославской, Тульской. Харьковской и других губерниях.
Этнографические источники, несколько отличаясь в деталях, схожи в передаче содержания ритуальных действий. Вот примерный сценарий обряда. В глухую полночь выходили на улицу девушки и вдовы, заранее сговорившись между собой. Участницы были в белых рубахах, с распущенными волосами и с зажженными свечами. Они вооружались всем тем, что может издавать звук: косы, сковороды, печные заслонки и т. и. Впереди процессии несли иконы Пресвятой Богородицы. Николая Чудотворца, кадили ладаном. Далее находился главный предмет действия — соха. В нее впрягали в одних местах бабу-неродицу, в других — вдову, известную своей благочестивой жизнью
{451}. Сохой правила девушка, которая собиралась замуж. Остальные девки помогали тащить соху вокруг деревни. Вдовы. шедшие вослед, набирали песок и рассеивали его по борозде
{452}.
В обряде явно прослеживались черты языческих суеверий — «злые силы» следовало задобрить. С целью отвести беду от родного села опахивание дополнялось жертвоприношением — закапыванием живой кошки, собаки, сжиганием черного петуха на костре из дерна. В Орловской губернии в ходе ритуала в борозду зарывали живыми черного щенка, черную курицу, черного петуха
{453}.
Как магические приемы уживались с курением ладана и иконами, так и магические заклинания сочетались с молитвами и церковными возгласами
{454}. Например, в одном из пензенских сел в середине XIX века вдовы, «известные своей добродетельной жизнью», и девушки при опахивании пели: «Царю небесный! Святый Боже!» В Тульской губернии участницы обряда несли икону Спасителя или Божьей Матери и пели: «Господи, помилуй». Бабы в пензенских селах во время хода наблюдали, чтобы соха как можно глубже проводила черту вокруг села, и при этом пели молитвы: «Святый Боже», «Богородица», «Отче наш»
{455}. В деревне Сосено Щелкановской волости Мещевского уезда Калужской губернии при опахивании села участницы обряда пели: «Мы идем, мы везем, девять девок, три вдовы, с ладаном, со свечьми, со святым Уласьем (Власием). Господи помилуй от коровьей смерти»
{456}.
К опахиванию прибегали и с целью борьбы с холерой. Летом 1893 года в орловском селе Богодухове женщины три ночи подряд опахивали селение. Во время обряда били в косы, пели песни, где рефреном повторялась фраза: «Смерть, смерть, выйди вон из нашего села, изо всякого двора». На перекрестках участники охранительного действия жгли солому, прыгали через очистительный огонь, а над воротами каждого двора дегтем писали крест
{457}.
В Тамбовской губернии во время опахивания процессия останавливалась в каждом переулке, ее участники распахивали сохой борозду в форме креста и зарывали часть курившегося ладана с целью отогнать нечистого духа. Символический круг, в который замыкали село, был, по мнению участников обряда, непреодолим для всякой нечисти. В Харьковской губернии для предотвращения падежа скота село с сохой обходили трехкратно, после чего на перекрестке разводили костер и прыгали через огонь с целью очищения. Участники обряда считали, что смерть можно отогнать или ввести в заблуждение. С этой целью во время шествия женщины скакали на палках, рогачах, метлах, ударяли в сковороды и припевали:
Ух, ты, смерть, смерть,
Не ходи в наше село.
В нашем селе девять дев, девять баб,
девять маленьких ребят,
Встречный человек при этом воспринимался как препятствие, могущее нарушить ход обряда и угрожающее достижению успеха. Если процессия крестьянок во время опахивания встречала мужчину, то его считали воплощением несчастья, против которого совершался обряд, и порой жестоко избивали, приговаривая «вот коровья смерть пришла»
4{459}. «Встречных бьют и ругают срамными словами», потому что «принимают за язву», — пишет исследователь
{460}. Поэтому мужики, как правило, во время таких церемоний сидели дома, зная, что их любопытство может иметь самые тяжелые последствия. Этнограф Машкин, описывая обряд опахивания в деревнях Курской губернии, отмечал, что «бабы доходят до остервенения и бросаются на все, что попадается на пути, а случайных прохожих избивают до полусмерти»
{461}. В тамбовских селах, по свидетельству очевидцев, этот обряд совершался втайне от мужчин
{462}.
 Обряд опахивания села
Обряд опахивания села
Сочетание в этом обряде молитвы, икон, креста с языческим жертвоприношением, смиренного призыва к милости Божьей с дикой, животной яростью может показаться парадоксальным. Но это противоречие лишь кажущееся, сродни извечной тяги мужика к «иконе и топору».
Значительной была роль сельской женщины в поминальных обрядах. Жители русского села демонстрировали поистине христианское отношение к смерти, воспринимая ее как неизбежный конец жизни земной и начало жизни вечной. Крестьяне делали все, чтобы проводить душу умершего родственника или соседа в мир иной достойным образом. По отзыву современника (1897 год), «без напутствия исповедью и Св. Тайнами крестьяне не позволяют никому умереть»
{463}. Когда человек приближался к смерти, ему спешили дать в руки зажженную свечу и поставить на окно чашку с водой. По народным поверьям считалось, что «тело-то грешное вымоется, а вот душа-то матушка, чтобы не осталась немытой — так и ей должно приготовить искупаться»
{464}.
С середины XIX века обмыванием покойников в деревне занимались исключительно женщины. По сообщению из Вологодской губернии, «в каждом селении почти есть старуха, которая обмывает покойников, ей за это дают что-нибудь из одежды, оставшейся после умершего: сарафан, рубашку или платок»
{465}. Иногда покойников обмывали повивальные бабки, а также вдовы или девушки, отличавшиеся набожностью и давшие обет безбрачия. Обмывать покойников считалось делом богоугодным. В деревне говорили: «Трех покойников обмоешь — все грехи отпущены будут, сорок обмоешь — сам безгрешным станешь». Обмывала тело одна женщина, две другие ей помогали. При этом обязательно читались молитвы.
После омовения и литии тело усопшего клали в передний угол на скамьях головой к иконам. На божницу ставили хлеб или блины, чтобы душа могла подкрепиться. До погребения кто-то из близких покойного или приглашенная черничка неустанно читали Псалтырь. С умершим прощались всей деревней, каждый считал своим долгом поклониться «почившему в Бозе» соседу. Обычно приходили с приношениями (холстом, свечками, мукой и т. п.) «на помин души», иногда оказывали помощь деньгами.
Похороны в селе всегда были церковными. Усопшего отпевали в церкви и предавали земле на сельском кладбище. На поминках обедала вся деревня в несколько смен. Малые поминки устраивались для родных на девятый, двадцатый и сороковой день. Как правило, поминали блинами с медом и кутьей. Употребление лакомой пищи символизировало будущее наслаждение усопшего в райской обители
{466}. В течение шести недель на стол ставили поминальную еду, а сами домочадцы усиленно молились о том, чтобы Господь простил новопреставленному рабу Божьему «грехи вольные и невольные» и вселил «во дворы Твоя». Следует признать, что традиция христианского поминовения — одна из самых устойчивых традиций сельской жизни.
Город. Отхожие промыслы
Город находился вне пределов жизненного пространства русской бабы, ограниченного сельской околицей. Этот «другой мир» пугал и манил одновременно. Страх вызывали периодически наведывавшиеся в деревню чиновники, будьте становой пристав или судебный следователь. Такие визиты обычно не сулили крестьянам ничего хорошего. В город ездил мужик с целью сбыта товара и возвращался оттуда, как правило, навеселе с гостинцами для домочадцев. Для села город выступал источником слухов, которые разносили по волости заезжие торговцы. Оттуда в привычный уклад деревни проникали всевозможные городские новации (калоши, зонтик, керосиновая лампа, часы-ходики и т. п.). Мир города для крестьянки мог быть щедрым, давая заработок мужу-отходнику, и, напротив, беспощадным, награждая несчастную бабу сифилисом или триппером, принесенным супругом в семью от городской проститутки. Влияние города на жизнь села, судьбу крестьянки было очевидно, оно усилилось в пореформенный период, в ходе модернизации страны, которая буквально на глазах современников ломала общинный строй и семейный уклад деревенской жизни.
На протяжении пореформенного периода и особенно в конце XIX века росло число крестьян-отходников. Эта тенденция была характерна для промысловых губерний, где крестьянский отход вошел в традицию еще в XVIII веке. Однако развитие товарно-денежных отношений в стране на фоне аграрного перенаселения толкало искать сторонний заработок и все большее число крестьян губерний Центрального Черноземья. Судя по данным паспортной статистики региона, резкий скачок отходничества произошел во второе пореформенное десятилетие, когда количество полученных паспортов по сравнению с 1861–1870 годами выросло в Воронежской губернии в 5,2 раза, в Курской — 3,2, в Орловской — 2,4, в Тамбовской — 2,5. В 1891–1900 годах по отношению к 1861–1870 годам произошло увеличение числа полученных крестьянами паспортов на 795,3 процента в Воронежской губернии, на 674,5 процента в Курской губернии, на 453,1 процента в Орловской губернии, на 387,9 процента в Тамбовской губернии
{467}. Число отходников в Центрально-Черноземном районе составляло около 1250 тыс. человек, или 8 процентов всего населения
{468}.
Отхожий промысел в российской деревне был преимущественно мужским занятием. В Тамбовской губернии на долю мужчин в 1899 году приходилось 93,3 процента всех отходников. Хотя были и исключения: в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии женщины составляли до 25 процентов отходников, в Новохоперском уезде Воронежской губернии — 27,8 процента
{469}.
Участие крестьянок в отхожих промыслах было затруднено по причине наложенных на них ограничений в свободе передвижения. По закону при необходимости покинуть пределы волости крестьянка должна была получить на это разрешение от супруга или старшего члена семьи. Это лишало женщин возможности самостоятельного заработка
{470} и, можно предположить, создавало для мужа лишнюю возможность оказывать давление на жену.
Правда, по мере роста самосознания крестьянок требуемое по закону согласие мужа на выдачу паспорта супруге не становилось непреодолимым препятствием. Бывало, что жены в результате размолвок просили у волостных правлений выдать отдельные от мужей паспорта. Примером может служить приводимое ниже прошение. Крестьянка Ярославской губернии Мышкинского уезда Плосковской волости деревни Иванищева Анастасия Семенова, проживающая в Петербурге, просит о выдаче ей отдельного от мужа вида на жительство и называет при этом следующие причины: «…Прошу Вас, пожалуйста, выдать мне на жительство вид отдельный от мужа, я уже не живу с ним 2 года и не желаю с ним жить, жизнь моя была с ним невыносима, что я когда была в деревне, то свекровь, или его мать, сделала совместную жизнь невозможной, а со стороны мужа терпела одни побои и дурное обращение…»
{471}.
Отходничество, будучи следствием возросшей мобильности сельского населения, стало серьезным испытанием прочности патриархальной семьи. В конце XIX века в 50 губерниях Европейской России побочные промысловые занятия имели 5029,9 тыс. человек, или 7,2 процента от общей численности сельского населения.
Если в черноземных губерниях крестьянский отход носил преимущественно земледельческий характер, то в промышленных регионах страны положение было иное. По данным П. А. Вихляева, неземледельческий отход составлял в черноземной Воронежской губернии 24,4 процента, а в нечерноземной Тверской губернии — 92,1 процента
{472}.
Отходничество оказывало сильное влияние на жизнь сельского населения, его экономику, социальные и семейные отношения, привычки и обычаи. Являясь альтернативой привычному миру, оно тем не менее оставалось его неотъемлемой частью. Неземледельческие промыслы трансформировали привычные отношения и модели поведения в сельской повседневности.
Дореволюционный исследователь смоленской деревни И. Орловский замечал: «Отхожие промыслы сильно влияют на всю жизнь деревни, изменяют ее настолько, что отхожие деревни резко отличаются от оседлых: жилища, одежда, все привычки, все мировоззрение народа»
{473}.
Характеризуя влияние отхожего промысла на жизнь села, корреспондент «Тамбовских губернских ведомостей» в 1882 году сообщал из Елатомского уезда: «Мужчины в большей части не бывают дома, а с полевыми работами управляются одни бабы. Мужья и братья присылают с заработков достаточно денег, и хозяйство в каждой семье идет хорошо.
В Новой Деревне есть крестьяне, которые зарабатывают на морских пароходах до 600 руб. в год. Они нанимают рабочих для обработки у себя земли»
{474}.
В наибольшей мере переменам была подвержена сельская молодежь. Последствия трудовой миграции молодых У крестьян в город стали очевидны для современников уже в конце XIX века. В 1887 году этнограф Л. П. Весин оценивал их следующим образом: «Крестьянская молодежь уходит на фабрики и заводы, в услужение, пристраивается к торговым и промышленным заведениям, и вот здесь-то, вкусив плодов городской жизни, теряет мало-помалу всякую связь с семьей, усваивает новые привычки и понятия, приобретает наклонность к независимой жизни. Подобные личности возвращаются в деревню, вносят в окружающую среду семена раздора, антагонизма, которые с течением времени разрастаются до таких размеров, что дальнейшее сожительство членов семьи становиться невозможным… Можно допустить, что продолжи тельные отлучки из дома, приучая рабочего к самостоятельной жизни, действительно развивают в нем дух индивидуализма и независимости, который делает его неспособным переносить суровые условия жизни большой крестьянской семьи, где деспотизм проявляется часто в весьма резкой форме»
{475}.
Участие части мужского населения села в сторонних заработках вело к нарушению традиционного половозрастного разделения труда в крестьянском дворе, затрудняло возможность создать семью. В уездах, где наблюдался высокий процент мужчин-отходников, девушкам нелегко было выйти замуж. Объясняется это тем, что из деревни на заработки уходили потенциальные женихи — молодые и крепкие мужчины, а дома оставались в основном «увальни» и «убогие». «Отходничество забирает лишь сильных и способных, то есть таких, которые, оставшись в деревне, составили бы там «соль земли», — отмечали члены Епифанского уездного комитета Тульской губернии
{476}.
В начале XX века в некоторых местностях Верхнего Поволжья отходом было занято «почти все мужское население». Часто в деревне оставалась только так называемая «питерская браковка», то есть люди, не удовлетворявшие требованиям, предъявляемым к отходнику: старики, судимые, пьяницы и пр. В ряде районов среди крестьян считалось позором для мужчины прожить всю жизнь в деревне, ни разу не участвуя в отхожих промыслах. Корреспонденты ярославского земства так описывали отношение к молодым крестьянам, не занимающимся отхожим промыслом: «…Оседлого молодого человека считают за недееспособного, недоразвитого; даже невесты игнорируют». «Девушки упираются идти за деревенского жителя. Почему? Потому, что негде копеечку ему достать, нарядов послать»
{477}.
Лучшими женихами считались отходники, которые возвратились с промысла. Деревенские невесты, конечно, хорошо понимали все плюсы и минусы этой категории женихов. Отходник имел жизненный опыт, уверенно держался, с ним было интересно общаться, а самое главное, с ним связывали возможность вырваться из деревни к хорошей жизни. На «дурные наклонности», приобретенные в городе, невесты предпочитали не обращать внимания
{478}.
Оценки влияния отходников на сельскую повседневность представителей разных слоев деревни схожи. Тамбовский помещик Н. В. Давыдов считал, что «возвращавшиеся домой крестьяне вносили в сельскую жизнь понятия, далеко не всегда желательные, радикально расходившиеся с прежними воззрениями»
{479}. О пагубном влиянии на патриархальные устои крестьянской семьи отходников сообщали в своих рапортах сельские приходские священники Тамбовской епархии. Они, в частности, писали: «Побывал паренек в Питере, стал другим человеком»; «Авторитет родителей над детьми ослабевает»; «Молодое поколение, возвратившись с заработков, стремится отделиться» и т. п.
{480}
Этнограф Г. С. Виноградов отмечал в 1914 году: «Усложнившиеся жизненные условия, близкое соприкосновение города с деревней, приток новых веяний — все это постепенно разрушало и продолжает разрушать былой патриархальный уклад, меняло и все еще продолжает менять духовную физиономию деревни»
{481}.
Но наряду с негативными последствиями отходничества современники усматривали в этом явлении и позитивное влияние на жизнь села. Вот как характеризует отходничество земский начальник 2-го участка Ростовского уезда Ярославской губернии: «Отхожими промыслами деревня живет, одевается, учится и оплачивается. Приходя с промысла, крестьянин не только научает своих домашних и односельчан разным порокам, но вносит… потребности грамотности и образованности. приносит технические, агрономические и другие знания, которые могут быть непосредственно применены в крестьянской жизни»
{482}.
Особенно было велико влияние крестьянского отхода на повседневную жизнь сельской семьи. Отхожий промысел членов семьи существенно подрывал позиции большака. Длительное отсутствие отходников ослабляло родительский контроль. Крестьяне в черноземных деревнях стремились не отпускать членов своих семей на слишком дальние расстояния, стараясь найти им работу вблизи дома. Холостых парней перед уходом из деревни спешили женить
{483}.
Несмотря на жесткое требование большака работать на «общий кошель», отходникам удавалось скрыть часть заработка, что, в свою очередь, становилось первоначальным капиталом для самостоятельного ведения хозяйства. Утаивание части заработка на личные потребности и нужды своей отдельной, «малой», семьи, по свидетельству старожилов, было одной из причин семейных конфликтов и последующих разделов. По наблюдению статистика Н. Романова, автора монографического описания с. Каменка Тамбовской губернии, «большое количество молодых крестьян оставляют временно деревню и возвращаются с изменившимися понятиями и наклонностями, с ослабевшими родственными чувствами, в большинстве случаев они заводят свое отдельное хозяйство»
{484}.
Очевидно, что отсутствие мужей-отходников приводило к снижению рождаемости и общего числа детей в семье. По наблюдениям доктора Д. Н. Жбанкова среднее число детей в семье отходника было вдвое ниже, чем в тех семьях, где муж хозяйства не покидал
{485}. Положительным следствием этого некоторые специалисты считали «передышку» крестьянки от непрерывных беременностей и лактации, а также возможность уделять больше внимания и заботы подрастающим детям
{486}.
С другой стороны, отхожие промыслы отрицательно влияли на крепость семейных уз. Вдали от дома, вне контроля со стороны семьи и общины крестьяне, особенно молодые, нередко пускались «во все тяжкие». С распространением сторонних промыслов связывался рост количества супружеских измен в конце XIX — начале XX века
{487}. Город — уездный или губернский, а иногда столичный — давал не только возможность заработка, но и «доступной любви». Крестьяне, покинувшие деревню ради работы на фабрике или в артели, посещали проституток, сожительствовали с такими же, как они сами, отходницами
{488}. Как писал исследователь этого вопроса, крестьяне, «оторванные от семей в пору наибольшего полового развития и, попадая в непривычную им обстановку… заражаются сифилисом и приносят этот печальный продукт «цивилизации» в свою родную глушь»
{489}.
Вспышкам сифилиса в сельской местности способствовал и технический прогресс, в частности развитие железнодорожного транспорта. По мнению публициста дореволюционной поры: «Из больших городов и промышленных сел при легкости путей сообщения венерические заражения разносятся по деревням большей частью фабричными, прибывающими ежегодно в свое время к себе в деревню, а также и солдатами, приходящими «на побывку». Там при несовершенстве медицинской части и невежестве масс венерические болезни и получают дальнейшее развитие»
{490}.
Нельзя также исключать, что каналом проникновения этой заразы в село выступали деревенские девушки, работавшие в городе в качестве прислуги или продавщиц и промышлявшие проституцией. Заразившись от клиентов, они передавали болезнь во время праздничных побывок в своих семьях. А далее распространение болезни, как утверждали венерологи, шло преимущественно бытовым путем. В Усманском уезде Тамбовской губернии по данным за 1886 год заражение внеполовым путем составляло 85.2 процента
{491}.
Да и могло ли быть иначе, когда в крестьянской семье ели из одной миски, пили из одной кружки, утирались одним полотенцем, пользовались чужим бельем
{492}. Объясняя причину широкого распространения сифилиса в деревне, врач Г. Герценштейн указывал, что «болезнь распространяется не половым путем, а передается при повседневных общежительских отношениях здоровых и больных членов семьи, соседей и захожих людей. Общая миска, ложка, невинный поцелуй ребенка распространяли заразу все дальше и дальше…»
{493}. Большинство исследователей, как прошлого, так и настоящего, солидарны в том, что основной формой заражения и распространения сифилиса в русском селе являлась бытовая, вследствие несоблюдения населением элементарных правил гигиены.
В пореформенное время увеличилось количество женщин, занятых отходничеством. В 1880-х годах в среднем на каждую тысячу крестьян-отходников столичной губернии приходилось 506 крестьянок, уходивших на заработки
{494}. Характер женского отхода и его география имели региональные особенности. Особой притягательной силой для крестьянок, покидавших родные села, обладали столица и крупные города,
что вполне объяснимо — там было легче найти работу. Так, крестьянки Олонецкой губернии отправлялись в основном в Санкт-Петербург и Петрозаводск, где находили работу нянек, сиделок, кухарок, прачек, портних, работниц на фабриках, а также «капорок», занимаясь огородничеством в пригородах столицы
{495}.
«Самостоятельный женский отход, — писал Д. Н. Жбанков, — наблюдается в фабричных местностях для работ на фабриках и из местностей, близких к городам, куда они идут в качестве всякого рода прислуги. Впрочем, есть местности с развитием и отдаленного женского отхода, так, например, из некоторых уездов Тверской и Новгородской губерний свободные женщины, т. е. вдовы и девушки, уходят на все лето в Петербург для работы на огородах; то же наблюдается и в подмосковных уездах»
{496}.
Как пишет современный исследователь крестьянского отхода А. Н. Курцев, «при отсутствии или занятости младших мужчин, когда оставались только дочери, семьи отправляли в городской отход девушек: раньше в Москву, затем в Питер и другие города, включая Варшаву». В тульских селах уже в «16–18 лет выходили замуж, засидевшиеся же отправлялись» по крупным городам работать прислугой: горничными и няньками, кухарками и прачками. Часть девушек «после свадьбы вместе с мужьями уходили на фабрики», главным образом ткацкие
{497}.
Женщин из малоимущих семей к уходу на заработки толкала потеря мужа. По данным конца XIX века в некоторых волостях Петрозаводского уезда овдовевшие крестьянки составляли до трети всех отходниц. Крестьянки в зрелом возрасте оставались либо на попечении сыновей, либо, при несовершеннолетии последних, становились во главе семьи
{498}.
Порой сторонние заработки сельских баб служили существенным вкладом в бюджет крестьянской семьи. В Мамадышевском уезде Казанской губернии крестьянки в 1915 году работали на пристанях на погрузке леса, причем, судя по жандармским отчетам, зарабатывали очень неплохо. В том же уезде крестьянки трудились на строительстве железной дороги, получая 1 рубль 80 копеек в день, что на 30 копеек было больше оплаты труда мужика-поденщика с лошадью
{499}. Стоит согласиться с утверждением И. Н. Милоголовой, что «ведущими в трансформации стереотипов обыденного сознания крестьянки в пореформенный период являлись не психологические причины, а товарно-денежные отношения. Женщины в областях развитого отхожего промысла были более независимыми и уверенными в себе, знали «цену своей работе и себе»
{500}.
Интимная жизнь
Интимная жизнь русских крестьян нечасто становится объектом научных исследований. Это существенно обедняет процесс изучения повседневной жизни русского села, не позволяет достичь полноты исторической реконструкции крестьянской обыденности.
Сексуальное поведение сельских жителей определялось исторически сложившимся образом жизни русской деревни, регулировалось установлениями православной веры и бытовавшими в крестьянской среде стереотипами. Первое знакомство крестьянских детей с миром сексуальных удовольствий происходило чрезвычайно рано. Близость сельского бытия к живой природе позволяла юному взору наблюдать картины бесконечных соитий «братьев меньших», будь то — «собачьи свадьбы», «топтанье» кур или «покрытие» коров.
Совместное мытье в бане и купание в реке давали возможность наглядно узреть отличия, определяющие деление на баб и мужиков. В условиях скученности проживания, тесноты крестьянской избы половые отношения родителей были У лишены должной интимности. Не будем забывать и о том, что крестьянские ребятишки присутствовали на сельских праздниках, свадьбах, гуляньях, где также могли быть вольными и невольными свидетелями непристойных сцен. Деревенские частушки с их похабными сюжетами выступали еще одним каналом сексуальной информации. Представления о «плоде запретном» дополняли рассказы старших товарищей о своих реальных и мнимых любовных подвигах. Через любопытство, а потом и игру со своими гениталиями приходил первый опыт мастурбации. По всей видимости, детский онанизм в селе был явлением достаточно распространенным, и родители не придавали серьезного значения этим шалостям. Правда, оставался еще страх быть застигнутым за этим позорным, как считали в народе, занятием. Да и сельский батюшка, узнав у юного исповедника о его увлечении рукоблудием, внушал отроку о греховности этого порока
{501}.
В подтверждение сказанного приведем достаточно пространное свидетельство о нравах жителей сел Нижегородской губернии, составленное С. В. Корвин-Круковским в 1899–1902 годах: «Доказательством особенной развращенности девушки служит, по мнению народа, и очень ранний возраст «согрешившей»… если она, употребляя юридический термин, «действует с полным разумением», а не вовлечена в связь с любовником насильно, обманом или по неведению, хотя говорить о «неведении» крестьянских девушек, даже и не достигших еще половой зрелости, вряд ли и возможно, так как в крестьянском быту даже и маленькие дети уже очень хорошо понимают все относящиеся до половых отношений мужчины и женщины… сами родители слишком уже явно и открыто, нисколько не стесняясь присутствия малых детей и подростков, не только говорят обо всем том, что и знать детям было бы вовсе не нужно, но и совершают в присутствии этих последних, нисколько от них не скрываясь, почти открыто все физиологические акты, а в том числе и половые отношения»
{502}. Таким образом, сельская повседневность выступала для подрастающего поколения, в том числе и для девочек, своеобразным уроком «полового просвещения», где невольными педагогами выступали порой сами родители, близкие, соседи.
Жизнь бабы, сотканная из ежедневных трудов, семейных хлопот, забот и страданий, оставляла ей немного времени, когда она могла почувствовать себя женщиной. Однако стоит согласиться с утверждением современных исследователей, что сексуальный мир русской крестьянки был ярче и многообразнее, чем об этом было принято думать ранее
{503}.
Из всего многообразия форм времяпрепровождения крестьянской девицы остановимся лишь на тех, где происходило сближение полов, а гендерные роли проявлялись зримо. По причине прозрачности деревенских отношений добрачные контакты парней и девушек с оговоркой можно отнести к публичной сфере жизни российского села.
Сближение полов в деревне происходило в рамках традиционных форм сельского досуга. В летнюю пору сельская молодежь собиралась на «улице», где парни и девки пели любовные песни и вели разговоры, полные недвусмысленных намеков и непристойных шуток. На праздники уходили за околицу, подальше от родительского ока, и там устраивали игры, сопровождавшиеся элементами чувственности (погоней, возней). С наступлением сумерек водили хоровод, во время которого парни брали из круга своих возлюбленных и отводили их в сторону. В Белгородской губернии такое интимное общение называлось «стоганием»
{504}. В Данковском уезде Рязанской губернии после окончания хороводов девушки с парнями уходили попарно в «коноплю», «кусты», «за ригу», «в соломку»
{505}. По наблюдению Л. Весина: «В Вятской, Вологодской губерниях по окончанию хороводов молодежь расходится попарно, и целомудрию здесь не придается особого значения»
{506}.
После Покрова основным местом встреч деревенских женихов и невест становились посиделки. Девушки вскладчину снимали избу, в которой собирались по вечерам якобы для совместной работы. Но прихваченная из дому прялка была все же более для родителей, а сама девка спешила на вечерку совсем для иного. Вот как описывал народовед А. П. Звонков поведение сельской молодежи на посиделках в деревнях Елатомского уезда Тамбовской губернии: «Тихо собираются парни кругом избы и разом врываются потом через двери и окна, тушат свечи и бросаются, кто на кого попало. Писк девушек заглушается хохотом ребят; все заканчивается миром; обиженный пол награждается скудными гостинцами. Девушки садятся за донца, но постоянные объятия и прижимания мешают работе. Завязывается ссора, в результате которой ребята-победители утаскивают девушек: кто на полати, кто надвор, кто в сенцы. Игры носят дикий характер, в основе которых лежит половое чувство»
{507}. Знаток обычного права Е. И. Якушкин сообщал, что «во многих местах на посиделках, беседах и вечеринках, по окончанию пирушки, девушки и парни ложатся спать попарно. Родители смотрят на вечеринки как на дело обыкновенное и выказывают недовольство, только если девушка забеременеет»
{508}.
В деревнях Саратовской губернии, по наблюдениям А. X. Минха, «после посиделок девки оставляли парней ночевать. Ложась с избранными парубками, они дозволяли им себя целовать, но до греха дело доходило редко»
{509}. Этнограф В. П. Тихонов, проводивший исследование деревень Сарапульского уезда Вятской губернии, утверждал, что почти все игры местной молодежи имели своим финалом вступление в половое общение. Нередки были случаи нравственного падения подростков в 14–15 лет
{510}.
Приходской священник из Олонецкой губернии в начале XX века охарактеризовал посиделки молодежи следующим образом: «На посиделках взрослые мужчины и женщины никогда не бывают, следовательно, юноши и девушки представляются самим себе и проводят время нередко… в потемках… Без огня молодые девушки проводят время с молодыми парнями, которые к тому же очень часто бывают в пьяном виде. Чего хорошего можно ожидать от этого ничьим посторонним надзором не сдерживаемого сближения крестьянской молодежи: парней-«холостяг» и девушек? Здесь теряется и предается осмеянию охраняющая невинность души стыдливость. Здесь место необузданных речей и смеха, нецеломудренных взглядов и движений. Здесь на вечеринках зарождается та нечистая похоть, которая растлевает целомудрие души и часто на веки покрывает ее позором. Эти вечеринки училище срамословия, сквернословия, любодейных песен и плясок, пьянства, воровства и бесстыдства»
{511}.
Следует отметить, что «срамные» игры сельской молодежи были присущи не всем регионам страны. В аграрных губерниях, где патриархальные устои были особенно сильны, вольностей в проведении досуга сельской молодежи старались не допускать. Так, на волостном сходе Садовской волости Бобровского уезда Воронежской губернии 9 декабря 1889 года было принято решение, которое обязывало сельских выборных лиц следить за тем, чтобы «лица моложе 17 лет не допускать в трактиры и пивные». Далее в мирском приговоре указывалось на то, что «пьяных малолеток сельская полиция и старосты должны были забирать в сельскую управу, освобождать их по вытрезвлению не иначе, как по просьбе родителей и опекунов»
{512}.
Молодежные игры, предполагающие физический контакт их участников, в ряде мест также имели определенные ограничения. В селах Орловской губернии во время игр парню позволялось обнять девушку и даже поцеловать. Девушке в хороводе не возбранялось опереться на плечо парня и выйти вместе с ним из хоровода для разговора. Иные вольности не допускались. Девушка имела право ударить наглеца, распускавшего руки, — «дать леща». Получивший «леща» парень не принимался в хоровод до тех пор, пока не просил прощения не только у оскорбленной девушки, но и у остальных девушек и даже парней
{513}.
При выборе партнера внимание обращали прежде всего на физические данные, а потом уже на внешнюю привлекательность. Красотой в деревне признавались: у мужчин — высокий рост, сила, ловкость, кудри, преимущественно белокурые, белое лицо; а у женщин — средний рост, длинные косы, белое и румяное лицо, средняя полнота и вообще правильное физическое развитие
{514}. Вот как одна воронежская девушка описывала подружке внешность своего суженого: «А сам то он ядреный, да личманистый и морда ядреная, да круглая, а по всему обличью, ровно как веснушка пущена»
{515}. По свидетельству этнографа, «женихи ищут живых, сильных девушек, чтобы бровь была черная, грудь высокая, лицо «кровь с молоком». В ум и характер они редко вглядываются»
{516}.
Во все времена женщина хотела быть любимой и привлекательной, русские крестьянки не были исключением. Каждая девушка, естественно, хотела выглядеть красивой и хотя бы приблизиться к идеалу. Для этого девушки прибегали к разнообразным ухищрениям. Чтобы лицо было белое и без веснушек, его мыли сывороткой, парным молоком, огуречным рассолом или мазали березовой смолой. Чтобы волосы становились гуще и не выпадали, их расчесывали гребнем, смоченным соком крапивы. Чтобы зубы были белые и не пахло изо рта, жевали смолу или в больших количествах яблоки. Верили, что грудь будет большая и пышная, если есть много горбушек или тереть ее мужской шапкой
{517}.
Для придания себе большей красоты стремились использовать косметику: пудру, которая была в большом употреблении у сельских красавиц и которую покупали вскладчину, румяна, помаду. Вместо пудры и румян иногда использовали «стеариновые свечи… и сандал, и фуксин и т. и.»
{518}. Румянами также служили конфетные бумажки, лоскутки линючей материи, которыми натирались до тех пор, пока не сойдет с них краска
{519}.
Большое значение имело поведение молодых во время совместного досуга. Ухаживая за девушкой, парень старался в возможно более ярком и привлекательном свете показать свои достоинства. Особенно ценились сила и ловкость на работе и в играх. Часто деревенский хлопец стремился выказать себя храбрым, бойким на язык в шутках и прибаутках, почти всегда нецензурного содержания, и смелым до нахальства в обращении с другими девушками
{520}. Задорная девушка, острая на язык и не стесняющаяся в общении с парнями, всегда была в центре внимания местных ухажеров. Пляски под гармонь в селе предоставляли деревенским невестам прекрасную возможность показать себя во всей красе потенциальным женихам.
 Крестьянка Тверской губернии.
Фото В. Каррика. 1860-е годы
Крестьянка Тверской губернии.
Фото В. Каррика. 1860-е годы
Высоко ли ценилась девичья честь в русской деревне конца XIX века? В оценке этнографов нет единства. М. М. Громыко с излишней категоричностью утверждает, что девушки, как правило, строго воздерживались от половых отношений до брака
{521}. Напротив, на вольное отношение между полами в своем исследовании обращает внимание Т. А. Бернштам, которая использовала материалы губерний с развитым отхожим промыслом
{522}. Этнограф С. С. Крюкова, на основе изучения брачных традиций южнорусских губерний второй половины XIX века, делает вывод о том, что потеря девственности в деревне считалась позором. Подобное требование не распространялось на молодых людей. Менее половины парней оставались целомудренными до брака
{523}. В этом проявлялся двойной стандарт в оценке добрачного поведения представителей разных полов.
В большинстве деревень черноземных губерний, где были сильны патриархальные устои, преобладал традиционный взгляд на эту проблему и половые отношения крестьянки до замужества расценивались как большой грех. Если факт грехопадения девушки становился достоянием сельской гласности, то ослушница ощущала на себе всю силу общественного мнения деревни. Вот как описывал подобную ситуацию корреспондент тенишевского бюро из Орловской губернии: «Подруги относятся к ней с насмешками и не принимают ее более в хороводы и игры, считая за большой срам водиться с ней, сторонятся от нее как от зачумленной. Парни и молодые мужики насмехаются и позволяют себе разные вольности, все остальные относятся с негодованием, называя распутной, греховодницей и блудницей, которая осрамила всю деревню. Отец и мать ее бьют, проклинают, остальные члены семьи с ней не разговаривают»
{524}. Именно боязнь осуждения заставляла деревенских влюбленных заглушать голос плоти. Некоторые из них, правда, действовали по принципу «кто грешит в тиши, тот греха не совершает». Житель села Костино-Отдельце Борисоглебского уезда Тамбовской губернии П. Каверин сообщал: «Между молодежью часто доходит до половой связи. Связи эти чисто минутные. Открытые связи считаются большим позором. Девичья честь ставится невысоко, потерявшая ее почти ничего не теряет при выходе замуж»
{525}.
Более терпимое отношение к половым отношениям молодежи до брака отмечено в промысловых губерниях. В сообщении из Тихвинского уезда Новгородской губернии (1897 год) говорится: «…Здешние крестьяне смотрят на отношения молодежи довольно легко, и девушка потерявшая невинность, не заслуживает презрения»
{526}. В сообщении из Белозерского уезда той же губернии: «…Не все родители и парни-женихи обращают внимание на невинность девушки; многие из них рассуждают и поступают по местной народной пословице: «Тем море не погано, что псы налакали», — лишь бы девка была здорова, сильна и работяща»
{527}. Вольное отношение по отношению к себе допускали девушки в селах Мещевского уезда Калужской губернии. Наиболее «бедовые» девки здесь не считали за грех переспать с парнем, а на упреки отвечали: «Поспала — ничего не украла». Более скромным подругам, избегавшим «хватания» парней, они с назиданием говорили: «Не позолота — не слиняешь оттого, что похватали!»
{528}
Под влиянием модернизации, возросшей социальной мобильности сельского населения, ломки патриархального уклада на добрачные связи стали смотреть спокойнее. Отец и мать легче соглашались с выбором сына, если он говорил, что между ним и избранницей уже был грех. Чаще стали вступать в половую связь после сговора, когда «вино выпито». После «запоя» в деревнях Моршанского уезда Тамбовской губернии жених не только навещал невесту, но и оставался у нее ночевать. По обычаю, это не должно было приводить к интимным отношениям, но как говорили старые женщины, «нельзя-то нельзя, да не всегда ведь удержишь мужика». Правда, старожилы отмечали, что такие случаи все же были редки, так как «Бога боялись, и боялись нечестной встать перед аналоем»
{529}. Страх Божий в русской деревне продолжал оставаться весомой причиной, которая удерживала многих молодых людей от поспешного и опрометчивого шага.
Критерием оценки добропорядочности женщины в русском селе было не только ее целомудрие до брака, но и верность в семейных отношениях. Соблюдение этих традиционных установок достигалось родительским контролем (родители строго следили за тем, чтобы девушка до срока «не забаловалась») и силой общественного мнения, которое в условиях «прозрачности» деревенских отношений выступало мощным регулятором добрачного поведения. «Пересуды — атмосфера, которой дышала деревенская жизнь и раньше и дышит ей теперь. Эти «пересуды» тот пламень, в котором шлифуется «общественное мнение» деревни и создается репутация женщины. Они часто являются стимулом, предохраняющим деревенскую девушку от легкомысленных поступков», — писал в 1909 году учитель А. Г. Эпов
{530}. Полюбить «заблудшую» девицу считалось стыдным, а жениться на ней — значило опозориться перед всем миром. «Губитель» же девичьей красоты (то есть невинности) в отдельных местностях навсегда лишался права жениться на другой девушке
{531}.
По народным понятиям разврат являлся грехом, так как задевал честь семьи (отца, матери, мужа). За блуд в русском селе прибегали к символическим действиям позорящего характера. Гулящим девкам отрезали косу, завязывали рубаху на голове и голыми по пояс гнали по селу, мазали ворота их дома дегтем
{532}. В орловских селах парни, преимущественно из тех, кто побывал на стороне, для унижения девушек плохого поведения обливали им платья купоросом
{533}.
Еще строже наказывали замужних женщин, уличенных в прелюбодеянии. Их жестоко избивали, нагими запрягали в оглобли или привязывали к телеге и так гнали кнутом по улицам
{534}. Более строгое наказание блудливых жен, чем распутных девок, объяснимо патриархальными взглядами деревенских жителей. «Такие бабы вдвойне грешат, — говорили крестьяне, — и чистоту нарушают, и закон развращают». Таких женщин в селе называли «растащихами дома», «несоблюдихами»
{535}. Жители сел Ярославской губернии говорили, что «лучше пусть будет жена воровкой, пьяницей, чем блудницей!»
{536}. Большинство крестьян расценивали супружескую неверность как тяжкий грех. Возможно, поэтому, как свидетельствуют этнографические источники, случаи непотребного поведения замужних женщин были «очень редки в селах»
{537}.
На страже женского целомудрия стояли обрядовые традиции русского села. До середины XIX века в русской деревне существовал обычай публичного освидетельствования невинности невесты. После первой брачной ночи с молодой жены снимали рубаху и тщательно ее исследовали. Затем ее со следами дефлорации вывешивали в избе на видное место, а над крышей поднимали красный флаг
{538}. В Воронежской губернии еще в 80-е годы XIX века существовал обычай «поднимать молодых». Новобрачная в одной рубахе вставала с постели и встречала свекровь и родню жениха. Этот обычай, восходящий корнями к языческим верованиям, имел цель публично удостоверить невинность невесты
{539}.
Последствия для «нечестной» невесты в черноземных и отчасти центральных губерниях России, где еще во многом сохранялись патриархальные устои крестьянского уклада, были тяжелыми. Ее могли избить до полусмерти, заставить ползать на коленях вокруг церкви
{540}, могли отрезать ей косу и, вымазанную дегтем, без юбки водить по улице.
Согласно исследованию Т. А. Бернштам, реальное оповещение о дефлорации новобрачной было характерно для южнорусской традиции, символическое — для северорусской. Таким образом, вопрос сохранения девушкой невинности до брака относился к категории общественных
{541}. Правда, в промысловых губерниях, как свидетельствуют источники, такой обряд в конце XIX века практически не соблюдался.
К процедуре освидетельствования непорочности прибегали также в случае, когда репутация честной девушки ставилась под сомнение из-за распущенных по селу слухов. Обычно девушка, на которую возвели напраслину, обращалась к защите сельского схода. Староста собирал сельский сход, на котором избирались три женщины добропорядочного поведения, которые и проводили осмотр на предмет наличия девственной плевы. Результаты староста оглашал на сходке, а затем десятский обходил все дома и объявлял о том, что девушка на публичном осмотре оказалась честной
{542}.
Таким образом, честное имя девушки могло быть защищено авторитетом сельского схода. Общественное мнение деревни выступало мощной силой, которая могла, с одной стороны, оградить девушку от напрасного навета, а с другой — вразумить, а порой наказать парня за распространение «худой» славы о ней.
В ряде русских сел с целью скрыть «нечестность» невесты и сами девушки, и их родители прибегали к различным хитростям. Одна из них приведена в корреспонденции А. А. Воронина из Кадниковского уезда Вологодской губернии за 1898 год: «Если невеста не сохранила целомудрие, то в этом случае родители невесты заблаговременно режут дворового голубя и его кровью пачкают исподнее белье, которое невеста должна надеть при первом совокуплении, а срамные губы натирают квасцами, жениха подпаивают»
{543}.
О сохранении этого нехитрого обмана в русском селе и в начале XX века говорит содержание заметки в газете «Тамбовский край» за 1914 год. Автор описывает сцену, подсмотренную в бакалейной лавке с. Мордова Елатомского уезда: «Празднично одетые девушки покупали туалетное мыло, головные гребешки, какие-то отделки на платья. В конце одна девушка попросила: «Дай мне сузиказа две копейки!». Лавочник усмехнулся и тихо спросил: «А разве он не знает?» Засмеялись девушки, засмеялась и спрашиваемая и сказала: «Так, для формы». Как объяснил лавочник: «Это девушка невеста, а сузик — обыкновенные квасцы, нужные для того, чтобы скрыть случившийся грех». Такие случаи далеко не единичны»
{544}.
Очевидно, что отношение к целомудрию до брака в молодежной среде села в начале XX века изменилось, стало более легковесным. Однако желание деревенских «невест» хотя бы формально соблюсти традицию вело к тому, что они все чаще прибегали к различным ухищрениям.
Можно предположить, что по причине существовавшего в общественном сознании русского села запрета сексуальных отношений до брака в интимном общении деревенской молодежи существовали практики неполного полового акта с целью сохранения девственности. На основе изучения традиции добрачных ночевок украинской молодежи этнограф М. Маерчик делает следующий вывод: «Получается, что неполная, частичная пенетрация, без дефлорации, была условием того, чтобы рассматривать половой акт как недокоитус, ненастоящий, имитированный, игрушечный, «девичье и парубочье» развлечение. Такое развлечение не только не противоречило небрачному статусу молодых людей, но даже наоборот: этнографические материалы дают основания утверждать, что наличие партнера для ночевок было важным маркером добрачного статуса»
{545}. Мы не располагаем аналогичными сведениями по русской деревне, но вряд ли формы интимного досуга украинской и русской молодежи села принципиально отличались.
К смелому выводу приходит в своей статье П. В. Игнатьев. Автор утверждает: «Однако природа неизменно брала свое — благодаря табуированности вагинального соития широко распространялась практика анального. Собственно, анальный коитус длительное время даже не рассматривался крестьянами как половое соитие на том основании, что при нем не могла быть утрачена девственность и не могла наступить беременность»
{546}. Но это, как, впрочем, и другие, новаторские умозаключения исследователя, не подкреплено ссылками ни на исторические источники, ни на научную литературу.
Незаконнорожденные дети
Деформация нравственных устоев русского села стала особенно заметна в начале XX века. Благочинные округов Тамбовской епархии, характеризуя состояние деревенской паствы, в своих рапортах отмечали: «непристойные песни и пляски», «нравственную распущенность», «разгул и большие вольности», «нарушение уз брачных и девственных»
{547}. В отчете в Святейший Синод за 1905 год курский владыка признавал, что в деревне происходит «ослабление семейных уз, незаконное сожительство, как следствие увеличение числа внебрачных детей»
{548}.
Правда, в городе незаконнорожденные дети появлялись чаще, чем в деревне. По сведениям за 1898 год, в Воронежской губернии родилось 145007 детей, из них в уездах — 139801, в городах — 5126, в том числе незаконнорожденных в уездах — 902 (0,7 процента), в городах — 477 (9 процентов)
{549}. В этом же году в Тамбовской губернии в уездах зарегистрировано 796 незаконнорожденных (0,6 процента) на 128482 рождений, в то время как в городах рожденных вне брака было 598 (6,3 процента) из 9455
{550}. В Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии в 1897 году было зарегистрировано 16179 рождений, из них в 88 случаях на свет появились внебрачные дети, что составило 0,54 процента от общего числа рожденных
{551}.
Приведенными цифрами следует оперировать осторожно, так как некоторые крестьянки с целью скрыть грех предпочитали рожать в городах. Также можно предположить, что часть детей, родившихся вне брака в городе, приходилась на сельских женщин, находившихся там в качестве прислуги, кухарок и т. и.
В селе не было обычая взыскивать содержание с отца, прижившего ребенка; таких детей содержала мать
{552}. Внебрачные дети не получали никакой материальной помощи от государства и общины, однако по достижении совершеннолетия незаконнорожденные мужского пола получали надел (при наличии земли). В псковских селах незаконнорожденных детей в раннем возрасте отправляли на заработки в Петербург
{553}.
Необходимо отметить, что права детей, рожденных вне брака, имели региональные особенности. В Тамбовской и Воронежской губерниях они получали все права членов общины, к которой принадлежала их мать, то есть право на земельный надел и участие в сходе. В Курской губернии право на землю только по факту принадлежности к общине не признавалось, для этого требовался мирской приговор. В некоторых местах Орловской губернии незаконнорожденные пользовались правами личными, но были ограничены в праве наследования и праве пользования мирской надельной землей
{554}.
Обретение прав внебрачными детьми, по крестьянским обычаям, становилось возможным после их усыновления. В отличие от официального закона, который требовал узаконивания рождения через суд, крестьяне считали, что вступление в брак родителей незаконнорожденного делает его законным с момента венчания. Через усыновление вчерашние сельские парии обретали полноправный статус. Сельские традиции также допускали усыновление внебрачных детей бездетными замужними сестрами
{555}. По сведениям информатора, крестьянина Волховского уезда Орловской губернии, «при усыновлении собирают сход и пишут приговор. Усыновитель угощает «мир» водкой, а приемыш меняет свою фамилию и называет усыновившего отцом»
{556}.
Принять в семью подкидыша на селе считалось делом добрым для спасения души. Их воспитывали как родных, они становились наследниками наравне с родными детьми, поскольку имущество крестьянского двора могли наследовать не только кровные родственники, но и все члены семьи-хозяйства, которыми считались все те, кто в этом хозяйстве работал и создавал его имущество, — усыновленные, приемыши и незаконнорожденные.
Таким образом, традиции и обычаи русской деревни обеспечивали большую правовую защищенность детям, рожденным вне брака, нежели официальный закон. Деревенская повседневность в своем историческом развитии выработала правила и традиции, которые часто были гуманнее существовавшего законодательства.
«ОТ ЛУКАВОГО»

Жертва насилия
Тема, о которой пойдет речь далее, не укладывается в содержание предыдущих глав, поэтому ей решено посвятить отдельный раздел. Проблема отклоняющегося поведения русской крестьянки, проявления которого имели место как в интимной, так и публичной сферах сельской повседневности, требует специального исследования. Изучение обыденности деревни и судьбы крестьянки не может быть всесторонним без обращения к вопросу о формах и причинах социальных отклонений. В первый раздел включены криминальные преступления по отношению к половой неприкосновенности женщины (инцест, изнасилование, растление).
Кровосмешение
В правовой традиции русского села кровосмешение воспринималось как грех и преступление, виновник которого, по убеждению крестьян, должен быть подвергнут осуждению и тяжелому наказанию. Исходя из таких взглядов, сельские жители, как правило, передавали преступника в руки властей
{557}. По понятию крестьян кровосмешение разграничивалось по степени важности и преступности. Считая тяжким грехом и преступлением половые отношения в кровном родстве, жители села придавали меньшее значение случаям кровосмешения при свойстве, еще меньше при духовном родстве
{558}. Новгородские крестьяне особо тяжким грехом считали сожительство близких между собой родственников — брата и сестры, отца и дочери, деверя и снохи и т. д
{559}.
По сведениям, собранным князем Н. Костровым за двадцатипятилетний период (1836–1861 годы), судами Томской губернии было рассмотрено 155 случаев растления, причем 19 из числа этих преступлений имели характер инцеста. В одном случае дед сожительствовал с внучкой, в семи — отцы с дочерьми, в трех — отчимы с падчерицами, в трех — дяди с племянницами, в двух — двоюродными братья с сестрами, в трех — малолетние мальчики с совсем маленькими, трех-и четырехлетней, девочками. В марте 1845 года семидесятилетний крестьянин с. Верхне-Майзасское Каинского округа Томской губернии Антон Пономарев, будучи пьяным, вступил в сексуальные отношения с девятилетней внучкой Авдотьей Пономаревой
{560}. В июне 1855 года несколько крестьян с. Шиницина Каинского округа поймали на месте преступления крестьянина Ивана Махина, семидесяти лет, вступившего в прелюбодейную связь с падчерицей Акулиной, четырнадцати лет. Следствием было установлено, что Махин жил с Акулиной к этому времени уже два года. Кроме того, за две недели до ареста он совратил и другую свою падчерицу, Марью, девяти лет
{561}. Государственные крестьяне с. Васильевки Бузулукского уезда 10 марта 1861 года объявили местному волостному правлению, что их односелец Тимофей Усков 4 марта пойман ими на кровосмешении с дочерью своей Агафьей, которая сказала им, что она «грех творит по сильным от отца побоям»
{562}.
В крестьянском дворе, когда бок о бок жило несколько семей, порой возникали замысловатые любовные сочетания. К внутрисемейному решению вопроса об обретении подруги не на стороне, а в собственном доме нередко подталкивали сами домашние. В Вятской губернии зафиксирован эпизод, когда мать прямо сказала сыну, что негоже связываться «с потаскухами», когда «вон, ведь, есть свои кобылы», указав на дочерей
{563}. Знаток обычного права Е. И. Якушкин в своем исследовании приводит пример, когда односельчане застали пожилого крестьянина с женой родного внука
{564}. По сведениям из Пошехонского уезда Ярославской губернии (1899 год), в местных селах были случаи сожительства зятя с тещей
{565} (часто это было вызвано малолетством жены). В с. Коневке Орловской губернии было «распространено сожительство между деверем и невесткой. В некоторых семействах младшие братья потому и не женились, что жили со своими невестками»
{566}. Братья не особенно ссорились по этому поводу, а окружающие к такому явлению относились снисходительно. Дела о такого рода кровосмешении не доходили до волостного суда, и кровосмесителей никто не наказывал
{567}. Еще менее греховными признавались интимные отношения невестки с деверем
{568}. В этнографической литературе упоминаются также отношения со свояченицами, а также между двоюродными братьями и сестрами
{569}. Кровосмесительные отношения взрослых людей гражданскими судами обычно не рассматривались; очень редко сообщали о них и церковным властям
{570}. В целом в деревне к таким ситуациям относились отрицательно, но при этом с известной долей равнодушия.
В некоторых семьях устанавливались отношения, подобные тем, что вскрылись в ходе судебного разбирательства в семье Ломаевых из д. Марзагуль Покровской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Дело велось в связи с заявлением Евдокии Ломаевой о том, что ее дочь Агафью, Е тринадцати лет, изнасиловал крестьянский сын Василий Пшеничников с помощью Трифона и Милидоры Васильевых. Всем обвиняемым было по тринадцать — пятнадцать лет. Потерпевшая, однако, как на насильника указывала на своего отца и говорила, что мать ее принуждала к сожительству со своим любовником. Мать, по словам старосты, была «развратная баба, живет в связи с Анисимом Евстратовым и, кроме этого, развратничает на стороне»
{571}.
 На улице. Начало XX века
На улице. Начало XX века
Сообщения о случаях инцеста в деревне время от времени появлялись в полицейских отчетах. Например, «в г. Козлов, 9 апреля 1879 г. крестьянин Павел Гусев растлил 12-летнюю дочь свою Матрену»
{572}. В апреле 1878 года в Тамбовском окружном суде разбиралось дело по обвинению крестьянина с. Царевки Кирсановкого уезда Егора Цуканова, тридцати лет от роду, в растлении девицы Христианы Афанасьевой, двенадцати лет
{573}. К трем с половиной годам арестантских рот решением окружного суда от 24 мая 1910 года был приговорен крестьянин с. Велико-Михайловское Повооскольского уезда Курской губернии Василий Федоров Филиппенко, признанный виновным в том, что совершил насильственный акт со своей дочерью Анастасией, после чего около трех лет поддерживал с ней плотскую связь
{574}. Аналогичный факт был зафиксирован в Курской губернии. По сообщению полиции за октябрь 1911 г. «в слободе Казацкой Старооскольского уезда крестьянин Лапин 39 лет растлил двух своих дочерей Варвару 16 лет и Клавдию 14 лет. Дознанием установлено, что Лапин растлил дочерей в возрасте 5–6 лет и с того времени под угрозой лишить жизни находился с ними в сношениях»
{575}.
Вот полицейские данные только за первое полугодие 1912 года по Воронежской губернии. «Крестьянин Литвинов, 45 лет, в слободе Ямской Воронежского уезда 10 февраля, оставшись в квартире один со своей дочерью Мариной, 11 лет, пытался ее растлить»
{576}; «17 апреля в с. Избище Землянского уезда крестьянин Сафонов растлил свою дочь Александру, 13 лет
{577}»; «13 мая в слободе Морозовке Острогожского уезда крестьянин Илья Дерканосов, 55 лет, совершил растление своей родной дочери Елены, 11 лет»
{578}. Надо сказать, что отцы, которые, пользуясь родительской властью, принуждали дочерей вступать в половую связь, подвергались наиболее строгим наказаниям. Так, в 1916 году крестьянин Спиридон Яковлев Косенко был осужден к лишению всех прав состояния и к каторжным работам сроком на шесть лет
{579}.
В то же время отмечены случаи, когда инцест происходил по обоюдному согласию. Характер устойчивой связи имели противоестественные отношения в семье Ефима Романова Бухарина, отставного кузнеца драгунского полка. По данным дела, его связь с дочерью Ольгой началась, когда той было двенадцать лет, и продолжалась десять лет. За кровосмешение Бухарин был приговорен Бакинским окружным судом 19 марта 1889 года к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь
{580}. Дочь за кровосмешение с отцом также была лишена всех прав состояния и сослана в один из малолюдных округов Амурского генерал-губернаторства на вечное поселение
{581}.
Схожее по существу дело рассматривал в январе 1908 года Томский окружной суд. Следствием было установлено, что «крестьянин с. Бабаковского Змеингородского уезда Порфирий Денисов, 49 лет, вступил с родной своей дочерью Праскофьей по добровольному согласию в плотскую связь, продолжавшуюся в течение 4 лет, до рождения ею ребенка в 1906 г.»
{582} За кровосмешение с родственницей в прямой нисходящей линии в первой степени родства Денисов был присужден к отдаче в исправительное арестантское отделение сроком на пять лет
{583}.
Бывало, что преступления такого рода удавалось предотвратить благодаря вмешательству неравнодушных соседей. Так, 5 января 1910 года в с. Навле Карачевского уезда Орловской губернии крестьянин Силаев покушался на изнасилование своих дочерей Натальи, двенадцати лет, и Марии, одиннадцати лет, но соседи не дали ему совершить гнусное преступление
{584}.
На наш взгляд, инцест в крестьянской среде в отличие от снохачества не был явлением обыденным, воспринимался сельским населением как богомерзское деяние и встречал активное неприятие.
Изнасилование
В России периода поздней империи на фоне общего ухудшения криминальной ситуации был отмечен рост числа сексуальных преступлений. Число таких преступлений, зафиксированных полицией, составляло в среднем в год: в 1874–1883 годах — 1800, в 1884–1893 годах — 3100, в 1894–1905 годах — уже 9700
{585}. Таким образом, за три десятилетия количество сексуальных преступлений выросло более чем в пять раз. Причина заключалась в том, что в ходе модернизации общественной жизни менялись ценностные
ориентиры и стандарты поведения, а это неизбежно вело к росту отклоняющегося поведения и преступности.
Половые преступления, как правило, носили скрытый характер, что затрудняло их выявление, а следовательно, и регистрацию. В конце XIX века до судов доходила лишь малая толика дел об изнасиловании. Следовательно, данные уголовной статистики вряд ли точно отражают положение дел в этой сфере, но о тенденции они свидетельствуют со всей очевидностью.
Данные о доле таких преступлений и сословной принадлежности преступников и их жертв можно извлечь из материалов губернской статистики. За десятилетие с 1857 по 1866 год в Тамбовской губернии всего было зарегистрировано 8596 преступлений, из них растлений и изнасилований — 90, что составило 1,04 процента от общего числа совершенных преступлений
{586}. Преступность в крестьянской среде была ниже уровня преступности в других сословиях. По нашим подсчетам в Тамбовской губернии с 1881 по 1906 год за преступления против чести и целомудрия женщин было осуждено 162 человека, в том числе крестьян — 120. то есть 74 процента
{587} но при этом крестьяне составляли более 90 процентов населения губернии. Следовательно, можно говорить о том, что такого рода преступления были в большей мере присущи городскому населению, чем сельскому.
При всей «прозрачности» деревенских отношений факты изнасилования, прежде всего незамужних женщин, часто оставались неизвестными. Потерпевшие об этом не заявляли, так как опасались стать объектом деревенских сплетен и тем самым подорвать добропорядочную репутацию своей семьи. Был еще один момент, который их удерживал от огласки совершенного преступления: заявление об изнасиловании требовало последующего медицинского освидетельствования. Такой врачебный осмотр, обыденный для следственной практики, вызывал у крестьянок панический страх. В деревне считали, что «бабе свое нутро пред людьми выворачивать зазорно»
{588}.
Впрочем, изнасилования не относились к числу частых преступлений, совершаемых в российской деревне. Такой вывод можно сделать на основе свидетельств самих крестьян. По утверждению сельского информатора из Волховского уезда Орловской губернии (1899 год), «изнасилования случаются очень редко»
{589}. В обыденном восприятии крестьян поругание чести женщины считалось грехом и тяжким преступлением.
По сообщению корреспондента Этнографического бюро из Тамбовской губернии (1900 год), «изнасилование женщин, безразлично возрастов и положения, по народным воззрениям, считается самым бесчестнейшим преступлением. Изнасилованная девушка ничего не теряет, выходя замуж, зато насильник делается общим посмешищем: его народ сторонится, не каждая девушка решится выйти за него замуж, будь он даже богат»
{590}.
Таким образом, общественное мнение села выступало действенным фактором, сдерживающим проявление мужской сексуальной агрессии.
Правда, следует заметить, что отрицательное, осуждающее отношение крестьянского населения к насилию в половой сфере было характерно для большинства, но не для всех российских сел. Так, в отдельных селениях Орловской губернии изнасилования не встречали сурового осуждения — к ним относились равнодушно. В случае изнасилования женщины здесь говорили: «Не околица — затворица». Про девушек — иначе: «Сука не захочет, кобель не вскочит»
{591}.
По уголовному праву Российской империи изнасилование квалифицировалось как тяжкое преступление. В 1845 году было введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. В статье 1525 Уложения в редакции 1885 года за преступления против чести и целомудрия женщины или девицы, достигшей четырнадцати лет, предусматривалось наказание в виде лишения всех прав состояния и ссылки на каторжные работы сроком от четырех до восьми лет
{592}. Статья 1526 устанавливала ряд обстоятельств, отягчающих деяние и повышающих на одну степень наказание, предусмотренное статьей 1525. Среди них такие: «когда изнасилованная была для сего против воли или обманом уведена или увезена», «когда изнасилование было сопровождаемо побоями или иными истязаниями», «когда жизнь изнасилованной была угрожаема или подвергалась опасности»
{593}.
Что же до снисхождения, то в судебной практике в качестве основания для него чаще всего указывали грубость нравов и невежество сельских жителей, что, однако, не мешало осужденным по таким делам писать апелляции на приговор и подавать прошения о помиловании. Так, например, поступил один из осужденных — Федор Литвинов, приговоренный судом, как и его подельники, к четырем годам исправительных арестантских рот. В прошении о помиловании как на смягчающее вину обстоятельство он указал, что потерпевшая среди местной молодежи имела репутацию доступной девушки
{594}. Вообще попытка оправдать содеянное провокационным характером поведения жертвы была характерна как для заявлений подсудимых в ходе судебных разбирательств, так и в качестве аргумента в прошении о помиловании.
Дела об изнасиловании или растлении рассматривались в окружных судах при участии присяжных заседателей, которые и выносили вердикт. Большинство членов жюри по своей сословной принадлежности были крестьянами, и это порой отражалось на характере выносимого решения. Примером может служить следующее дело о групповом изнасиловании, приведшее к смерти потерпевшей.
Приговором Тобольского окружного суда от 23 августа 1907 года крестьяне д. Максимовой Тобольского уезда Степан Сергеев Шихарев, девятнадцати лет, и с. Алымского Константин Иванов Веденеев, шестнадцати лет, и Сергей Марков Веденеев, девятнадцати лет, были признаны виновными в том, что «в ночь на 3 декабря 1906 г. без намерения на смертоубийство, но с умыслом на насилие, увезли пьяную крестьянку Евдокию Веденееву за деревню, где обессилив ее предшествующей борьбой при изнасиловании, полураздетую оставили в беспомощном состоянии, результатом чего стала смерть от замерзания»
{595}. Приговор за преступление, повлекшее, пусть и по неосторожности, смерть женщины, был на удивление мягок. Шехирев и Веденеев были приговорены судом к каторжным работам на срок 2 года и 8 месяцев, а Веденеев, как лицо, не достигшее семнадцатилетнего возраста, осужден на 3 года тюрьмы
{596}. По всей видимости, на снисходительный приговор присяжных заседателей оказали влияние как раскаяние подсудимых, так и характеристика погибшей как женщины «легкого поведения».
Тенденция увеличения преступлений на сексуальной почве сохранилась и в начале XX века: по данным уголовной статистики МВД, число преступлений против женской чести в Российской империи выросло с 12662 в 1909 голу до 16195 в 1913 году, то есть за четыре года почти на четверть
{597}. Приведем — в общем, типичные — сведения из полицейских отчетов за второе полугодие 1912 года по Воронежской губернии: «Близ хутора Гришевки Острогожского уезда 7 июля крестьянин Данильев, 15 лет, пальцем лишил девственности крестьянскую девицу Пичугину 13 лет»
{598}; «в с. Афонькине Бирюченского уезда 14 июля крестьянин Глотов изнасиловал крестьянку Гаврилову»
{599}; «21 августа в с. Хреновом Бобровского уезда крестьянин Цепляев изнасиловал крестьянку Зеленеву, 30 лет»
{600}; «крестьянин Стороженко 6 сентября в хуторе Севринов Бирюченского уезда изнасиловал крестьянку Лесникову»
{601}; «18 ноября в слободе Калач Богучарского уезда крестьянин Диденко, 21 года, изнасиловал односельчанку Заболотную, 19 лет»
{602}; «в д. Становой Бирюченского уезда крестьянин Шаринов 21 ноября изнасиловал крестьянку Шаринову»
{603}.
«Ведомости о происшествиях по Курской губернии за 1912 год» содержат сведения о следующих фактах: «18 мая, в Новооскольском уезде на дороге в полверсты от хутора Швецова крестьянин Иван Цапков, встретив глухонемую крестьянку Анастасию Усачеву, затащил ее в рожь и изнасиловал»; «в ночь на 16 августа в с. Липовском Щигровского уезда Даниил Лебедев во время сна изнасиловал крестьянку Варвару Скрипенкову»
{604}. 11 января 1913 года в с. Колене Новохоперского уезда Воронежской губернии в ссыпном амбаре крестьянин Раздайбюдин изнасиловал глухонемую крестьянку девицу Китаеву, 26 лет
{605}. «28 мая 1915 г. крестьяне с. Юдовки Бобровского уезда Воронежской губернии Григорий Акимов, 16 лет, Митрофан Титов, 13 лет, в степи Орлова-Давыдова изнасиловали слабоумную крестьянку того же села Евдокию Слепцову, 28 лет»
{606}. Выяснить, стали ли эти преступления предметом судебного разбирательства и как суд учел обстоятельства произошедшего, не удалось.
С увеличением в начале XX века числа изнасилований в сельской местности снижался и возраст преступников. Среди насильников появляется немало подростков. В сообщениях о происшествиях по Воронежской губернии за 1912 год говорится: «26 марта в слободе Ольховатский Лог Острогожского уезда парнями Старченковым, Шабельниковым, Шафоростовым изнасилована крестьянская девица Оплочкова, 16 лет»
{607}; «13 мая 1912 г. в слободе Клименкова Острогожского уезда Воронежской губернии крестьянские мальчики в возрасте от 14 до 16 лет Дмитрий, Яков, Герасим Клименковы и Ефим Зубков растлили крестьянскую девочку Варвару Клименкову»
{608}; в тот же день, 13 мая, «в слободе Поповке Острогожского уезда крестьянин Мандрыкин 16 лет изнасиловал крестьянку Корецкую 20 лет»
{609}.
Жертвами насилия становились не только девушки, но и молодые замужние женщины, а порой и женщины в возрасте. Крестьянин Резников в слободе Бутурлиновке Бобровского уезда Воронежской губернии 13 мая 1912 года изнасиловал крестьянку Боровикову, 50 лет
{610}. В той же губернии 9 октября 1912 года житель слободы Нагольной крестьянин Бондарь в поле изнасиловал крестьянку Константинову, 68 лет
{611}. Жители с. Антоновки Шацкого уезда Тамбовской губернии крестьяне Иван Моисеев и Иван Скобельцин 20 июля 1914 года изнасиловали ехавшую с ярмарки односельчанку Пелагею Матросову, 50 лет. По словам потерпевшей, «ее насиловали по пять раз, с 9 вечера до 12 часов ночи»
{612}. В хуторе Блошицыне Воронежской губернии 8 мая 1915 года крестьянином слободы Подгорной Иваном Винокуровым, 23 лет, была изнасилована крестьянка Мария Комарова, 70 лет
{613}.
Случалось, что даже беременность женщины не предотвращала изнасилования. Примером служит дело 1912 года. В решении Владикавказского окружного суда говорится: «Мария Лянкорунская, состоявшая в замужестве и находившаяся на седьмом месяце беременности, 22 сентября 1912 г. была изнасилована Антоном Суровцевым, 30 лет, и Лаврентием Уваровым, 16 лет». Как следует из материалов дела, особая циничность содеянного состояла в том, что Антон Сурцев был на хуторе в гостях у Василия Лянкорунского, мужа потерпевшей. Изнасиловав беременную женщину, он предложил повторить это Уварову, и тот последовал приглашению старшего товарища
{614}. Преступники были приговорены: Сурцев к 6 годам каторжных работ, Уваров — к тюремному заключению на 2 года и 8 месяцев
{615}.
По уголовному законодательству изнасилование замужних женщин наказывалось строже, чем не состоящих в браке. Суды неуклонно руководствовались этим критерием при определении меры ответственности за совершенное преступление. Пять лет исправительного арестантского отделения получил житель ст. Новонижестиблевской Темрюкского района Кубанской области Захар Титов Руденко, 29 лет. по приговору Екатеринодарского окружного суда от 8 января 1909 года. Он был «признан виновным в том, что 6 июня 1908 г. в степи против воли и согласия замужней казачки Дарьи Козули совершил с ней половое совокупление, причем он сдавил руками горло и зажал рот, чтобы она не кричала»
{616}. Такое же наказание на основании приговора Таганрогского окружного суда от 7 декабря 1910 года понес крестьянин с. Нижнего Курку-лака Бердянского уезда Григорий Иванов Хилько, 21 года. Из дела следует, что «3 сентября 1909 г. на дороге между с. Сладкой Балкой и хутором Власовым Хилько догнал и остановил состоявшую в замужестве крестьянку Суклитинию Снежко. Он нанес ей удар деревянной палкой по левому бедру, азатем свалил ее на землю, сдавив одной рукой горло, другой рукой приподнял юбку и раздвинул ей колени, после чего вопреки воли ее и, невзирая на оказанное ему сопротивление, насильственно совершил с ней полный половой акт»
{617}. Побои, сопровождавшие изнасилование, трактовались судом как отягчающее вину обстоятельство.
Но суд мог и смягчить наказание, если находил для этого основания: возраст, репутацию, семейное положение и прочее. Также преступник мог быть прощен пострадавшей стороной, чего не предусматривал уголовный закон, но не исключали нормы обычного права. Так, вечером 27 декабря 1906 года в с. Троицком Туринского уезда Тобольской губернии крестьянин Аполлон Рублев, находясь в состоянии опьянения. изнасиловал замужнюю крестьянку Евгению Куреневу. В ходе судебного разбирательства потерпевшая заявила, что простит подсудимого, если получит компенсацию в размере 60 рублей
{618}. По всей видимости, именно это подвигло Тобольский окружной суд назначить преступнику минимальное наказание: три месяца тюремного заключения без ограничения в правах
{619}.
Для судебного разбирательства, как показывает изучение подобных дел. кроме показаний потерпевших большое значение имели свидетельства очевидцев. Именно свидетельские показания вкупе с другими уликами позволили раскрыть групповое изнасилование. Суть произошедшего явствует из обвинительного акта Томского окружного суда: «Крестьяне Томской губернии Мариинского уезда с. Тисуль Александр Михайлов Бочкарев, 17 лет, Яков Семенов Колобов, 19 лет, Яков Данилов Нестеров, 19 лет, и Иван Константинов Бессарабенко, 18 лет, обвиняются в том, что 9 мая 1915 г., близ с. Тисуль, по предварительному между собой соглашению, встретив в лесу крестьянскую девицу Анну Таскаеву, 15 лет, утащили ее в кустарник, повалили там на землю, зажали ей рот, и против воли ее и согласия совершили с нею каждый полный акт полового совокупления, лишив ее при этом девственности»
{620}. Решающим образом на приговор повлияли показания крестьянских девиц Таисии и Любови Левинских и Анны и Ефросиньи Бурухиных. которые стали невольными свидетельницами преступления. Трое участников изнасилования были приговорены к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на четыре года каждый, а один к заключению в тюрьму на четыре года
{621}.
Дело это имело продолжение. Мать потерпевшей, Александра Осипова Таскаева, подала на имя императора прошение о помиловании, где утверждала, что дочь ее имела соитие с Яковым Колобовым, которого любит, по добровольному согласию. Во время близости, дескать, их застали парни, которых она оговорила, боясь осуждения за плотский грех. Заявительница просила прекратить дело, указывая, что дочь они просватали за Якова Колобова и по достижению ей пятнадцати с половиной лет молодые люди, по решению правящего архиерея, будут обвенчаны
{622}. Прошение это, вызванное, вероятно, желанием «покрыть позор венцом», было оставлено без последствий, что было для такого рода прошений делом обыкновенным.
Растление
Тяжким преступлением считалось растление, которое в уголовном законе трактовалось как половой акт с несовершеннолетней девушкой, приведший к утрате целомудрия. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 года предусматривало разные критерии малолетства и несовершеннолетия по разным статьям (от 10 до 14 лет, от 14 до 17 лети от 17 до 21 года), но любые половые действия по отношению к несовершеннолетним были уголовно наказуемы. Так, согласно статье 1524 Уложения, «если растление девицы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, учинено без насилия, но по употреблению во зло ее невинности и неведения, то виновный в оном приговаривается к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на время от восьми до десяти лет, или на время от четырех до восьми лет»
{623}. Если же растление было (статья 1523) «сопровождаемо насилием, виновный подвергался лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы сроком от десяти до двенадцати лет»
{624}.
К растлению в русской деревне относились строже, чем к насилию над взрослыми женщинами. По мнению крестьян, «тот человек, кто совершил такое, становился наравне с сатаной»
{625}. Однако на практике половое насилие над несовершеннолетними не всегда становилось основанием для уголовного преследования. По сообщению (1899 год) корреспондента Этнографического бюро из Орловской губернии, «при изнасиловании несовершеннолетней родители судились с виновником преступления или брали с него мировую — несколько рублей денег»
{626}. О допустимости заключения мировой сделки в делах такого рода свидетельствуют материалы и из других великорусских губерний
{627}.
Существование в деревне практики примирения в досудебном порядке подтверждается и представителями интеллигенции. Например, О. П. Семенова-Тян-Шанская в своем этнографическом исследовании приводит случай, когда караульный яблоневого сада изнасиловал тринадцатилетнюю девочку и мать этой девочки примирилась с обидчиком за 3 рубля
{628}. По рассказу известного русского художника В. М. Максимова, в 1899 году в Санкт-Петербургской губернии молодой крестьянин из д. Кусково, отличавшийся распутным поведением, изнасиловал девочку-сироту пятнадцати лет. Тетка потерпевшей хода делу не дала, за что насильник работал на нее целый год бесплатно
{629}. В Любимском уезде Ярославской губернии в 1898 году, согласно сведениям, собранным краеведом и журналистом А. В. Баловым, богатый крестьянин Н. К. изнасиловал жившую у него в услужении крестьянскую девицу Анну. Дело также до суда не дошло, ибо стороны «смирились»: Н. К. сшил потерпевшей девушке новое пальто и платье, а родителям ее выдал 50 рублей серебром
{630}.
Оценивать статистику растлений в российском селе трудно по той причине, что отдельный учет таких преступлений не вели, а многие случаи не становились предметом судебного разбирательства. Поэтому попытаемся восполнить этот пробел посредством обращения к материалам губернских ведомостей о происшествиях, ежегодно направляемых в Министерство внутренних дел.
В полицейской ведомости за 1877 год зафиксирован случай полового насилия над малолетней девочкой, произошедший в Тамбовской губернии: крестьянин Свешников склонил к половому сношению десятилетнюю Акулину Понясову. Преступник был задержан и передан судебной власти
{631}. В Орловской губернии 3 сентября 1879 года похожее преступление совершил во время полевых работ житель с. Становой Колодезь Стебаков
{632}. За покушение на невинность малолетней крестьянки, девятилетней Авдотьи Андреевой, решением Смоленского окружного суда от 5 ноября 1893 года к 6 годам каторжных работ был приговорен крестьянин Смоленской губернии Василий Матвеев Калабушкин
{633}.
Нередко растлителями малолетних девочек в деревне становились соседи или односельчане. При этом родители жертв невольно создавали условия для осуществления развратных действий по отношению к своим детям. Так, вечером 11 марта 1896 года крестьянка с. Большой Талинки Тамбовского уезда Соломанида Фоменкова попросила посмотреть за детьми, семилетней Прасковьей и грудным ребенком, соседа Григория А-ва, восемнадцати лет, который, когда она ушла, надругался над девочкой
{634}.
Сообщения об актах полового насилия по отношению к детям в крестьянской среде характерны и для начала XX века. Вот некоторые из них, поступившие в 1912 году: «в слободе Подгорной Острогожского уезда Воронежской губернии 12 мая крестьянин Шульгин, 43 лет, растлил крестьянскую девочку Мальцеву 14 лет»
{635}; «26 августа крестьянин д. Субботиной Тобольской губернии Афанасий Польянов, 47 лет, встретил 12-летнюю крестьянку Матрену Барышникову, затащив ее в яму под овин, против ее воли и согласия совершил с ней половой акт, лишив ее при этом физической девственности»
{636}; «крестьянин с. Выгорного Тимского уезда Курской губернии Яков Постников 24 декабря изнасиловал крестьянскую девочку Ольгу Шаталову, 11 лет»
{637}.
Ломка традиционного уклада деревни, сопровождаемая ростом агрессивности, приводила не только к увеличению числа преступлений, но и к неоправданной жестокости, которую проявляли насильники по отношению к малолетним жертвам. Так, «крестьянин с. Ореховского Благодаринского уезда Ставропольской губернии, Петр Дворядкин, 26 лет, 3 апреля 1909 г. на выгоне близ села ударом кулака свалил на землю И-летнюю девочку Марию Окорокову, и, пригрозив в случае сопротивления зарезать бывшим у него ножом… совершил с ней полный половой акт, лишив при этом ее физической девственности». Решением Ставропольского окружного суда от 4 июня 1910 года преступник был приговорен к лишению всех прав состояния и каторжным работам сроком на 6 лет
{638}.
С целью скрыть преступление насильник мог и убить жертву. По сообщению полиции в имении княгини Волконской в Моршанском уезде Тамбовской губернии 7 мая 1911 года в болоте была найдена зарезанной изнасилованная крестьянская девочка Авдотья Синякина, двенадцати лет. Дознание выявило убийцу и насильника: им оказался крестьянин с. Екатериновки Островской волости Семен Егоров Крастелев, 25 лет
{639}.
С утратой в деревне традиционных форм социального контроля даже суровость действующего законодательства не могла предотвратить насилие над детьми. К 10 годам каторжных работ решением Екатеринодарского окружного суда от 28 марта 1911 года был приговорен за насилие над одиннадцатилетней девочкой крестьянин Кубанской области Никифор Власенко, 26 лет
{640}. Такой же срок за растление малолетней приговором Иркутского окружного суда от 21 августа 1908 года получил Юлиан Волковский, 40 лет. Из материалов дела следует, что 7 июля 1906 года в г. Бодайбо он «учинил половое совокупление» с крестьянской дочерью Елизаветой Кулькиной, одиннадцати лет
{641}.
Начало XX века было отмечено ростом детской преступности в стране. Если в 1901–1910 годах взрослая преступность выросла на 35 процентов, то преступность несовершеннолетних — на 111 процентов
{642}, причем значительная часть преступлений, совершенных несовершеннолетними, приходилась на изнасилования и растления.
Для примера приведем факты, обнаруженные в сводках о происшествиях по Орловской губернии за 1910 год: «14 июня в с. Марьине Мценского уезда крестьянский мальчик Алдошин изнасиловал крестьянскую девочку Семину, 4 лет; 29 августа в с. Мирковых-Утах Трубческого уезда крестьянский мальчик Гулянов 13 лет растлил дочь крестьянки Гуляновой — Марфу, 5 лет; 23 октября в д. Лбах Трубчевского уезда крестьянин Шестопалов, 16 лет, растлил крестьянскую девочку Симонову, 5 лет»
{643}.
Следует согласиться с выводом дореволюционного исследователя детской преступности С. Ушке, который отмечал, что «растление девочек падает на более младший возраст, изнасилование женщин на более старший. Мальчики, за отсутствием физической силы, принуждены заниматься растлением, а юноши направляют свое преступное посягательство уже против взрослой женщины»
{644}.
Преступления такого рода совершались как в самой деревне, так в ее окрестностях, в местах, преимущественно малолюдных. 23 мая 1910 года в с. Богоявленском Землянского уезда Воронежской губернии крестьянская девочка Евдокия Семыкина во время сбора ягод в лесу была растлена крестьянским сыном Сергеем Поповым, 14 лет
{645}. Крестьянин Иван Семикаленов, 17 лет, в с. Фащевке Липецкого уезда Тамбовской губернии 26 июня 1911 года совершил растление девочки, жительницы того же села Екатерины Черкасовой, 7 лет
{646}. В с. Петровском Красно-Хуторской волости Тамбовской губернии 17 мая 1913 года крестьянская девочка Евдокия Панкова, 10 лет, пошла в общественный лес за телком, где ее изнасиловал крестьянин того же села Иван Каштанов
{647}. В той же губернии 26 июня 1913 года в с. Косыревке Сырской волости Козловского уезда крестьянский мальчик Николай Батраков, 13 лет, затащил в сени своего дома и изначиловал крестьянскую девочку Зинаиду Болдареву, 5 лет
{648}.
Как свидетельствуют документы, чаще всего насильниками были лица, знакомые потерпевшим. Нередко жертвами растления становились девочки, находившиеся у крестьян в работницах или няньках. Так, 29 ноября 1912 года крестьянин с. Ровеньки Острогожского уезда Воронежской губернии Желжаков, 45 лет, растлил находившуюся у него в услужении крестьянку Степенко, 13 лет
{649}. К лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на 6 лет был приговорен 7 мая 1911 года Тобольским окружным судом крестьянин и. Михайловский Тобольской губернии Григорий Федоров Суворов, 43 лет, за изнасилование девицы, не достигшей четырнадцати лет. Из дела следует, что 17 февраля 1910 года при возвращении домой из и. Богословского вместе с десятилетней крестьянской девочкой Соломонидой Мартышенко, нанятой им в няньки своему двоюродному брату, он, несмотря на сопротивление потерпевшей, имел с нею «половое совокупление», лишив ее при этом девственности
{650}.
Насильниками не всегда были местные жители. Растление девятилетней крестьянской девочки Василисы Болотовой совершил на Кубани вятский крестьянин Кузьма Поздеев. Решением Екатеринодарского окружного суда он был приговорен к 4 годам каторжных работ и уплате потерпевшей 5 рублей в месяц до выхода ее замуж
{651}. Более строгое наказание, максимально возможное, — 12 лет каторжных работ по приговору Екатеринодарского окружного суда — понес крестьянин с. Кисловки Самарской губернии Павел Иванов Крутилкин, 22 лет. Он был признан виновным в том, что 24 декабря 1909 года в Екатеринодаре совершил «половое совокупление» с десятилетней дочерью крестьянина Екатериной Мироновой
{652}. В обоих случаях преступники жителями Кубанской области не являлись, а были крестьянами-отходниками, временно нанявшимися на работу. Эта категория сельских жителей в большей мере была склонна к совершению преступлений, в том числе и половых.
Нередко насильственные действия по отношению к детям крестьяне-растлители совершали в городах, вдали от дома, уверенные, что здесь их не поймают. Показательно в этом отношении дело крестьянина из д. Дмитриевки Елецкого уезда Орловской губернии Якова Тихонова Турупкина, 24 лет, который 26 июня 1909 года в Новочеркасске изнасиловал семилетнюю девочку Веру Запорожцеву
{653}. Аналогичный случай произошел в Курске, где 23 октября 1911 года крестьянин Жарков, 37 лет, изнасиловал двух девочек, Коломейцеву, девяти лет, и Гришаеву, десяти лет
{654}. В Козлове 11 февраля 1911 года дочь крестьянина Заворонежской слободы Градско-Стрелецкой волости Козловского уезда Тамбовской губернии Афанасия Дмитриева Выглазского — Анна, девяти лет, была изнасилована квартирантом его, крестьянином д. Неплемек Лукмокской волости Спасского уезда Рязанской губернии Иваном Петровым Хаустовым, 65 лет, который, кстати, скрылся от правосудия
{655}.
Обычно извращенцы пользовались доверчивостью детей. Так, в одном случае растлителем малолетней девочки стал учитель земской школы крестьянин Павел Иваненко, 21 года, который 13 апреля 1915 года оставил в классе ученицу Евдокию Яковлеву, девяти лет, и насильственным образом лишил ее невинности
{656}.
В делах о растлении малолетних важное, если не решающее значение имел результат медицинского освидетельствования потерпевшей
{657}. В качестве примера приведем два дела, в которых судебно-медицинская экспертиза по-разному повлияла на приговор суда.
Судебным следователем 2-го участка Шацкого уезда Тамбовской губернии 9 мая 1879 года было возбуждено дело об изнасиловании крестьянской девочки Татьяны Поповой, десяти лет. О преступлении властям сообщил волостной старшина на основании словесного заявления отца девочки, крестьянина села Ново-Березов Степана Филипповича Попова. Из объяснения девицы Татьяны Поповой следовало, что в воскресенье, 29 апреля, после обеда она с подружкой пошла играть на луг. Проходя мимо гумна, они встретили односельчанина Ивана Расказова, тридцати лет, который схватил ее и потащил на гумно. Затем, со слов потерпевшей, он «заворотил сарафан и рубаху, вынул свою «чичирку» из портков и стал ею пихать пониже живота, от чего из этого места пошла кровь и замарала рубаху, которую мать потом вымыла». Свидетели, отставной рядовой Кондратий Муравлев и крестьянин Афанасий Поворов, по существу произошедшего ничего показать не смогли и факт изнасилования не подтвердили. Подружка потерпевшей Елена Берестинская надопросе показала, что Иван Расказов, встретив их, стал играть с Татьяной, а она сама пошла дальше, так как впереди шел ее пьяный отец и она боялась, чтобы он не упал и не выронил деньги. Из протокола № 3 от 23 мая 1879 года следовало, что земский врач Лимберг в присутствии понятых провел судебно-медицинское освидетельствование Татьяны Поповой. В результате он пришел к выводу, что «девственная плева цела и никаких повреждений половых органов не существует, а, следовательно, растления не было»
{658}. Трудно предположить, что десятилетняя крестьянская девочка сама додумалась пойти на оговор. По всей видимости, ее родители пытались получить с Расказова деньги за «насилие» и лишь после его отказа обратились с заявлением к властям.
В другом случае экспертное заключение судебных медиков позволило не только установить факт растления, но и выяснить обстоятельства совершения преступления. В результате крестьянин д. Пашенной Енисейского уезда той же губернии Маркел Федоров Аляев, 54 лет, был признан виновным в растлении крестьянской девицы Анастасии Полынцевой, девяти лет, и приговорен решением Красноярского окружного суда от 14 февраля 1907 года к 6 годам каторжных работ. Врачебной экспертизой был не только подтвержден факт изнасилования, но и установлено, что «попытки совокупления делались неоднократно»
{659}. Это позволило заключить, что преступление не было спонтанным — действия преступника носили продуманный и намеренный характер. В ходе допроса обвиняемый признался: «Охоту до маленьких девочек имею давно, как увижу, в голове все мутнеет и дрожь меня бьет»
{660}.
Это, пожалуй, единственный случай, когда нам удалось обнаружить, что преступник признал свою патологическую страсть. Во всех других рассмотренных случаях растления малолетних ни у следствия, ни у суда вопрос о психическом здоровье и вменяемости подсудимых не возникал.
Сопоставление правовых обычаев села и уголовного законодательства дает основание утверждать, что в определении меры ответственности за преступления такого рода уголовное преследование отличалось куда большей последовательностью в том, что касалось установления степени вины и суровости наказания. Нормы обычного права допускали как самочинную расправу над преступником, так и примирение сторон при условии материального возмещения со стороны насильника или растлителя. Правда, стоит оговориться, что по мере формирования у крестьян гражданского правосознания практика примирения между насильником и его жертвой постепенно уходила в прошлое.
Женские преступления
Если в предыдущем разделе крестьянка выступала в роли жертвы сексуального насилия, то в этой части будет рассмотрено ее поведение в качестве преступницы, действия которой нарушали нормы христианской морали, противоречили правовым обычаям русского села и подпадали под действие уголовного законодательства.
Мужеубийство
Зависимое и подчиненное положение в семье, отсутствие возможности уйти от нелюбимого мужа, его издевательства — все эти обстоятельства часто превращали доведенную до отчаяния побоями и издевательствами крестьянку из жертвы семейного насилия в жестокого убийцу. Таким образом, ответ на вопросы — что же толкало крестьянку на мужеубийство, как решалась она на страшный грех, почему совершала тяжкое преступление? — следует искать в реалиях семейной обыденности.
Причиной трагедии мог стать брак не по любви — если девушку выдавали замуж против ее воли. Отсутствие каких бы то ни было чувств, симпатий, привязанности сказывалось на характере внутрисемейных отношений, а в крайних случаях приводило к ненависти, насилию и, как следствие, к бытовым преступлениям. Брак не по любви занимал первое место среди причин убийств крестьянками своих супругов. Показательна в этом отношении судьба тамбовской крестьянки Марии Гром, осужденной за отравление мужа на 12 лет каторжных работ. Выданная замуж в девятнадцать лет не по своей воле, она тяготилась ласками мужа. Вернувшись однажды с полевых работ, муж поужинал и лег спать, а ночью проснулся от болей в животе и, промучившись весь следующий день, умер. При вскрытии был обнаружен мышьяк. Мария виновной себя не признала; она все повторяла: «…Я тут ни в чем не причина»
{661}. Аналогичная история произошла в Псковской губернии: 25 марта 1902 года в д. Смехово Вышегородской волости Порховского уезда умер от отравления крестьянин д. Каменца той же волости Василий Алексеев. Подозрение пало на его девятнадцатилетнюю жену Александру Степанову. На допросе она показала, что, будучи выдана замуж против своей воли, вскоре после свадьбы уехала к своему отцу в д. Смехово, куда 25 марта явился на свою беду ее муж. Совершить убийство ее подговорила односельчанка Авдотья Савельева, которая и передала яд, добавленный в водку
{662}.
Случаи мужеубийств довольно часты в сводках полицейского ведомства. Приведем некоторые из них: «И марта 1911 г. в слободе Чижевке Воронежского уезда крестьянкой Александрой Ковалевой во время ссоры нанесены раны в область груди своему мужу Михаилу Ковалеву, от которых он умер»
{663}; «29 октября 1911 г. в д. Новосильской Бирюченского уезда Воронежской губернии крестьянкой Натальей Алтуховой во время ссоры убит муж ее Максим Алтухов, деспотически обращавшийся с ней при жизни»
{664}; «в с. Драковичах Брянского уезда Орловской губернии 22 мая 1911 г. крестьянка Никанорова во время ссоры нанесла несколько ударов топором своему мужу Кондратию Никанорову, от которых он тут же умер»
{665}; «в с. Ливенке Павловского уезда Воронежской губернии 29 марта 1912 г. крестьянка Анна Коновалова убила своего мужа Даниила Коновалова, отличавшегося нетрезвым образом жизни и буйным характером»
{666}; «крестьянка Екатерина Лебедева, жительница Воронежского уезда той же губернии, 11 апреля 1912 г. во время буйства нетрезвого мужа Федора нанесла ему топором два удара по голове, от которых он умер»
{667}.
Часто именно пьянство и рукоприкладство мужей про-воцировало сельских баб на отчаянный шаг. В д. Кисловой Елатомского уезда Тамбовской губернии 3 ноября 1906 года местная крестьянка Аграфена Кармилина задушила своего мужа Евсея Дмитриевича Кармилина. Дознание установило, что покойный вел нетрезвую жизнь, был буйного нрава и часто бил жену. Во время драки, ставшей для супруга последней, жена ударила его палкой, а когда он упал, накинула ему на шею веревочную петлю и затянула ее, привязав к бревну в сенях
{668}.
Не обладая большой физической силой, женщины проявляли недюжинную изобретательность. К «кровавым» способам убийства они прибегали лишь в крайних случаях, отдавая предпочтение отравлениям, обливанию серной кислотой и т. и.
{669} Часто их жертвы умирали во сне. По сведениям юриста Я. Канторовича, к помощи яда прибегала каждая третья из женщин, осужденных за убийство мужей, в то время как среди мужей-женоубийц отравителем был один из 26
{670}. Крестьяне, между прочим, считали отравление, если воспользоваться юридическим термином, «привилегированным убийством», то есть со смягчающими обстоятельствами. Такое суждение основывалось на том, что отравитель, действуя тайно, не проявлял чрезмерной дерзости, или, как говорили в селе, «отчаянности»
{671}.
Как явствует из следственных материалов, женщины, как правило, тщательно планировали свои преступления. Использование яда как средства устранения супруга — тому подтверждение. Бывало, что план мести вынашивался в течение нескольких лет после нанесенной обиды
{672}. Так, доведенная до отчаяния постоянными побоями супруга 38-летняя крестьянка Ливенского уезда Орловской губернии нанесла спящему мужу несколько смертельных ударов по голове заранее приготовленным камнем (1910 год). Следователю она заявила, что кто-то бросил камень в открытую дверь и попал супругу в голову, однако медицинская экспертиза установила, что жертву ударили не менее пятнадцати раз
{673}.
Детоубийство
Пожалуй, нет ни одного преступления, которое бы так противоречило женской природе, как убийство своего ребенка. Трудно понять, как та, которая имеет милость от Бога родить ребенка, может лишить его жизни.
Уголовное законодательство дореволюционной России подвергало детоубийц суровому наказанию. В Уложении о наказаниях 1885 года статьей 1451 за убийство новорожденного ребенка матерью предусматривалось наказание 10–12 лет каторги или 4–6 лет тюремного заключения. Но если женщина оставила ребенка без помощи от «стыда и страха», то наказание могло быть уменьшено до 1,5–2,5 лет тюрьмы. Ссылка на каторгу за детоубийство в Уголовном уложении 1903 года была заменена тюремным заключением сроком от 1,5 до 6 лет. Статья 461 гласила: «…Мать, виновная в убийстве прижитого ею вне брака ребенка при его рождении, наказывается заключением в исправительный дом».
Нормы обычного права были созвучны положениям официального законодательства. Обычай русской деревни признавал убийство женщиной своего незаконнорожденного ребенка столь же тяжким преступлением, как и другие убийства
{674}. Народовед Е. Т. Соловьев писал, что «на прелюбодеяние, разврат, детоубийство и изгнание плода народ смотрит как на грех, из которых детоубийство и изгнание плода считаются более тяжкими»
{675}. Но если изгнание плода, по суждению новгородских крестьян, было только грехом, то детоубийство — тяжким преступлением, требующим сурового наказания
{676}.
Обо всех ставших известными в селе случаях детоубийства местные жители немедленно доносили властям. В некоторых местах принимались меры профилактического характера, чтобы не допустить такого рода преступлений. Так, в деревнях Новгородской губернии (1899 год), как только становилось известно, что какая-нибудь девица забеременела, староста созывал сход, на который призывал ее с родителями. Сход добивался признания в беременности самой девицы, подтверждения этого факта ее родителями и предупреждал девушку: «Ты, голубушка, беременна, смотри, чтобы ребенок был цел!», а также ее родителей: «А вы хорошенько смотрите за ней; в случае греха — отвечать будете!»
{677}. Можно предположить, что публичность в сочетании с последующим контролем со стороны деревенского общества была действенным методом профилактики такого рода преступлений.
До проведенной Александром II в 1864 году судебной реформы сколько-нибудь внятная статистика судебных дел не велась. А после реформы если сведения и собирались, то лишь по отдельно взятым уездам и губерниям. Причем в отношении убийств младенцев и эти данные нельзя считать ни полными, ни достоверными, поскольку из-за коррумпированности сельской полиции, ее неумения и нежелания расследовать подобные уголовные дела немалая их часть просто не фиксировалась. Тем не менее можно утверждать, что во второй половине XIX века число детоубийств в стране росло. По данным уголовной статистики (повторимся: неполным), за детоубийство и оставление новорожденного без помощи в России была привлечена к ответственности в 1879–1888 годах 1481 женщина, а в 1889–1898 годах — 2276.
Эти цифры дополним конкретными фактами детоубийств, обнаруженными в материалах полицейского ведомства 1900–1916 годов. Так, «1 февраля 1900 года в с. Крупышине Дмитровского уезда Орловской губернии крестьянская девица Вера Гришаева, 37 лет, родила ребенка женского пола и зарыла его в навозе, где он и умер»
{678}; «в слободе Абросимовой Богучарского уезда Воронежской губернии 12 декабря 1901 г. крестьянка Комарова умышленно лишила жизни своего новорожденного младенца женского пола»
{679}; «близ слободы Юдиной Острогожского уезда Воронежской губернии 30 августа 1912 г. найден труп младенца мужского пола, оставленный там его матерью крестьянской девицей Лагутиной, 18 лет»
{680}; «3 сентября 1915 г. в с. Алгасове той же волости Моршанского уезда Тамбовской губернии крестьянской девицей Евдокией Холоповой тайно рожден младенец, который был ей задушен и зарыт на местном кладбище»
{681}.
Следует признать, что убийство матерями младенцев в русской деревне и в начале XX века не было событием исключительным. По наблюдению О. П. Семеновой-Тян-Шанской, проживавшей долгое время в с. Гремячка Данковского уезда Рязанской губернии — имении своего отца, известного путешественника, — «случаи убийства новорожденных незаконных младенцев очень нередки»
{682}. Приведем сведения лишь по одной Курской губернии и только за один месяц, декабрь 1917 года. Вот выдержки из милицейских сводок: «12 декабря в с. Линове крестьянка Анна Исаева, родив ребенка, закопала его в солому»; «В с. Верхней Сагаровке 17 декабря крестьянская девица Анастасия Коломийцева родила ребенка и закопала его в землю»; «21 декабря в хуторе Казацко-Рученском крестьянка Евдокия Круговая, 19 лет, родив ребенка, закопала его в сарае». Приведенные примеры указывают не только на частоту детоубийств в селе, но и на характерный способ сокрытия трупов младенцев.
В деревнях детоубийство было распространено больше, чем в городах. Из 7445 детоубийств, зарегистрированных в 1888–1893 годах, на города пришлось — 1176, а на деревенскую местность — 6269 преступлений. 88,5 процента осужденных за детоубийство в период 1897–1906 годов проживало в уездах
{683}. По данным доктора медицины В. Линдерберга, из числа женщин, обвиненных в детоубийстве, на долю крестьянок приходилось 96 процентов
{684}. В 1928 году среди женщин-детоубийц, по данным Б. С. Маньковского, крестьянки составляли 66,9 процента, а горожанки соответственно — 33,1. Однако с учетом проживающих в городах работниц — вчерашних деревенских жительниц — цифра детоубийц-крестьянок, по его мнению, должна быть увеличена до 81 процента. «Детоубийство не является правонарушением, характерным для города», — утверждал автор
{685}. Таким образом, это преступление в изучаемый период было «женским» по признаку субъекта и преимущественно «сельским» по месту его совершения.
Можно предположить, что значительное число смертей младенцев в деревне было отнесено к разряду случайных, а следовательно, не отразилось в уголовной статистике. В русском селе нередки были случаи «присыпания» младенцев
{686}. В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» приводит специфический термин, обозначающий нечаянное убийство ребенка, — «приспать». «Прислать или заспать младенца, положить с собою, навалиться на него в беспамятном сне и задушить». «Мне всегда подозрительны засыпания «детей», — делилась своими сомнениями с читателем О. П. Семенова-Тян-Шанская, — так легко нарочно придушить маленького ребенка, навалившись на него, якобы во сне»
{687}. Сомнения этнографа имели основания: слишком много фиксировалось подобных происшествий. Так, в «Ведомостях о происшествиях по Курской губернии за 1901 г.» находим следующую информацию: «12 мая в д. Майковой Курского уезда крестьянка Беседина во время сна задушила свою дочь Татьяну, 3 мес.»; «в с. Сагайдачном Корочанского уезда 26 мая задушен во время сна крестьянкой Дедовой ребенок, 6 мес.»; «20 мая в слободе Голубиной Новооскольскольско-го уезда задушена во время сна крестьянкой Чесленко дочь Ульяна, 2 мес.»; «в слободе. Песчанке Новооскольского уезда 7 августа крестьянка Дадурова во время сна задавила сына Тихона, 6 нед.»
{688}.
Делалось это сознательно или нечаянно, судить трудно, но крестьяне считали «присыпание» тяжким грехом. Можно предположить, что часть таких смертей была результатом умышленных действий и жертвами их становились, как правило, нежеланные дети. Информаторы Этнографического бюро сообщали, что незаконнорожденные дети чаще всего умирали в первые месяцы после рождения из-за намеренно плохого ухода, а порой и по причине «случайного» присыпания. Крестьяне говорили, что «зазорные все больше умирают потому, как матери затискивают их»
{689}. Это подтверждается и данными статистики. Смертность внебрачных детей была в 2,7 раза выше, чем законнорожденных младенцев
{690}. Впрочем, «случайные» смерти, как правило, не становились предметом судебного разбирательства, а требовали лишь церковного покаяния. Священник налагал на мать, заспавшую младенца, тяжелую епитимью: до 4000 земных поклонов и до шести недель поста
{691}.
К смерти младенцев в деревне относились спокойно, говоря: «Бог дал — Бог взял». Значение имело еще и то, что появление лишнего рта, особенно в бедных семьях, часто воспринималось домочадцами с плохо скрываемым раздражением.
Специфика мотивов детоубийства состоит в том, что это, скорее, мотивы «морального порядка». По мнению М. Н. Гернета, «детоубийцами являлись девушки-матери, а это обстоятельство дает все основания утверждать, что детоубийство имеет главной причиной известные взгляды современного общества на внебрачные рождения»
{692}. Статистика показывает, что число детоубийств находилось в обратном отношении к числу незаконных рождений. В тех местностях, где рождение детей вне брака было редким явлением и наказывалось строже, там детоубийство встречалось чаще.
Среди мотивов совершения детоубийства доминировала боязнь общественного мнения. Крестьянка, родившая незаконнорожденного ребенка, подвергалась в деревне осуждению, а участь внебрачного дитяти была незавидной. Внебрачные дети были сельскими париями. В некоторых местах, как уже говорилось, их даже ограничивали в праве на наследство и в праве пользоваться мирской надельной землей. Следует согласиться с утверждением современного исследователя Д. В. Михеля о том, что «резко отрицательное отношение общества к внебрачным детям, как и к внебрачной сексуальной жизни женщины, привело к тому, что от таких детей всячески стремились избавиться»
{693}. Таких примеров хватает. Рязанским окружным судом обвинялась «незамужняя крестьянка д. Афанасьевой Егорьевского уезда Рязанской губернии Прасковья Устинова Антропова, 28 лет, в том, что 16 августа 1894 г., разрешившись первый раз от бремени незаконнорожденной девочкой, волнуемая стыдом, немедленно после родов лишила ребенка жизни посредством удушения, зажав рот и нос его рукою, и бросила затем труп в реку Гуслянку»
{694}. По сообщению уездного исправника, «29 сентября 1906 г. в с. Знаменском Тамбовского уезда в погребе крестьянина Андрея Дворецкого найден мертвым младенец мужского пола, рожденный 27 сентября дочерью, девицей Марией, и ею же от стыда и страха оставлен без попечения и умерщвлен»
{695}. Из сводок о происшествиях по Тамбовской губернии за 1911 год: «16 февраля в с. Гридине той же волости Елатомского уезда крестьянская девица Анастасия Лазорхина, 25 лет, разрешилась от бремени младенцем мужского пола, которого от боязни и стыда скрыла в своем сундуке надворе. Младенец найден замерзшим»
{696}. Сообщение из Воронежской губернии (1914 год): «В с. Рождественской Хаве Воронежского уезда 9 марта незамужняя крестьянка Шульгина, родив ребенка женского пола и желая скрыть свой позор, лишила ребенка жизни и спрятала его в сундук»
{697}.
В качестве причины детоубийства совершившие преступление женщины чаще всего называли стыд или страх. Из 228 женщин, осужденных Витебским окружным судом в 1897–1906 годах, 84 заявили, что они решились на душегубство из-за стыда и страха перед родственниками и стыда перед чужими людьми. В то же время на материальную нужду как мотив преступления указали лишь 17,2 процента сельских женщин, осужденных за детоубийство
{698}.
Тем не менее нельзя отрицать, что именно тяжелое материальное положение порой толкало крестьянку на убийство младенца. Приведем показания крестьянки Матрены К., вдовы 32 лет, дело которой слушалось в 1902 году в Рязанском окружном суде: «Я задушила своего мальчика из-за стыда и нужды; у меня трое законных детей, все малолетние, и мне их нечем кормить, так что я хожу побираться Христовым именем, а тут еще новый появился ребенок»
{699}. В Тверской губернии была признана виновной в «предумышленном убийстве» крестьянка Агафья Архипова, 19 лет от роду. Из материалов дела следует, что роды проходили тяжело, состояние роженицы было неудовлетворительным. Была зима, стояли морозы, денег на пропитание не было, и тогда молодая женщина решилась на убийство младенца — завернула его в юбку и бросила в колодец
{700}.
Были и такие случаи, когда в детоубийстве просматривался корыстный мотив, — если мать воспринимала рождение ребенка как обузу, как препятствие в реализации жизненных планов. В 1914 году 22-летняя крестьянка В. Беседина из Орловской губернии, когда ее муж и свекор ушли на заработки, осталась с полуторагодовалой дочерью и свекровью, у которой тоже были маленькие дети. В поисках заработка она попыталась устроиться прислугой, но хозяйка отказалась взять ее вместе с ребенком. Тогда крестьянка решила избавиться от дочери — вырыла на кладбище яму и закопала девочку живьем. Отсутствие данных не позволяет создать психологический портрет преступницы. Во всяком случае, мы знаем, что она была признана вменяемой и наказана по всей строгости закона. Суд приговорил ее к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на 10 лет
{701}. Тут следует сказать, что мотивированные детоубийства в большей мере были характерны для сельских девиц, бывших домашней прислугой в городах, — для них рождение ребенка было чревато потерей работы, так как хозяева, узнав о беременности, как правило, «отказывали от места».
Распространенным мотивом преступления было стремление сельских баб скрыть последствия супружеской неверности. Вот типичная история. Крестьянка из Самарской губернии Елизавета К., 25 лет, за убийство младенца была осуждена на 6 лет каторжных работ. Она вышла замуж в двадцать лет и, когда через два года мужа взяли в солдаты, осталась жить в его семье. Забеременев в отсутствие мужа, она оправилась погостить к родным, где и родила. Сразу же после родов она придушила ребенка, но скрыть преступление не сумела. Из показаний обвиняемой на суде выяснилось, что она скрывала свою беременность и готовилась к преступлению загодя, так как боялась родных мужа; кроме того, и сам муж написал, что скоро вернется домой
{702}. Таким образом, в этом и ему подобных случаях детоубийство отнюдь не стало результатом психотравмирующей ситуации, вызванной родами, а было обдуманным деянием.
Что же касается понятного стремления матерей-детоубийц скрыть следы преступления, то О. П. Семенова-Тян-Шанская по этому поводу писала: «Родит баба или девка где-нибудь в клети одна, затем придушит маленького руками и бросит его либо в воду (с камнем на шее), либо в густой конопле, или надворе или где-нибудь в свином катухе зароет»
{703}.
Способы сокрытия трупа не отличались разнообразием. Из материалов Тамбовского окружного суда следует, что местные крестьянки избавлялись от внебрачных детей, бросая их в реку, кучу навоза, общий клозет
{704}. По сообщению полиции, «1 февраля 1900 г. в с. Крупышине Дмитровского уезда Орловской губернии крестьянская девица Вера Гришаева, 37 лет, родила ребенка женского пола и зарыла его в навозе, где он и умер»
{705}. Из рапорта уездного исправника следует, что «4 октября 1906 г. вечером крестьянская девица с. Яблонова Слободской волости Лебедянского уезда Тамбовской губернии Евдокия Ивановна Чурилова родила младенца мужского пола и тотчас же после рождения лишила его жизни, скрыла в соломе на своем огороде»
{706}. В сводках происшествий по Тамбовской губернии находим: «30 июля 1911 г. крестьянская девица д. Алексанровки-Войкова Козловского уезда родила младенца и отнесла его за свой двор, где младенец был обнаружен собаками и съеден ими, от которого осталась лишь ножка, которая от собак была отбита»
{707}. Газета «Козловская мысль» от 12 мая 1915 года в разделе криминальной хроники сообщала, что «крестьянка Анфиса Дымских, 20 лет, жительница с. Ярок Козловского уезда Тамбовской губернии, 1 мая 1915 г. родила девочку, прижитую вне брака. Боясь мести со стороны мужа, она задушила ребенка, а труп зарыла в яму, вместе со сдохшей свиньей»
{708}. Такие «захоронения» в селе обнаруживали, как правило, случайно. «Ребенка нашли в пруду»; «собака вытащила из конопли брошенного туда задушенного младенца»; «свиньи выкопали у погоста посиневшего мертвого новорожденного»
{709}.
Чаще всего труп новорожденного пытались скрыть на месте или вблизи места, где произошли тайные роды. Как правило, это привычная среда обитания крестьянской бабы: хлев, сарай, двор — и значительно реже: лес, поле, дорога, берег реки и т. и.
{710} Чаще всего скрыть преступление пыталась сама мать, но иногда ей в этом помогали близкие. По сведениям из Белозерского уезда Новгородской губернии (1899 год), «случается, матери помогают дочерям в сокрытии убитого младенца и даже сами принимают участие в умерщвлении его»
{711}. Как правило, преступления совершались сразу после родов. Способы умерщвления младенцев были разнообразны. Самыми распространенными были удушение, утопление, тугое пеленание, нанесение колюще-режущих ран
{712}. Так, по сведениям судебного медика Тардье, из 555 детских трупов, обследованных им, 281 имел следы удушения, а 72 были утоплены в отхожих местах
{713}.
Материалы уголовной статистики дают основание утверждать, что суды проявляли снисходительность к матерям-детоубийцам. За период с 1897 по 1906 год в Российской империи к суду по обвинению в детоубийстве и оставлении без помощи новорожденного к ответственности была привлечена 2041 женщина, из них 1380 были оправданы
{714}.
Нередко преступные действия квалифицировались по статье 1460 (сокрытие трупа), что влекло за собой более мягкое наказание. Содержание этой статьи предполагало, что ребенок, труп которого был скрыт матерью, родился мертвым; следовательно, не допускалось ее применение в тех случаях, когда ребенок был рожден живым и умер уже после родов, а мать скрыла его тело
{715}. По всей видимости, часть матерей-детоубийц по наущению своих адвокатов пользовалась статьей 1460 как юридической уловкой.
Еще одна особенность рассмотрения дел такого рода заключалась в том, что судьи часто расценивали преступления женщин-детоубийц как совершенные в состоянии сильного психического потрясения, граничащего с безумием. В отношении незамужних и неграмотных крестьянок такой вердикт выносился почти автоматически
{716}. Этим обстоятельством пользовались привлеченные к суду женщины, которые оправдывали свои действия помутнением рассудка
{717}. Доктор медицины А. Грегори заметил, что «женщины, совершившие убийство младенца, склонны всячески выгораживать себя и списывать все на свое самочувствие, особенно на временное помрачение сознания»
{718}. Установить в ходе следствия наличие психотравмирующей ситуации было сложно, и поэтому судьи предпочитали трактовать возникающие сомнения в пользу обвиняемых. Нам же следует, вероятно, согласиться с утверждением современного исследователя Н. А. Соловьевой, что «мотивация преступлений, как правило, определялась не выраженной эмоциональной напряженностью, а личностной морально-этической деградацией»
{719}.
Судебная практика дореволюционной поры свидетельствует, что в ходе следствия обвиняемые, как правило, своей вины не признавали, отрицали преступный умысел, а смерть младенца объясняли трудным течением родов и своим беспамятством. Снисходительность же судей при вынесении приговоров по делам такого рода была результатом устоявшегося мнения о «темноте» сельской бабы и взгляда на крестьянку-детоубийцу как «жертву обстоятельств».
Плодоизгнание
Криминальный аборт (плодоизгнание) законодательством второй половины XIX — начала XX века квалифицировался как преступление против личности. В дореволюционной России аборты были юридически запрещены. По Уложению о наказаниях 1845 года, плодоизгнание было равносильно детоубийству и каралось каторжными работами сроком от 4 до 10 лет. В первом русском Уголовном кодексе 1832 года изгнание плода упоминается среди видов смертоубийства. Согласно статьям 1461 и 1462 Уложения о наказаниях 1885 года, искусственный аборт наказывался 4–5 годами каторжных работ, лишением всех прав состояния, ссылкой в Сибирь на поселение
{720}. Уложение 1903 года смягчило меры ответственности за это преступление; согласно ему «мать, виновная в умерщвлении своего плода, наказывается заключением в исправительный дом на срок не свыше 3 лет, врач — от 1.5 до 6 лет». Плодоизгнание расценивалось как тяжкий грех церковью. Согласно церковному уставу, за вытравливание плода зельем или с помощью бабки-повитухи накладывалась епитимья сроком от 5 до 15 лет.
Говорить о числе абортов в дореволюционный период чрезвычайно сложно, статистика их фактически не велась. Что же до обвинений в истреблении плода, то в России за период с 1892 по 1905 год они были предъявлены 306 женщинам, и 108 из них было осуждено
{721}. В период с 1910 по 1916 год эти цифры незначительно выросли: число осужденных за плодоизгнание составляло от 20 до 51 женщины в год
{722}. Безусловно, эти цифры не отражают истинного масштаба явления — в действительности случаев искусственного прерывания беременности было значительно больше.
В условиях отсутствия в деревне средств предохранения плодоизгнание было практически единственным способом скрыть результат внебрачных отношений. Судя по этнографическим источникам, на аборт решались прежде всего деревенские вдовы и солдатки
{723}. По мнению дореволюционных медиков, изучавших проблему абортов, «мотивом производства преступного выкидыша служило желание скрыть последствия внебрачных половых сношений и этим избегнуть позора и стыда»
{724}. Правовед Н. С. Таганцев, опираясь на данные уголовной статистики, утверждал, «что мотивы, определяющие это преступление, совершенно аналогичны с мотивами детоубийства — это стыд за свой позор, страх общественного суда, тех материальных лишений, которые ожидают в будущем ее и ребенка»
{725}. С этим был солидарен и А. Любавский. Он, властности, писал: «Сокрытие стыда было возможно только посредством истребления дитяти, свидетеля и виновника этого стыда»
{726}.
Для таких выводов имелись серьезные основания. Мы уже говорили о том, сколь тяжела была в селе участь согрешивших девушек. Страх позора толкал некоторых из них к уходу из жизни. Другие тщательно, порой до самого последнего момента, скрывали беременность, а накануне родов находили повод уехать из деревни, разрешались родами вдали от дома и подкидывали новорожденных
{727}. Третьи, обнаружив «интересное положение», пытались вызвать выкидыш. По сообщениям корреспондентов Этнографического бюро, чтобы «выжать» ребенка, в деревне перетягивали живот полотенцем или веревками
{728}. С этой же целью сельские бабы умышленно поднимали непосильные тяжести, прыгали с высоты, били себя по животу палками
{729}. Помимо механического воздействия на плод для его «вытравливания» в деревне употребляли (часто с риском для жизни) различные химикаты. «Изгнание плода практиковалось часто, — сообщал В. Т. Перьков, информатор из Волховского уезда Орловской губернии, — к нему прибегали девицы и солдатки, обращаясь для этого к старухам-ворожейкам. Пили спорынь, настой на фосфорных спичках, порох, селитру, керосин, сулему, киноварь, мышьяк»
{730}. В селах Калужской губернии действенным способом считался раствор охотничьего пороха с сулемой
{731}.
Порой попытки вызвать искусственный выкидыш закачивались трагично. Так, в д. Макутине Новгородской губернии (1899 год) одна девица вздумала вытравить плод раствором спичечных головок, но, не рассчитав концентрацию, отравилась и умерла в страшных мучениях
{732}. В Сампурской земской больнице Тамбовского уезда той же губернии 26 марта 1911 года умерла, пытаясь вытравить плод крепкой водкой, крестьянская девица с. Никольского Наталья Знобищева, 19 лет.
Русские крестьяне в большинстве своем считали плодоизгнание тяжким грехом. Такая оценка содержится в большинстве изученных источников
{733}. По степени греховности аборт приравнивался ими к убийству («загубили ведь душу»), за него должно было последовать самое страшное наказание («в бездну за это пойдешь»). Девушка, совершившая убийство младенца во чреве, подвергалась большему осуждению, чем родившая без брака. «Убить своего ребенка — последнее дело. И как Господь держит на земле таких людей, уж доподлинно Бог терпелив!» — говорили орловские крестьяне
{734}. Суждения крестьян Ростовского уезда Ярославской губернии были схожи: «Ежели ты приняла грех, то ты должна принять и страдания, и стыд, на то воля Божья, а если ты избегаешь, то, значит, идешь против Божьего закона, хочешь изменить его, стало быть, будешь за это отвечать перед Богом»
{735}. Правда, в отдельных местностях, например в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии, отношение к прерыванию беременности было не таким строгим. «Как сами матери, так и весь народ относится к аборту легкомысленно, не считая это большим грехом», — писал информатор Этнографического бюро Каверин 1 февраля 1900 года
{736}. Но это скорее исключение, чем правило.
Отношение деревенских жителей к абортам выражалось и в том, что они охотно доносили властям обо всех ставших им известных случаях прекращения беременности
{737}. В ряде сел Вологодчины за забеременевшими девушками устанавливался надзор не только со стороны их родителей, но и со стороны сельского старосты, десятских и сотских
{738}. Не меньшее осуждение в селе вызывали и те, кто помогал вытравить плод. Если повитухи пользовались в деревне почетом и уважением, то бабы, промышляющие этим греховным ремеслом, вызывали у односельчан презрение.
Проституция
Профессиональной проституции в деревне не существовало, в этом солидарны практически все исследователи.
Тем не менее оказание сексуальных услуг за плату было достаточно распространено. По наблюдению информаторов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева, этим промышляли преимущественно солдатки. Про них в деревне говорили, что они «наволочки затылком стирают»
{739}. По сведениям из Нижегородской губернии, «вдовы и солдатки составляют главный контингент местных сельских проституток»
{740}.
Длительное отсутствие мужа-солдата становилось тяжелым испытанием для полной плотских желаний деревенской молодухи. Один из корреспондентов Этнографического бюро писал: «…Выходя замуж в большинстве случаев лет в 17–18, к 21 году солдатки-крестьянки остаются без мужей. Крестьяне вообще не стесняются в отправлении своей естественной потребности, а у себя дома еще меньше. Не от пения соловья, восхода и захода солнца, разгорается страсть у солдатки, а оттого, что она является невольно свидетельницей супружеских отношений старшей своей невестки и ее мужа»
{741}.
Крестьянки ярославского села, оправдывая поведение своих товарок, рассуждали так: «Муж не терпит, а она и подавно не будет терпеть, — он раззадорил ее, да и ушел, не женился бы коли до солдатчины…»
{742}. В некоторых деревнях Воронежской губернии «на связь солдаток с посторонними мало обращали внимания, и она не преследовалась обществом, а дети, прижитые солдатками незаконно, пользовались такими же правами, как и законные»
{743}. По свидетельству из Мещевского уезда Калужской губернии, «довольно часты случаи ухода от жен-солдаток, так как последние редко выдерживают 4—5-летнего отсутствия мужа, поддаются соблазну и иногда без мужа рожают детей»
{744}.
Другой причиной измены крестьянских жен своим мужьям могла быть импотенция, или, как в деревне говорили, «нестоиха». «Какой это муж! И на человека не похож; никогда не пожалеет»
{745}. В приведенной фразе калужской крестьянки слово «жалеет» означает половое соитие. Неспособность мужа к половой жизни выступала серьезным аргументом в оправдании внебрачных связей. «Что ж с больным лежать — только себя мучать», — говорили в таких случаях деревенские бабы
{746}.
Благодатной почвой для адюльтера выступали отхожие промыслы. По наблюдениям П. Каверина, информатора из Борисоглебского уезда Тамбовской губернии, они были «главной причиной потери девственности и падения нравов… Уже с ранней весны девушки идут к купцу, так у нас называют всех землевладельцев, на работу. А там полный простор для беспутства»
{747}. Близость деревень и помещичьих усадеб с прислугой — лакеями, кучерами и т. д. всегда отрицательно влияла на сельскую нравственность
{748}. Да и сами помещики порой негативно влияли на нравственность села, заводя у себя целые гаремы
{749}.
Многие женщины отправлялись в качестве прислуги в города и здесь, оказавшись в новой для себя, полной соблазнов обстановке, приобретали своеобразный взгляд на женское целомудрие
{750}. Некоторые из них постепенно скатывались к тому, что были готовы отдать себя за деньги или хороший подарок. В начале XX века, согласно исследованию И. Канкаровича, в столице «около 40 процентов поднадзорных проституток составляли крестьянские девушки, служившие прежде прислугой, да почти столько же крестьянок, бывших ранее фабричными работницами»
{751}.
Рост числа крестьян-отходников также способствовал падению нравственности в деревне. Писатель В. Михневич сетовал, что крестьяне, «которые в своем примитивном состоянии всегда твердо придерживались принципов крепкого семейного начала и которые по своей натуре никогда не были расположены к разврату, теперь сильно деморализуются и без стеснения нарушают «седьмую заповедь», когда они пребывают в городах в поисках работ»
{752}. Попадая в городской вертеп, знакомясь с доступными женщинами, мужики быстро усваивали вкус свободной любви. Крестьянка Орловского уезда А. Михеева, говоря о падении нравов в селе, видела причину этого в том, что «мужики как поживут на стороне, то по возвращению заводят любовниц», которыми становились «часто вдовы и замужние женщины, если муж много старше или в долгой отлучке»
{753}.
В отличие от городской, сельская проституция была в основном тайной, случайной, соседствовала с обычным развратом, следовала за ярмарками и другими большими скоплениями людей
{754}. Проституцией «по случаю» грешили крестьянки, привозившие продукты на продажу в город на ярмарки: идея подзаработать «заодно» в городе телом казалась многим из них вполне приемлемой и экономически выгодной
{755}.
Проявления проституции отмечались обычно в больших фабричных и торгово-промышленных селах, «в селениях, лежащих близ значительных железнодорожных станций, или на тракте, к которому приходят партии рабочих, в селениях, служащих рынками найма»
{756}. Излюбленным местом сельских жриц любви был трактир. Здесь они находили клиентов, а свидания происходили в окрестном лесу, который к вечеру был буквально наводнен парами
{757}.
Сирое на сексуальные услуги закономерно возрастал в тех селах, где были размещены воинские команды. По утверждению информатора из Вологодской губернии, разврат в с. Вознесенском появился со времени расквартирования в нем отряда из 60 солдат, конвоировавших арестантов из одного острога в другой
{758}. В селах и деревнях с незначительным пришлым населением, жители которых занимались главным образом земледелием или кустарными промыслами, проституция (даже «случайная») практически отсутствовала
{759}.
В то же время О. П. Семенова-Тян-Шанская считала, что любую бабу можно легко купить деньгами или подарком. Одна крестьянка наивно признавалась: «Прижила себе на горе сына и всего за пустяк, за десяток яблок»
{760}. Писатель А. Н. Энгельгардт утверждал, что «нравы деревенских баб и девок до невероятности просты: деньги, какой-нибудь платок… лишь бы никто не знал, лишь бы все было шито-крыто…»
{761}
Изученный материал дает основание утверждать, что в отдельных селах существовала так называемая «гостеприимная проституция». По наблюдениям публициста С. Шашкова, «на севере России хозяин, отдавая внаем квартиру, предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату»
{762}. В ряде сел Волховского уезда Орловской губернии существовал обычай почетным гостям (старшине, волостному писарю, судьям, заезжим купцам) предлагать для плотских утех своих жен или невесток, если сын находился в отлучке. При этом прагматичные крестьяне не забывали брать плату за оказанные услуги. В селах Мешкове и Коневке того же уезда бедные крестьяне без смущения посылали своих жен к приказчику или к какому-либо состоятельному лицу за деньгами на табак или хлеб, заставляя их расплачиваться своим телом
{763}.
 Крестьянки-проститутки. Фото начала XX века
Крестьянки-проститутки. Фото начала XX века
Крестьянки были основным контингентом городских домов терпимости. По мнению А. И. Федорова, «самая большая часть домов терпимости принадлежит к крестьянскому сословию, меньшая — мещанскому»
{764}. Создание разветвленной сети железных дорог, соединившей крупные города империи, поддерживало постоянный приток в город сельских женщин. Большая их часть не могли найти сносную работу и автоматически оказывались рынке сексуальных услуг
{765}. Если в начале 90-х годов XIX века крестьянки составляли 47,6 процента
{766} от общего числа проституток Петербурга, то в 1910 году их доля выросла до 70 процентов. И чем мощнее становились миграционные потоки, тем больше усложнялся процесс адаптации приезжих к новым условиям жизни в городе
{767}.
В провинциальных городах вчерашние крестьянки также составляли большинство проституток. По данным за 1899 год, в Тамбовской губернии из 215 зарегистрированных проституток — 144 имели крестьянское происхождение, из них 73 «трудились» в борделях и 71 промышляла на улице
{768}. В Самарской губернии в то же время из 167 зарегистрированных проституток крестьянок было 97, из них 73 обслуживали клиентов в публичных домах, а 24 выходили на панель
{769}. Большинство уездных проституток были девицами из бедных семей, около 10 процентов из них утратили девственность в результате изнасилования.
Пьянство
Алкоголизм не был пороком, характерным для женской части русской деревни, как, впрочем, и для мужской. Можно утверждать, что сельское население вело преимущественно трезвый образ жизни. Доля лиц. имевших пагубное пристрастие к вину, была незначительной.
Все дореволюционные исследователи сходятся во мнении, что сельское пьянство носило обрядовый характер. Деревенский праздник, всегда желанный, так как давал возможность прервать однообразную череду сельских будней, в восприятии крестьянина был непременно связан с употреблением вина. Это был не только отдых от тягот ежедневного труда, но и способ консолидации сельского мира. Побывать на празднике в деревне считали долгом.
«Престольные праздники празднуют так: крестьяне варят пиво (брагу) и покупают водку. Из соседних селений приходят знакомые и родственники, старшие члены семьи обоего пола. К близкой родне ходит и молодежь. Молодые люди напиваться допьяна стесняются. Тот, кто не принимает участие в праздниках, считается скаредным»
{770}. Корреспонденты Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева сообщали, что в большие религиозные праздники выпивка в селе — обычное дело. Традиционно «пьяными» днями считались Рождество, Пасха, Масленица, престольный праздник. В народе говорили: «Кто празднику рад — тот до свету пьян» или: «Без блинов не Масленица, а без вина не праздник»
{771}. Тверская крестьянка С. Л. Грачева вспоминала свое детство: «Вот два дня активно-активно гуляют, это Боже мой! А вот третий день уже прихватывают, это — пиво у кого осталось, самогонка… Все равно напьются пьяными на третий день. Третий день все равно отдай, это в осенние праздники, Ефимий и Покров. Ну, а в летние праздники — там два денька и все»
{772}.
Этнографы конца XIX века в своих описаниях особо выделяли неумеренность в потреблении спиртных напитков во время деревенских праздников, вызывавшую у них непонимание и даже шок. Вот как описывает свой визит в одну из деревень Вологодской губернии А. Шустиков: «Приехавши в Лыцно-Боровую, я застаю там целую массу пьяных мужиков, баб и разряженных в кумачные кофты, пестрые сарафаны девиц, с песнями расхаживающих по деревне»
{773}. Знаток русского села А. В. Балов на основе своих наблюдений за жителями ярославской деревни заключает: «Употребление водки среди крестьянского населения развито в значительной степени: водку пьют преимущественно мужчины, женщины ее пьют гораздо меньше, среди девушек еще менее пьющих. За последнее время употребление водки стало распространяться сильнее и сильнее: стали пить ее не только девушки, но и даже мальчики-подростки»
{774}. То есть в некоторых местах молодежь отнюдь не «стеснялась» пить вино. Из черноземной деревни Кирсановского уезда Тамбовской губернии В. Бондаренко сообщал, что «растлевающая основы нравственности водка начинает употребляться с крайне раннего возраста: мужчинами — с 15, а девушками — с 12 лет, хотя питье водки для девушки считается предосудительным, а для женщины — позволяется пить умеренно»
{775}.
Участниками сельских праздников были деревенские мальчишки и девчонки, которые в подражание взрослым перенимали отнюдь не лучшие традиции крестьянского досуга. Так, по сообщению из ст. Родниковской Кубанской области, здесь и в начале XX века существовал среди местных детей обычай «кумиться» на первый день Троицы. Вот его описание: «Там покупают водку вскладчину и жарят яичницу. Девочки садятся на скамьи, а мальчики, наполнив рюмки водкой, подносят каждый заранее избранной своей возлюбленной. Когда последняя выпьет водку до дна и ухарски выплеснет оставшиеся несколько капель, подбросив стаканчик вверх, маленький искуситель выпивает сам и, поцеловавшись со своей избранной, садится, обняв ее, рядом с ней. После того как все разобьются на пары, начинается взаимное угощение водкой, вином и пивом. Напившись допьяна, каждая парочка выходит особо во двор, где ложатся, целуются, обнимаются, барахтаются и «шумят». При этом пьяные мальчишки и девчонки, подражая взрослым парням, позволяют себе в обращении такие вольности, глядя на которые и взрослый мужчина покраснеет. Каждая такая парочка называется «кум с кумой», а то, что они между собой проделывают, называется «кумиться». Пьяная до безобразия, детвора сквернословит (иногда, приревновав к своей «куме», иной подерется) и орет песни далеко не детского содержания»
{776}.
Современники отмечали, что нередки были случаи, когда сами родители угощали детей водкой или пивом, приговаривая: «Пусть мальчонка приучается, смолоду начнет пить — под старость она ему противной станет». Детвора служила предметом спора взрослых о том, кто кого перепьет: Митьку Ванька или наоборот
{777}.
Из Тульской губернии сообщали: «Тут же спаиваются поголовно все: пьют ребята и подростки, не отставая от взрослых мужиков; пьют девки; пьют бабы и, обезумев, насильно льют с ложки вино в рот своим грудным детям»
{778}. Мало чем отличалась ситуация в сибирской деревне. «Нам не раз приходилось бывать свидетелями ужасных сцен, когда матери-крестьянки в целях успокоения детей вливают последним в рот водку, в количестве иногда до рюмки… на крестинах обычное явление при угощении взрослых… гостей — потчевать также и крещеных младенцев, зачастую одинаковым с порцией взрослого количеством спиртного зелья», — свидетельствует А. А. Савельев, живший в начале XX века в Приангарье
{779}. Священник из Олонецкой губернии с сожалением признавал, что «пьют мужики, парни, женщины, девицы совсем молодые, даже тянутся к вину и дети. Среди крестьянской молодежи даже замечается иногда бахвальство своим пьянством, когда парни прикидываются выпившими более, чем это было на самом деле»
{780}.
По суждению Д. И. Жбанкова, пьянство среди сельских женщин распространялось по мере их эмансипации. Исследователь утверждает: «Там, где крестьянка подневольное существо, она почти вовсе не пьет водки, разве только рюмку-две, два раза в год, во время больших праздников; пьяниц-баб вовсе не встретишь, кроме отдельных гулящих солдаток или бывших дворовых. Здесь, наоборот, трудно встретить вовсе не пьющих женщин; молодые и девушки еще стесняются, а в среднем возрасте и пожилые пьют почти все при всяком удобном случае. Во время храмовых праздников, продолжающихся по три дня, выпивается много водки, и добрая половина ее приходится на долю баб, напивающихся допьяна наравне со своими мужьями»
{781}.
Било тревогу и приходское священство, замечая в пастве усиливающуюся тягу к спиртному и распространение греха винопития среди сельских женщин. Священник одного из Томских приходов писал об этом так: «И пусть бы столь пагубному пороку предавались люди взрослые, это бы не так было прискорбно, а то ведь упиваются вином до невозможности и люди молодые, и не только мужчины, но и женщины; а что все хуже и прискорбнее — очень часто посещают питейный дом даже девицы»
{782}. Священники. Виноградов отмечал, что «в крестьянском бюджете на водку, «опохмеляющие напитки» тратится от половины до одной трети из всех расходуемых денег. Самый большой процент начинающих пить относится к возрасту от 15 до 24 лет»
{783}.
Пристрастие к алкоголю у крестьянки могло возникнуть и по причине пьянства мужа. Корреспондент В. М. Максимов, характеризуя жизнь крестьян столичной губернии, в 1897 году сообщал: «Пьяница-муж под веселый час принуждает выпить водки и жену; иные входят во вкус и пьют не хуже мужей, но это почитается в женщине постыдным: такую бабу ставят наравне с распутной»
{784}. В новгородских селах замечали, что если какой мужик сам напивается, то не будет ругать свою бабу, если она пьяная напилась. По суждениям таких мужиков: «Пьяная баба удалее»
{785}.
Алкоголь мог выступать фактором консолидации и чисто женского сообщества. По наблюдениям из Новгородской губернии (1899 год): «Компании с мужчинами женщины обыкновенно не водят, а напиваются отдельно в своем женском обществе… Женщины так же. как и мужчины, напиваются до опьянения, но в таком виде становятся гораздо отвратительнее
мужчин, совершенно утрачивая всякий стыд, и дают полную волю разнузданности и цинизму»
{786}. Современный исследователь Т. И. Трошина на основе изучения нравов крестьянского населения Архангельской губернии в начале XX века отмечает: «Встречались случаи пьянства и среди женщин, которые становились «веселыми и доступными»
{787}. Не зря народная пословица гласит: «Пьяная баба — п…е не хозяйка!»
Но как бы то ни было, документы свидетельствуют, что алкоголизму в селе была подвержена незначительная часть местных жительниц. Нам удалось обнаружить лишь единичные сведения о смерти деревенских женщин от пагубной страсти. По данным из Воронежской губернии за 1900 год, «в с. Хреновских Выселках Воронежского уезда от пьянства умерла крестьянка Кузнецова, 39 лет»
{788}. В этом же году в Самарской губернии за первые две недели января от излишнего употребления вина умерло одиннадцать крестьян, из них — две женщины. Там же за первую половину февраля умерло восемь крестьян, в том числе одна женщина
{789}. На хуторе Крутинском Бобровского уезда Воронежской губернии 29 июля 1912 года, «опившись вина, умерла крестьянка Вожинская, 36 лет»
{790}.
Пьянству в деревне чаще были подвержены женщины, ведущие распутный образ жизни. Об одной из таких идет речь в прошении крестьянина Каллистрата Лоскутникова в Екатеринбургский окружной суд: «Жена моя, Устинья Павлова Лоскутникова, ведет нетрезвую и распутную жизнь, иначе говоря, нарушает святость брака прелюбодеянием, и ее мать, моя теща, 16-го ноября 1909 года крестьянка Лукерья Ивановна Моткина среди улицы накрыла ее на прелюбодейном действии с посторонним мужчиной»
{791}.
Другой категорией крестьянок, которые знались с «зеленым змием», были женщины, уходившие в город на заработки. Город, со всеми «прелестями» урбанизации, выступал благодатной почвой для возникновения и распространения в их среде пьянства, которое порой приводило крестьянку к нравственной деградации и даже к гибели, что зафиксировано в полицейских отчетах. Например: «В г. Воронеже на Миллионной улице в доме терпимости 15 февраля 1912 г. от пьянства умерла проститутка крестьянка Андреева, 22 года»
{792}.
Зависимость от алкоголя у женщин возникала быстрее, чем у мужчин, а последствия пьянства бабы для семьи были более тяжкими. В деревне говорили: «Пьяная баба сама не своя. Пьяная баба свиньям прибава»; «Муж пьет — полдома горит, а жена пьет, весь дом горит».
Алкоголизм при определенных условиях мог стать причиной самоубийства. В сводках о происшествиях в Воронежской губернии за 1912 год находим, что «в слободе Бутурлиновке Бобровского уезда 22 марта отравилась карболкой крестьянская девица Каменцева 16 лет, которая при жизни вела нетрезвый образ жизни, занималась проституцией»
{793}. Впрочем, пристрастие к алкоголю, конечно, не было главной причиной добровольного ухода сельской женщины из жизни. Но об этом далее.
Самоубийство
Добровольное лишение себя жизни, даже если оно представляет собой бегство от страданий, всегда воспринималось как тягчайший грех, который Церковь на земле уже не может отпустить, ибо всякий грех отпускается только при покаянии. По церковным канонам самоубийц и даже только подозреваемых в самоубийстве нельзя было отпевать в храме и поминать в церковной молитве.
Для жителей русской деревни конца XIX — начала XX века отношение к самоубийству в целом было созвучно с позицией православной церкви. Крестьяне считали самоубийство «смертным» грехом и объясняли дьявольским наваждением. По суждению ярославских крестьян, самоубийство совершалось под влиянием нечистой силы, а душа самоубийцы поступала в распоряжение дьявола. Погребение самоубийц в деревне, согласно церковным постановлениям, совершалось без церковного отпевания, могилу располагали за кладбищенской оградой, и крест на ней не ставили
{794}. Люди, покушавшиеся на самоубийство, никаким ограничениям в селе не подвергались, но насмешки по отношению к себе испытывать им приходилось
{795}.
Тем не менее статистические данные дают основание утверждать, что в конце XIX — начале XX века в России происходит рост числа самоубийств. С 1870 по 1908 год общее их количество увеличилось в пять раз, а к 1910 году — почти удвоилось. В Петербурге с 1906 до 1909 год самоубийств стало больше на 25 процентов, тогда как население города увеличилось лишь на 10 процентов. Уровень самоубийств в Европейской части России вырос с 2,1 случая на 100000 населения в 1905 году до 2,6 — в 1907, 3,3 — в 1910 и до 3,4 — в 1912-м
{796}.
В условиях значительного преобладания в социальном составе населения страны крестьян значительная доля самоубийств приходилась на них. По подсчетам доктора Жбанкова, в 1905–1909 годах в столице 57,3 процента самоубийц были из крестьянского сословия. Статистика за 1911 год дает еще более красноречивые результаты: из общего числа самоубийц в Петербурге крестьяне составляли 78,14 процента, дворяне — 7,71 процента, мещане — 11,74 процента, купцы — 1,53 процента, духовенство — 0,21 процента, иностранные подданные — 0,71 процента
{797}. Такое же соотношение, вероятно, было и в провинциальных городах. Очень часто причиной самоубийства крестьянина-отходника становилась материальная нужда вследствие безработицы
{798}.
Но это — в городе, то есть речь идет об отходниках. Добровольный уход из жизни приросшего к земле сельского жителя — событие скорее экстраординарное. Большинство корреспондентов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева в своих сообщениях солидарны в утверждении, что самоубийства в деревне — явление редкое
{799}. Это подтверждается и данными врачебно-медицинской и полицейской статистики. По подсчетам доктора медицины Е. В. Святловского в Волочанском уезде Харьковской губернии за период с 1874 по 1884 год было совершено 57 самоубийств, то есть в среднем в год 5,27 случая; из них 29,31 процента приходилось на женщин
{800}. В уездах Тамбовской губернии в конце XIX — начале XX века, по данным губернаторских отчетов, регистрировалось от 28 случаев самоубийств в 1885 году до 62 — в 1897-м. Максимальное число самоубийц в селах губернии (88, в том числе 20 женщин) было отмечено в 1910 году. Доля женщин среди сельских самоубийц колебалась от 22 процентов — в 1884 году до 39 процентов — в 1885 году
{801}.
Женщин среди самоубийц всегда было меньше, чем мужчин. Сравнительно низкий уровень женских самоубийств К. С. Веселовский объяснял пластичностью женщин и обращенностью их души внутрь себя в отличие от мужчин, которые постоянно находятся в борьбе с миром и самими собой
{802}. Однако на протяжении XIX века доля женских самоубийств постепенно начинает расти. В 1821–1822 годах в целом по России она составила 21 процент, в 1844–1846 годах — 23 процента, в 1870–1874 годах — 25 процентов, в 1875–1880 годах — 25,5 процента, в 1881–1890 годах — 29 процентов, в 1891–1899 годах — 32 процента
{803}. По расчетам современного исследователя Богданова, произведенным на материалах земской статистики Курской губернии, доля женских суицидов в общем числе самоубийств выросла с 18,2 процента в 1870–1874 годах до 31,7 процента в 1888–1893 годах
{804}. Это была неизбежная плата за женскую факты самоубийств в уездах с указанием времени, места, возраста и имени крестьянки, иногда причины суицида.
Место самоубийства, как правило, выбиралось рядом с домом, чаще всего это были хозяйственные постройки: сарай, амбар, рига, баня и т. и. Реже повешенных находили в доме или в сенях. Вот типичные сообщения о суицидах из полицейских сводок: «Крестьянка с. Алисова Мценского уезда Орловской губернии Сморчкова 10 апреля 1879 г. повесилась на дереве»
{805}; «24 января 1879 г. в пос. Катенском Верхнеуральского уезда Орловской губернии удавилась жена крестьянина Кузьмы Ефимова Огольцсва — Аксинья»
{806}; «29 ноября 1906 г. крестьянка с. Лисиц Праскофья Е1иколаевна Афонина, 20 лет от роду, от неизвестной причины повесилась в своем амбаре»
{807}; «В слободе Лысогоровке Богучарского уезда Воронежской губернии 16 февраля 1912 г. в сарае повесилась крестьянка Бойкова 45 лет. Причина — семейный раздор»
{808}.
Таким образом, локальность крестьянского сознания выбирала привычную среду обитания как место ухода из жизни. Правда, дореволюционные исследователи усматривали в этом причину мистического характера. Этнограф В. Н. Добровольский, в частности, утверждал, что «самоубийцы из народа часто лишают себя жизни около гумен и бань, ближайших ко двору построек, которые народное воображение населяет хлевниками, домовыми, гуменными»
{809}.
Что касается способов, к которым прибегали сельские самоубийцы, то, по мнению суицидолога дореволюционной поры, «у мужчин излюбленным способом является повешение и значительно реже утопление и лишения себя жизни огнестрельным оружием. У женщин на первом месте стоит утопление и отравление. Женщины чаще бросаются с высоты, а мужчины чаще бросаются под поезд»
{810}.
В качестве примера приведем статистику по Волочанскому уезду Харьковской губернии. Здесь за период с 1874 по 1884 год к повешению прибегло 42 (в том числе 33 мужчины и 9 женщин) из 56 деревенских самоубийц. Из шести отравившихся пять были сельскими бабами. На мужчин-самоубийц приходилось три случая самострела
{811}. Такое соотношение в выборе способов ухода из жизни вполне закономерно. Если к повешению (удавлению) в деревне прибегали как мужчины, так и женщины, что объяснялось доступностью этого способа (веревка была в каждой избе), то в выборе отравления или самострела определяющую роль играла половая принадлежность самоубийц. Бабы не умели обращаться с огнестрельным оружием, да и в редкой семье оно имелось. Также можно предположить, что женщины-самоубийцы, в отличие от мужчин, и после смерти хотели выглядеть привлекательно.
В начале XX века ситуация в выборе способа ухода из жизни не изменилась. По данным М. Н. Гернета, среди способов самоубийства первое место по-прежнему занимало повешение — 49,7 процента, далее самоубийство с помощью огнестрельного оружия — 23,9 процента, отравление — 14,6 процента, утопление — 4 процента, с помощью холодного оружия и под колесами транспорта — по 3 процента, падение с высоты — 0,5 процента, иное — 2 процента
{812}.
Женщины-самоубийцы делили свои предпочтения между повешением и отравлением. Часто как средство ухода из жизни использовали раствор фосфорных спичек
{813}. Таким способом совершила самоубийство в 1898 году крестьянка Анна, жительница Любимовского уезда Ярославской губернии. Будучи вдовой, имея двух детей и живя с родителями мужа, она забеременела и задушила новорожденного ребенка. Боясь, что преступление раскроется, и раскаиваясь в содеянном, она отравилась
{814}. По сообщению уездного исправника Козловского уезда Тамбовской губернии в 1904 году, в с. Ржакса 20 марта отравилась фосфором крестьянка Марфа Павловна Сафронова, 20 лет; в с. Пичаево Курдюковской волости таким же способом 16 марта ушла из жизни крестьянка Федосия Сергеевна Журавлева, 25 лет
{815}. Иногда в ход шла уксусная эссенция: 26 февраля 1908 года ее выпила и скончалась в земской больнице Моршанска крестьянка с. Большие Кулики Александра Яковлевна Долгова, 21 года
{816}. Или карболовая кислота: в д. Прямицина Курского уезда Курской губернии 29 мая 1912 года отравилась ею крестьянка Ксения Цуканова
{817}.
Для сельских женщин одной из важных из причин суицида была «несчастная любовь», невозможность вступить в брак с любимым человеком. В корреспонденции из Буйского уезда Костромской губернии (1897–1899 годы) автор рассказывает о крестьянской девушке Дарье, которая любила сына местного лавочника Сергея, и чувства эти были взаимны. Но по воле отца сын женился на богатой мещанке из города, хотя была она «лицом корява и умом тупа». Вскоре после их свадьбы Дарью нашли повесившейся в овине
{818}.
Порой на добровольный уход из жизни решались сельские девушки, обманутые парнями обещаниями жениться и забеременевшие. На суицид их толкал страх позора и осуждения со стороны родных и соседей
{819}. Так, несчастная любовь стала причиной смерти крестьянской девушки Анастасии Бызовой, жительницы вологодской деревни. Двадцати лет от роду, она два года была «подруженькой» молодого парня из зажиточной семьи, который женился на другой. Обманутая девушка удавилась в бане. Вскрытие установило, что она была беременна
{820}.
Еще одной причиной самоубийств деревенских девушек мог быть страх перед родителями. Исследователь В. К. Хорошко, основываясь на современных ему данных провинциальной периодики начала XX века, приводит примеры таких суицидов: «16-летняя крестьянская девочка Б. бросилась в колодец, но была извлечена. Покушение на самоубийство Б. объяснила тем, что боялась наказания отца, так как один из крестьян заподозрил ее в краже у него 10 рублей»
{821}. «В д. Буково Карашевой волости Ростовского уезда Ярославской губернии, 10-летняя крестьянская девочка разбила случайно чайное блюдце и, испугавшись наказания со стороны своего строгого отца, повесилась»
{822}.
Неприязнь со стороны родных и близких также могла послужить для эмоциональных девичьих натур поводом принять трагическое решение. «Две крестьянские девушки 17 и 18 лет приняли яд вследствие несправедливого отношения к ним родителей»
{823}. «4 сентября 1914 г. в с. Мартыне Бобровского уезда Воронежской губернии по причине упреков матери в безнравственном поведении повесилась крестьянка Фомичева, 17 лет»
{824}.
Самоубийством кончали и замужние женщины — часто в случае беременности в результате внебрачной связи. «В ночь с 26 на
Т1 апреля 1914 г. в Донской слободе Козловского уезда Тамбовской губернии повесилась солдатка, крестьянка Анастасия Волкова, находящаяся в последней степени беременности. Покойной был только 21 год, покончила самоубийством вследствие невозможного жития в семье со старшими, которые за допущенный грех буквально ее съели»
{825}.
Для сельской бабы мотивом к самоубийству могли послужить побои и издевательства мужа. В 1899 году в с. Сугонове Калужской губернии крестьянка, имевшая несколько детей, доведенная до отчаяния жестокими побоями мужа и издевательствами за мнимую измену, удавилась на чердаке
{826}. По сообщению газеты «Козловская мысль» за 1912 год, «18 декабря отравилась крестьянка Куликова. Покойная была в беременном состоянии. На самоубийство ее побудило, как предполагают, дурное обращение с ней мужа»
{827}. Рукоприкладство в крестьянской семье было явлением обыденным, поэтому весьма трудно определить, сколько среди женщин было тех, для кого самоубийство стало средством избегнуть побоев мужа-тирана.
Среди причин крестьянских самоубийств, если довериться наблюдениям полицейских чинов, была также депрессия, а в ряде случаев, по всей видимости, и душевное расстройство. В рапортах уездных исправников Тамбовской губернии такое состояние называлось «умоисступлением». В результате «умоисступления», по донесению Елатомского уездного исправника, в августе 1904 года повесились крестьянки Кадыкова, 40 лет, и Степанида Платоновна Арбузова, 61 года
{828}. 23 августа того же года в припадке болезненного состояния свела счеты с жизнью Анастасия Гончарова, 32 лет, крестьянка с. Панина
{829}. В с. Темяшеве Лукояновского уезда Нижегородской губернии 7 февраля 1900 года во время болезненного припадка влезла в петлю крестьянка Неськина
{830}.
Умалишенные
Если говорить о душевнобольных в российском селе, опираясь на данные медицинской статистики, то можно с уверенностью утверждать, что психические заболевания среди крестьян встречались редко. Сельская жизнь, если не брать в расчет возможные последствия пагубных пристрастий, не создавала в отличие от города условий для умственных расстройств.
Возьмем для примера Тамбовскую губернию — типично аграрный регион с преобладанием крестьянского населения. По данным ежегодных отчетов лечебницы для душевнобольных Тамбовского губернского земства, в ней в период с 1887 по 1899 год находилось на излечении в среднем около пятисот больных в год. Крестьян, если исходить из сословной принадлежности, среди пациентов было около 60 процентов, хотя они составляли не менее 90 процентов населения Тамбовской губернии. Если же судить по роду занятий, земледельцы составляли менее 50 процентов от общего числа больных
{831}. Аналогичная картина наблюдается и в других губерниях. В вологодской лечебнице для душевнобольных, как следует из отчета за 1891 год, крестьяне составляли 54,74 процента пациентов
{832}.
Половое соотношение среди крестьян — пациентов тамбовской земской лечебницы было следующим: мужчины преобладали и составляли около 62 процентов
{833}. Соотношение крестьян, мужчин и женщин, находившихся по состоянию на 1 сентября 1882 года в Казанском земском доме умалишенных, близко к этому
{834}. Деревенские бабы, по всей видимости, были менее подвержены умственному расстройству, чем мужики. Это связано, вероятно, и с тем, что в силу особенностей женской натуры крестьянки оказались более устойчивыми к вызовам времени и ломке привычных устоев, чем мужская часть российского села.
Русские крестьяне разделяли душевнобольных людей на слабоумных от рождения и сумасшедших — потерявших рассудок в зрелом возрасте. И те и другие в русской деревне являлись объектом сожаления и забот. Была еще категория бесноватых, юродивых и кликуш, анализ которой мы оставляем за рамками настоящего исследования.
Причину рождения в семье слабоумного ребенка крестьяне объясняли грехом родителей. Слабоумие ребенка, по мнению сельских жителей, было следствием того, что его зачали в постные дни или накануне двунадесятого праздника, то есть в то время, когда супруги должны были избегать интимной близости. Появление на свет умственно неполноценного ребенка, как говорили на селе — «дурачка», бросало тень на репутацию всей семьи. Жители Ростовского уезда Ярославской губернии утверждали, что «дурость от рождения за порок считается, значит, глупость есть во всем роду»
{835}.
Впрочем, в большинстве русских сел к самим «дурачкам» относились с состраданием. По свидетельству крестьян Новгородской губернии, «самый жестокий человек не позволит нанести обиду «убогому», считая это грехом и находя, что он уже достаточно обижен от Бога за родительские грехи»
{836}. Во многих деревнях одевали и кормили душевнобольных, не имеющих попечения родственников
{837}. В селах Калужской губернии местные жители полагали, что «дурак» или «дурочка» служат своего рода защитой своей деревне, поскольку их несчастье искупает грехи не только родных, но и всех односельчан. Следовательно, их надо беречь и жалеть
{838}. Таких «тихо помешанных» в русской деревне считали «убогими», то есть близкими к Богу. Деревенские жители старались подольше удержать их у себя в избе, будучи уверенными в том, что вместе с ними в дом приходят счастье и достаток
{839}.
Отношение крестьян к односельчанам, потерявшим рассудок в сознательном возрасте, было двояким. Оно было обусловлено причинами, которые, по мнению деревенских жителей, вызвали душевное расстройство. Жалели тех, у кого умственное помешательство стало результатом болезни, порчи, вызванной колдовством, вера в которое у крестьян была очень сильна, или сильного нервного потрясения. Примером может служить судьба крестьянской девушки Авдотьи Тимофеевой из д. Краскова Белозерского уезда Новгородской губернии. Она влюбилась в парня, которого взяли в солдаты. Уходя, он просил ее не выходить замуж и обещал по возвращении со службы жениться на ней. Но когда пришел из солдат, женился на другой девушке. В результате сильного душевного потрясения Авдотья сошла с ума
{840}.
Человека, потерявшего рассудок в зрелом возрасте, в деревне называли «помешанным», считалось, что на него «нашла нечистая сила»
{841}. Таких сумасшедших порой опасались, и не без основания. Свидетельством тому скупые полицейские сводки из сел губерний Центрального Черноземья конца XIX— начал а XX века: «В с. Панове Тамбовского уезда той же губернии 22 февраля 1878 г. крестьянка Александра Перепелкина в припадке умопомешательства нанесла смертельные раны топором по шее 4-летнему сыну своему Федору»; «14 июня 1912 г. в слободе Новой Толучеевой Богучарского уезда крестьянка Куприянова в припадке умственного расстройства зарубила своего сына Василия 1,5 лет»
{842}; «в с. Григорьевке Мало-Грибановской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии ночью 20 марта 1912 г. крестьянка Евдокия Галактионова Гребенникова, 40 лет. страдая психическим расстройством, во время сна ножом ранила малолетних детей своих. Матрену трех лет, Николая девяти лет, Петра двенадцати лет; дочь Матрена умерла, раны нанесенные сыновьям оказались не опасны для жизни»
{843}.
Душевная болезнь деревенской бабы всегда имела для крестьянского двора тяжелые последствия, поскольку заменить ее в работах по дому и в поле было некому. Земский деятель, помещик К. К. Арсеньев описал крестьянскую семью в д. Ми-лашенка Тамбовской губернии, где хозяином был семнадцатилетний подросток Емельян Моргунов: «У него есть мать, но глухая и полуидиотка, ни в чем ему не помогающая, и четверо маленьких братьев и сестер. Моргуновы были вынуждены побираться. Корова давно продана, а топить избу было нечем»
{844}. Еще хуже дела обстояли там. где больная была вдовой или не имела родни. Прокормить себя самостоятельно такие женщины не могли. Их существование обеспечивали родственники, а при отсутствии таковых помогали односельчане и земства.
Заключение
Крестьянка выступала центром мира русской деревни, некой силой, объединяющей все его части в единое целое.
Не претендуя на главную роль в повседневной жизни, которая оставалась за мужиком, сельская женщина умело «режиссировала» свое участие в ней. Традиционность «бабьей доли» выработала в крестьянке стратегию выживания, умение адаптироваться к суровым условиям сельского бытия, определила тактику обыденного поведения в преимущественно мужской действительности русской деревни.
Ее судьба — это череда жизненных ролей, содержание которых было известно изначально. Всякое отступление от них, сознательное или вызванное обстоятельствами, влекло к переходу (временному или постоянному) крестьянки в одну из категорий — чернички, бобылки, солдатки и пр.
Патриархальный уклад крестьянской семьи обуславливал стереотипы поведения женщины, как до брака, так и в замужестве. Исполнение установлений достигалось силой общественного мнения села. Создание семьи деревенские девушки воспринимали как этап, необходимый для обретения нового жизненного статуса.
Положение женщины в крестьянской семье определялось местом в семейной иерархии, нормами обычного права, наличием сыновей, трудовым вкладом ее и супруга, личными качествами. Решительный шаг в эмансипации крестьянки произошел в период семейных разделов конца XIX века. в которых наряду с объективными причинами важную роль сыграл субъективный «женский» фактор — стремление освободиться от произвола большака и стать самостоятельной хозяйкой.
Воспитание и обучение девочек в деревне имели прагматическую основу — цель заключалась в том, чтобы привить им навыки, необходимые для полевых работ и введения домашнего хозяйства.
Комплекс женских работ в деревне определялся традиционным разделением труда и особенностями крестьянской экономики. Большое значение женский труд имел в домашнем хозяйстве. По причине оттока мужского населения села в города или в связи с мобилизацией происходила феминизация аграрного труда, которая негативно влияла на репродуктивную систему крестьянки, но в то же время повышала общественный статус женщины, развивала у нее навыки управления хозяйством.
Особое место в имуществе крестьянского двора занимала женская собственность, неприкосновенность которой была защищена нормами обычного права русской деревни. По мере развития правой культуры села, роста правового сознания женщины крестьянки все чаще и решительнее стали обращаться в судебные инстанции с целью отстаивания своих имущественных прав и законных интересов.
Неприглядной чертой семейной жизни крестьянки было физическое насилие со стороны мужа. Жестокое обращение с женой — это следствие существовавших стереотипов, проявление невежества и низкого культурного уровня жителей села. Обретение сельской женщиной чувства собственного достоинства закономерно рождало неприятие этого варварского обычая, у нее возникало стремление оградить себя от побоев мужа, в том числе путем обращения в волостной или мировой суд.
Жизнь крестьянки «на миру» определялась ее традиционным местом в общественном устройстве села. Ее публичная активность реализовалась в тех сферах деревенской обыденности, где роль «женского фактора» была велика. Это обрядовая жизнь села, различные формы деревенской коммуникации (слухи, сплетни, пересуды), общественный досуг (гулянья, посиделки, вечерки). Участие в самоуправлении села крестьянки осуществляли либо косвенно, через своих мужей, либо лично, выражая интересы двора на сельском сходе по причине отхода или отсутствия домохозяина. Во время острого противостояния власти и общины активность крестьянок резко возрастала, принимая форму «бабьих бунтов».
Рост преступности, в том числе и женской, стал неизбежной платой за модернизацию аграрного общества. Деформация нравственных устоев села проявилась в росте числа сексуальных преступлений. Крестьянки все чаще становились жертвами полового насилия, асами преступления носили все более циничный характер.
Женские преступления в деревне во многом были порождены условиями сельской действительности. Невозможность расторгнуть брак и уйти от изверга-мужа, боязнь осуждения за рождение внебрачного ребенка, страх перед позором беременности до брака — все эти факторы могли провоцировать женщину на мужеубийство, убийство ребенка, плодоизгнание.
Преобразования существенно раздвинули границы привычного мира крестьянки. Возросшая социальная мобильность сельского населения вызвала коренные перемены в обыденности деревни. На глазах ослабевало влияние общины, прихода, двора. Серьезному испытанию повергались семейно-брачные отношения. Сельская женщина была вынуждена приспосабливаться к новым условиям. При этом менялись жизненные приоритеты, семейные стратегии, трудовые функции, сексуальное поведение.
Как бы то ни было, именно женщины в условиях, когда рушились казавшиеся незыблемыми устои, показали большую, нежели мужчины, способность адаптации к новым условиям. Именно им обязана русская деревня всем тем хорошим, что ей все-таки удалось сохранить в результате шоковых перемен, пережитых страной в XX веке.

INFO
Безгин В.
Б 39 Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи / Владимир Безгин. — М.: Ломоносовъ, — 2017. — 248 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-357-5
УДК 94(47).081-083
ББК 63.3(2)51-52
Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, и. 2, пи. 3.
Возрастных ограничений нет
История. География. Этнография
Владимир Безгин
Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи
Редактор А. Бушин
Верстка А. Петровой
Корректор Н. Пущина
Подписано в печать 31.10.2016.
Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 15,5. Тираж 1000 экз.
ООО «Издательство «Ломоносовъ» 119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19
info@lomonosov-books.ru
www.lomonosov-books.ru
Отпечатано способом ролевой струйной печати в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор» 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpk.ru, E-mail: sales@chpk.ru, 8 (495)988-63-87
…………………..
FB2 — mefysto, 2022

Комментарии
1
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный исторический архив (РГИА), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
(обратно)
2
Архив Российского этнографического музея (АРЭМ). Ф. 7. Он. 2.
(обратно)
3
РГИА. Ф. 1405.
(обратно)
4
ГАРФ. Ф. 102.
(обратно)
5
Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 66.
(обратно)
6
ГАТО. Ф. 231, 232, 327, 330, 331, 334, 788.
(обратно)
7
Обзор Воронежской губернии за 1895… 1906 гг. Воронеж, 1896–1906.; Обзор Курской губернии за 1887… 1901 гг. Курск, 1888–1902. И др.
(обратно)
8
Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Т. 2, 3, 4, 16, 19. Тамбов, 1881–1894. и др.
(обратно)
9
Голоса крестьян: сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. М., 1996.
(обратно)
10
Столяров Ив. Записки русского крестьянина // Записки очевидца. Воспоминания, дневники, письма. М., 1989. С. 323–484.
(обратно)
11
Тамбовский областной краеведческий музей. Отдел фондов. Материалы полевой экспедиции 1993 г.
(обратно)
12
Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. СПб., 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 53.
(обратно)
13
Там же. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 115.
(обратно)
14
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 53.
(обратно)
15
Там же. 2005. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 1. С. 602.
(обратно)
16
Там же. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 115.
(обратно)
17
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 325.
(обратно)
18
Мескина О. А. История сельского населения Воронежской губернии 1861–1913 гг.: санитарно-демографический аспект. Воронеж, 2012. С. 115.
(обратно)
19
Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 290.
(обратно)
20
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 506.
(обратно)
21
Красноперов И. М. Крестьянские женщины перед волостным судом // Сборник правоведения и общественных знаний. СПб., 1893. Т. 1. С. 269, 270.
(обратно)
22
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 686. Л. 22.
(обратно)
23
Там же. Д. 1276. Л. 15.
(обратно)
24
Кузнецов С… В. Культура русской деревни // Очерки русской культуры. Т. 1. Общественно-культурная среда. М., 1998. С. 234.
(обратно)
25
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1008. Л. 1.
(обратно)
26
Мазалова Н. Е. Состав человеческий: человек в традиционных соматических представлениях русских. СПб., 2001. С. 122.
(обратно)
27
Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии). СПб., 1993. С. 136.
(обратно)
28
Цит. по: Миронов Б. Вокруг свадьбы // Знание — сила. 1976. № 10. С. 43
(обратно)
29
АРЭМ. Ф. 10. On. 1. Д. 121. Л. 12.
(обратно)
30
Тамбовский областной краеведческий музей. Отдел фондов. Материалы полевой экспедиции 1993 г. Отчет Т. А. Листовой. Л. 2, 3.
(обратно)
31
Тютрюмов И. Крестьянская семья (очерк обычного права) // Русская речь. 1879. Кн. 7. С 135.
(обратно)
32
См.: Всеволожский Е. Очерки крестьянского быта Самарского уезда // Этнографическое обозрение. 1895. № 1. С. 5.
(обратно)
33
Спасский И. Обычаи, приметы и поверья в приходе с. Александровки-на-Свале Тамбовского уезда // Тамбовские епархиальные ведомости. 1880. № 17. С. 452.
(обратно)
34
Вербицкая О. М. Российская сельская семья в 1897–1959 гг.: историко-демографический аспект. М.; Тула, 2009. С. 50.
(обратно)
35
Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России (обычное право, обряды, верования и пр.) М., 1889. Вып 1. С. 115.
(обратно)
36
Данные по: Комарова О. Д. Демографические аспекты изучения семьи // Семья: традиции и современность. М. 1990. С. 245.
(обратно)
37
Архив Русского географического общества (АРГО). Разр. 19. Оп. I. Ед. хр. 40. Л. 1.
(обратно)
38
См.: Канищев В. В., Мизис Ю. А. Брачное поведение крестьян в XIX — начале XX в. // Население и территория Центрального Черноземья и Запада России в прошлом и настоящем. Материалы VII региональной конференции по исторической демографии и исторической географии. Воронеж, 2000. С. 29.
(обратно)
39
Афиногенов А. О. Жизнь женского населения Рязанского уезда в период детородной деятельности женщины. Медико-статистическое исследование. СПб. 1903. С. 49.
(обратно)
40
Вербицкая О. М. Российская сельская семья в 1897–1959 гг.: историко-демографический аспект. С. 53.
(обратно)
41
См.: Красноперов И. М. Крестьянские женщины перед волостным судом. С. 273.
(обратно)
42
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.) В 2 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 164.
(обратно)
43
Там же. С. 172.
(обратно)
44
Милоголова И. Н. Крестьянка в русской пореформенной деревне // Вестник МГУ. 1998. № 2. С. 19.
(обратно)
45
Шингарев А. И. Вымирающая деревня. Опыт санитарно-экономического исследования двух селений Воронежской губернии. СПб., 1907. С. 188.
(обратно)
46
Никольский В. И. Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности. Тамбов, 1885. С. 98, 99.
(обратно)
47
Там же.
(обратно)
48
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 170.
(обратно)
49
Никольский В. И. Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности. С. 112.
(обратно)
50
Морозов С. Д. Брачность и рождаемость крестьян Европейской России (конец XIX — начало XX в.) // Крестьяноведение. Вып. 3. М., 1999. С. 104.
(обратно)
51
ГАТО. Ф. 182. On. 1. Д. 1.Л. 53.
(обратно)
52
Отчет гинекологического и родильного отделения тамбовской губернской земской больницы за 1897 г. Тамбов. 1899. С. 40; То же за 1901 г. Тамбов, 1902. С. 28.
(обратно)
53
Афиногенов А. О. Жизнь женского населения Рязанского уезда… С. 96.
(обратно)
54
Соколов Д. А., Гребенщиков В. И. Смертность в России и борьба с нею. URL: http://www.situation.ru/app/j_art_307.htm (дата обращения 03.04.2010).
(обратно)
55
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. По материалам Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева. СПб. 1907. С. 4.
(обратно)
56
Орглерт А. И. Медико-топографическое и статистическое описание слободы Головчины, села Антоновки и деревни Тополей Грайворонского уезда Курской губернии. Курск, 1896. С. 36.
(обратно)
57
Ершов С. Материалы для санитарной статистики Свияжского уезда. СПб., 1898. С. 116.
(обратно)
58
Афиногенов А. О. Жизнь женского населения Рязанского уезда… С. 104.
(обратно)
59
Цит. по: Караваева Е. В. Томские епархиальные ведомости как источник по истории формирования санитарной культуры в Томской губернии // Макарьевские чтения: материалы Шестой Междунар. конф. (21–23 нояб. 2007 г.). Горно-Алтайск, 2007. С. 101.
(обратно)
60
Никольский В. И. Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности. С. 157.
(обратно)
61
Данные по: Федоров В. А. Мать и дитя в русской деревне (конец XIX — начало XX в.) // Вестник МГУ. 1994. № 4. С. 19.
(обратно)
62
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 210.
(обратно)
63
Подсчитано по: Врачебно-санитарная хроника Тамбовской губернии за 1908–1909 гг. Тамбов, 1909.
(обратно)
64
Цит. по.: Федоров В. А. Мать и дитя в русской деревне. С. 16.
(обратно)
65
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний. СПб., 1914. С. 8.
(обратно)
66
Шингарев А. И. Вымирающая деревня. С. 139.
(обратно)
67
Федоров В. А. Мать и дитя в русской деревне. С. 17.
(обратно)
68
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 237.
(обратно)
69
Цит. по: Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 185.
(обратно)
70
Жбанков Д. Н. Бабья сторона. Статистико-этнографический очерк. Кострома, 1891. С. 88.
(обратно)
71
Цит. по: Федоров В. А. Мать и дитя в русской деревне. С. 8.
(обратно)
72
Дьячков В. Л. Труд, хлеб, любовь и космос, или О факторах формирования крестьянской семьи во второй половине XIX — начале XX в. // Социально-демографическая история России XIX–XX вв. Современные методы исследования. Материалы науч. конф. Тамбов, 1999. С. 73.
(обратно)
73
ГАТО. Ф. 182. On. 1.
Д. 1. Л. 42об, 43.
(обратно)
74
Богданов П. К статистике и казуистике болезней половых органов у крестьянок Кирсановского уезда. Тамбов, 1889. С. 8–10.
(обратно)
75
Там же. С. 8, 9, 19.
(обратно)
76
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 107.
(обратно)
77
ГАТО. Ф. 182. Oп. 1. Д. 1 Л. 42.
(обратно)
78
Богданов П. К статистике и казуистике болезней половых органов у крестьянок Кирсановского уезда. С. 3.
(обратно)
79
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2029. Л. 4.
(обратно)
80
ГАТО. Ф. 182. Оп. 1.Д. 1.Л.41об.
(обратно)
81
Там же.
(обратно)
82
Там же. Д. 11. Л. 6.
(обратно)
83
Столяров Ив. Записки русского крестьянина. С. 338.
(обратно)
84
Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. М., 1994.
(обратно)
85
Богданов П. К статистике и казуистике болезней половых органов у крестьянок Кирсановского уезда. С. 3.
(обратно)
86
Новиков А. Записки земского начальника. СПб., 1899. С. 16.
(обратно)
87
Митрополит Вениамин (Федченков). На грани веков. М., 1994. С. 70.
(обратно)
88
Данные по: Морозове. Д. Брачность и рождаемость крестьян Европейской России. С. 103.
(обратно)
89
См.: Крюкова С. С. Брачные традиции южнорусских губерний во II пол. XIX в. // Этнографическое обозрение. 1992. № 4. С. 48.
(обратно)
90
Бунаков Н. Сельская школа и народная жизнь. Наблюдения и заметки сельского учителя. СПб., 1906. С. 51.
(обратно)
91
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2036. Л. 13.
(обратно)
92
Там же. Д. 1245. Л. 7.
(обратно)
93
Там же. Л. 11, 12.
(обратно)
94
Якушкин Е. И. Заметки о влиянии религиозных верований и предрассудков на народные юридические обычаи и понятия // Этнографическое обозрение. Кн. IX. М., 1891. № 2. С. 6.
(обратно)
95
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 165.
(обратно)
96
Иллюстров И. И. Сборник российских пословиц и поговорок. Киев, 1904. С. 191.
(обратно)
97
Григорович Д. В. Деревня // Повести и рассказы. М., 1980. С. 35.
(обратно)
98
Энгельгардт А. Н. Из деревни. (Письмо седьмое) // Письма из деревни. Очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века. М., 1987. С. 20.
(обратно)
99
Замойский П. И. Подпасок. М., 1956. С. 78.
(обратно)
100
Кобзарева Н. И. Эволюция мира старости в крестьянской среде в 50-х гг. XIX в. — 1917 г. (на материалах губерний Центрального Черноземья): Автореф. дисс…. к.и.н. Белгород, 2014. С. 20.
(обратно)
101
Цит. по: Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 143.
(обратно)
102
Барыков С. И. Крестьянская семья и «семейная собственность» в Архангельской губернии. Архангельск, 1912. С. 59.
(обратно)
103
Покровский И. Историко-археологическая записка. К столетию нынешнего храма в селе Раеве Моршанского уезда Тамбовской епархии // Тамбовские епархиальные ведомости. 1898. №. 50. С. 1357–1358.
(обратно)
104
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1087. Л. 2.
(обратно)
105
Быт великорусских крестьян-землепашцев. С. 187.
(обратно)
106
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1048. Л. 7.
(обратно)
107
Весин Л. Современный великорус в его свадебных обычаях и семейной жизни // Русская мысль. 1891. Кн. Х. С. 47.
(обратно)
108
ГАТО. Ф. 232. On. 1. Д. 111. Л. 5.
(обратно)
109
Мейендорф А. Б. Крестьянский двор в системе русского крестьянского законодательства и общинного права и затруднительность его применения. СПб., 1909. С. 6, 7.
(обратно)
110
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1087. Л. 1.
(обратно)
111
Всеволожский Е. Очерки крестьянского быта Самарского уезда. С. 2.
(обратно)
112
Хауке О. А. Крестьянское земельное право. М., 1914. С. 196.
(обратно)
113
Левин М. Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1997. М., 1997. С. 120.
(обратно)
114
Невская Т. А. Половозрастное разделение труда в крестьянской семье в XIX — начале XX вв. (по материалам степного Предкавказья) // Пятая Международная научная конференция Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Тверь, 2012. С. 438.
(обратно)
115
Милоголова И. Н. Распределение хозяйственных функций в пореформенной русской крестьянской семье / Советская этнография. 1991. № 2. С. 95.
(обратно)
116
Левин М. Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи. С. 121.
(обратно)
117
Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии: традиции и динамика перемен в пореформенной России. М»2012. С. 184.
(обратно)
118
Федяевский К. К. Крестьянская семья Воронежской губернии по переписи 1897 г. СПб., 1905. С. 19.
(обратно)
119
Вербицкая О. М. Российская сельская семья в 1897–1959 гг.: историко-демографический аспект. С. 129.
(обратно)
120
См.: Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 225.
(обратно)
121
Федяевский К. К. Крестьянская семья Воронежской губернии… С. 5.
(обратно)
122
Там же. С. 3.
(обратно)
123
Там же. С. 14.
(обратно)
124
ГАТО. Ф. 143. Оп. З.Д. 46.
(обратно)
125
Энгельгардт А. Н. Из деревни. С. 177.
(обратно)
126
Риттих А. А. Крестьянский правопорядок. СПб., 1904. С. 230.
(обратно)
127
РГИА. Ф. 1291. Оп. 50. Д. 32. Л. 26об., 27.
(обратно)
128
Там же.
(обратно)
129
Мескина О. А. История сельского населения Воронежской губернии 1861–1913 гг.: санитарно-демографический аспект. С. 123.
(обратно)
130
ГАТО. Ф. 181. On. 1. Д. 1835. Л. 576.
(обратно)
131
Тамбовские епархиальные ведомости. 1898. № 50. С. 1357.
(обратно)
132
Быт великорусских крестьян-землепашцев. С. 181.
(обратно)
133
Крестьянский строй. Сб. ст. Т. 1. СПб., 1904. С. 48, 49.
(обратно)
134
Щербина Ф. А. Семейные разделы у крестьян Воронежской губернии // Памятная книжка Воронежской губернии на 1897 г. Воронеж, 1897. С. 55.
(обратно)
135
Зарудный М. И. Законы и жизнь. Исследования крестьянских судов. СПб., 1874. С. 18.
(обратно)
136
Златовратский Н. Н. Деревенские будни (очерки крестьянской общины) // Письма из деревни: очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века. М., 1987. С. 283.
(обратно)
137
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2037. Л. 2.
(обратно)
138
Ившина М. В. Некоторые аспекты гендерной коммуникации и этикета крестьянской семьи (вт. четв. XIX — нач. XX в.) // Ежегодник финно-угорских исследований. Вып. 2. Ижевск, 2011. С. 74.
(обратно)
139
Исаев А. Значение семейных разделов. Поличным наблюдениям // Вестник Европы. 1883. Т. IV. С. 339.
(обратно)
140
Барыков С. Крестьянская семья и «семейная собственность» в Архангельской губернии. С. 10.
(обратно)
141
Жбанков Д. Н. Бабья сторона. С. 80, 81.
(обратно)
142
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2029. Л. 13, 14.
(обратно)
143
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 5639. Л. 497.
(обратно)
144
Там же. Д. 5638. Л. 195об.
(обратно)
145
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 14 ч. 10. Л. 159, 195.
(обратно)
146
Там же. Оп. 99. Д. 1. Л. 43об — 44об.
(обратно)
147
Там же. Оп. ОТД. 34. Л. 42об — 44.
(обратно)
148
Быт великорусских крестьян-землепашцев. С. 266.
(обратно)
149
См.: Пушкарева Н. Л. Гендерная асимметрия социализации ребенка в традиционной русской семье и перспективы ее ломки в условиях социальной модернизации // Социальная история российской провинции в контексте модернизации аграрного общества в XVIII–XX вв. Материалы Междунар. конф. Тамбов, 2002. С. 77, 78.
(обратно)
150
Лихова Н. А. Жизненное пространство детей в крестьянской семье на рубеже XIX–XX вв. (на примере Ярославской губернии) //Ярославский педагогический вестник. 2011.№ 1. Том. 1. (Гуманитарные науки). С. 327.
(обратно)
151
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. I. С. 341; Там же. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 254.
(обратно)
152
Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. СПб., 2005. С. 171.
(обратно)
153
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 685. Л. 2.
(обратно)
154
Ивановская Т. Дети в пословицах и поговорках // Вестник воспитания. 1908. № 2. С. 121.
(обратно)
155
Русские крестьяне. 2005. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 365.
(обратно)
156
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 200.
(обратно)
157
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1276. Л. 15.
(обратно)
158
Там же. Д. 685. Л. 2.
(обратно)
159
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2596. Л. 13.
(обратно)
160
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1128. Л. 2.
(обратно)
161
Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. М., 1890. Вып. II. С. 56.
(обратно)
162
Панферов А. Обычное право в укладе крестьянского двора (опыт исследования в Аркадакской волости Балашовского уезда Саратовской губернии) // Революция права. 1927. № 2. С. 108.
(обратно)
163
Тенишев В. В. Правосудие в крестьянском быту. Брянск, 1907. С. 35.
(обратно)
164
Пьянков С. А. Крестьянское хозяйство Пермской губернии в конце XIX— начале XX века: монография. Екатеринбург, 2014. С. 43.
(обратно)
165
Жбанков Д. Н. Бабья сторона. С. 97.
(обратно)
166
Глотова В. В. Развитие образовательного уровня крестьянского населения Курской губернии во второй половине XIX в. // Научные ведомости БелГУ. 2007. № 8 (39). Вып. 4. С. 76.
(обратно)
167
Лихова Н. А. Жизненное пространство детей в крестьянской семье… С. 328.
(обратно)
168
Лаухина Г. В. Женский труд в крестьянском хозяйстве Центрального Черноземья (60-е гг. XIX — начало XX века). Автореф. дисс…. к.и.н. Тамбов, 2012. С. 14.
(обратно)
169
Данные по: Симуш П. И. Мир таинственный… Размышление о крестьянстве. М., 1991. С. 174.
(обратно)
170
Струмилин С. Г. Проблемы экономики труда. М., 1957. С. 251.
(обратно)
171
Цит. по: Беловинский Л. В. Изба и хоромы. Из истории русской повседневности. М., 2002. С. 21–22.
(обратно)
172
Вебер К. К. Отчет по обследованию некоторых стад частновладельческих хозяйств Тамбовской губернии летом 1916 года. Тамбов, 1917. С. 117.
(обратно)
173
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1088. Л. 12.
(обратно)
174
Мескина О. А. История сельского населения Воронежской губернии 1861–1913 гг.: санитарно-демографический аспект. С. 120.
(обратно)
175
АРЭМ. Оп. 2. Д. 451. Л. 3.
(обратно)
176
Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии… С. 73.
(обратно)
177
Шингарев А. И. Положение женщины в крестьянской среде // Медицинская беседа. 1899. № 8. Апрель. С. 254–255.
(обратно)
178
См.: Скворцов Н. А. Война и мирные завоевания женщины. СПб., 1914. С. 7–8.
(обратно)
179
Покровская М. И. Нужда и общественная помощь // Женский вестник. 1915. № 3. С. 63.
(обратно)
180
Корнилов А. А. Семь месяцев среди голодающих крестьян. М., 1893. С. 71.
(обратно)
181
Никольский В. И. Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности. С. 34.
(обратно)
182
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 465.
(обратно)
183
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 4. С. 289–290.
(обратно)
184
Орглерт А. И. Медико-топографическое и статистическое описание… С. 33.
(обратно)
185
Тамбовские епархиальные ведомости. 1905. № 21.
(обратно)
186
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 384.
(обратно)
187
Там же. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 249.
(обратно)
188
Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 155.
(обратно)
189
Егоров Б. Ф. О материальной культуре. О народной нравственности. [Электронный ресурс] // URL: http://vivovoco.rsl.ru/ (дата обращения 16.02 2009)
(обратно)
190
Шингарев А. И. Вымирающая деревня. С. 60.
(обратно)
191
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 233.
(обратно)
192
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 303.
(обратно)
193
Там же. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 249.
(обратно)
194
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 559.
(обратно)
195
Там же. С. 75.
(обратно)
196
Минх А. И. Путевые заметки от Москвы до села Колепа // Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. 1905. № 50. С. 14.
(обратно)
197
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 539.
(обратно)
198
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 4. С. 290.
(обратно)
199
Шингарев А. И. Вымирающая деревня. С. 50–55.
(обратно)
200
Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 296.
(обратно)
201
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 142–143.
(обратно)
202
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 4. С. 169.
(обратно)
203
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 672.
(обратно)
204
Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 232.
(обратно)
205
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 143.
(обратно)
206
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 384.
(обратно)
207
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 559.
(обратно)
208
Егоров Б. Ф. О материальной культуре. О народной нравственности.
(обратно)
209
Барыков Ф. Ф. Обычаи наследования у государственных крестьян. СПб., 1862. С. 9.
(обратно)
210
Милоголова И. Н. О праве собственности в пореформенной крестьянской семье. 1861–1900 гг.//Вестник МГУ. 1995. № 1. С. 24, 26.
(обратно)
211
ОР РГБ. Ф. 58/11. Карт. 12. Ед. хр. 5. Л. 10.
(обратно)
212
Соловьев Е. Т. Преступление и наказание по понятиям крестьян Поволжья // Сборник народных юридических обычаев. СПб., 1900. Т. 2. С. 284.
(обратно)
213
Новиков А. Записки земского начальника. С. 17.
(обратно)
214
ОР РГБ. Ф. 58/II. Карт. 12. Ед. хр. 5. Л. 10 об.
(обратно)
215
Ившина М. В. Некоторые аспекты гендерной коммуникации и этикета крестьянской семьи. С. 74–75.
(обратно)
216
Всеволожский Е. Очерки крестьянского быта Самарского уезда. С. 3, 6.
(обратно)
217
Архив ИЭА РАН. К. 14 (Коллекция ОЛЕАЭ). Д. 45. Л. 2 об.
(обратно)
218
Тютрюмов И. Крестьянская семья (очерк обычного права). Кн. 10. С. 311.
(обратно)
219
Матвеев С. Из жизни современного крестьянского мира (в волостных старшинах) // Русское богатство. 1913. № 9. С. 139.
(обратно)
220
Село Вирятино в прошлом и настоящем. М., 1958. С. 82.
(обратно)
221
Соловьев Е. Т. Гражданское право. Очерки народного юридического быта. Казань, 1888. Вып. 1. С. 24.
(обратно)
222
Русские крестьяне. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 230.
(обратно)
223
Ворошилова С. В. Правовое положение женщин в России в XIX — начале XX вв.: Автореф. дисс…. к.ю.н. Саратов, 2011. С. 51.
(обратно)
224
Леонтьев А. А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб., 1895. С. 119.
(обратно)
225
Тихонов В. П. Материалы для изучения обычного права среди крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. М., 1891. Вып. III. С. 75.
(обратно)
226
Башмаков А. А. Общие начала крестьянского права наследования //Журнал министерства юстиции. СПб., 1906. № 1. С. 110.
(обратно)
227
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2023. Л. 9.
(обратно)
228
Там же. Д. 1007. Л. 1.
(обратно)
229
Хауке О. А. Крестьянское земельное право. С. 209.
(обратно)
230
Мухин В. Обычный порядок наследования у крестьян (к вопросу об отношении народных юридических обычаев к будущему Гражданскому уложению). М., 1888. С. 243–244.
(обратно)
231
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2023. Л. 11.
(обратно)
232
Чепурный К. Ф. К вопросу о юридических обычаях: устройство и состояние волостной юстиции в Тамбовской губернии. Киев, 1874. С. 32.
(обратно)
233
Гольмстен А. Х. Юридические исследования и статьи. СПб., 1894. С. 90.
(обратно)
234
Леонтьев А. А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. С. 360.
(обратно)
235
Обычаи в приговорах сельских сходов Тамбовской губернии // Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год. Тамбов, 1903. С. 85.
(обратно)
236
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 2. С. 73.
(обратно)
237
ГАТО. Ф. 789. Оп. 2. Д. 2. Л. 3, 4.
(обратно)
238
Обычаи в приговорах сельских сходов Тамбовской губернии. С. 85.
(обратно)
239
Чепурный К. Ф. К вопросу о юридических обычаях: устройство и состояние волостной юстиции в Тамбовской губернии. С. 33.
(обратно)
240
Шингарев А. И. Положение женщины в крестьянской среде. С. 256.
(обратно)
241
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 5.
(обратно)
242
Будде Э. Еще к вопросу о положении русской женщины по бытовым песням народа (ответ г-ну Брайловскому). Варшава, 1889. С. 40, 41.
(обратно)
243
Бунаков Н. Сельская школа и народная жизнь. С. 50, 51.
(обратно)
244
Всеволожский Е. Очерки крестьянского быта Самарского уезда. С. 26.
(обратно)
245
Булгаковский Д. Г. До чего доводит пьянство. Картины из жизни. М., 1912. С. 18.
(обратно)
246
Цит. по: Крюкова С. С. Крестьянское правосудие в лицах: социокультурная антропология судебного процесса в России второй половины XIX в. // Русские: этнокультурная идентичность. М., 2013. С. 185-, 186.
(обратно)
247
Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту. Брянск, 1907. С. 64.
(обратно)
248
Сборник народных юридических обычаев. Т. 2. С. 293.
(обратно)
249
Березанский П. Обычное уголовное право крестьян Тамбовской губернии. Киев, 1880. С. 217.
(обратно)
250
Новиков А. Записки земского начальника. С. 16.
(обратно)
251
См.: Железнов Ф. Воронежская деревня. Больше-Верейская волость. Вып. II. Воронеж, 1926. С. 28.
(обратно)
252
Тамбовские губернские ведомости. 1884. № 22.
(обратно)
253
Цит. по: Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии… С. 201.
(обратно)
254
РГИА. Ф. 1286. Оп. 40. Д. 635. Л. 22об.
(обратно)
255
Там же. Д. 631. Л. 23об.
(обратно)
256
Там же. Д. 598. Л. 30.
(обратно)
257
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 98. Д. 1 ч. 44л. Л. 5об.; 57л. 4об.; 16л. 21 об.
(обратно)
258
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 6248. Л. 256об.
(обратно)
259
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Ч. 1. Л. 17.
(обратно)
260
Там же. Д. 14. Ч. 2. Л. 175.
(обратно)
261
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 9038. Л. 312.
(обратно)
262
Козловская мысль. 1914. 17 февраля.
(обратно)
263
Цит. по: Богораз А. П. Преступница или жертва: домашнее насилие в России в конце XIX — начале XX вв. // Вестник ТвГУ. Серия «История». 2015. № 2. С. 149.
(обратно)
264
Там же.
(обратно)
265
ГАТО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 4031. Л. 23об, 24.
(обратно)
266
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Ч. 1. Л. 9об.
(обратно)
267
Там же. Л. 123.
(обратно)
268
Там же. Д. 14 ч. 10. Ч. 2. Л. 154об.
(обратно)
269
ГАТО. Ф. 4. Oп. 1. Д. 6676. Л. 188.
(обратно)
270
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 14 ч. 10. Л. 230.
(обратно)
271
Новиков А. Записки земского начальника. С. 9, 10.
(обратно)
272
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 686. Л. 23.
(обратно)
273
Там же. Д. 1215. Л. 3.
(обратно)
274
Там же. Д. 1011. Л. 2, 3.
(обратно)
275
См.: Красноперов И. М. Крестьянские женщины перед волостным судом. С. 279.
(обратно)
276
Пахман С. В. Обычное гражданское право в России: Юридические очерки: В 2 т. СПб., 1877. Т. 1. С. 249.
(обратно)
277
Науменко О. Н., Альмухаметова М. Ш. Правосознание сибирского крестьянства: из истории проблемы // Омский научный вестник. 2012. № 2 (106). С. 5–9.
(обратно)
278
Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии… С. 202.
(обратно)
279
Энгельштейн Лора. Ключи счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX–XX веков. М., 1996. С. 52.
(обратно)
280
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 464.
(обратно)
281
Смирнов А. Г. Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа // «А се грехи злые, смертные…». Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, правоведов и богословов XIX — начала XX века. В 3 кн. М., 2004. Кн. 1. С. 401–402.
(обратно)
282
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1054. Л. 5.
(обратно)
283
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. СПб., 1898. С. 753.
(обратно)
284
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2036. Л. 2.
(обратно)
285
Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. С. 128–129.
(обратно)
286
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1011. Л. 19.
(обратно)
287
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 464.
(обратно)
288
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 433.
(обратно)
289
Весин Л. Современный великорус в его свадебных обычаях и семейной жизни. Кн. X. С. 54.
(обратно)
290
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1054. Л. 2.
(обратно)
291
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 501.
(обратно)
292
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 433.
(обратно)
293
Там же. С. 553.
(обратно)
294
Соловьев Е. Т. Гражданское право. С. 10.
(обратно)
295
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 14. Л. 159.
(обратно)
296
Там же. Oп. 119. Д. 14. Л. 99об.
(обратно)
297
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Т. 2. Л. 101об.
(обратно)
298
Там же. Оп. 120. Д. 14. Л. 81.
(обратно)
299
Козловская газета. 1902. 3 октября. № 71.
(обратно)
300
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 247.
(обратно)
301
ГАРФ. Ф. 102. Oп. 119. Д. 48 ч. 10. Л. 122.
(обратно)
302
Там же. Оп. 120. Д. 72 ч. 10. Л. 119об.
(обратно)
303
Гернет М. Н. Детоубийство. Социологическое и сравнительно-юридическое исследование. М., 1911. С. 285.
(обратно)
304
Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 478.
(обратно)
305
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 201.
(обратно)
306
Крюкова С. С. Крестьянское правосудие в лицах… С. 190.
(обратно)
307
Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву. Обычному и брачному. СПб., 1879. С. 58.
(обратно)
308
Богораз А. П. Преступница или жертва: домашнее насилие в России в конце XIX— начале XX вв. С. 146.
(обратно)
309
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1320. Л. 24.
(обратно)
310
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 200.
(обратно)
311
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2036. Л. 2.
(обратно)
312
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 246.
(обратно)
313
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 330.
(обратно)
314
Там же. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 153.
(обратно)
315
См.: Лаухина Г. В. Поземельная община и женщина-крестьянка в 60-90-е годы XIX века (по материалам Центрального Черноземья) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2009. № 115. С. 81–84.
(обратно)
316
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 453.
(обратно)
317
Там же. С. 83.
(обратно)
318
Вронский О. Г. Роль схода в системе крестьянского общественного управления пореформенной эпохи (вторая половина XIX — начало XX вв.) // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки, 2012. № 1. С. 60.
(обратно)
319
Дружинины. П. Очерки крестьянской общественной жизни. СПб., 1905. С. 16.
(обратно)
320
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1092. Л. 1.
(обратно)
321
Там же. Д. 677. Л. 5.
(обратно)
322
ГАРФ. Ф. 586. On. 1. Д. 120а. Л. 56.
(обратно)
323
Росницкий Н. Лицо деревни. М. — Л., 1926. С. 112.
(обратно)
324
Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. Борисоглебский уезд. Тамбов, 1880. С. 34.
(обратно)
325
Там же.
(обратно)
326
Лаухина Г. В. Поземельная община и женщина-крестьянка… С. 83.
(обратно)
327
Бусыгин Е. П. Русское население Среднего Поволжья: историко-этнографическое исследование… С. 411.
(обратно)
328
Скрябины. В. Крестьянская поземельная община «оскудевающего центра» России в контексте модернизационных процессов 2-й половины XIX — начала XX века (на примере Тульской губернии): монография. М., 2012. С. 56.
(обратно)
329
Там же.
(обратно)
330
Там же.
(обратно)
331
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 477.
(обратно)
332
Тенишев В. В. Административное право русского крестьянина. СПб., 1908. С. 93.
(обратно)
333
Коллонтай А. Социальные основы женского вопроса. СПб., 1909. С. 27.
(обратно)
334
ГАТО. Ф. 4. Оп. ЕД. 8974. Л. 5, 6, 9.
(обратно)
335
Тарадин И. Крестьянка в аграрном движении Воронежской губернии 1905—6 года. Воронеж, 1925. С. 26, 28.
(обратно)
336
ГАТО. Ф. 4. Oп. 1. Д. 8974. Л. 5.
(обратно)
337
Там же. Д. 8977. Л. 1, 6, 10.
(обратно)
338
Там же. Д. 9204. Л. 24.
(обратно)
339
Там же. Д. 9205. Л. 2, 5, 14.
(обратно)
340
См.: Токарев Н. В. Столыпинское землеустройство в Тамбовской губернии: гендерные аспекты крестьянского противодействия // От мужских и женских к гендерным исследованиям: Материалы Междунар. науч. конф. 20 апреля 2001 г. Тамбов, 2001. С. 83–88.
(обратно)
341
То же. Л. 28, 37.
(обратно)
342
РГИА. 1291. Оп. 120., 1910, Д. 97. Л. 103.
(обратно)
343
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 9221. Л. 2, 2об.
(обратно)
344
Там же. Д. 9204. Л. 21об.
(обратно)
345
Булдаков В. П. Война, породившая революцию. М., 2015. С. 328.
(обратно)
346
ГАТО. Ф. 41. Оп. 10. Д. 6. Л. 32
(обратно)
347
Покровский Ф. О семейном положении крестьянской женщины в одной из местностей Костромской губернии по данным волостного суда //Живая старина. 1896. Вып. III–IV. С. 459.
(обратно)
348
ГАТО. Ф. 790. On. 1. Д. 1. Л. 2, 2об., 3.
(обратно)
349
Там же. Ф. 232. On. 1. Д. 111. Л. 5.
(обратно)
350
Там же. Д. 114. Л. 1,7, 7об.
(обратно)
351
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1074. Л. 5–6.
(обратно)
352
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 102.
(обратно)
353
Ившина М. В. Некоторые аспекты гендерной коммуникации и этикета крестьянской семьи. С. 76.
(обратно)
354
Там же.
(обратно)
355
Там же. С. 77.
(обратно)
356
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская,
Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 462.
(обратно)
357
Земцов Л. И. Крестьянки в волостном суде // Социальная история российской провинции… С. 328.
(обратно)
358
Березанский П. Обычное уголовное право крестьян Тамбовской губернии. С. 218.
(обратно)
359
Земцов Л. И. Волостной суд в России 60-х — первой половины 70-х годов XIX века (по материалам Центрального Черноземья). Воронеж, 2002. С. 110, 111. Док. № 104.
(обратно)
360
Гольмстен А. Х. Юридические исследования и статьи. С. 87.
(обратно)
361
Чернов И. Д. Об обычном семейном и наследственном праве крестьян // Труды Киевского юридического общества. Киев. 1883. С. 267.
(обратно)
362
Кандинский В. О наказаниях по решению волостных судов Московской губернии // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. I. C. 41.
(обратно)
363
Пахман С. В. Обычное гражданское право. Т. 1. С. 68.
(обратно)
364
Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Т. 3. С. 82.
(обратно)
365
Лозовский Н. Личные отношения супругов по русскому обычному праву// Юридический вестник, 1883. № 6–7. С. 368.
(обратно)
366
Там же. С. 383.
(обратно)
367
Чернов И. Д. Об обычном семейном и наследственном праве крестьян. С. 267.
(обратно)
368
Русские крестьяне. 2008. Т 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 102.
(обратно)
369
Там же. С. 104, 105.
(обратно)
370
Земцов Л. И. Волостной суд в России 60-х — первой половины 70-х годов XIX века… С. 224.
(обратно)
371
Там же. С. 105.
(обратно)
372
Там же. С. 118–119.
(обратно)
373
Там же. С. 115.
(обратно)
374
Там же. С. 374.
(обратно)
375
Земцов Л. И. Крестьянский самосуд: правовые основы и деятельность волостных судов в пореформенной России (60—80-е гг. XX в.) Воронеж, 2007. С. 142.
(обратно)
376
Он же. Волостной суд в России 60-х — первой половины 70-х годов XIX века… С. 163.
(обратно)
377
ГАТО. Ф. 334. On. 1. Д. I. Л. 26.
(обратно)
378
Там же. Ф. 26. Оп. 2. Д. 704. Л. 2, 2 об.
(обратно)
379
Красноперов И. М. Крестьянские женщины перед волостным судом. С. 273.
(обратно)
380
Белогриц-Котляревский Л. С. Роль обычая в уголовном законодательстве. Ярославль, 1888. С. 12.
(обратно)
381
АРЭМ. Д. 653. Л. 3; Д. 1124. Л. 15.
(обратно)
382
Там же. Л. 39, 40.
(обратно)
383
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 5. Д. 254. Л. 106.
(обратно)
384
Якушкин Е. И. Обычное право. Материалы для библиографии обычного права. М., 1910. С. XXII.
(обратно)
385
Левенстим А. А. Суеверие и уголовное право. СПб., 1897. С. 34, 35.
(обратно)
386
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1316. Л. 15.
(обратно)
387
Левин М. Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи. С. 104.
(обратно)
388
Дынин В. И. Когда расцветает папоротник… Народные верования и обряды южнорусского крестьянства XIX–XX веков. Воронеж, 1999. С. 94.
(обратно)
389
Там же. С. 36–37.
(обратно)
390
Пушкарева Н. Л. Позорящие наказания для женщин: истоки и последствия гендерной асимметрии в русском традиционном и писанном праве // Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI–XXI вв.). СПб., 2012. С. 40, 41.
(обратно)
391
Горький М. Собр. соч. в 8 т. М., 1987. Т. 1. С. 301.
(обратно)
392
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 5. Д. 254. Л. 113.
(обратно)
393
Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву… С. 140.
(обратно)
394
Цит. по: Кушкова А. Посрамление за воровство в системе обычно-правового судопроизводства российских крестьян второй половины XIX — начала XX в. // Антропологический форум. 2006. № 5. С. 234.
(обратно)
395
ГАРФ. Ф. 586. On. 1. Д. 114. Л. 6.
(обратно)
396
Соловьев Е. Т. Самосуды у крестьян Чистопольского уезда Казанской губернии // Сборник народных юридических обычаев. СПб., 1878. Т. 1. С. 15–16.
(обратно)
397
См.: Зарудный М. И. Законы и жизнь. Исследования крестьянских судов. С. 180; Соловьев Е. Т. Самосуды у крестьян Чистопольского уезда Казанской губернии. С. 15–16; Якушкин Е. И. Обычное право. С. 28.
(обратно)
398
Труды комиссии по преобразованию волостных судов. Т. 1. С. 378, 385; Т. 2. 380, 534.
(обратно)
399
Духовский М. В. Имущественные преступления по решениям волостных судов. М., 1891. С. 120.
(обратно)
400
Кузнецов С. В. Вера и обрядность в хозяйственной деятельности русского крестьянства // Менталитет и аграрное развитие России. XIX–XX вв. М., 1995. С. 293.
(обратно)
401
Столяров Ив. Записки русского крестьянина. С. 395.
(обратно)
402
Спасский И. Обычаи, приметы и поверья в приходе с. Александровки-на-Свале Тамбовского уезда. С. 451, 452.
(обратно)
403
Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. С. 113.
(обратно)
404
Мухина З. З. Семейный быт и повседневность крестьян Курской губернии… С. 246.
(обратно)
405
Малышева О. Л. Православная традиция внутрисемейного быта русского крестьянства Казанского края во второй половине XIX — начале XX вв. // Вестник ТГГПУ. 2007. № 4 (11). С. 8.
(обратно)
406
Бунаков Н. Сельская школа и народная жизнь. С. 7.
(обратно)
407
Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 296.
(обратно)
408
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 543.
(обратно)
409
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1783. Л. 7.
(обратно)
410
Жбанков Д. Н. Село Большое, Пронского уезда. Рязанской губернии. Опыт санитарного исследования. СПб., 1883. С. 27.
(обратно)
411
Никольский В. И. Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности. С. 97.
(обратно)
412
Моллесон И. И. Краткий очерк заболеваемости и смертности населения Тамбовской губернии в трехлетие 1898, 1899, 1900 гг. Тамбов, 1904. С. 258.
(обратно)
413
Столяров Ив. Записки русского крестьянина. С. 398.
(обратно)
414
Минх А. Х. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890. С. 111.
(обратно)
415
Громыко М. М. Семейная духовная традиция русского крестьянства. [Электронный ресурс] // http://www.portal-slovo.ru/impressionism/40318.php (дата обращения 05.12.2010).
(обратно)
416
Село Вирятино в прошлом и настоящем. С. 90.
(обратно)
417
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1467. Л. 17.
(обратно)
418
Воронина Т. А. Этно-культурные аспекты изучения русского православного поста (XIX — начало XXI в.): Автореф. дисс…. д.и.н. М., 2010. С. 45.
(обратно)
419
Ушаков Д. Н. Материалы по народным верованиям великорусов // Этнографическое обозрение. 1896. № 2–3. С. 192.
(обратно)
420
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2693. Л. 18.
(обратно)
421
Там же.
(обратно)
422
Русские крестьяне. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 409.
(обратно)
423
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 1. С. 162.
(обратно)
424
Там же.
(обратно)
425
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии // Живая старина. 1890. Вып. 2. С. 120.
(обратно)
426
Архив ИЭА РАН. Коллекция ОЛЕАЭ. Кор. 14. Д. 45. Л. 4об.
(обратно)
427
Лещенко В. Ю. Русская семья (XI–XIX вв.) СПб., 2004. С. 292.
(обратно)
428
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 65.
(обратно)
429
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 263.
(обратно)
430
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 1. С. 240.
(обратно)
431
Дынин В. И. Когда расцветает папоротник… С. 61.
(обратно)
432
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 262.
(обратно)
433
Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 39.
(обратно)
434
Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 4.
(обратно)
435
Агапкина Т. А., Топоркова А. А. Ритуальное обнажение в народной культуре славян // Мифология и повседневность в антропологических дисциплинах: Материалы науч. конф. СПб., 2001. С. 14.
(обратно)
436
Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб. 1998. С. 539.
(обратно)
437
Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. М., 2000. С. 94.
(обратно)
438
Листова Т. А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой (вторая половина XIX — 20-е гг. XX в) // Русские: семейный и общественный быт. М., 1989. С. 145.
(обратно)
439
Спасский И. Обычаи, приметы и поверья в приходе с. Александровки-на-Свале Тамбовского уезда. С. 450.
(обратно)
440
Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии С. 91.
(обратно)
441
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2029. Л. 4.
(обратно)
442
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 338, 340.
(обратно)
443
Байбурин А. К. Некоторые общие соображения о ритуале // Aequinox. МСМХСШ. М»1993. С. 4.
(обратно)
444
Спасский И. Обычаи, приметы и поверья в приходе с. Александровки-на-Свале Тамбовского уезда. С. 440.
(обратно)
445
Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии С. 91.
(обратно)
446
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 3. С. 563.
(обратно)
447
Там же. 2004. Ч. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 531.
(обратно)
448
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 354.
(обратно)
449
Успенский Д. И. Родины и крестины, уход за родительницей и новорожденным (по материалам, собранным в Тульской губернии) // Этнографическое обозрение. 1895. № 4. С. 78.
(обратно)
450
См.: Машкин. Быт крестьян Курской губернии Обоянского уезда // Этнографический сборник. Вып. V. СПб., 1862. С. 22; Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 23.
(обратно)
451
Всеволожский В. Е. Очерки крестьянского быта Самарского уезда. С. 29.
(обратно)
452
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии. С. 118.
(обратно)
453
Пясецкий Г. Забытая история Орла. Орел, 1999. С. 143.
(обратно)
454
Померанцева Э. В. Роль слова в обряде опахивания [Электронный ресурс] // http://paganism.ru/opashka.htm (дата обращения 21.05. 2011)
(обратно)
455
Садырова М. Ю. Суеверие в религиозной жизни крестьян в конце XIX— начале XX вв. (по материалам Среднего Поволжья) // Власть и общество России в модернизационных процессах Нового и Новейшего времени. Саранск, 2010. С. 69.
(обратно)
456
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 505.
(обратно)
457
Иванов А. И. Верования крестьян Орловской губернии // Этнографическое обозрение 1900. № 4. С. 112.
(обратно)
458
Пясецкий Г. Забытая история Орла. С. 143.
(обратно)
459
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии. С. 115.
(обратно)
460
Померанцева Э. В. Роль слова в обряде опахивания.
(обратно)
461
Машкин. Быт крестьян Курской губернии Обоянского уезда. С. 86.
(обратно)
462
Бондаренко В. Поверья крестьян Тамбовской губернии. С. 116.
(обратно)
463
Покровский И. Историко-археологическая записка. С. 1398.
(обратно)
464
Спасский И. Обычаи, приметы и поверья в приходе с. Александровки-на-Свале Тамбовского уезда. С. 459.
(обратно)
465
Русские крестьяне. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 3. С. 369.
(обратно)
466
Спасский И. Обычаи, приметы и поверья в приходе с. Александровки-на-Свале Тамбовского уезда. С. 459.
(обратно)
467
Перепелиный А. В., Фурсов В. Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных губерний России в пореформенный период. Воронеж, 2005. С. 167, 168.
(обратно)
468
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Под ред. В. П. Семенова. Т. 2. Среднерусская черноземная область. СПб., 1902. С. 260.
(обратно)
469
Перепелицын А. В., Фурсов В. Н. Крестьянское хозяйство центрально-черноземных губерний России в пореформенный период. С. 169.
(обратно)
470
Шершневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права: В 2 т. Т. 1. М., 1914. С. 303.
(обратно)
471
Муравьева Е. В. Женское отходничество в Ярославской губернии в конце XIX — начале XX в. // «Женщины и мужчины в контексте исторических перемен»: Материалы Пятой междунар науч, конф. РАИЖИ и ИЭАРАН, 4–7 октября 2012. Тверь — М., 2012. Т. 2. С. 176.
(обратно)
472
Вихляев П. А. Очерки из русской сельскохозяйственной действительности. СПБ., 1901. С. 10–14.
(обратно)
473
Цит. по: Барынкин В. П. Крестьянство западных губерний центра России в первой трети XX века (по мат-лам Калужской, Орловской и Смоленской губерний). Брянск, 2010. С. 9.
(обратно)
474
Тамбовские губернские ведомости. 1882. № 114.
(обратно)
475
Весин Л. П. Значение отхожих промыслов//Дело. 1887. № 2. С. 120.
(обратно)
476
Скрябин И. В. Крестьянская поземельная община «оскудевающего центра» России… С. 135.
(обратно)
477
Александровы. М. Отхожие промыслы крестьян Верхнего Поволжья в конце XIX — начале XX века: текст лекций. Ярославль: ЯрГУ, 2007. С. 28, 29.
(обратно)
478
Скрябины. В. Крестьянская поземельная община «оскудевающего центра» России… С. 135.
(обратно)
479
См.: Давыдов Н. В. Из прошлого. Ч. 2. М., 1917. С. 30.
(обратно)
480
См.: ГАТО. Ф. 181. On. 1. Д. 2076. Л. 25об, 30об, 69об.
(обратно)
481
Цит. по: Пашин В. П., Богданов С. В., Емельянове. Г. Государственная алкогольная политика в России от Витте до Сталина (Власть, общество, нелегальный рынок). Курск, 2008. С. 101, 102.
(обратно)
482
Лихова Н. А. Жизненное пространство детей в крестьянской семье… С. 327, 328.
(обратно)
483
Крюкова С. С. Брачные традиции южнорусских губерний… С. 43.
(обратно)
484
Романов Н. Село Каменка и Каменская волость Тамбовского уезда. Тамбов, 1886. С. 161.
(обратно)
485
Жбанков Д. Н. Бабья сторона. С. 25.
(обратно)
486
Вербицкая О. М. Российская сельская семья в 1897–1959 гг.: историко-демографический аспект. С. 80.
(обратно)
487
Волков Д. В. Общественная жизнь крестьянства Казанской губернии (1860-е — 1917 г.) Автореф. дисс…. к.и.н. Казань, 2011. С. 19, 20.
(обратно)
488
Куликова С. Г. Женская преступность как социальный фактор российской модернизации (вторая половина XIX— начало XX века). Гагарин, 2011. С. 50.
(обратно)
489
Боровский В. К. К вопросу об источниках заражения сифилисом // Военно-медицинский журнал. 1894. № 8. С. 414.
(обратно)
490
Проституция в России. Картины публичного торга. СПб., 1908. С. 150.
(обратно)
491
Привалова Т. В. Быт русской деревни (медико-санитарное состояние деревни Европейской России). 60-е годы XIX — 20-е годы XX в. М., 2000. С. 81.
(обратно)
492
Моллесон И. И. Краткий очерк заболеваемости и смертности населения Тамбовской губернии… С. 116.
(обратно)
493
Цит. по: Энгельстейн Лора. Нравственность и деревянная ложка: сифилис, секс и общество глазами российских врачей (1895–1905) //Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. Самара, 2000. С. 232.
(обратно)
494
Никулин В. Н. Неземледельческие отхожие промыслы крестьян Петербургской губернии в пореформенные годы // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2010. № 2. С. 280.
(обратно)
495
Литвин Ю. В. Права крестьянки на передвижение во второй половине XIX — в начале XX в. (на примере Олонецкой губернии). // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 5 (И). Ч. III. С. 134.
(обратно)
496
Жбанков Д. Н. Бабья сторона. С. 7.
(обратно)
497
Курцев А. Н. Ротационный характер отходничества крестьян России на рубеже XIX–XX веков // Научные ведомости БелГУ. 2007. № 8 (39). Вып. 4. С. 95.
(обратно)
498
Литвин Ю. В. Повседневная жизнь карельской крестьянки во второй половине XIX — начале XX века: социокультурный статус и гендерные роли. Автореф. дисс…. к.и.н. СПб., 2013. С. 16–17.
(обратно)
499
Люкшин Д. И. Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006. С. 95–96.
(обратно)
500
Милоголова И. Н. Крестьянка в русской пореформенной деревне. С. 23.
(обратно)
501
Безгин В. Б. Скрытая повседневность (половые отношения в русской деревне конца XIX — начала XX века) // Клио. Журнал для ученых. СПб., 2004. № 3 (26). С. 103.
(обратно)
502
Русские крестьяне. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 166.
(обратно)
503
См.: Мухина З. З. «Девка на поре, не удержишь на дворе…» (О девичьей чести в крестьянской среде Центральной России во второй половине XIX — начале XX в.) // Женщина в российском обществе. 2010. № 3. С. 67.
(обратно)
504
АРГО. Разряд 19. On. 1. Ед. хр. 40. Л. 1–2.
(обратно)
505
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 37–38.
(обратно)
506
Весин Л. Современный великорус в его свадебных обычаях и семейной жизни. Кн. IX. С. 61.
(обратно)
507
Цит. по: Семенов Ю. И. Пережитки первобытных форм отношения полов в обычаях русских крестьян XIX — начала XX в. // Этнографическое обозрение. 1996. № 1. С. 45.
(обратно)
508
Якушкин Е. И. Обычное право. С. 32.
(обратно)
509
Минх А. Х. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии. С. 110.
(обратно)
510
Тихонов В. П. Материалы для изучения обычного права среди крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии. С. 136.
(обратно)
511
Пр-ский Ал., свящ. Из наблюдений сельского священника над деревней // Олонецкие епархиальные ведомости. 1908. № 15. С. 352.
(обратно)
512
ГАРФ. Ф. 102. ДП. 2 д-во. (1889). Д. 158. Ч. 15. Л. 9об.
(обратно)
513
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1008. Л. 4.
(обратно)
514
Бондаренко В. Очерки Кирсановского уезда Тамбовской губернии // Этнографическое обозрение. 1890. № 4. С. 32.
(обратно)
515
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 428. Л. 12.
(обратно)
516
Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. С. 65.
(обратно)
517
Шангина И. И. Русские девушки. СПб., 2008. С. 18.
(обратно)
518
Русские крестьяне. 2003. Т. 1. Костромская и Тверская губерния. С. 491.
(обратно)
519
Мухина З. З. Повседневность русской девушки-крестьянки пореформенной России // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сб. ст. М., 2013. С. 170.
(обратно)
520
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 991. Л. 11.
(обратно)
521
Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 96.
(обратно)
522
Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины. Л., 1988. С. 2, 43, 258.
(обратно)
523
Крюкова С. С. Брачные традиции южнорусских губерний… С. 44.
(обратно)
524
АРЭМ.Ф. 7. Оп. 2. Д. 1011. Л. 1.
(обратно)
525
Там же. Д. 2024. Л. 4.
(обратно)
526
Русские крестьяне. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 4. С. 279.
(обратно)
527
Там же. 2009. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 1. С. 196.
(обратно)
528
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 556.
(обратно)
529
Тамбовский областной краеведческий музей. Отдел фондов. Материалы этнографической экспедиции 1993 г. Отчет Т. А. Листовой.
(обратно)
530
Цит. по: Зверев В. А. Люди детные. Воспроизводство населения сибирской деревни в конце имперского периода. Новосибирск, 2014. С. 222.
(обратно)
531
Звонков А. П. Современный брак и свадьба среди крестьян Тамбовской губернии Елатомского уезда. С. 65.
(обратно)
532
Безгин В. Б. Крестьянский самосуд и семейная расправа // Вопросы истории. 2005. № 3 С. 154.
(обратно)
533
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1215. Л. 4.
(обратно)
534
Безгин В. Б. Крестьянский самосуд и семейная расправа. С. 154.
(обратно)
535
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 378.
(обратно)
536
Там же. С. 365.
(обратно)
537
Там же. С. 434.
(обратно)
538
Кистяковский А. Ф. К вопросу о цензуре нравов у народа // Сборник народных юридических обычаев. Т. 1. С. 164.
(обратно)
539
Селиванов А. И. Этнографические очерки Воронежского края // Воронежский юбилейный сборник. Воронеж, 1886. Т. 2. С. 86.
(обратно)
540
Кистяковский А. Ф. Указ. соч. С. 167.
(обратно)
541
Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины… С. 60.
(обратно)
542
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1011. Л. 6.
(обратно)
543
Русские крестьяне. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 409.
(обратно)
544
Тамбовский край. 1914. 28 февраля.
(обратно)
545
Маерчик М. Анализ дискурсов в украинской традиции добрачных ночевок молодежи (конец XIX— начало XXI в.) // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 114.
(обратно)
546
Игнатьев П. В. Сексуальная жизнь дореволюционной деревни [Электронный ресурс] // http://antisys.ru/sexvill.html (дата обращения 29.07.2015).
(обратно)
547
ГАТО. Ф. 181. On. 1. Д. 2076. Л. 2об, 9, 25об.
(обратно)
548
РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2095. Л. 17.
(обратно)
549
Никольский П. Интересы и нужды епархиальной жизни. Воронеж, 1901. С. 70.
(обратно)
550
Обзор Тамбовской губернии за 1898 г. Тамбов, 1899. С. 52.
(обратно)
551
Веретенников И. В. Брачность, рождаемость и смертность среди крестьянского населения. По данным для Землянского и Задонского уездов Воронежской губернии. Тифлис. 1898. С. 61.
(обратно)
552
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 247; Там же. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 478.
(обратно)
553
Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 247.
(обратно)
554
Бородаевский С. Незаконнорожденные в крестьянской среде // Русское богатство. 1898. № 10. С. 240–241.
(обратно)
555
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 505.
(обратно)
556
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1026. Л. 3.
(обратно)
557
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 330.
(обратно)
558
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 20.
(обратно)
559
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 3. С. 348.
(обратно)
560
Костров. Н. А. Юридические обычаи крестьян старожил Томской губернии. Томск, 1876. С. 74.
(обратно)
561
Там же. С. 77–78.
(обратно)
562
Дело о деревенском инцесте имперского масштаба. [Электронный ресурс] // http://www.kommersant.ru/doc/1796000/print. (дата обращения 10.04.2013).
(обратно)
563
Мухина З. З., Пушкарева Н. Л. Женщина и женское в традиционной русской сексуальной культуре (до и после великих реформ XIX века) // Вестник Пермского университета. 2012. Вып. 3 (20). С. 49.
(обратно)
564
Якушкин Е. И. Обычное право. С. 391.
(обратно)
565
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 504.
(обратно)
566
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1011. Л. 19.
(обратно)
567
Там же. Д. 2036. Л. 3.
(обратно)
568
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 558, 678.
(обратно)
569
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. ЕС. 504; 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 201, 308; 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 245.
(обратно)
570
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 380.
(обратно)
571
Зверев В. А. Люди детные. Воспроизводство населения сибирской деревни в конце имперского периода. С. 214.
(обратно)
572
РГИА. Ф. 1286. Оп. 40. Д. 598. Л. 86.
(обратно)
573
ГАТО. Ф. 6. Оп. 50. Д. 32. Л. 9, 9об.
(обратно)
574
ГАРФ. Ф. 124. Оп. 29. Д. 456. Л. 5.
(обратно)
575
Там же. Ф. 102. Оп. 120. Д. 34 ч. 10. Л. 95об.
(обратно)
576
Там же. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14 ч. 10. Ч. ЕЛ. 28.
(обратно)
577
Там же. Л. 91.
(обратно)
578
Там же. Оп. 120. Д. 14 ч. 10. Л. 119об.
(обратно)
579
Там же. Ф. 124. Оп. 41. Д. 838. Л. 4–6.
(обратно)
580
РГИА. Ф. 1368. Оп. 9. Д. 82. Л. 3, 4об, 5.
(обратно)
581
Там же Л. 9.
(обратно)
582
ГАРФ. Ф. 124. Оп. 28. Д. 35. Л. 19.
(обратно)
583
Там же.
(обратно)
584
Там же. Ф. 102. Оп. 119. Д. 48. Ч. 10. Л. 6.
(обратно)
585
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 2. С. 90.
(обратно)
586
Памятная книжка Тамбовской губернии на 1868 г. Тамбов, 1868. С. 2–4.
(обратно)
587
Обзор Тамбовской губернии за 1881 г. Приложение к всеподданнейшему отчету тамбовского губернатора. Тамбов, 1882. Ведомость 5. С. 113; То же за 1886 г. Тамбов, 1887. С. 114; То же за 1894 г. Тамбов, 1895. С. 112; То же за 1902. Тамбов, 1904. С. 113.
(обратно)
588
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С.107.
(обратно)
589
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1011. Л. 7.
(обратно)
590
Там же. Д. 2036. Л. 2.
(обратно)
591
Там же. Д. 1054. Л. 4.
(обратно)
592
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. С. 697.
(обратно)
593
Там же. С. 699–700.
(обратно)
594
ГАРФ. Ф. 124. Оп. 29. Д. 199. Л. 9об.
(обратно)
595
Там же. Оп. 26. Д. 162. Л. 11.
(обратно)
596
Там же. Л. 12—12об.
(обратно)
597
Свод статистических сведений по делам уголовным за 1913 г. Пг., 1916. С. 12.
(обратно)
598
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Ч. 10. Т. 2. Л. 15об.
(обратно)
599
Там же. Л. 27.
(обратно)
600
Там же. Л. 33.
(обратно)
601
Там же. Л. 53.
(обратно)
602
Там же. Л. 135.
(обратно)
603
Там же. Л. 118об.
(обратно)
604
Там же. Д. 34. Ч. 10. Л. Збоб., 64.
(обратно)
605
Там же. Оп. 122. Д. 14. Ч. 10. Л. 7об.
(обратно)
606
Там же. Оп. 124. Д. 1. Ч. 10. Л. 67об.
(обратно)
607
Там же. Л. 48об.
(обратно)
608
Там же. Л. 1 10об.
(обратно)
609
Там же.
(обратно)
610
Там же.
(обратно)
611
Там же. Л. 81об.
(обратно)
612
ГАТО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 3957. Л. 6, 6об.
(обратно)
613
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 24. Д. 14.. 10. Л. 59.
(обратно)
614
Там же. Ф. 124. Оп. 40. Д. 99. Л. 5.
(обратно)
615
Там же. Л. 4об, 6.
(обратно)
616
Там же. Ф. 124. Оп. 29. Д. 257. Л. 5об.
(обратно)
617
Там же. Оп. 29. Д. 252. Л. 3, Зоб.
(обратно)
618
Там же. Оп. 26. Д. 563. Л. 6.
(обратно)
619
Там же. Л. 7.
(обратно)
620
Там же. Оп. 41. Д. 99. Л. 4об.
(обратно)
621
Там же. Л. 8.
(обратно)
622
Там же. Л. 5.
(обратно)
623
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. С. 696.
(обратно)
624
Там же. С. 693.
(обратно)
625
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1320. Л. 2.
(обратно)
626
Там же. Д. 1054. Л. 4.
(обратно)
627
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 47.
(обратно)
628
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 39.
(обратно)
629
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 374.
(обратно)
630
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 20.
(обратно)
631
РГИА. Ф. 1286. Оп. 37. Д. 1258. Л. 1 33об.
(обратно)
632
Там же. Оп. 40. Д. 635. Л. 153.
(обратно)
633
Там же. Ф. 1363. Оп. 9. Д. 155. Л. 2.
(href=#r>обратно)
634
Медицинский отчет за 1896 г. по лечебнице душевнобольных Тамбовского губернского земства, составленный врачами лечебницы. Тамбов, 1897.
(обратно)
635
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Ч. 10. Ч. 1.Л. 108об.
(обратно)
636
Там же. Ф. 124. Оп. 40. Д. 616. Л. 5, 5об.
(обратно)
637
Там же. Ф. 102. Оп. 121. Д. 34. Ч. 10. Л. 82об.
(обратно)
638
Там же. Ф. 124. Оп. 29. Д. 188. Л. 2, 2об.
(обратно)
639
Там же. Ф. 102. Оп. 120. Д. 72. Ч. 10. Л. 15об.
(обратно)
640
ГАРФ. Ф. 124. Оп. 29. Д. 444. Л. 7об.
(обратно)
641
Там же. Оп. 28. Д. 12. Л. 58, 58об.
(обратно)
642
Люблинский П. И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте. М., 1923.
(обратно)
643
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 48. Ч. 10. Л. 59, 84, 115.
(обратно)
644
Ушке С. Дети-преступники. Рига, б/г. С. 28.
(обратно)
645
ГАРФ. Ф. 102. On. 119. Д. 14. Ч. 10. Л. 154об.
(обратно)
646
Там же. Оп. 120. Д. 72 ч. 10. Т. 2. Л. 86об.
(обратно)
647
Там же. Ф. 102. Оп. 122. Д. 72. Ч. 10. Л. 67об.
(обратно)
648
Там же. Оп. 122. Д. 72. Ч. 10. Т. 2. Л. 42.
(обратно)
649
Там же. Оп. 121. Д. 14. Ч. 10. Т. 2. Л. 120об.
(обратно)
650
Там же. Ф. 124. Оп. 41. Д. 169. Л. 7об.
(обратно)
651
Там же. Оп. 29. Д. 160. Л. 3, 3об.
(обратно)
652
Там же. Д. 504. Л. 4, 4об.
(обратно)
653
Там же. Д. 507. Л. 4.
(обратно)
654
Там же. Ф. 102. Оп. 120. Д. 34. Ч. 10. Л. 95об.
(обратно)
655
Там же. Д. 72. Ч. 10. Л. 53.
(обратно)
656
Там же. Оп. 124. Д. 14. Ч. 10. Л. 45об.
(обратно)
657
См.: Безгин В. Б. Половые преступления в сельской повседневности конца XIX — начала XX вв. // Право и политика. 2009. № 9. С. 1946–1955.
(обратно)
658
ГАТО. Ф. 69. Оп. 50. Д. 32. Л. 2–7.
(обратно)
659
ГАРФ. Ф. 124. Оп. 26. Д. 303. Л. 6, 6об.
(обратно)
660
Там же. Л. 7об.
(обратно)
661
Тарновская П. Н. Женщины-убийцы. СПб., 1902. С. 365.
(обратно)
662
РГИА. Ф. 1405. Оп. 103. Д. 3202. Л. 57.
(обратно)
663
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 14. Ч. 10. Л. 53.
(обратно)
664
Там же. Л. 142об.
(обратно)
665
Там же. Д. 48. Ч. 10. Л. 49об.
(обратно)
666
Там же. Оп. 98. Д. 14. Ч. 10. Ч. 1. Л. 58об.
(обратно)
667
Там же. Л. 72.
(обратно)
668
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 6248. Л. 459об, 460.
(обратно)
669
Хвостов В. М. Женщина и человеческое достоинство. М., 1914. С. 368.
(обратно)
670
Канторович Я. Женщина в праве. СПб., 1895. С. 116.
(обратно)
671
Русские крестьяне. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 213.
(обратно)
672
Давыдов Н. В. Женщина перед уголовным судом. М., 1906. С. 46.
(обратно)
673
Косарепкая Е. Н. Мотивационный комплекс женских преступлений во второй половине XIX — начале XX вв. (по материалам Орловской губернии) // Управление общественными и экономическими системами. 2007. № 1 (9). С. 4.
(обратно)
674
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1054. Л. 6.
(обратно)
675
РГИА. Ф. 950. On. 1. Д. 273. Л. 4об.
(обратно)
676
Русские крестьяне. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 1. С. 214.
(обратно)
677
Там же. Ч.3. С. 352–353.
(обратно)
678
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 98. Д. 14. Л. 34об.
(обратно)
679
Там же. Оп. 99. Д. 1. Л. 107об.
(обратно)
680
Там же. Оп. 98. Д. 14. Ч. 10. Т. 2. Л. 32об.
(обратно)
681
Там же. Оп. 124. Д. 72. Ч. 10. Т. 2. Л. 113.
(обратно)
682
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 40.
(обратно)
683
Гернет М. Н. Детоубийство. С. 143.
(обратно)
684
Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губернии. Юрьев, 1910. С. 76.
(обратно)
685
Маньковский Б. С. Детоубийство//Убийства и убийцы. М., 1928. С. 250–251.
(обратно)
686
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская и Тверская губернии. С. 559.
(обратно)
687
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 57.
(обратно)
688
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 98. Д. 1 ч. 28л. Г.Л. 13об., 18, 18об, 42об.
(обратно)
689
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 383.
(обратно)
690
Миронов Б. Н. Социальная история России… Т. 1. С. 201.
(обратно)
691
АРЭМ.Д. 2036. Л. 4–5.
(обратно)
692
Гернет М. Н. Общественные причины преступности. Избранные произведения. М., 1974. С. 140.
(обратно)
693
Михель Д. В. Общество перед проблемой инфантицида: история, теория, политика //Журнал исследований социальной политики. 2007. Т. 5. № 4. С. 442.
(обратно)
694
Крюкова С. С. Крестьянское правосудие в лицах… С. 188.
(обратно)
695
ГАТО. Ф. 4. Оп. ЕД. 6248. Л. 363об, 364.
(обратно)
696
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 72. Ч. 10. Л. 82об.
(обратно)
697
Там же. Оп. 123. Д. 14. Ч. 10. Л. 46об.
(обратно)
698
Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губернии. С. 38.
(обратно)
699
Гернет М. Н. Детоубийство. С. 292, 293.
(обратно)
700
Куликова С. Г. Женская преступность как социальный фактор российской модернизации… С. 103.
(обратно)
701
Косарецкая Е. Н. Мотивационный комплекс женских преступлений… С. 7.
(обратно)
702
Тарновская Н. П. Женщины-убийцы. С. 337.
(обратно)
703
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 40.
(обратно)
704
ГАТО. Ф. 66. Оп. 2. Д. 3764. Л. 10; Д. 3479. Л. 12; Д. 3478. Л. 12; Д. 3809. Л. 13.
(обратно)
705
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 98. Д. 14. Л. 4об.
(обратно)
706
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 6248. Л. 387.
(обратно)
707
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 120. Д. 72. Ч. 10. Т. 2. Л. 202.
(обратно)
708
Козловская мысль. 1915. 12 мая.
(обратно)
709
Семенова-Тян-ШанскаяО.П. Жизнь Ивана. С. 40.
(обратно)
710
Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губернии. С. 29.
(обратно)
711
Русские крестьяне. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 1. С. 214.
(обратно)
712
Ковзик А. О. Проблемы квалификации преступлений, связанных с убийством матерью новорожденного ребенка, и возможные пути их разрешения [Электронный ресурс] // http://www.yurclub.ru/docs/criminal/articlel25.html (дата обращения 19.02.2013).
(обратно)
713
Соловьева Н. А. Методика расследования детоубийств. Волгоград, 2004.С. 20
(обратно)
714
Гернет М. Н. Детоубийство. С. 66.
(обратно)
715
Таганцев Н. Сокрытие матерью трупа ее младенца, рожденного живым //Журнал гражданского и уголовного права: Май. СПб., 1873. Кн. 3. С. 200.
(обратно)
716
Михель Д. В. Общество перед проблемой инфантицида… С. 447.
(обратно)
717
Русские крестьяне. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 376.
(обратно)
718
Грегори А. В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании (по данным Варшавского окружного суда за 20 лет, 1885–1904). Варшава, 1908. С. 47.
(обратно)
719
Соловьева Н. А. Методика расследования детоубийств. С. 116.
(обратно)
720
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.
(обратно)
721
Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губернии. С. 64.
(обратно)
722
Аборты в 1925 году. М., 1927. С. 18.
(обратно)
723
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 169, 331.
(обратно)
724
Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губернии. С. 64.
(обратно)
725
Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву. В 2 т. СПб., 1870. Т. 2. С. 260.
(обратно)
726
Любавский А. О детоубийстве // Юридический вестник. 1863. Вып. 37. № 7. С. 22.
(обратно)
727
Мурин В. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 95.
(обратно)
728
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. С. 327.
(обратно)
729
Русские крестьяне. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 375.
(обратно)
730
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1054. Л. 6.
(обратно)
731
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 331.
(обратно)
732
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 3. С. 353.
(обратно)
733
Там же. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 357; 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 383; 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 4. С. 219.
(обратно)
734
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2036. Л. 6.
(обратно)
735
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 383.
(обратно)
736
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2036. Л. 5.
(обратно)
737
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 331.
(обратно)
738
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 376.
(обратно)
739
Быт великорусских крестьян-землепашцев. С. 276.
(обратно)
740
Русские крестьяне. 2006. Т. 4. Нижегородская губерния. С. 161.
(обратно)
741
Щербинин П. П. Незаконнорожденные дети в семьях солдаток в XVIII–XIX вв. // Социальная история российской провинции… С. 142.
(обратно)
742
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 379, 380.
(обратно)
743
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 428. Л. 5.
(обратно)
744
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 552.
(обратно)
745
Там же.
(обратно)
746
Там же.
(обратно)
747
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2036. Л. 15.
(обратно)
748
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 503.
(обратно)
749
Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 246.
(обратно)
750
Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 199.
(обратно)
751
Канкарович И. Проституция и общественный разврат. К истории нравов нашего времени. СПб., 1907. С. 157.
(обратно)
752
Михневич В. Язвы Петербурга. Опыт историко-статистического исследования. СПб., 1886. С. 332.
(обратно)
753
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1320. Л. 3.
(обратно)
754
Девиантность и социальный контроль в России (XIX–XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. СПб., 2000. С. 329.
(обратно)
755
Малышева С. «Профессионалки, «арфистки», «любительницы». Публичные дома и проститутки в Казани во второй половине XIX — начале XX века. Казань, 2014. С. 109.
(обратно)
756
Ильюхов А. А. Проституция в России с XVII века до 1917 года. М., 2008. С. 505.
(обратно)
757
Русские крестьяне. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 3. С. 506.
(обратно)
758
Там же.
(обратно)
759
Дерюжинский В. Ф. Полицейское право. Пособие для студентов. СПб., 1903. [Электронный ресурс]. http://www.allpravo.ru/library/doc76p0/instrum3732/item3908.html (дата обращения: 24.08.2009).
(обратно)
760
Семенова-Тян-Шанская О. П. Жизнь Ивана. С. 39.
(обратно)
761
Энгельгардт А. Н. Из деревни. С. 185.
(обратно)
762
Шашков С. С. Очерк русской женщины. СПб., 1871. С. 253.
(обратно)
763
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1054. Л.4; Д. 1011. Л. 10, 12.
(обратно)
764
Федоров А. И. Очерк врачебно-полицейского надзора за проституцией в Санкт-Петербурге. СПб., 1897. С. 20.
(обратно)
765
Голосенко И. Русская дореволюционная социология о феномене проституции. [Электронный ресурс] // http: www.// socnet.narod.ru/Rubez/10—11/golosenko.htm (дата обращения: 24.08.2009).
(обратно)
766
Бентович. Б. Торгующие телом. Очерки современной проституции. СПб., 1909. С. 40.
(обратно)
767
Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Гетеры, авлетриды и тайные проститутки. Милость к падшим // Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. XX в.). М., 1994. С. 53.
(обратно)
768
Подсчитано по: Проституция в Российской империи по обследованию 1 августа 1899 года. Статистика Российской империи XIII. СПб. Издание ЦСК МВД. 1890. С. 2, 3, 24, 25, 36–39, 40, 41, 44, 45, 52, 53, 70–73.
(обратно)
769
Там же.
(обратно)
770
АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2032. Л. 2.
(обратно)
771
Быт великорусских крестьян-земледельцев. С. 75, 280.
(обратно)
772
Голоса крестьян… С. 69.
(обратно)
773
Шустиков А. Тавреньга Вельского уезда//Живая Старина. 1895. Вып. 2. С. 175.
(обратно)
774
Балов А. В. Очерки Пошехонья // Этнографическое обозрение. 1899. № 1–2. С. 218.
(обратно)
775
Бондаренко В. Очерки Кирсановского уезда Тамбовской губернии. С. 37.
(обратно)
776
Цит. по: Бородин К. Д. Пьянство среди детей. СПб., 1910. С. 16–17.
(обратно)
777
Там же. С. 16.
(обратно)
778
Скрябин И. В. Крестьянская поземельная община «оскудевающего центра» России… С. 123.
(обратно)
779
Зверев В. А. Люди детные. Воспроизводство населения сибирской деревни в конце имперского периода. С. 216.
(обратно)
780
Пр-ский Ал., свяш. Из наблюдений сельского священника над деревней. С. 335.
(обратно)
781
Жбанков Д. Н. Бабья сторона. С. 70.
(обратно)
782
Цит. по: Елизарова Н. В. О пьянстве сибиряков в конце XIX — начале XX века. (По материалам дореволюционных периодических изданий) // История Сибири, 1583–2006. Проблемы и перспективы: Сб. мат-лов науч. конф. Новосибирск, 2006. С. 154.
(обратно)
783
Полищук И. С. Духовенство и крестьянство в общественной жизни России. Конец XIX — 30-е годы XX века (опыт историко-сравнительного анализа). Тверь, 2004. С. 58.
(обратно)
784
Русские крестьяне. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 379.
(обратно)
785
Там же. 2009. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 2. С. 406.
(обратно)
786
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 4. С. 284, 285.
(обратно)
787
Трошина Т. И. Народное пьянство на Европейском Севере России (конец XIX — начало XX вв.) // Новый исторический вестник. 2011. № 2. С. 24.
(обратно)
788
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 98. Д. 1. Л. 10.
(обратно)
789
Там же. Д. 1. Л. 6, 6об.
(обратно)
790
Там же. Оп. 121.Д. 14. Ч. 10. Т. 2. Л. 32об.
(обратно)
791
Бальжанова Е. С. Мир женских грехов (по материалам русских крестьян Среднего Урала XIX — начала XX в.) // Женщина в истории Урала и Сибири XVIII — начала XX в. Сб. науч. ст. Екатеринбург, 2007. С. 66.
(обратно)
792
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Л. 25об, 26.
(обратно)
793
Там же. Л. 57, 57об.
(обратно)
794
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 4. С. 508, 509.
(обратно)
795
Там же. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 478.
(обратно)
796
Мякинен И. Х. Как был написан очерк Сорокина о самоубийстве//СОЦИС. 2003. № 11. С. 125
(обратно)
797
Сорокин П. Самоубийство как общественное явление. [Электронный ресурс], http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Sociolog/Sorokin/suicid.php (дата обращения. 07.07.2011)
(обратно)
798
Малиновский И. А. Кровавая месть и смертная казнь. М., 2015. С. 456, 457.
(обратно)
799
См.: Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 479; Там же. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 599; Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 322, 566; Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 248.
(обратно)
800
Святловский Е. В. Материалы по вопросу о санитарном положении русского крестьянства. Медико-топографическое описание Волчанского уезда Харьковской губернии. Харьков, 1887. С. 197, 198.
(обратно)
801
Подсчитано по: Обзор Тамбовской губернии за 1883–1898 гг. Тамбов, 1884–1899.
(обратно)
802
Веселовский К. С. Опыты нравственной статистики в России. СПб., 1847. С. 39.
(обратно)
803
Гилинский Я., Румянцева Г. Динамика самоубийств в России. http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0161/analit01.php (дата обращения 14.07.2011).
(обратно)
804
Богданов С. В. Смертность населения Курской губернии… С. 120.
(обратно)
805
РГИА. Ф. 1286. Оп. 40 Д. 635. Л. 63.
(обратно)
806
Там же. Д. 631. Л. 23.
(обратно)
807
ГАТО. Ф. 4. On. 1. Д. 6248. Л. 527об.
(обратно)
808
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Л. 33.
(обратно)
809
Добровольский В. Н. Данные для народного календаря Смоленской губернии в связи с народными верованиями // Живая старина. 1898. Вып. III–IV. С. 374.
(обратно)
810
Новосельский С. А. Статистика самоубийств. СПб., 1910. С. 46, 47.
(обратно)
811
Святловский Е. В. Материалы по вопросу о санитарном положении русского крестьянства. С. 197.
(обратно)
812
Самоубийства в СССР в 1925 и 1926 годах. М., 1929.
(обратно)
813
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 1. С. 509.
(обратно)
814
Там же. 4.2. С. 202.
(обратно)
815
ГАТО. Ф. 4. Оп.1. Д. 5637. Л. 184, 225об.
(обратно)
816
Там же. Д. 6676. Л. 85об.
(обратно)
817
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 34. Л. 36.
(обратно)
818
Русские крестьяне. 2004. Т. 1. Костромская и Тверская губернии. С. 25.
(обратно)
819
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 561.
(обратно)
820
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 3. С. 636.
(обратно)
821
Хорошко В. К. Самоубийство детей. М., 1909. С. 87.
(обратно)
822
Там же. С. 88.
(обратно)
823
Самоубийство как социальное явление (к статистике современных самоубийств). Б.м., 1913. С. 155.
(обратно)
824
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 123. Д. 14. Л. 164об.
(обратно)
825
Тамбовский край. 1914. 1 мая.
(обратно)
826
Русские крестьяне. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 332.
(обратно)
827
Козловская мысль. 1912. 19 декабря.
(обратно)
828
ГАТО. Ф. 4. Он. 1. Д. 5639. Л. 312, 31 Зоб.
(обратно)
829
Там же. Л. 496.
(обратно)
830
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 98. Д. 1. Л. 16.
(обратно)
831
Подсчитано по: Медицинский отчет по лечебнице душевнобольных Тамбовского губернского земства за 1887–1899 гг. Тамбов. 1888–1900.
(обратно)
832
Отчет по отделениям для душевнобольных Вологодской губернской больницы за 1891 г. Вологда. 1892. С. 4.
(обратно)
833
Подсчитано по: Медицинский отчет по лечебнице душевнобольных Тамбовского губернского земства за 1887–1899 гг.
(обратно)
834
Отчет о состоянии Казанского земского дома умалишенных с 1 сентября 1881 г. по 1 сентября 1882 г. Казань: Тип. губ. прав. 1883. С. 4.
(обратно)
835
Русские крестьяне. 2006. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. С. 384.
(обратно)
836
Там же. 2009. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. 3. С. 356.
(обратно)
837
Там же. 2008. Т. 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. С. 376.
(обратно)
838
Там же. 2005. Т. 3. Калужская губерния. С. 171.
(обратно)
839
Там же. 2007. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 376.
(обратно)
840
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. I. С. 296.
(обратно)
841
Там же. 2011. Т. 7. Новгородская губерния. Ч. I. С. 296.
(обратно)
842
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 121. Д. 14. Ч. 2. Л. 140.
(обратно)
843
Там же. Д. 72. Т. 4. Л. 15об.
(обратно)
844
Арсеньев К. К. Из недавней поездки в Тамбовскую губернию. С. 836.
(обратно)
Оглавление
Предисловие
В СЕМЬЕ
Бабья доля
Замужество
Чадородие
Развод
Старость
Семейная иерархия
Разделы
Дети
Работы и заботы
Обиход и гигиена
Женская собственность
Побои мужа и «ласки» свекра
НА «МИРУ»
Общественный статус
Бабьи бунты
В волостном суде
Публичные наказания
Вера, суеверие, обряд
Город. Отхожие промыслы
Интимная жизнь
Незаконнорожденные дети
«ОТ ЛУКАВОГО»
Жертва насилия
Женские преступления
Проституция
Пьянство
Самоубийство
Умалишенные
Заключение
INFO
Комментарии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844