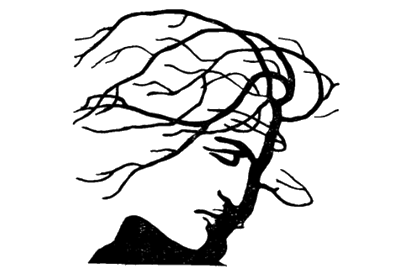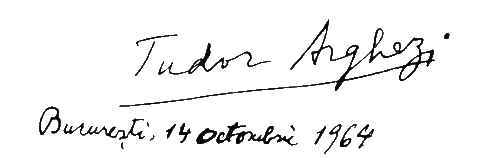Феодосий Видрашку
ТУДОР АРГЕЗИ

*
На обложке — дом семьи Аргези в Мэрцишоре. Заставки к главам: 1, 5—12 рисунки Тудора Аргези, 2 — эстамп А. Давида «Эминеску», 3 — рисунок Сабина Балаша, 4 и 16 — Митзуры Аргези, 13 — Е. Дрогуцеску, 14 — Л. Маковей, 15 — Чик Дамадиана.
© Издательство «Молодая гвардия», 1980 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1
Нае Теодореску, отец Янку, был не в духе. Говорил жене о банках, счетах, кредитах, о каком-то разорении. До мальчика смысл этих слов доходил с трудом, но он понимал, что разговор идет о делах очень неприятных. Как подступиться со своим тяжким вопросом? Ему не хочется называть больше эту чужую тетку матерью, и хотя отец может и избить его, он все равно ему все скажет, пусть только они закончат быстрей свой разговор.
Отец с мачехой говорили еще долго, их слова становились непонятными, тяжелыми и все больше напоминали мальчику звуки отдаляющегося большого барабана. Потом слова совсем погасли.
Кто-то присел на краю кровати. Янку открыл глаза и при слабом свете горящей в углу под иконами лампадки увидел большие глаза отца.
Мальчик схватил его руку.
— Отец, от чего умерла моя мама?
— Как это «от чего»? От смерти умерла, как все люди… А почему ты спрашиваешь меня об этом? Разве у тебя нет матери?
— Это не моя мама… Это твоя жена…
— Нае! — раздался резкий голос из соседней комнаты.
Отец шепнул:
— Спи-ка, поговорим об этом в другой раз…
Бледный язычок лампадки, горевшей до сих пор ровно, стал потрескивать. Мальчик встал, поправил фитилек, и на стене, прямо над кроватью, задрожала громадная тень. Стало страшно. Он снова залез под одеяло и укрылся с головой. Во сне он увидел, как по яркому, прямому, как лист камыша, лучу медленно спускался к нему ангел. Наверное, это был тот ангел, который охраняет каждого человека. Он сказал Янку: «Ты сейчас отдохни, когда отдохнешь, я приду к тебе снова, поведу тебя светлой дорогой и покажу, где твоя мама».
Ангел сказал неправду: он никогда больше не приходил к мальчику. Однажды вечером, несколько дней спустя, отец сказал строго:
— Тебя вырастила эта женщина, и ты должен слушаться ее.
Да, Янку прекрасно знал: надо слушаться. Только так можно спастись от крика, упреков, да и от порки.
Про свое детство старый Тудор Аргези скажет: «Это самая горькая пора жизни. Я бы ни за что не хотел стать еще раз ребенком».
Документальные данные о детстве и юношестве Тудора Аргези крайне скупы. Спорят даже относительно названной самим поэтом даты рождения — 21 мая 1880 года.
Неподалеку от города Питешть Арджешского уезда Румынии, в живописном селе Мэрэчинепь живет глубокий старик Николае Н. Теодореску. Это брат Тудора Аргези по отцу. В 1972 году он писал в газете «Ромыниа либерэ» («Свободная Румыния»):
«Ион Н. Теодореску (Тудор Аргези) родился в Бухаресте. Его отеп Николае родился в городе Крайова. Дед Аргези проживал тоже в Крайове, но родился он в селе Кэрбунешть уезда Горж. Его звали Тудором Кожокару, потом он изменил свою фамилию и стал называться Тудором Кэрбунеску, по названию села, где родился».
Осенью 1887 года Янку записывают в городскую начальную школу «Петраке Поенару», размещенную вблизи торговых лавчонок овощного рынка «Пяпа Амзей» Их было сорок пять ребят, отданных под присмотр смиренного молодого диакона Абрамеску. Начинал отец Абрамеску каждый свой урок словами: «Сейчас мы помолимся всевышнему. Всем повернуться лицом к образу».
Икона с ликом Спасителя находилась в правом углу класса, и, чтобы стать к ней лицом, нужно было повернуться спиной к портрету бородатого человека, увешанного множеством круглых, разной величины монет. Это был король Карол I. «Значит, король меньше бога, раз можно стоять к нему спиной», — решил Янку. Пели всегда про ангела-хранителя, посланного богом к каждому только что родившемуся человеку.
А потом диакон говорил, что нужно повернуться лицом к королю и спеть и ему песню.
«Да здравствует король в мире и почестях…»
На первом уроке диакон молча изучал лица ребят. Родители привели их сегодня утром с надеждой, что он, отец Абрамеску, сделает из них настоящих людей. Диакон очень молод, бороденка жидкая, длинные волосы не слушаются, и он их то и дело медленными движениями откидывает на плечи, чтоб не мешали. Когда его широко открытые ясные глаза остановились на Янку, мальчику показалось, что на него смотрит сам господь бог и вот-вот что-то скажет ему, такому строптивому и замкнутому. Но «бог» ничего не изрек и перевел взгляд на другого мальчика. Янку почему-то хотелось спросить сейчас, не знает ли учитель, где его мать. Ведь если он, как говорит отец, слуга господа, то тогда должен знать, что делается и на том свете.
Школа занимала его полностью. Он забросил игры с Раду, не ходил больше к Дымбовице, потому что отец Абрамеску дал ему книжку с таинственными знаками и удивительными рисунками. Оказывается, из причудливых знаков можно составить слова. Молодая женщина держит на вытянутых руках полного улыбающегося ребенка. «Мама» — так должен сказать ребенок. Отец Абрамеску просит составить небольшой устный рассказ об этом рисунке.
Вечером Янку снова спросил отца, почему же умерла его мама. Отец ответил сердито и коротко: «Умерла, и ты меня больше о ней не спрашивай. У тебя есть мать, вот эта, которая вырастила тебя с пеленок. И больше меня этими расспросами не тревожь!» Слова отца звучали жестко и угрожающе, и Янку никогда уже не спрашивал отца ни о чем. Он пытался приблизиться к «этой матери, которая вырастила его», она иногда тоже вроде жалела сироту, интересовалась его уроками, спрашивала, чем они там в школе занимаются. Но это случалось очень редко. Мальчик все чаще слышал разговоры отца с мачехой о каких-то делах, которые должны принести деньги и богатство. О деньгах и богатстве велись разговоры в доме и когда приходили знакомые отца. С подобными разговорами он встречался дважды в день и на улице. В школу и из школы он проходил мимо длиннющего ряда лавок, где шла бойкая торговля. А под окном его комнаты была жестяная мастерская. Мальчик засыпал и просыпался под шум железного листа, превращающегося ударами деревянного молотка в водосточные трубы, жаровни, формы для хлеба, пасх и куличей.
— Что вы делаете? — спросил Янку чумазого мастера, который сооружал из разноцветной жести необычное крылатое сооружение с пропеллером.
Недолго думая, мастер ответил:
— Деньги.
После школы Янку похвастался мачехе:
— Я сегодня утром видел, как делают деньги.
Анастасия засмеялась и сказала зло:
— Мало видеть, как делают деньги, надо уметь самому их делать! Вот твой отец все время смотрит, как другие ворочают миллионами, а сам никак этому не научится, потому что он дурак и бездельник!..
Отец бездельник! Какой же это он бездельник, если его почти никогда нет дома, а когда появляется, видно, как он устал. Он только то и делает, что отбивается от упреков и расспросов: «Когда же у нас будет жизнь как у людей?»
— Что это такое — жизнь как у людей? — спросил Янку Анастасию, видя, что она в хорошем настроении.
— Вот скоро она, эта жизнь, переступит и порог нашего дома, и тогда ты увидишь. Кажется, наши дела идут на лад, отец нашел хороших мастеров, наша фабрика в Плоешти начнет давать доходы, и тогда ты почувствуешь, что это такое! Мы купим большущий дом на шоссе, во дворе конюшни, у нас будет свой выезд, и, может быть, купим и для тебя молодого породистого вороного жеребца, оседлаешь его и помчишься туда в поле, к Бэнясе! А может быть, где-то неподалеку, в Бэрэгане, приобретем имение, а в горах у Синаи или лучше в Предяле купим виллу с видом на Бучеджские горы. Скоро, скоро мы заживем как люди. Отец твой зашевелился!
Вечером приехал отец, он стал рассказывать Анастасии, что его люди нашли на этих днях неподалеку от Плоешти исключительно хорошую глину, которая пойдет не только на кирпич, но и на черепицу. Но в следующее воскресенье в дом Теодореску снова пришли плохие вести. Оказалось, участок с отличнейшей глиной принадлежит жадному помещику, который, догадавшись, о чем идет речь, сам решил заняться производством черепицы. И в доме начались скандалы, порой заглушавшие стук деревянного молотка жестянщика. Янку затыкал уши маленькими своими ладонями, старался убежать из дому. Спасением были школа и добрый отец Абрамеску.
— Кто из вас знает буквы? — спросил отец Абрамеску.
Поднял руку только один Янку.
— Ты все буквы знаешь?
— Знаю четыре… — почти шепотом ответил он.
— Янку знает четыре буквы, — сказал своим мягким певучим голосом отец Абрамеску. — Выйди, Янку, к доске. Возьми мел, сотри палочки и напиши буквы.
Янку знал эти буквы хорошо. Сколько раз он выводил их на влажном прохладном иле у берега Дымбовицы! Как огорчался он, когда волны набегали на буквы и постепенно смывали их! А он писал их вновь и вновь. Научил его писать старший друг Раду, который уже учился в третьем классе.
Мальчик растерялся у доски, она казалась ему громадной и страшной. Он писал долго, стараясь, чтобы каждая буква занимала положенное ей место в клеточке. Когда Янку отошел, на доске в нижнем ряду клеток было выведено очень четко: МАМА. Все буквы прописные.
— Сколько букв написал Янку? — спросил учитель. Ответил хор голосов:
— Четыре.
— А сколько букв знает Янку?
Хор голосов был сейчас неединодушным. Ответили только некоторые:
— Четыре.
— А ты, Янку, как считаешь?
— Четыре, — ответил мальчик.
— Садись, сейчас я все объясню. — И учитель стал объяснять, что Янку действительно написал четыре буквы, четыре знака, а знает он лишь две: «а» и «м». — Это две буквы, дети мои, а чтобы научиться читать и писать, надо знать… Сколько надо знать букв? Кто скажет?
Никто не смог ответить. Янку казалось, что для того, чтобы научиться читать и писать, надо знать миллионы букв, их ведь так много в той книге, которая лежит на столе перед иконами в тяжелой сверкающей обложке, и мачеха не разрешает до нее дотрагиваться. Но он открывал ее несколько раз, и там букв больше, чем звезд на небе. Сколько же нужно учиться, чтобы знать все эти буквы? А учитель говорит:
— Чтобы научиться читать и писать по-румынски, дети мои, нужно знать двадцать четыре буквы. На доске Янку написал лишь две. Остальные вот они. — И учитель стал писать на доске алфавит. Буквы, написанные Янку, он не стер. Они были аккуратные, ничем не отличавшиеся от написанных учителем.
В день, когда Нае Теодореску привел своего сына в шкоду, он сказал учителю о том, что этого ребенка воспитывает мачеха и он как отец просит относиться к нему с возможной теплотой, сыну очень не хватает материнской нежности и оттого он немного замкнут, порой грубоват, непослушен, но, безусловно, упорный, хороший мальчик.
Школьные дни мчались незаметно, и к рождественским каникулам ребята усвоили весь букварь, умели уже читать и писать под диктовку своего любимого учителя. «В июне 1888 года, — вспоминает Аргези, — произошло событие, доказавшее как нельзя лучше призвание нашего учителя к педагогике. Сорок пять ребят из сорока пяти были отмечены первой премией, это была коробка английского печенья, которую учитель поделил равными частями между нами. Мы сидели на лужайке по-турецки, окружив тесным кольцом нашего отца и преподавателя». Так окончил будущий Тудор Аргези первый класс бухарестской начальной школы «Петраке Поенару».
2
Наступили долгожданные для всех каникулы, а ему они не принесли никакой радости. Он подолгу наблюдал за тем, как из-под деревянного молоточка знакомого мастера-жестянщика выходили готовые вещи, и ему захотелось тоже делать что-то полезное. Однажды утром он пошел к своему другу Раду, они договорились накануне пойти по окрестностям Бухареста в поисках того места, откуда пришел много сотен лет назад знаменитый погонщик овец Букур и заложил основы нынешнего города. Раду говорил, будто он знает такое место, где запечатлен на камне след самого Букура: когда он сюда шел со своими овцами, была такая дождливая осень, что даже камни размякли. Но мать оставила Раду с маленькими братишками, а сама ушла сегодня пораньше на работу.
«Пойду-ка я сам искать тот след!» — решил Янку. Он не обратил внимания на темные тучи, которые- ползли с севера, со стороны Карпат, и пошел берегом Дымбовицы по ее течению, думая, что когда-нибудь он пойдет и посмотрит, откуда берет начало эта река, а потом выяснит, куда она несет свои воды. И почему она называется Дымбовицей, и почему все реки, и все города, и все люди называются как-нибудь. Откуда все это? Ему обо всем нужно будет узнать.
Реку переходило большое стадо. Янку никогда не видел так много животных вместе. Четверо погонщиков размахивали длинными арапниками, свистели и грязно ругались.
Янку пошел следом.
На окраине города, у заболоченного места с названием «Балта албэ» — «Белое болото», стадо завернуло к большому загону. За ним виднелось несколько длинных зданий, а над входом в самое высокое — огромные буквы «Абатор» — бойня. Двое здоровых мужчин с засученными рукавами отбирали быков и пропускали во внутренний двор, а оттуда двое других направляли их по узкому коридору, по которому могло проходить лишь одно животное. Янку незаметно для занятых делом мужчин пробрался вдоль коридора, не отрывая глаз от красивого быка с огромными рогами и белым лбом.
— Тебе чего здесь надо?! — прогремел голос. — Откуда взялся? — Над Япку стоял человек-гора в жесткой юбке из плотной клеенки, обрызганной кровью. — Ну-ка марш отсюда! Не для детей это! Марш!
У онемевшего от ужаса мальчика отнялись ноги— он не мог сдвинуться с места.
Накрапывал дождь. Большие капли со звоном ударялись о дорожную пыль, над Бэрэганской степью плыли, обгоняя друг друга, темные тучи с позолоченной кромкой. Янку и не заметил, когда они затянули все небо, и неожиданно полил долгожданный беглый летний дождь, после которого так приятно шлепать босыми ногами по лужам, перегораживать ручейки и строить плотины из размокшей земли. Янку спрятался около плетня, под густой гледичией. Сердце его колотилось от страха, когда совсем рядом били в землю молнии и тут же ударял оглушительный гром. Струйки воды превратились в белые горошины, они сбивали листья с деревьев, пробивались сквозь густую заросль гледичий, больно обжигали лицо. Вода с ледяным крошевом заполнила всю улицу, бешеный поток волочил вывернутые деревья, ветки, доски, колеса… Промокший и дрожащий от холода Янку поплелся по узкой улочке. Незнакомая окраина Бухареста, незнакомые дома и переулки среди огородов, садов и свалок. Неизвестно, сколько бы он блуждал, если бы не голос:
— Тебя как сюда занесло, малец? — Старый хромой продавец браги и восточных сладостей Али смотрел на него удивленными ласковыми глазами. — Откуда?
— Я пошел по Дымбовице, и вот этот дождь и гром…
— Дождь и гром… Подойди ко мне. Альвицы
[1] хочешь?
— У меня нет денег, — признался мальчик.
— Ну тогда бери так… Когда-нибудь отдашь… Вот тебе альвицы, вот тебе еще сладкую палочку… Э-э-э, да ты весь дрожишь, малец… — Али взял мальчика на руки и нес его до холма Митрополии, откуда уже Янку знал, как добраться до площади Амзы. Но он, согревшись на руках у Али, не хотел расставаться с этим теплым и добрым человеком.
«Не зная, что такое отцовская ласка, я почувствовал тогда вдруг возникшую трагическую тоску по простому родительскому прикосновению», — скажет спустя много лет Тудор Аргези.
3
Становление писателя и гражданина Аргези приходится на конец девятнадцатого и начало двадцатого века. «Одной ногой я упирался в почву уходящего века, другой нащупывал твердь в наступающий век. Найти проторенную стежку или пробить свою? Так стоял вопрос передо мной», — говорил Аргези.
Ряд важных исторических событий — революция 1848 года, объединение княжеств Валахии и Молдавии в единое государство в 1859 году, участие Румынии в русско-турецкой войне 1877–1878 годов на стороне России и провозглашение независимости Румынии от Оттоманской империи — вызвал естественный расцвет народных талантов. Получили известность произведения Василе Александри, Николае Бэлческу, Михаила Когэлничану, Александра Одобеску и многих других. Бурно развивался поэтический дар Михаила Эминеску, печатал свои замечательные сказки и «воспоминания детства» Ион Крянгэ, ставил свои пьесы-сатиры Ион Лука Караджале. Но писательские судьбы мало интересовали выходившую на арену молодую и ненасытную буржуазию. Юному Аргези пришлось стать свидетелем гибели не одного крупного народного таланта. И не потому ли его литературная деятельность с самого начала приняла социальную окраску. В 1897 году «Народный журнал» напечатал список румынских поэтов. Семнадцатилетний И. Тео значился в рубрике социальных поэтов.
Бунт Аргези созревал в условиях, когда румынская буржуазия, поддерживаемая монархией, оглушала страну громкими фразами о любви к простому народу, об общей судьбе всех румын, о необходимости единения всех «от носящих постолы
[2] до государя». Но это «единство» было развеяно в прах пулями карателей в дни восстания 1907 года — тогда земля Румынии была пропитана кровью 11 тысяч расстрелянных крестьян.
В 1889 году умирал в нищете тяжело больной поэт Михаил Эминеску. Власть имущие не проявляли никакой заботы о нем, и друзья собирали деньги на его содержание и лечение.
В школе на площади Амзы закончился очередной урок. Янку прошел мимо отца Абрамеску, разговаривавшего на лестнице с директором школы господином Нестором, и услышал имя Эминеску. Уловил обрывок фразы, сказанной директором школы: «…говорят, что Эминеску сбежал из сумасшедшего дома и бродит по Бухаресту».
Дома никого не было. Дверь оказалась запертой на замок. Ключей ему не доверяли. Куда идти? И он, подумав, вышел на главную улицу, на Каля Виктории. Там есть на что посмотреть. Магазины, вывеска к вывеске, хозяева на все голоса хвалят свой товар.
На Каля Виктории народу было больше, чем обычно, толпа оживленно переговаривалась и чего-то ждала. Янку знал уже, что так много народу собирается, когда должны провезти какого-нибудь очень важного покойника. Все выстраиваются вдоль тротуаров и ждут. Вдруг все зашевелились, зашептали, замахали руками: «Вот он! Вот он!» Янку протиснулся между взрослыми. «Мне было тогда девять лет… Человек шел быстро, напрямую, ничего не замечая, стремился куда-то. «Вот Эминеску!» — произнес голос. И этот голос остался в моей памяти навсегда. В этих словах слышалось все — и любопытство, и жалость, и высокомерное безразличие. Пронесшийся по Каля Виктории худой, плохо одетый человек, в галошах на босу ногу запомнился мне как легкое облачко дыма». Еще запомнились рассказы мальчишек, будто в сумасшедшем доме в Эминеску стрелял из рогатки другой больной. Потом рассказы о похоронах Эминеску.
…Была суббота, 17 июня 1889 года. Пара лошадей везла к кладбищу украшенный цветами и липовыми ветками гроб первого поэта Румынии, который жил только на свой писательский заработок и умер тридцати девяти лет от роду после мучительного нищенского существования.
Мальчик по имени Янку не шел за гробом. Он не знал, что в этот день хоронят того, чью работу во славу поэзии и правды продолжит он. Будущий Тудор Аргези в этот моросящий июньский день искал работу. Вот если бы у доброго Али был свой угол, где, может быть, он позволил бы жить и ему, маленькому Янку. Ему начало казаться — все люди знают о его детском горе и жалеют его. Однажды на урок пришел очень красивый человек, такого он никогда не видел. Это был господин директор школы по подготовке учителей для начальных школ, писатель Александру Одобеску. Он привел с собой группу учащихся школы, и они должны были показать педагогу, насколько готовы к труду учителя. В этот день, запомнившийся Аргези на всю жизнь, учащиеся должны были познакомить питомцев отца Абрамеску с вновь введенной десятеричной системой мер и весов. Александру Одобеску сидел за кафедрой, а перед ним высокий студент держал весы, наподобие тех, которые держит богиня правосудия Фемида. Одобеску время от времени выходил из-за кафедры и белым платком протирал сверкающие чистотой, отливающие золотым блеском чаши весов. Чтобы дети лучше запоминали, как работают весы, взвешивали один и тот же товар — тростниковый сахар. Ученик выходил к столу, доставал из банки несколько кусков, потом подбирал гири, пока стрелка не исчезала в рукоятке весов, говорил, сколько именно весят эти комки, и ожидал «приговора» красивого человека. В знак высшей оценки за хорошее усвоение урока Александру Одобеску брал своей белой почти невесомой рукой кубик сахара и клал его в протянутую ладонь красного от смущения ученика.
Пришла и очередь Янку. Он взвесил сахар с исключительной быстротой и аккуратностью. Положив на ладонь мальчика сверкающий кубик, красивый господин задержал его и спросил:
— А как тебя зовут?
— Теодореску.
— Как это Теодореску?
Мальчик ответил смущенный:
— Теодореску Ион.
— Тебя так в школе называют. А мать как зовет?
Янку замешкался и, чуть подумав, ответил:
— Янку.
— Вот держи, Янку. — И красивый господин опустил на его ладонь еще один белый кусок.
«Может, он знал от отца Абрамеску, что я сирота? Или, может быть, еще тогда он угадал во мне что-то такое, о чем и я еще многие годы не догадывался?» — много раз спрашивал себя Аргези.
4
Окончить четыре класса школы «Петраке Поенару» означало в то время получить серьезное образование. Отсутствие привязанности к родному дому, растущая отчужденность в отношениях с отцом и Анастасией все время толкала Янку к мысли о самостоятельном куске хлеба. Он не мог уже терпеть косые взгляды Анастасии, чье отношение к нему полностью соответствовало тому, что рассказывалось в народных сказках о злых мачехах. Но у злых мачех из сказок всегда есть свои дети, к которым они относятся ласково и нежно. У Анастасии же своих детей не было, и Янку не раз слышал, как она, полагая, что он заснул, опускалась на колени перед образом богородицы и умоляла ее смилостивиться, послать ей ребенка. Но пресвятая Мария, видно, не слышала ее молитв. Однажды Янку забыл закрыть форточку, и
в Дом залетела оса. Анастасия выгнала пасынка и сказала, что не пустит в дом, пока не сдохнет эта оса. Не зная, куда податься, потому что было уже темно и страшно, Янку закрыл глаза и стал просить своего ангела-спасителя послать Анастасии ребенка, потому что она тогда займется малышом и у нее не будет времени злиться на отца и на него, Янку.
Когда совсем стемнело, Анастасия все же пустила пасынка в дом, стала говорить ему неожиданно непривычные ласковые слова, заинтересовалась его уроками и помогла вывести на контурной карте уезда Илфов кружочки городов, извилистые линии рек. Одна из таких рек называлась Арджеш. Янку слышал об этой реке и раньше. Оказывается, в нее впадает Дымбовица, а потом вместе с Дымбовицей Арджеш течет к Дунаю, а потом вместе с Дунаем — к самому Черному морю. Отец когда-то в хорошем настроении сказал, что дед Янку родом оттуда, из краев Арджеша, оттуда, где до сих пор красуется и сверкает диво дивное — церковь, построенная легендарным мастером Маноле. Отец обещал: когда у них появятся деньги, они наймут хороших лошадей и красивого кучера и поедут туда посмотреть то диво и село Кэрбунешть около Горжа, откуда берет начало их род. Но когда же это будет? Отец сейчас почти не разговаривает с ним, его все время нет дома. С недавних пор к ним заходит тетя Розалия, родственница отца, она тоже обещает, что поедет с ним когда-нибудь посмотреть истоки реки Арджеш, на берегах которой построил мастер Маноле монастырь. Но тетя Розалия часто болела, она и останавливалась у них, только когда ее отпускали из больницы врачи.
Иногда к Янку приходил его товарищ по классу Жан, который умел очень хорошо рисовать. Они вместе бродили по окрестностям Бухареста. На берегу Дымбовицы Янку с Жаном смотрели, как ныряют утки, Жан рисовал их быстро-быстро. На белом тетрадном листе утки казались живыми. Жан так же, как Раду, подходил к дому друга и во всю глотку орал: «Янку! Янку!» Но мачеха не любила Жана и всегда отвечала ему, что Янку занят и никуда не пойдет. Янку же стоял у другого окна и делал другу знаки, что сейчас выйдет. Он почти всегда находил способ улизнуть от Анастасии.
Мальчикам очень нравилось выбежать на Каля Виктории и гулять
по площади Атенеума. Недавно здесь построили огромное красивое здание с высокими колоннами и сверкающим куполом. Весь Бухарест приходил смотреть на него. Что там внутри? Говорили, что под тем высоким куполом хранятся все звуки оркестров и голоса артистов, которые здесь выступают перед самой избранной публикой. Но вот как проникнуть туда?
— А в монастыре Куртя де Арджеш все равно красивее, — сказал Янку.
— Ты откуда знаешь?
— Мне тетя Розалия все время говорит об этом… И я когда-нибудь поеду туда.
Около стройной церкви Крецулеску откуда-то появился хромой Али со своей брагой и с огромной кистью разноцветных шаров. Заметив ребят, крикнул:
— Янку! Купи у меня два шара, бре
[3] Янку!
Были бы у ребят деньги, они бы купили у Али все эти шары — и бегом к пожарной башне. А оттуда, с высоты, пуститься в полет над городом! Они уже много знали о шарах, на которых люди летают высоко за облаками и даже до луны, говорят, доберутся. Али же, наблюдая, с какой жадностью смотрят ребята на шары, сказал вдруг:
— Хотите посмотреть, куда они могут подняться? — И он начал распускать намотанную на руку веревку. Прегромадная кисть, покачиваясь, стала лениво подыматься, она взлетела выше креста церкви Крецулеску. — Вот так. А сейчас тяните их вниз.
Янку и Жан с радостью схватили веревку. Они ощущали, как сопротивляется им непривычная сила, будто хочет поднять и их туда, к куполам церкви, но они оказались все-таки сильнее и, вспотевшие от натуги, гордо смотрели на Али, когда шары снова оказались прямо у него над головой.
— Ну вот, бре, вы и заработали по шару. Держите! На этой земле простому человеку ничего без труда не дается. Так, а сейчас к шарам по кружке браги… Покупайте шары! — И Али удалился вверх по Каля Виктории. В этот жаркий день он торопился на шоссе Генерала Киселева, где служанки прогуливают барских детей, — там уж он все свои шары продаст.
Обласканные добрым Али мальчики побежали к Чишмиджиу, к городскому парку, куда сходились люди со всей столицы посмотреть на чудеса какого-то волшебника. Говорили, что этот волшебник за одну только ночь вырастил громадное дерево.
Около чудо-дерева, оказавшегося посредине парка, были расставлены столики, из одного дупла валил настоящий дым, и кругом распространялся запах поджариваемых на гратаре мититей
[4]. Очень сильно захотелось попробовать эти самые мититеи, но опять же денег не было, и Янку позвал:
— Пойдем посмотрим, как на лодках катаются.
Над протокой между двумя озерами был перекинут мостик с перилами, и перила выглядели необычно, словно были из живого дерева, нагнувшегося над водой со своими переплетенными ветками и зелеными листьями. На другой стороне мостика рабочий в фартуке стучал по дереву молотком, потом брал на мастерке из ведра цементный раствор и что-то лепил. Ребята увидели, как рабочий закрепляет на проволочный каркас отбитую от причудливого дерева ветку. Все оказалось сделано из темного цемента. Сказка исчезла.
У выхода из парка звучала музыка. Привычная, уже не раз слышанная немецкая песня, в которой часто повторялось слово «Катерина», и потому большая музыкальная коробка с рукояткой называлась «Катеринкой». Они хотели пройти мимо бродячего музыканта, но их как магнитом притягивал туда приплясывающий на ящике огромный пестрый попугай. Друзья, не сговариваясь, ускорили шаг. Попугай кричал: «Норрок, норррок!»
[5]. Шарманщик же медленно крутил рукоятку и приговаривал: «Идите за советом к Коко! Послушайте Коко!» Но голос шарманщика никого не привлекал.
— Дайте, молодцы, один шарик Коко! И он добудет для вас из волшебного ящика счастливый билетик! Дайте! — обратился к ребятам старый шарманщик.
Янку, не задумываясь, протянул нитку своего шара. — Ну а сейчас, Коко, скажи мальчику что-нибудь… — Норррок! — прохрипел попугай, заплясал и потом долго перебирал маленькие бумажки в небольшом прямоугольном ящике. Достал из середины крошечный белый конвертик и открыл клюв над протянутой рукой Янку. Конвертик лег на открытую ладонь.
На бумажке размером с почтовую марку ничего не было написано. В самом центре стоял еле заметный вопросительный знак.
5
Арочные ворота кладбища похожи на гигантскую пасть, проглатывающую длинный поток людей и шикарных карет. Сначала Янку воспринял этот поток целиком, потом картина сузилась и в поле зрения попадали лишь отдельные детали: три пары лошадей с прижатыми к груди головами, на них накинуты длинные, до земли, черные попоны. Медленно — можно спицы подсчитать — крутятся колеса погребальной колесницы, за ней чинно шагают господа и дамы в черном с застывшими лицами. Бородатые попы. Толпа нищих, калек и полицейских. Хоронили очень богатого человека.
За воротами кладбища на свежевыструганной доске выжжено: «К могиле Эминеску» — и указательная стрелка.
Между молодой липой и стройной туей возвышался холм. Скромное надгробие, молодая цветущая липа, венок, белая лента, выведенные ученическим почерком слова: «Мчатся друг за другом птицы в дальней шири голубой, взяв мечты мои с собой, тают, как мгновения… И теперь осенняя пустота осталась мне, чтоб я мог наедине коротать весь день-деньской с собеседницей-тоской…»
— Это он написал? — спросил Жан.
— Да. Нам учитель рассказывал…
На протяжении всей жизни Аргези будет возвращаться к Эминеску, к его поэзии, к размышлениям о судьбе его трагического гения…
Шум похорон стих, цепочка нищих потянулась к харчевне «Три голубца», что напротив главного входа на кладбище. Рядом с этой харчевней два каменных столба, к которым полукругом прикреплены железные буквы: «Мастерская надгробий». На одном из столбов объявление: «Требуются ученики каменотесов и шлифовальщиков. Принимаются мальчики».
— Ты мне ответь, когда все это кончится? — сурово допрашивал его вечером отец. — Почему я должен все время думать, где ты, почему я должен быть все время в тревоге?
Янку молчал, будто ничего не слышал.
— Ты, Янку, хочешь есть? — спросила через некоторое время Анастасия.
— Не хочу, — ответил сонно мальчик. Однако Янку сказал неправду: он был голоден. Но он решил, что с сегодняшнего дня будет есть только свой хлеб. Он пойдет работать.
И утром Янку поступил учеником в мастерскую надгробий. Ему шел двенадцатый год.
6
В мастерской Янку получил первые в жизни заработанные деньги. Он сразу же пошел искать хромого Али, чтобы отдать ему долг.
— Я не возьму у тебя денег, бре Янку, — сказал Али. — Мы с тобой в полном расчете. Это же ясно! А сейчас, если есть у тебя деньги, то скажи, откуда взял. Мать дала?
— Сам заработал, — сказал гордо Янку. — Сегодня моя первая получка…
— Тогда, если богатый, купи у меня какой-нибудь товар.
Янку купил альвицы и цветных конфет. Он угостит старушку Агааю, которая приняла его к себе в тот день, когда он ушел из дому, дала ему место на лавке под образами, полосатое домотканое одеяло, чтоб укрыться, и совсем небольшую подушку. «Когда заработаешь, мы купим получше», — сказала она. Вот только одно плохо — старуха Аглая ненавидит книги и задувает лампу, как только поужинает, она говорит, что нечего тратить зря керосин, чтобы замусоривать голову всякими глупостями из книг. «Книги пишут бездельники и сумасшедшие», — причитает она всякий раз, как только увидит Янку с книгой, и тут же убирает лампу…
Работа в мастерской начинается рано — в шесть часов утра. Янку сперва показали, как надо шлифовать гранит, медленно-медленно, пока серая грубая поверхность камня не станет зеркальной. И только тогда по этому зеркалу другие мальчишки, уже с опытом, по нанесенным очертаниям будут выбивать буквы. Больше всего пишут: «Факэ-се воя та!» — «Да будет воля твоя!» Янку наблюдает за тем, как работают мастера, как из камня появляются фигуры ангелов, детей, девушек, стариков. Их тут такое множество! И каждый день какую-нибудь фигуру переносят на кладбище.
Тайна создания себе подобных — из глины, из камня, из дерева, из становящегося мягким в руках воска — занимала Янку с тех пор, как он себя помнил. В школу он всегда приходил раньше всех, а потом с ним вместе стал приходить и Жан. Пока никого не было, они рисовали соучеников мелом на доске. Получались одинаковые мальчишеские лица, и их рисовать становилось неинтересно, а вот изображать мелом директора школы, бородатых инспекторов, наведывавшихся на уроки, да и самого отца Абрамеску было одно удовольствие.
Раньше, когда он проходил мимо статуй на улицах города, смотрел на скульптуры, установленные в Чишмиджиу, на кладбищенские памятники, он представлял себе волшебников художников, которые видят все эти образы в грубых камнях и затем их выдалбливают долотом и молотком. Здесь, в мастерской, он убедился, что это далеко не так.
«Я глубоко разочаровался, когда увидел все технические хитросплетения, при помощи которых достигается появление той или иной фигуры. Я был глубоко убежден, что скульптор высекает из вечного материала то, что видится только ему одному и что с каждым вырубленным осколком проникает вглубь, чтобы высвободить для света только ему известный до сих пор образ. Но здесь я стал очевидцем тривиального — модель фигуры делается из глины, потом переносится в гипс при помощи банального скелета из проволоки и железных прутьев… Этот способ, которым может воспользоваться любой коновал, показался мне позорным. Зачем же тогда художник? С глаз спала пелена, иллюзии и волшебство исчезли. Прекрасное искусство, о котором до сих пор я думал, оказалось, не содержит никакой тайны, никакой поэзии, а любая работа, лишенная этих свойств, разочаровывает, потому что все, чему можно научиться, это работа, а не божественный дар».
Мастер был человеком строгим и придирчивым. Но к Янку он не придирался.
— Тебя отец и мать сделали очень старательным, парень. Если бы у меня в мастерской весь этот сброд работал как ты, я бы мог спокойно сидеть день и ночь за мититеями и цуйкой
[6] в «Трех голубцах» и никакого горя не знать. Ты бросай свою школу, тебя там все равно толком ничему не научат, и переходи ко мне. Я сделаю из тебя лучшего ваятеля Бухареста!
Сегодня мастер был под хмельком, и, как всегда в этом состоянии, ему нравилось пускаться в рассуждения.
Янку действительно был старательным и послушным. Ему ничего не нужно было повторять дважды, он аккуратно обращался с инструментом, и мастер любовался тем, как этот ребенок экономно тратит абразивные порошки, чистит до блеска инструмент после окончания работы, не спешит, но и не медлит, если за что возьмется, то сделает все до конца, никогда не подведет. Но мальчик не знал, станет ли он ваятелем. Много раз ведь пробовал лепить на берегу Дымбовицы, попробовал и здесь, но получились какие-то мертвые фигуры, без души. Однажды за таким занятием увидел его мастер.
— Ну-ка, давай я посмотрю, чем ты тут занимаешься.
Янку попытался спрятать работу — он лепил своего друга Жана.
— Хорошо у тебя получается, здорово! А вот я не могу лепить. Я могу только выдолбить из мрамора, из гранита, из любого камня то, что слепил скульптор… Бывало, когда-то в детстве и я вот так, как ты, брал глину в руки и что-то делал, лепил всякое. А все мертвое, понимаешь? Так вот, когда я понял, что творения мои никогда не оживут и никогда в них не забьется сердце, я бросил это занятие. И все чаще стал ходить к этому нашему соседу, к его «Трем голубцам». Человеку нужны деньги, Янку. Ты это еще поймешь. А что до того, чтобы оживлять камни, это уж дело богов.
Однажды мастер дал Янку новую работу: выводить на тыльной стороне пышного надгробия имя и адрес скульптора. Мальчик удивленно спросил:
— А зачем на памятнике адрес скульптора?
— Я же тебе говорил, что дело идет о деньгах. Скульптор сообщает таким образом свой адрес другим клиентам. А нам-то что? Чем больше знаков выдалбливаем, тем больше денег берем. Даже хорошо, что пришла ему такая мысль.
После этого Янку решил, что он будет здесь работать недолго.
7
Старушка Аглая благодарила господа за то, что он помог ей отучить этого мальчишку с черным, как у цыгана, чубом от привычки читать по ночам. Чего ему надо в этих книгах? Вот надо было подушечку помягче купить да одеяло, а он нет, из последней получки снова книги купил. А может быть, на самом деле какой-нибудь толк в этих книгах? Вот в церкви ведь тоже книги читают. Правда, они священные, все в золоте и серебре, а этот читает какие-то худющие книжки, как тетради, ни золота на них, ни серебра, одна бумага, годная разве чтобы закручивать из нее кулечки для земляники. Янку покупает книжки и у торговцев ягодами. Ходит по фруктовым рядам на базаре и подсматривает, кто и какую книжку разрывает на кульки. И которая нравится, тут же ее берет, торгуется как взрослый, а то и на припасенные заранее газеты обменяет. Но от чтения при лампе она его отучила. Нечего керосин тратить. И от чтения при вонючих свечах из овечьего жира тоже отучила. Купил их целых три штуки — огромные белые свечи с грубой паклевой сердцевиной и — пожалуйте — читает при них. Нет, это не годится, этими свечами ты мне весь дом просмолишь. Заснешь вот так, и дом сгорит. И тогда что мы будем делать? Пришлось ему и свечи отставить. А сейчас вот спит, она еще не успела все к завтраку приготовить — Янку ведь чуть свет уходит, — а он и заснул.
Задула старуха свечу и легла тоже.
Когда повернулась на другой бок — о боже! — мерещится или это на самом деле? Что же это такое? Кровать мальчика чуть-чуть светится. Закрыла глаза, снова открыла: да, на самом деле светится. Она хотела крикнуть, но свет исчез. Аглая перекрестилась. На второй день повторилось то же самое. Как только она погасила лампу, глаза немного привыкли к темноте, одеяло на мальчике стало снова светиться. Старуха зашевелилась, скрипнула под ней лавка, и свечение исчезло.
Янку пожалел, что и на этот раз не удалось ему дочитать до конца «Цветы зла», и выключил фонарик. Когда он отдал все свои сбережения за этот фонарик с устроенными под кроватью аккумуляторами, ему казалось, что найдено спасение от старухи Аглаи, что он сможет спокойно читать под одеялом.
Но вот… Не подумал. Следующий раз он подождет зажигать его, пока не убедится, что старуха спит. А читать под одеялом — одно удовольствие. Ты один на один с книжкой. Как складываются слова в предложения, а сами эти предложения в небольшие школьные сочинения, он знает. А как сложить из отдельных страничек целые книги? Отец Абрамеску, когда его спросил Жан, где можно учиться, чтобы уметь писать так, как Эминеску, ответил, что писателей не учат писать, они рождаются с этим даром. «Мчатся друг за другом птицы в дальней шири голубой, взяв мечты мои с собой…» Чтобы такое написать, чтобы научиться говорить с целым лесом и уметь услышать его ответ, надо родиться с этим даром, с крыльями, как пишет Бодлер. Янку выучил наизусть из «Цветов зла» стихотворение про альбатроса. Он прочитал его Жану. Тому не все слова были понятны, у него с французским в школе было не очень ладно, но стихотворение про альбатроса понравилось, и с помощью Янку он тоже выучил его наизусть.
…поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
недоступный для стрел, непокорный судьбе,
но ходить по земле среди свиста и брани
исполинские крылья мешают тебе.
Тайна человеческих исполинских крыльев!
Янку никогда еще не видел моря и никакой большой воды, кроме Дымбовицы и Арджеша. Он хотел себе представить океан и вольных птиц, о которых пишет Бодлер, но не мог. Он наблюдал много раз, как кружат над Бэрэганской степью в ясную погоду орлы, как они целыми часами парят и только еле заметно поворачивают время от времени головы с крючковатыми клювами (однажды богатый мальчик дал ему посмотреть в бинокль на такую птицу). Янку думал об Эминеску. Когда он шел по Каля Биктории, может быть, ему невидимые крылья мешали?
Старуха Аглая без труда обнаружила под кроватью какие-то коробки и тянущиеся от них проводки, а под подушкой у Янку фонарик с выпуклым глазом. Взяла его в руки, потрогала, потом нажала кнопку, и свет этого глаза ослепил ее. Старуха выронила из рук чертово чудовище, а когда пришел Янку, сказала ему, пусть он найдет себе другой угол, потому что она не может больше терпеть все эти его проделки с чтением, вот уже две ночи не в силах сомкнуть глаз со страху. «Иди, милый, иди, ищи себе другой уголок. Если бы не это, может быть, еще бы перетерпела я как-нибудь, а это уж, — она указала на еле светящийся фонарик, — вывело меня из всякого терпения. Вот и сам смотри, как глядит на меня, весь день глядит, проклятый!» Янку ничего не ответил. Ему только очень было жаль израсходованных аккумуляторов. Они стоили дорого, а у него денег накопилось лишь для того, чтобы заплатить вступительный взнос при сдаче документов в лицей «Святой Савва».
ГЛАВА ВТОРАЯ
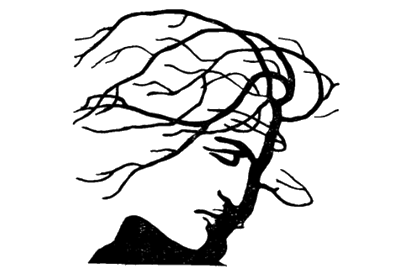
1
Писатель и историк Александру Одобеску запомнил Янку с того самого урока, когда взвешивали сахар. Отец Абрамеску говорил, что этот мальчик обладает исключительными способностями. Рассуждает обо всем как взрослый человек, мысли формулирует логично и кратко, для любого ответа находит образные, необычные слова, диву даешься, откуда он так глубоко знает народную речь. «Скажет такое слово, что сверкнет как молния».
Осенним теплым вечером усталый Янку шел с работы. Для себя он уже давно решил, что
поступит в лицей. За лето накопил денег, чтобы уплатить взнос, но денег на жизнь не было. Жан посоветовал наивно: «Ты попроси у отца». Бедный Жан! Он не знал, что Янку никогда в жизни не обратится к отцу за помощью.
— О чем задумался, мальчик? — спросил знакомый ласковый голос.
Перед Янку стоял отец Абрамеску, любимый учитель. Оказывается, он искал его. Тут же повел в лицей, к самому господину директору Петру Попеску. Возможно, с этим директором разговаривал Одобеску или же он внял просьбам и рекомендациям отца Абрамеску, но факт остается фактом — Янку был принят без уплаты вступительного взноса, и директор обещал побеспокоиться о нем.
— Будешь учиться и вести себя хорошо, я найду для тебя хорошую работу.
Лицей «Святой Савва» — старинное учебное заведение. Здесь учились многие знаменитые люди. Об этом с гордостью говорят профессора новым ученикам. Некоторые питомцы лицея были активными участниками революции 1848 года в Румынии, и их портреты украшают стены главного учебного здания. «Будьте достойными продолжателями нашей борьбы!» — призывают они.
Обучаясь в лицее, сыновья бухарестской знати живут с родителями, отпрыски помещиков и провинциальных чиновников, не отправившиеся «за умом» в Париж или Вену, — на квартирах, а способные дети мелкой буржуазии и низших чинов — в лицейском интернате. Там за ними установлен строгий надзор, и Янку еще не раз помянет добрым словом старушку Аглаю со всеми ее причудами. По сравнению с интернатом ее комната — настоящий рай. Старуха могла- задувать керосиновую лампу, выбрасывать свечи из бараньего сала и гнать нечистую силу при виде неизвестно от чего светящегося глава фонаря. Но здесь, в лицее, старались гасить любую искру свежей мысли, забирали недозволенные книги, не выпускали на улицу. Для Янку лицейская обстановка после четырех лет обучения у ласкового отца Абрамеску была столь дикой и непривычной, что он даже перед кончиной вспомнит о тех годах с горечью: «Я воскрешаю в своей памяти картины нашего лицейского парка и прогулки под деревьями, но вызывает острую боль появление, из небытия фигуры старшего над интернатом знаменитого старца-холостяка отца Симеона. В нем ученики встретили то, что позднее узнали под названием цензуры…»
Этот сухопарый, «длиною с два гроба» семидесятилетний старик со смолисто-черной бородой и подрумяненными скулами проверял тайно и явно души и запертые сундучки учеников, проявляя при этом прирожденный талант сыщика. Когда ему удавалось обнаружить газеты или книги, не предусмотренные утвержденной дирекцией программой, он тут же писал донос, и в канцелярии лицея над виновными учинялся инквизиторский процесс. Па переменах он подкрадывался сзади, чтобы подслушать, о чем секретничают мальчики, но какой-то неуловимый запах, какое-то таинственное эхо предупреждало детей о приближающейся опасности. Он мастерски вскрывал письма и мастерски их заклеивал. Он располагал целым архивом данных, адресов, выписок из писем, дел, в которых прослеживалась шаг за шагом жизнь 250 стипендиатов, полустипендиатов и платных учеников от первого до выпускного класса. Медовым слогом, часто сдобренным выписками из священного писания, отец Симеон с завидной откровенностью сообщал дирекции свои психологические наблюдения, и это, несомненно, сказывалось на выводимых в журналах отметках.
У отца Симеона была еще особая картотека с карточками на каждого ученика. Имя, фамилия, год рождения, отличительные внешние признаки, отпечатки пальцев обеих рук. Затем врачебная характеристика. Через несколько месяцев учебы, обычно в воскресенье, ребятам давали немного вина, а потом отец Симеон просил их написать краткое сочинение о своих любимых занятиях. Это сочинение, естественно, прилагалось к личному делу. В другой раз, тоже в воскресенье и тоже после небольшой порции вина, ученика вызывали в отдельную комнату и предлагали ему написать свое мнение о том или ином товарище по лицею или о целой группе ребят. При этом ему обещали все сохранить в полной тайне. В коридоре интерната стоял объемистый деревянный ящик с массивным замком. Во время «сочинений» отец Симеон говорил учащимся, что они в любое время могут опустить в тот ящик свои жалобы, пожелания, сообщения. Ученик имеет право и не ставить своей подписи — дирекции лицея очень важно знать факты. И наконец, каждый был обязан в течение четверти часа заполнить анкету и дать полные ответы на вопросы: «Любил ли ты? Когда? Кого?», «Было ли у тебя желание бросить лицей? Зачем? Чем думал заниматься после этого?», «Возникла ли когда-нибудь мысль о краже? Что крал и для чего?», «Не появлялась ли у тебя мысль о самоубийстве? Почему?» Подобных вопросов было очень много.
В интернате Янку пробудет целых шесть лет.
2
Прилежанием и аккуратностью Янку завоевал симпатии учителей и самого директора лицея, который преподавал рисование, и каллиграфию. Директор, не получив от отца Симеона в течение года чернящих мальчика материалов, оказывал ему свое покровительство и брал его в помощники на уроках рисования, он разрешал ему подрабатывать по воскресеньям в мастерской надгробии. Туда же уходил Янку и в зимние, пасхальные и летние каникулы. Это давало ему возможность аккуратно одеваться, покупать кое-что из еды. Он никогда не жаловался, что испытывает в чем-то недостаток. Мастер радовался каждому появлению Янку и доверял ему работы более сложные, чем шлифовка камней, научил его покрывать буквы сусальным золотом. Янку быстро справлялся с работой, оставалось время сбегать «а могилу к Эминеску, посмотреть другие памятники.
Вечерами, когда в интернате раздавался звонок отбоя и гасли все окна, Янку подолгу не мог заснуть. Перед глазами стояли роскошные памятники с блестящими золотыми надписями и бедная могила Эминеску. Почему же такое неравенство и там, на кладбище?
И Раду, и Жан, и другие ребята рассказывали иногда про свои сны. Они говорили, что в этих снах все бывает как наяву: они едят, дерутся, играют, мчатся на конях, летают как птицы. Янку слушал и не мог себе представить, как это могут быть какие-то сны, это значит, что может быть совсем другая жизнь, жизнь во сне. Нет, он этого не понимает. Ему сны снятся редко.
…Широкая дорога, прямая и бесконечная, уходит вверх, туда, где светлое небо прикасается огненной полосой к краю земли. С одной стороны дороги лежат, прижавшись друг к другу, громадные псы, с другой — жирные белые свиньи. У них чуть-чуть вздымаются и опускаются бока. Они живые, они спят. Между собаками и свиньями совсем узенькая полоса, надо ступать очень осторожно, чтобы животные не проснулись. Босой Янку в черных лохмотьях то идет, то останавливается. Его манит вперед толпа таких же босоногих оборванцев, как и он сам.
Янку проснулся.
Было еще темно, слышно лишь ровное дыхание спящих ребят. На улице ни звука, даже петухов не слышно, значит, до утра еще далеко. Янку закрыл глаза и пытался вспомнить только что увиденный сон. А если… Он нащупал на тумбочке тетрадку, карандаш и тихо вышел в коридор. Там на стене слабо мерцала керосиновая лампа. Около нее и пристроился Янку, прижав тетрадь к гладкому теплому кафелю печки, записал во всех подробностях этот сон.
В соседней комнате интерната жил очень полюбившийся Янку высокий и смелый парень. Звали его Григоре Пишкулеску. Хотя он и был классом старше, но не задавался, искал дружбы с Янку, жалел его и помогал чем мог. Услышав про странный сон, Григоре тут же сказал:
— Знаешь что? Давай в субботу сбежим и поедем ко мне в деревню. У мамы есть «Толкователь снов», и посмотрим, что это значит.
— Я должен идти работать, — грустно ответил Янку. — Летом поедем! Хорошо?
Григоре Пишкулеску — сын арендатора бывшего монастырского имения в селе Дидешть Телеорманского уезда. Однажды он притащил в интернат кривую саблю — ятаган.
— С этой саблей, — произнес он с гордостью, — мой отец воевал против турок.
Больше об отце Пишкулеску не говорил Янку ничего. Он чаще всего вспоминал мать: «Вот летом ты увидишь мою маму!»
Янку мечтал о времени, когда он поедет в село Дидешть, ему очень хотелось на простор, потому что жесткий лицейский режим, работа в мастерской и, прежде всего, необходимость самому зарабатывать лишали его всякого отдыха, почти не оставалось времени даже для сна. В часы дежурства старался как можно быстрее справиться с уборкой, полить комнатные цветы, а в холодное время еще принести дров и затопить две большие печи. И лишь потом садился за стол и долго писал на маленьких листочках из крошечного блокнота. Он доверял этим листочкам самое сокровенное, о чем еще ни одна живая душа на свете не знала. Янку уже три года в лицее, но никто не обнаружил, что же он пишет. Потому что все написанное до сих пор Янку упрямо перечеркивал, переписывал начисто, снова перечеркивал, опять переписывал, а потом рвал на мелкие кусочки и «сдавал своему постоянному другу — огню. Свой сон он пописал из тетради на такие же листочки, аккуратно вспорол подкладку зимней шапки и запрятал их туда. Разрезать, правда, было легче, чем зашить, но все же удалось справиться со всем этим довольно быстро. О том, что бросил в печку, можно не беспокоиться, а вот шапка тревожила: а вдруг?
И это «вдруг» случилось.
На столе перед директором лицея распоротая шапка Янку, будто рядом лежат убитые черный ягненок, из шкурки которого сделан верх, и рыжий козленок — изнанка. Тетушка Розалия привезла ему шапку из деревни.
— Так что вы скажете, господин Теодореску? — В голосе директора был и укор и сожаление, а на его лице, кроме удивления, блуждало еще невысказанное: «Мы к тебе так хорошо относимся, жалеем тебя, а ты?..» Потом еще это слово «господин». Он привык, что и директор и преподаватели называли его до сих пор по имени — Янку, а сейчас «господин». «Нужно сказать все как было», — решил Янку и, оторвав взгляд от распотрошенной шапки, объяснил четко и коротко: он хотел сохранить этот сон, не потерять его.
— Разве вам не говорили, что вы во всем должны быть открытыми, ничего не скрывать от своих наставников, делиться с ними самым сокровенным? Это одно из условий обучения в лицее, носящем имя святою Саввы.
Ученик обязан сообщать своему наставнику все, что с ним происходит. Во сне тоже… Так вот мы, к сожалению, должны вас, господин Теодореску, исключить из списка стипендиатов… К сожалению… А это возьмите.
Янку забрал свою распоротую шапку и собирался выходить, когда увидел, что гроб-человек встал, вышел ему навстречу и спросил еле слышимым голосом:
— А куда вы, господин Теодореску, турецкий ятаган спрятали? И зачем он вам понадобился?
Янку вмиг сообразил, что тут он должен сказать неправду. Он не знал, каким образом мог узнать отец Симеон об этой кривой сабле. Григоре показал ее только ему одному, и они ее тут же унесли из интерната, спрятали в глубоком каменном гроте в парке Чинтмиджиу. А потом — Григоре сказал ему об этом — в воскресенье саблю увез в Дидешть кучер, привезший, от матери гостинцы.
— Ятаган? Какой ятаган? — Янку удивленно пожал плечами.
Директор сидел в своем кресле, по лицу его было видно — ему не хочется, чтобы Янку признался: холодное оружие в интернате — дело серьезное, тут такое может быть…
— Хорошо, я так и думал, — поторопился директор завершить разговор. — Конечно, зачем вам ятаган?
Когда мальчик ушел, директор обратился к продолжавшему стоять как вопросительный знак отцу Симеону?
— Да, вы подумали, зачем им ятаган? Откуда вы взяли всю эту историю?
Отец Симеон хорошо понимал, когда директору не хочется, чтобы принесенный ему донос подтвердился. В то же время и самому отцу Симеону не хотелось выглядеть в ложном свете:
— Сам я, конечно, собственными глазами не видел, и прямых доказательств у меня нет… Возможна ошибка, все возможно. — Последнее «все возможно» прозвучало двусмысленно, и директор уловил это, но ничего не сказал. Пусть отец Симеон докажет вещественно, и тогда будет другой разговор.
В глубине парка из-под прошлогодних листьев Григоре достал веревку и несколько дощечек и тут же соорудил из них разборную лестницу.
— Вот так. Потом мы ее забрасываем на забор, а на той стороне разбираем, прячем и обратно возвращаемся так же. Главное, шпингалеты рам у окон не опустить. Ясно?
Через забор они перемахнули без особого труда — у Григоре явно был уже опыт. Они добежали до Атене. У черного входа Григоре улыбнулся моложавый старик и молча пропустил.
— Это наш бывший кучер — после смерти отца не захотел оставаться в Дидешть и работает здесь. — Григоре выпалил это на ходу, шагая через две ступеньки туда, наверх, на самое «кукареку», как говорят в Румынии.
Зал уже был набит. Так неожиданно исполнилась мечта Янку побывать здесь,
в этом нарядном доме.
На сцене сидели на стульях человек десять, один говорил с трибуны. Он рассказывал о том, что созданная в стране социалистическая партия
[7] будет бороться с нищетой шалашей и землянок и несправедливым общественным устройством. Оп перебивал свою речь стихами Эминеску:
Скорее разгромите порядок злой и грешный,
народы разделивший на слуг и на господ.
Мы знаем, что за гробом наступит мрак кромешный,
а здесь и жизнь, и солнце, и хлеб, и воздух вешний —
так пусть их все получат, пусть каждый их возьмет…
Разбейте же порядок жестокий и кровавый,
роскошные чертоги, и царственный дворец,
и замок белоснежный, и храм золотоглавый,
и пусть повсюду хлынут потоки жгучей лавы,
с камней следы позора смывая наконец…
Потом говоривший обратился к писателям и журналистам, ко всем литераторам:
— Победа грядет. Завершается это столетие и наступает следующее. Это будет не просто двадцатый век, а век наступления человеческого счастья. Каждому из нас предначертана в обществе определенная миссия. И когда мы становимся свидетелями огромных усилий пролетариата покончить с черными днями, наш долг быть рядом с ним. Давайте же, художники слова, создавать всемогущую песнь, от победного звучания которой рухнут библейские стены Иерихона.
— Это директор газеты «Адевэрул»
[8] Бакалбаша, — шепнул Григоре онемевшему от волнения Янку.
«Тони Бакалбаша был великим волшебником нашей юности. Он символизировал тогда дух грядущих времен», — напишет многие десятилетия спустя Григоре, будущий знаменитый прозаик Гала Галактион. По его же словам, интернат лицея «Святой Савва» постепенно превращался в гнездо молодых социалистов, «чувствовавших себя солдатами, рожденными для осуществления социалистических идеалов».
Клуб рабочих социал-демократов размещался в зале Сотир на площади Амзы, неподалеку от родного дома Янку. Это было большое темное помещение с низким потолком и стеклянным фонарем. Чтобы пробраться в зал, нужно было пройти длинным и узким темным коридором, прозванным ребятами лабиринтом, где в образе Минотавра они представляли отца Симеона. Тут ребята познакомились поближе с Тони Бакалбашей и очень удивились, когда обнаружили, что он ростом не выше их, учеников четвертого класса лицея, и «худющий как гончая». У него была огромная голова и неспокойные черные глаза. Как-то, встретив друзей у входа в зал, он сказал удивительно приятным голосом:
— Проходите, товарищи…
Привыкший к грубому обращению в интернате, в лицее и вообще везде, куда бы он ни пытался пробраться из любопытства, Янку подумал тогда, что над ним издеваются, и поделился этой мыслью с Григоре.
— Что ты, Янку! Здесь только так и говорят друг другу: «Товарищи!» Это святое слово.
Через несколько дней, убедившись, что отец Симеон ушел по делам в Митрополию, Григоре собрал верных ребят и прочитал лекцию «Что такое социализм?», рассказал им, что Бакалбаша перевел на румынский язык большую книгу «отца рабочих» Карла Маркса «Капитал» и другие книги для тех, кто работает руками. О лекции, несмотря на конспирацию, стало известно директору. Прямого разговора об этом он не завел, но для устрашения лицеистов лично огласил приказ министра просвещения, по которому семнадцать учеников Ботошанского лицея лишались «высокой чести быть лицеистами» только за то, что они оказали содействие подготовке первомайской манифестации.
— Сегодня вечером выйдем, и я тебе скажу что-то эпохальное, — неожиданно сообщил Янку своему другу.
— Скажи сейчас!
— Сейчас не могу, Григоре. Только вечером.
Условились встретиться в девять часов вечера в парке за лицейской оградой под фонарем. Григоре пришел раньше. При слабом свете он выглядел необычно: вокруг шеи — широкий длинный шарф с кистями, к нему приколота золотая булавка с крупной жемчужиной. Он надевал этот шарф, подарок матери, только в особо торжественных случаях.
— Выкладывай свое эпохальное.
Янку снял лицейскую фуражку и вытащил из-за клеенчатой подкладки заветную трубочку. Янку то ли забыл случай с записанным сном, то ли просто решил, что отец Симеон не станет снова искать за подкладкой его головных уборов записки, и продолжал хранить там свои тайны. Пока все обходилось благополучно. На этот раз Янку спрятал в фуражке первое стихотворение, которое решил предать гласности. Читал он самоотреченно, выделяя каждое слово, каждый слог. Григоре слушал, губы его повторяли за другом строчки, смысл которых доходил до него с трудом. Но все-таки как здорово — друг его, тихий и молчаливый Янку, забытый всеми сирота, — поэт! Друзья не заметили, как к ним подкрались двое подвыпивших парней.
— Почему вы заняли мое место, дромадеры?!
[9] — заорал круглолицый барчук. Янку быстро запрятал стихотворение, но хулиган выхватил фуражку и листок, и все это полетело в темноту. Силач Григоре взял барчука за воротник и тузил его до тех пор, пока второй, менее пьяный, не принялся его уговаривать:
— Ты, долговязый, оставь его. Он вас не за тех принял. Ослеп от цуйки… Пошли, дурак…
— Пусть он мою фуражку найдет, — потребовал Янку.
— Сами найдем, — успокоил его Григоре. — Ну их к дьяволу!
Фуражку они нашли, а стихотворение искали и на второй день, и на третий. А на четвертый пошел дождь и лил до самой ночи. Всякая надежда пропала. Янку свое первое стихотворение наизусть не знал. А в той трубочке, как он думал тогда, находились самые гениальные его строчки. И сколько ни старался восстановить их по памяти, ничего не получилось.
— Ты пиши другие! — советовал Григоре. — Пиши, не останавливайся, раз те были гениальные, значит, и другие у тебя тоже гениальными получатся. Пиши, и брось ты ходить к этому мастеру надгробий. Пиши!
Было известно, что в лицее многие ученики пишут стихи. Но о стихах Янку знал пока только Григоре. Сосед Янку по парте Барзон показывал собственные сочинения всему классу. Однажды он демонстративно заклеил при всех конверт со стихами и вывел четким каллиграфическим почерком адрес: «Редакция журнала «Лумя ноуэ»
[10]. Это был журнал румынских социалистов. Через несколько дней Янку адресовал тому же журналу целый цикл своих стихотворений. А еще через несколько дней в рубрике журнала «Редакционная почта» появилась реплика: «Лицей «Святой Савва». Янку Теодореску. А кто знает, откуда выпрыгнет заяц?»
[11]
И «заяц выпрыгнул».
«Отцы педагоги» знали, что социалистические идеи находят все большее распространение в стране, проникают, несмотря на все препоны, и за стены интерната. Значит, надо чем-то занять горячие головы воспитанников. Для наиболее развитых был разрешен литературный кружок. По мнению преподавателей, он мог бы стать своеобразной защитой от идей социализма.
Янку становится магнитом этого литературного кружка. Среди активных его участников — Григоре Пишкулеску и его двоюродный брат и единомышленник Николае Кочя. После лекции о социализме Григоре был лишен права жить в лицейском интернате, «чтобы не мутить головы ребятам», и перешел на квартиру в город.
— Это к лучшему, — говорил он Янку, — еще немного. и мы перенесем занятия кружка ко мне на квартиру. Мне нужно еще несколько недель, чтобы приучить к этой мысли хозяйку дома.
Некоторые лицеисты издевались над стараниями Янку, Григоре и Николае наладить работу литературного кружка. Среди лицеистов из богатых семей бытовало мнение, что настоящие мысли можно выразить лишь на латыни, на греческом или на французском. Румынский же язык для этого не годится. Янку зло высмеял это в одном из своих лицейских сочинений. «Те, которые выдумали эту ложь, глупцы и пегодяи. С их точки зрения, на языке нашего трудового народа невозможно выразить никакие идеи. По их мнению, народ в состоянии мяукать как кошки или реветь как ослы. Паши голосовые связки не способны, видите ли, выводить соловьиные трели. Я один из тех, которые берутся доказать несостоятельность и ложь всего этого».
3
После смерти мужа, дидештского арендатора, мать Григоре переехала к своим родителям в Рошиорий де Веде Телеорманского уезда. «Я не могу больше жить там одна. Память о себе отец оставил здесь недобрую. Бывало, он и пожалеет крестьян, но нередко и обижал. Добро забывается, а зло помнится. Так об этом зле мне то и дело напоминают теперь. Не могу я больше здесь быть. Поеду к родным местам», — сообщала она сыну в письме, написанном чужой рукой.
Григоре был хорошо знаком с родиной матери. После крестьянских волнений 1888 года начальная школа села Дидешть была закрыта, и отец отвез девятилетнего сына к деду в Рошиорий де Веде. Здесь он учился до поступления в лицей «Святой Савва».
…Мать встретила сына и его друга Янку в простом крестьянском доме. Здесь все было устроено рукой старательной телеорманской крестьянки: глинобитный пол сплошь устлан домоткаными, в узкую многокрасочную полоску дорожками, на окнах — занавески из тончайшего натурального шелка, на стенах — вышивки и небольшие связки высушенных цветов, вербных прутьев с «котятами», как называют здесь распустившиеся почки вербы, на перекладине потолка подвешены золотистые кукурузные початки. Все это для сохранения в жилище запаха поля, осеннего духа земли, который помогает человеку быть добросердечным и терпеливым. Эта тихая женщина казалась Янку воплощением человеческой доброты. И к Янку, и к своему сыну она обращалась на «вы».
— Моя мама, Янку, совсем неграмотная. Для нее мы, умеющие читать и писать, чуть ли не святые, пророки. И как же она скажет пророку «ты»?
В доме матери Григоре Янку почувствовал себя как в сказке, никогда ему не было так хорошо! Он не представлял себе, что есть на свете такая бескрайняя материнская доброта и любовь.
— Если мне удастся сделать на этом свете хоть самую малость для людей, то я сделаю это потому, что живет на свете мама, — признался Григоре. — Отец тоже иногда бывал добрым, но он больше делал злою. — И Григоре вспомнил, как часто он приходил в контору и сидел там в уголочке никем не замеченным. Раз в неделю крестьянам платили за работу. Босые, оборванные люди ждали стоя, а отец все перелистывал свои конторские книги. «Как я радовался, — говорил Григоре, когда видел, что в протянутую, с крючковатыми, словно железными, пальцами руку падает несколько монет, и как больно становилось, если крестьянину ничего не давали и его глаза наполнялись слезами от бессильной злости и боли. Отец выжимал из крестьян в десять раз больше денег, чем стоимость самой аренды».
Григоре рассказывал это другу будто в оправдание за то, что он никогда не поминает отца добрым словом.
Дни в телеорманском доме проходили незаметно, не хотелось уходить от этого тепла, но у друзей был точно намеченный план.
— Вы бы хоть на денечек еще остались, — просила мать.
— Не можем, мама, не можем, — важно отвечал Григоре. — Мы должны успеть к святому месту и поспешить в Бухарест. У Янку через две недели начинается новая работа, там дело серьезное, опаздывать ни на минуту нельзя.
— Ну тогда с богом. Возьмите в дорогу… — Она приготовила каждому полные десаги
[12] еды — по жареному цыпленку, плачинты с тыквой — это очень любил Григоре, — голубцы, завернутые в кленовый лист, сараилие
[13] с орехами и яблоками. У матери была лишь одна просьба — идти только днем, а ночлег выбирать так, чтобы не попадать к злым людям. И одно поручение: у образа святой Марии в Куртя де Арджеш поставить эту свечу из чистейшего пчелиного воска. И сказать: «Это тебе, святая Мария, чтобы ты облегчила страдания мученицы, жены мастера Маноле».
— Посмотри, дрофы! — крикнул Янну.
— Тише! Остановись! — Григоре придавил плечо друга. — Присядем.
Через проселок на небольшом расстоянии друг от друга шли необыкновенные птицы. Ребята, притаившись, сели в траву. Вот громадный, ростом с индюка самец. Он гордо нес свою выточенную голову с жесткими гусарскими усами. В небольшом отдалении осторожно шагала самочка, а за ней, чуть заметные, семенили два серых пушистых комочка. Когда одна семья исчезала
в стеблях кукурузного поля, из травы выходила вторая, точно такая же семейка и следовала за ушедшими будто по заранее протоптанной дорожке. Потом остался лишь шорох задеваемых ими сухих кукурузных «сабель».
Григоре и Янку поднялись, кинули за плечи свои ноши и пошли молча.
В степи было тихо. И ни тучки на высоком и бледном от жары небе, ни малейшего дуновения ветра.
Но откуда вдруг этот необычный шум?
Стая короткокрылых птиц вспорхнула над полем, вслед раздался треск десятков ружейных выстрелов одновременно, потом одиночные выстрелы… Было слышно, как дрофы глухо ударялись о сухую землю как тяжелые мягкие мешки.
Громкие победные возгласы охотников, лай гончих, властный зычный голос: «Подбирайте всех! Поехали!» Над полем плыл слабый, беспомощный писк птенцов и рассеивались тучки порохового дыма…
За поворотом в тени гигантского осокоря сидел чело-век и то и дело подносил ладонь к лицу.
— Добрый день.
— Пусть добрым будет сердце, подобно взгляду вашему… — Человек встал. Он был высоким и не очень старым. — Далеко путь держите?
— Как сказать… Далеко, наверное, — ответил Григоре. — До монастыря Куртя де Арджеш.
— Это неблизко, садитесь-ка… Хорошо, что Гогу не заметил вас с этими десагами, а то бог знает что мог устроить.
— Какой Гогу? — спросил Янку.
— Да сын нашего помещика. К нему гости приехали, сыновья соседнего помещика, и какие-то чужеземные, из самого Парижа, говорят… А Гогу с детства любит птиц убивать. Отец его приучил. Когда стрелять не умел, он бил дроф палками… Да садитесь же…
Крестьянин оказался сторожем кукурузного поля. Как раз сейчас, когда зерно уже твердеет и можно подсушить его для первой мамалыги нового урожая, бедняки выходят на промысел. Нужно сторожить. Ну а когда вот, как сегодня, охота, он должен помогать Гогу подымать птиц, вспугнуть зайца, за лошадьми смотреть. И де дай бог рассердить Гогу! Вот сегодня по лицу хлестнул нагайкой… Ну за что? Просто ему это правится…
Сторож не жаловался, он только не понимал, откуда в человеке такая злость, такая жажда убивать живое без надобности, как сегодня убивали этих дроф.
Что мог ли ответить на эти вопросы два ученика четвертого класса лицея «Святой Савва»? Сторож и не ожидал от них никакого ответа, он и тому был рад, что встретил их и рассказал про свое горе, про свою боль.
— А вам, ребята, чтобы напрямую выйти к тому монастырю, надо по нашей речке идти, по Телеорману. До того места, где он подходит к Арджешу, и тогда по тому Арджешу вверх. И еще вот что я вам скажу. Чуть в стороне от того места, где сближаются реки, на пригорке увидите большую стыну
[14]. Там живет мой двоюродный брат.
Сторож подносил к коричневому худому лицу огромную узловатую пятерню, прижимал вздувшуюся от удара щеку и смотрел на ладонь печальными глазами:
— Хорошо, что кровь не течет, и то радость…
Григоре со сторожем продолжали разговаривать, а Янку стал доставать еду. Вот и пригодилась плоскуца
[15]. «Верше и немного цуйки, — ласково говорила мать Григоре, — может, на дороге бедняка встретите, за упокой отцовской души выпьет». Подавая сторожу плоскуцу, Григоре не упомянул отца. «Дидештский арендатор» не раз, наверное, пускал в ход нагайку. Пусть этот бедный человек выпьет просто так.
Сторож стал на колени лицом к востоку и, трижды осенив себя крестным знамением, улыбнулся ребятам:
— Подкрепился я, парни, здорово, дай бог вам здоровья… Сейчас бы и вздремнуть не мешало, тень у осокоря вот какая густая. Но надо спешить домой. Очень уж плохо там у меня… Нам по пути, село наше посмотрите. Пошли?
«Улицы села были грязными и вонючими, — напишет потом Григоре. — Хаты можно называть хатами лишь потому, что так привыкли называть их. На самом же деле это самые настоящие землянки, которые будто стыдятся глядеть на мир своими замутненными окошечками размером с ладонь. То тут, то там из этих жилищ выползают шатающиеся тени. Это женщины и дети в рваной бесцветной одежде. Всех трясет малярия, без конца звенит колокол, и сельский поп не успевает хоронить покойников».
На пришельцев в городской одежде попадавшиеся навстречу крестьяне смотрели с подозрением. Сторож объяснил: недавно у богача из соседнего села пропали пять овец, и полиция вместе с приказчиками ходит по дворам и никому не дает покоя.
Янку еще никогда не видел подобной нищеты. Нищета эта, казалось, растет, по мере того как они продвигаются по Арджешу вверх к маячившему перед глазами чуду — творению рук мастера Маноле и его товарищей. Рядом с этой убийственной бедностью «мы видели прекрасные, многомиллионные хозяйства, — вспомнит Григоре. — В красках заката то тут, то там сверкали на возвышенностях, среди обширных парков, сказочные дворцы богачей, по глади зеркальных озер царственно плыли пары белых и черных лебедей. А когда наступали сумерки, убогие лачуги исчезали и зажигались огни дворцов. Над обширным пространством они стояли как воеводы над уснувшим войском. На горизонте в водах Арджеша отражались освещенные корпуса недавно построенного завода».
В стыне нежданных гостей встретила высокая женщина. Она удивительно походила на всех женщин, которых они встречали в пути: худая, коричневые лицо и руки, блестящие скорбные глаза.
— Бачу еще не пришел. Подождите, когда совсем стемнеет, они приходят с отарой… — Женщина, отойдя под камышовый навес, брала с плетенной из тонких прутьев лавки большие деревянные подойники, осматривала их со всех сторон, будто в первый раз видела, опускала в них лицо и шумно нюхала. Этих подойников было пять, и, когда женщина убедилась, что они чисты, выпрямилась и спросила: — Так от двоюродного братца, значит? Как они там?
— Просил поклониться. У них все малярией больны. Умирают…
Женщина не дождалась, пока Григоре все скажет:
— Гибнут, гибнут люди и здесь, и во всей округе. Попы уже устали… А нас пока что бог миловал… Ну вот, кажется… — Женщина умолкла и посмотрела вдаль, приставив ладонь козырьком ко лбу. — Идут!
Ребята тоже уловили еле слышимый, глухой металлический звон. Ожил позабытый шум жестяной мастерской под окном родного дома Янку на площади Азмы. Звучали таланки
[16], стадо медленно приближалось к стыне.
Для Янку здесь все было ново. Он смотрел, как отец и два сына уселись на низкие скамеечки спиной к оставшейся за загоном отаре, хватали подходивших овец и доили с каким-то жестоким азартом. Выпущенные после доения животные убегали сломя голову в самый отдаленный край загона. Женщина брала наполненные подойники и тут же протягивала опорожненные. Молоко она сливала в огромный казан рядом с другим таким же казаном, стоявшим над толстыми тлеющими пнями.
Все происходило молча.
Пропустив через свои руки всю отару — триста овец! — чабаны встали, распрямились. Женщина полила им воды на руки, подала полотенце и только тогда сказала:
— К тебе, Захария, гости из самого Бухареста… Они сегодня брата твоего видели и Гогу…
4
Ужинали так же молча, как и работали. И только потом, когда стало совсем темно и на небе высыпали звезды, бачу Захария начал свой рассказ. Янку всю жизнь возвращался к тому, что услышал в тот вечер. Оказалось, что Захария знает такие тайны этих гор, этой степи и этого ночного неба, о которых и не ведают преподаватели бухарестского лицея, все эти господа с накрахмаленными манжетами, напомаженными волосами и закрученными усами. Каждое слово выкатывалось из их уст, округлялось и падало орешком на бедные ученические головы. Янку порой казалось, что слышит, как эти орешки-слова скатываются с голов лицеистов и со звоном ударяются о протертый пол. Совсем по-иному звучали слова Захарии. Расположившись на пахучем сене на небольшой возвышенности за стыной, где ничего не мешает видеть все небо, он рассказывал — кто знает уже в который раз — по-своему понятую им легенду о мастере Маноле. Янку и Григоре слышали эту легенду еще в школе, но бачу Захария открывал ее сейчас совсем по-иному, и казалось, что сам он был с тем мастером и чудом спасся от гибели для того, чтобы вести сейчас их по только одному ему известному лабиринту народной памяти. Аргези сравнит потом этот рассказ с ручейком живого жемчуга.
Шел по Арджешу вверх грозный Черный воевода с госпожой своей Илинкой. Выбирали они место для храма, какого еще никогда не видел свет. Он знал, что в этих краях, у горловины сказочного ущелья, где река вырывается из теснин на волю, на высоком берегу зарастают высокой травой и колючим кустарником древние развалины. Кто и когда начал там строить, никто не ведает, только преданье говорит, что это место проклятое и что, кто бы ни взялся строить тут, его постигнет злая неудача. И грозный Черный воевода решил покончить с этим проклятием. «Здесь, — сказал он своей супруге красавице Илинке, — будет святое место для поклонения и воздания славы всевышнему!» И во все стороны света отправились тогда гонцы, чтобы найти мастеров-удальцов, молодых и бесстрашных. Искали гонцы лето целое да потом и осень и зиму, искали и еще целый год, и попались им люди, идущие по Арджешу вверх, — девять мастеров, плотников и каменщиков, кровельщиков и золотых дел знатоков, а старшиной над ними стоял во всем их превосходящий мастер Маноле. Говорят, был он из потомков того народа, который возводил когда-то храмы для богов Олимпа.
«Сможешь ли ты построить чудо из чудес, чтобы ничего подобного не встречалось на всей земле?» — спросил воевода громовым голосом.
«Сможем ли мы построить чудо из чудес, чтобы ничего подобного не встречалось на всей земле?» — повторил вопрос к своим товарищам Маноле.
«Сможем!» — ответили те дружно.
«Тогда за дело!» — повелел воевода.
Он был хитер и коварен, этот Черный воевода. Он не сказал Маноле и его мастерам, что уже не раз пытались строить здесь. Вешали на высокую сосну икону, но она к утру исчезала. Выкашивали траву и вырубали кустарник, а к утру все зарастало. Рыли канавы под основания, а наутро и следа от этих канав не оставалось. Если бы он сказал об этом Маноле, может быть, и не случилась та страшная беда, о которой вот сколько уже столетий говорят люди и еще сколько будут об этом говорить…
«Смотрите. — пригрозил воевода, — если не построите — головы ваши долой!»
Не испугались молодцы этой угрозы. Они проворно взялись за дело, вмиг траву скосили, кустарник вырубили, канавы прочистили, новое основание заложили, и стены пошли подыматься из земли. Все за один день, все от рассвета до заката. Но каким был ужас мастеров, когда при новом рассвете они увидели, что все сделанное накануне рухнуло. Маноле ходил вокруг развалин и не знал, как быть. А грозный воевода прислал гонца напомнить: сто раз подымется солнце с востока, и сто раз опустится оно за западными горами, а на сто первый день сам воевода с женой своей Илинкой пожалуют сюда помолиться богу в новом храме. И не приведи господь, если не будет выполнена его воля. Гневу воеводы не будет предела, и торчать тогда головам мастеров на свежевыструганных кольях.
И второй, и третий, и пятый, и десятый день завершались подобно первому. А на одиннадцатый день Маноле заметил с восточной стороны развалин высокий стебелек с желтыми цветками. Стебелек этот вырос за ночь, вчера его не было. Подошел Маноле и услышал, что цветок тот шепчет. Но различить его слов мастер не смог. А ночью приснилось Маноле, что стебелек превратился в белокрылого ангела и ангел тот сказал очень ясно: «Маноле-мастер, ни один камень, поставленный тобою, не удержится, пока стены не будут скреплены живой человеческой плотью. Заживо захороните в стены будущего храма первое живое существо, которое покажется вам завтра утром, и только тогда вырастет на этом проклятом месте храм невиданной красоты, как пожелал ты и как того желает грозный Черный воевода».
Маноле рассказал товарищам свой сон, и все они договорились, что первое живое существо, которое покажется им завтра на рассвете, будет замуровано заживо в стены храма. Маноле лег спать, а девять мастеров подождали, пока он крепко заснет, и побежали в селенье, где жили их молодые жены. «Пе носите нам завтра еды, не приходите утром, мы уходим в горы за лесом», — сказали они и вернулись к Маноле. Он крепко спал…
Еще горела на небе утренняя звезда, когда Маноле проснулся. А девять мастеров спали как убитые. «Подымайтесь на работу!» — сказал Маноле, глядя, как все снова развалилось и заросло, будто и не дотрагивалась человеческая рука до этих развалин.
Погасла на небе утренняя звезда, а берегом Арджеша шла его, мастера Маноле, звезда — красавица Капля, жена его любимая. Она шла в утреннем тумане, по утренней росе, Капля его милая, Капля, которая своей красотой и нежностью могла состязаться
с вечно юными и добрыми феями. Капля несет под своим сердцем ребенка. Маноле видел много раз, будто наяву, будущего своего сына-красавца, он представлял, как он, непревзойденный мастер Маноле, передаст сыну свое мастерство, как сын научится воздвигать строения в сто раз более прекрасные, чем умеет это делать он, мастер Маноле. «Боже, боже милостивый, — обратился Маноле к богу, — брось перед Каплей какое-нибудь препятствие, вырви из рук ее эту корзину с едой, верни ее назад!» Бог услышал мольбу мастера, и навстречу Капле вышли два страшных удава, чешуя у них медная, зубы как сабли, а хвосты завязаны тугим узлом. Капля испугалась, бросила им свою корзину, вернулась домой, приготовила новую еду и снова отправилась в путь. Маноле, увидав ее, опять взмолился: «Боже, боже милостивый, подыми бурю, останови ее, пусть домой вернется!» Бог и на этот раз послушал мастера. Поднялась буря, навалила на дорогу деревья, идти дальше было невозможно, и пошла домой Капля, подождала, пока утихнет буря, и опять к мужу. И тогда в третий раз обратился Маноле к всевышнему: «Боже, боже милостивый, обрушь на землю жестокий ливень, чтобы вздулись реки и раскисли дороги…» Но ничто не остановило молодую жену. Она пробилась сквозь все преграды, пришла к любимому, постлала на зеленую траву белоснежную тонкую вышитую скатерть и стала угощать мастеров вкусными кушаньями, тайну приготовления которых только она и знала. Сердце Маноле сжалось от боли, в глазах его были слезы, но что делать? Надо построить этот храм. Надо… И он тихим, почти неслышным голосом сказал: «О вы, великие мастера, каменотесы и мраморных дел золотые руки, кровельщики и краснодеревщики, торопитесь выполнить полученное в том сне повеление! Берите ее, мою родную Каплю, ставьте на основание, заложите кирпичами быстрее, а то время уходит…»
Капля вначале смеялась, она думала, что с нею шутят мастера. Но, чувствуя, как ступни охватывает раствор и камни больно стискивают ноги, спросила: «Маноле, Маноле, мастер мой Маноле, разве можно так шутить? Неужели ты заживо меня хоронить задумал?» Маноле обливался слезами, отводил глаза и все торопил мастеров. А Капля говорила:
«Маноле, Маноле, мастер мой Маноле, родной мой Маноле, стена все растет, грудь мою сжимает, сын твой погибает…»
А Маноле торопил мастеров, и Капля исчезла в стене храма…
Черный воевода расцвел от радости и гордости. Исполнилась его мечта — иметь в своих владениях храм невиданной красоты, и спросил он тогда Маноле и ею мастеров, смогут ли опи построить храм еще красивее и величественнее этого. «Сможем!» — гордо сказали мастера, не подозревая, что ждет их после этого. А воевода приказал снять леса, снять лестницы и оставил Маноле и его мастеров погибать там на крыше, на огромной высоте среди чудо-куполов, каких еще не видала земля. Один за другим приделывали мастера себе деревянные крылья, взлетали и разбивались о землю как подстреленные птицы. Остался наверху один мастер Маноле. И тогда, как из далекой глубины, услышал он голос своей Капли: «Маноле, Маноле, мастер мой Маноле…» Все свое умение собрал мастер воедино и соорудил себе большие крылья. «Спущусь на землю, — думал он, — пробью стену, где милая жена стонет, вырву ее оттуда и на этих крыльях полечу в тот край, где меня не настигнет гнев бессовестного воеводы». Но не выдержали крылья мастера Маноле, он перелетел дорогу и упал.
На том месте, где ушел в землю Маноле, забил чистый, прозрачный ключик. Он и до сих пор бьет там, в нем слезы мастера Маноле. Тихими ночами, когда умолкают цикады и глубоким сном спят звери, птицы и все люди в округе, замолкает, на миг и журчанье ключика, — и со стороны чудо-храма раздается тихий, еле слышный стон Капли: «Маноле, Маноле, мастер мой Маноле…»
Захария умолк.
Яяку и Григоре замерли будто онемевшие. Молчали и сыновья Захарии, жена всхлипывала. Захария заметил с укором:
— Сколько раз говорю — знаешь, что плакать будешь, зачем слушаешь?..
— Расскажите еще что-нибудь, — взмолился непривычным для себя голосом Янку. Он никогда еще не слышал, чтобы так интересно рассказывали сказку.
— Что еще сказать. Остальное увидите сами. Храм до сих пор там стоит, а из ключика, где упал Маноле, течет речка, с тех пор течет. Арджеш эту воду до самого Дуная ведет туда, к Черному морю. А души всех мастеров взлетели на небо и слились вот в этот Путь Рабов.
5
Они еще раз за время этого
путешествия к арджешскому творению мастера Маноле ночевали в поле и наблюдали за звездами. Как стерто это небо в городе! И как оно красиво в горах, когда кажется, что протяни руки и достанешь любую звезду. О Пути Рабов они говорили много раз, и им больше понравилось это название, услышанное от бачу Захарии, чем привычное школьное «Млечный Путь». Григоре поделился тайной: когда станет писателем, он выступит на стороне тех, кому предназначен этот путь, он возьмет себе имя от Галактики, он подпишется так; Гала Галактион. Человек Галактики. «Я буду с ними, с теми, кто следует этим вечным Путем Рабов, и тогда, после того как пройду отмеренный мне отрезок времени, сам туда последую». Подумал о псевдониме и Янку, но он ничего не сказал Григоре. Вот вернутся в Бухарест, и он тогда все скажет, у него уже созрел точный план, и он этому плану последует.
В Бухаресте Янку ждала работа. В зале недавно построенного отеля «Унион» на Королевской улице открывалась первая международная выставка живописи, и организаторы обратились к директору лицея «Святой Савва» с просьбой рекомендовать в экскурсоводы способных учеников. Директор, зная о бедственном положении Янку, о его способностях к рисованию и о том, что он в каникулы зарабатывает в кладбищенской мастерской, вызвал его к себе:
— Вот, Теодореску, мы вас рекомендуем дирекции выставки. Я верю вам. Выставка продлится недолго, а платят они хорошо.
Узнав об этом, мастер надгробий сказал с некоторым сожалением:
— Я знал, что так оно и получится. Умные ребята тут не держатся. Но все же смотри, с твоими способностями можно и здесь заработать неплохо. Если что случится — приходи. Ворота кладбища всегда для пас открыты, — горько сострил он.
Выставочный зал был набит картинами, а зрителей почти никого. Янку сидел у круглого стола посредине зала, изучал каталоги, жадно читал выставленные здесь же книги по искусству на румынском и на французском языках. Время от времени поглядывал на открытые двери: может, кто и зайдет?
Как-то в полдень вместе с шумной ватагой юных бездельников в зал вошел высокий господин в шляпе и с лихо закрученными усами. Янку отложил книгу, встал, готовый дать объяснения. Господин, не обратив на него внимания, остановился у пейзажа Шеване и легким изменением ударения переделал имя художника в довольно вульгарное румынское слово. Юнцы разом обнажили зубы, и зал загудел от их гогота. Оскорбленный Янку выпрямился, поправил бабочку, которая от неумения носить ее все скатывалась вправо, и подошел к вошедшим:
— Вы неправильно прочли первые два слога имени, а фамилию исказили, господин, получилось вульгарно…
Янку говорил сердито, чтобы «проучить» оскорбителя «международного святилища служителей прекрасного».
Караджале, это был он, обычно вспыльчивый, легко зажигающийся, мог, естественно, возмутиться выходкой «молокососа», по, непревзойденный мастер комических ситуаций, не только сам не вспылил, но и удержал готовых броситься на экскурсовода юных поклонников.
Караджале вывел из зала всю компанию п, ссутулившись, зашагал к знаменитому кафе Капша, любимому месту писателей, артистов, художников и газетчиков Бухареста.
Караджале был в то время широко известным в стране автором драматических и сатирических произведений, обнажавших язвы, по его словам, «безнадежно больного мира». Юный экскурсовод опасался, что знаменитый писатель расскажет о происшедшем директору лицея или старшим распорядителям выставки. Он уже готовил себя к возможным объяснениям, но был глубоко убежден, что поступил правильно. Пусть этот господин и Караджале, но тогда он тем более не имел права оскорблять автора картины.
На второй день, к удивлению Янку, Караджале снова появился в зале выставки. На этот раз он был один. Подошел к столу, у которого так же, как и вчера, стоял Янку, не взял протянутый ему каталог и сел, забросив левую руку за спинку стула. Он чуть наклонился и долго разглядывал экскурсовода. Улыбнулся:
— А ты, парень, хитрющий негодник, да?
Янку продолжал стоять, не находя, что ответить.
— Ты ведь знал, кто я такой?
— Знал, господин Караджале, но…
— Ладно, без «но»… Ты был прав, парень. Пойдем закусим, а? Пора. Пошли обедать со мной.
— Спасибо, господин Караджале, с радостью.
— Ну так закрывай лавку!
Они прошли в роскошный ресторан отеля «Унион». Янку никогда там не был и вообще не знал, как выглядят большие рестораны, где обедают господа. Официанты кланялись писателю и спешили со своими привычными улыбками: «Что пожелаете, господин? Мититеи? Сэрмэлуце?
[17] Вырезку с ребрышком? Да! Сию же минуту…»
На третий день ровно в двенадцать Караджале снова пригласил Янку обедать. На этот раз из его кармана высовывался свернутый трубочкой журнал. Официант сразу же принес бутылку оранжада для Янку и самое лучшее пиво Караджале. Писатель, узнавший накануне не все об этом юноше, возобновил разговор. Видно, ему пришелся по душе суровый страж выставки живописи, и по своей профессиональной привычке он хотел докопаться «до самого дна». Янку ничего от Караджале не скрыл: Эминеску, хромой Али, утеря «гениального» стихотворения — все рассказал. И только тогда Караджале достал из кармана журнал и развернул его. Это была «Лига ортодокса» — «Православная лига», журнал известного поэта Александра Мачедонски, главы румынских символистов, чье творчество было проникнуто демократическими идеями.
— Ты не знаешь, кто Ион Тео?
Янку покраснел и съежился. Видеть в руках Караджале свои стихи было и радостно и страшно.
— Это я так Подписался, — признался он. И тут же добавил: — Только стихи не полностью мои.
— Как это?
— Да, — повторил Янку, — потому что мастер Мачедонски смешал свои чернила с моими.
Караджале захохотал:
— Смешал свои чернила с твоими! Это здорово сказано! Да у каждого, конечно, должны быть только свои чернила… А если смешать их с чужими, то получится или очень бледно, или очень густо… А Тео — это уж что-то ты слишком высоко взял. Тео — это бог. Пусть он один подписывается этим именем, не нужно «перемешивать» свое имя с именем бога. Я бы этого не стал делать. А впрочем, как знаешь…
Возможно, именно в тот день, беседуя с удивительным человеком, непревзойденным сатириком, Янку решил раз и навсегда жить и творить под другим псевдонимом — ТУДОР АРГЕЗИ. Он взял имя своего деда Тудора, которого никогда не видел, а фамилию позаимствовал от сказочной реки Арджеш, древнее название которой. Аргесис. С новым именем он перешел из XIX века в XX и ставил его под всем написанным за семьдесят один год работы в литературе.
На этой странице мы распрощаемся с Янку Теодореску и пойдем по следу ТУДОРА АРГЕЗИ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1
Итак, первое «гениальное» стихотворение Тудора Аргези осталось неизвестным. Стихотворения 1896 года Александр Мачедонски безжалостно переделывает на свой лад. Юный поэт восстает против подобного вмешательства, порывает с Мачедонски. Причиной этого решительного шага, ухода из-под влияния кумира молодых поэтов-модернистов Бухареста, возможно, явилась еще и клеветническая статья Мачедонски против Иона Луки Караджале, а также его грязная эпиграмма на Эминеску. Не исключено, что Караджале во время встреч с Янку в ресторане «Унион» высказал ему свое мнение об этих поступках модного тогда литературного метра.
Знакомясь с дальнейшим творчеством Аргези, Мачедонски признавал, что этот молодой человек с необыкновенной смелостью и дерзостью порывает со старой техникой версификации, с банальностью образов и идей. «Выступление шестнадцатилетнего юноши увенчано самым блестящим успехом».
Но эта похвала не изменила отношения Аргези к Мачедонски. Он не станет его эпигоном.
Незадолго до начала нового учебного года Янку сказал Григоре о своем решении порвать с поэтическим кругом Мачедонски и со своей старой фамилией.
— Аргези — это здорово! — восторгался Григоре. — А я твердо решил: буду подписываться так — Гала Галактион. Я хочу все-таки быть поближе к Млечному Пути, буду на тех дорожках искать своего бога.
— А я своего бога нашел, — сказал Аргези и достал из кармана небольшой, сложенный вчетверо лист бумаги со стихами Бодлера.
«Лишь Смерть утешит нас и к жизни вновь пробудит, лишь Смерть — надежда тем, кто наг, и пищ, и сир, лишь Смерть до вечера руководить нас будет и в нашу грудь вольет свой сладкий эликсир! В холодном инее и в снежном урагане на горизонте мрак лишь твой прорежет свет, Смерть, ты гостиница, что нам сдана заране, где всех усталых ждет и ложе и обед!»
— Ложе и обед в гостинице смерти — мечта самоубийц! Я осуждаю подобный подход к жизни! Будем добывать объедки в мусорных ящиках богатых? Нет и еще раз нет! Это не мой идеал! — категорически заявил Григоре.
— Я не об идеале говорю, — стал ему возражать Аргези, удивленный «высоким штилем» своего друга. — Я говорю, что нашел своего бога — Бодлера, только я постараюсь не ходить плакальщиком за гробами бедняков, а постараюсь научить их поднять головы и не подставлять шею под косу смерти.
Но еще долго Аргези не будет знать, как это сделать. Ему еще предстоит сложный путь поисков и в поэзии, и в школе жизни.
А пока друзья были разгорячены беседами в кружке социалистов. Там их познакомили с имевшими в конце девятнадцатого века широкое хождение сочинениями видного теоретика и литературного критика К. Доброджяну-Геря. Особенно близкой показалась ребятам книга «Кожбук — поэт крестьянства». «Мы с жадностью хватались за новые идеи. Мы чувствовали себя бойцами, рожденными для осуществления социалистических идеалов, лозунги которых ослепительно ярко горели на шлемах новых стратегов», — писал Галактион, вспоминая го время.
— Ты знаешь, Аргези, я ошарашу тебя новостью! Моя матушка перебирается в Бухарест. Она уже договорилась со своей сестрой, снимает у нее квартиру на улице Полукруга. — Гала был на седьмом небе от радости.
И вскоре на его квартире стал собираться тесный литературный кружок, и разговоры, начатые в клубе социалистов на улице Сотир, разгорались с новой силой. Здесь Аргези ближе узнал своего коллегу по лицею Николае Кочя, будущего видного румынскою публициста-коммуниста. Это был «самый красивый парень», как вспоминал Аргези, с яркими большими глазами, крупным высоким лбом и волосами, торчащими «как рожки Мефистофеля». Друзья решают создать свою независимую газету, чтобы вести борьбу за новую литературу, за новую жизнь румынских бедняков.
— Вот вам и литературный редактор нашего издания, — сказал Григоре. — Его имя Тудор Аргези. Это самая яркая звезда нашего поколения, завтрашняя слава всей румынской литературы. Вы, естественно, знакомы с его стихами, они опубликованы в «Православной лиге», а будут напечатаны во всех изданиях Румынии. Сам мастер Александру Мачедонскп пишет вдохновенные строки: «Юный поэт порадовал нас стихами, полными поразительной глубины, они гораздо зрелее его возраста — автору ведь только шестнадцать лет! — но не выше его таланта… Этот поэт идет дорогой, за каждым поворотом которой — пропасть».
— Цыплят по осени считают, — перебил друга Тудор. — Как назовем газету?
— «Зиг-Заг», — тут же отозвался Кочя. И попытался обосновать: — За каждым поворотом нашу газету будет подстерегать пропасть неизвестности. Приступим к делу как можно быстрее…
Пропасть оказалась за первым же поворотом.
Они достали шапирограф, бумагу, сами готовили иллюстрации, но это отнимало почти все время внеклассной подготовки. К тому же отец Симеон чуть было не застал ребят за составлением макета газеты. Дело оказалось не под силу, они выпустили только один номер. Было размножено лишь несколько экземпляров, и газету, видно, тут же обнаружила и уничтожила то ли полиция, то ли администрация лицея. «Зиг-Заг» остался только в воспоминаниях его редакторов.
Положение Тудора Аргези в лицее «Святой Савва» становится все более сложным. Его заподозрили в связях с социалистами и выселили из интерната. Денег, чтобы нанять комнату, не было. Да и занятия становились все более неинтересными. Он почти не посещает лицей.
«Я бродил, не имея никаких определенных желаний. Преподавателей я не любил, потому что почти все они были формалистами. Больше ничего они собой не представляли. И отсюда мой конфликт со всеми. Но единственное, что мучило и не давало мне покоя, это был конфликт с самим собой. Я был в полном смятении. Почти каждый день выходил в поле, наблюдал за стадами, за утками, видел, как гнут спины крестьяне-бедолаги. Мне чего-то не хватало, но понять, чего именно, я не мог…» — признавался Аргези.
Часто гулял с ним и Григоре (дальше будем называть Галой Галактионом). Однажды по пути в долину Саул к Калдарушанскому монастырю Аргези признался другу, что ему опостылел лицей, что он не находит больше никакого удовлетворения и от посещения клуба социалистов.
— Мне кажется, что эти господа в цилиндрах пошумят, пошумят, а потом подымут руки, сдадутся в плен. Не знаю почему, но я им не верю. Они говорят слишком громко…
Через несколько дней Аргези объявил другу о своем решении уйти из лицея.
— Вчера я иду, а мне навстречу отец Симеон. Я не могу его больше видеть… А вечером купил эту газету. Посмотри.
Из газеты, печатавшей объявления, он узнал, что сахарной фабрике Китила требуется лаборант.
— Подамся туда… Посмотрю, как сахар варится…
— А я думал, что мы закончим лицей вместе. В прошлом году только ради этого остался на второй год, чтобы учиться в одном классе и закончить лицей вместе с тобой. И с Кочей. Ведь он тоже голова! Мы бы такое могли сделать! Не уходи! Мы тебе поможем. Я уговорю маму — будешь жить у нас.
Но Аргези был непреклонен. Он поклялся другу никогда не забывать его поддержки и попросил передать это и другим лицеистам-коллегам. Уход из лицея еще не отход от дружбы. «Созвездие Лиры» — их зародившееся в лицее литературное братство будет жить, пока будет жить хотя бы один из них.
2
От Бухарестского северного вокзала до Китилы поезд следует без остановки. Это было первое путешествие Аргези по железной дороге. Он ехал в вагоне третьего класса, в котором пассажиры «сидели друг на друге». Уже в поезде почувствовал тошнотворный запах гнилой жидкости, сливаемой прямо в придорожную канаву. Рядом с железнодорожным полотном пузырилось желтое месиво, над ним клубился пар. То тут, то там торчали ветки затопленных плакучих ив.
«Китила, три минуты!» — повелительно объявил кондуктор. Аргези успел выпрыгнуть на ходу, посмотрел на себя — весь измятый, одна пуговица вырвана с мясом, слава богу, портфель в руке, ведь там почти все его имущество — и нитки есть, и запасные пуговицы, даже маленький походный утюжок: лицеист приучен к порядку и к большой аккуратности. В этом, как ни говори, есть и заслуга ненавистного отца Симеона. «Грязный человек, — любил он говорить, — это скотина. Чистый, опрятный человек, хоть и бедный, это уже не скотина».
К предстоящей встрече с представителями владельца фабрики Аргези подготовился основательно. Он прочитал все, что было написано о сахаре в «Большом универсальном словаре XIX века», или «Гранд Ларусс», как его почтительно называли знатоки французского.
В пропускной будке его встретил строгий высокий человек средних лет. Лицо обтянуто коричневой кожей, нос под блестящей дужкой пенсне точно обнюхивает приходящего.
— Конкурент?! — спросил он с явным французским акцентом. — Сегодня было десять человек. Знакомы с этой книгой? — Он взял с подоконника толстую книгу в твердом переплете. На обложке надпись «Traité du fabricant de sucre».
— Да, — ответил Аргези.
Пенсне на носу высокого человека подпрыгнуло от удивления.
— Вы говорите по-французски?
— Читаю, господин, говорить еще не было достаточной практики. Но разбираюсь.
— Это очень похвально. Очень. Я вас попрошу взять эту книгу, прочесть ее для дела и прийти ко мне через десять дней. В то же время. Утром.
Из трактата по производству сахара, пройденного еще раз за эти десять дней от корки до корки, Аргези усвоил множество по-настоящему полезных вещей. Первый раз он прочитал его бегло. Сейчас же нужно было выдержать экзамен, выйти победителем конкурса на право быть лаборантом первой в Румынии сахарной фабрики. Он был готов вступить в настоящую схватку за жизнь в том мире, где без победы в схватке погибнешь. Освоив теоретически технику лабораторных анализов, юный Аргези вдруг почувствовал преимущества человека, вооруженного плоскогубцами и мотком изоляционного провода, над его бледным собратом интеллигентом.
«Если работники физического труда несчастны, так это потому, что они не понимают благородства и действенности своего труда и живут в согласии с существующим беспорядком. Они создают вещи из ощутимых и неоспоримых материалов. Интеллигент может усомниться в том. что он делает, или в том, что он создал или изобрел своим разумом. А тот, кто закладывает фундамент, строит крышу, мастерит стол, табуретку пли колесо, знает, что это полезно и оно не может быть опровергнуто ничем. К творениям рабочих рук неприложимы слова «если», «может быть», «еще посмотрим», «подождем», «кто знает, что получится» и тому подобные. Но рабочего человека подмяла под себя власть. Власть превратила общество в гигантскую мастерскую, где господствует узаконенная казнь. «Большие законы» освятили теоретическое и практическое рабство. Не будучи в состоянии приносить людям радость, общество приносит горе. Человек следует, понурив голову, за барабаном, оглушительный звук которого выбивает у него все мысли. Под власть такого же барабана вступлю и я через несколько часов». С такими мыслями переступил молодой Аргези во второй раз порог пропускной будки сахарной фабрики. Об этом он написал в романе «Лина». Ему казалось тогда, что он вступает на путь настоящей жизни. Ему запомнилась такая картина:
«Вдруг все живое и движущееся на территории фабрики почувствовало, что директор вышел из своего дома и идет на работу. Ритм движения всех рук, всех машин, всех инструментов, копошившихся в мягком, сером октябрьском тумане, усилился как по мановению волшебной палочки. Настоящий, тонкий вершитель судеб людей, машин и процентов, господин Арзнер умел демонстрировать свое недовольство. Как только он покидал пределы сада и уверенно ступал на фабричную территорию, его настроение вмиг ухудшалось. Контраст был невообразимо резким. Он, только что втайне от чужого глаза нежно чмокнувший свою милейшую супругу у выхода из уютного особняка, моментально переходил от любовного шепота к дикому реву взбешенного самодура… Мимо надрывающихся на разгрузке платформ рабочих он шел гордой походкой приготовившегося к свадебному танцу павлина. Никто не должен был забывать о том, что у него есть хозяин, что он хлопотлив и внимателен. От его глаза ничего не скроешь. Крик — доказательство постоянного недовольства директора положением дел, и он отбивает охоту приходить к нему с просьбами или с жалобами… После обеда голос господина директора обретал могущество первого гудка только что выпущенного на линию локомотива… Господин Арзнер часто горевал оттого, что рабочие получают слишком много. Это воспринималось им как социальная несправедливость. «Все, что мы должны были бы накопить, сохранить до единого гроша, переваривают эти черви», — любил он повторять. По мнению господина Арзнера, социальное устройство должно двигаться между привилегиями капитала и разумно, интеллигентно устроенным рабством. Телесные наказания должны применяться на рабочем месте по распоряжению бухгалтерии. Солидарность всех хозяев при увольнении работника с любого их завода. Обязательное приветствие старшего начальника при его встрече или при упоминании его имени в случае отсутствия. Запрещение произносить имя старшего начальника без присоединения к нему слова «господин» и полного титула».
Поравнявшись с молодым кандидатом на должность лаборанта, как и следовало ожидать, господин директор не заметил его. Может быть, он был занят мыслью, как избавиться от назойливого крестьянина, который, следуя за ним по пятам, размахивал мерлушковой шапкой, зажатой в мощном кулаке, и говорил:
— Мы приехали издалека, господин директор, мы из другого уезда, выплатите нам сегодня, а то времени нет еще раз сюда тащиться, уж и так в третий раз приходим. Заплатите нам, и мы не будем вас больше беспокоить…
— До субботы никакой платы не будет! Ты слышал? Что уставился на меня как бык?
Крестьянин, молодой рослый мужчина в белом овчинном кожушке, натянул на уши свою черную мерлушку, подошел вплотную к директору и сказал решительно:
— Ладно, господин директор. Останемся здесь до субботы за счет вашей фабрики — шесть мужиков и двенадцать волов, остановился, добавив издевательски: — Всего восемнадцать скотов…
Директор заколебался, чуть пожевал свой ус. Перед ним был, как видно, человек решительный. Мужик смотрел в упор и ожидал ответа. Что может последовать за этим, директор не знал и потому сказал:
— Сделаем исключение.
Исключение[18]. Идите к кассиру.
Заметив наблюдавшего за всем этим Аргези, директор спросил:
— А тебе чего надо во дворе фабрики? Ты не читал, что вход для посторонних запрещен?
— Я пришел в связи с объявлением в газете о месте лаборанта…
— Ну, если так, начнем со шляпы. Когда ведешь разговор о найме на службу, снимай шляпу. Ясно?
Кандидат в лаборанты снял шляпу и пошел за властно шагающим директором.
…Посредине огромного зала стоял длинный стол, какое-то подобие лежащих на боку шкафов. Увидев директора, служащие вскочили, как ученики при входе в класс свирепого учителя.
— Ну, добрый день! — не произнес, а проорал директор. — Этот, — обратился он к старшему служащему, — пришел наниматься лаборантом. Проверьте его. Если соответствует, отправьте его в лабораторию. Пусть займется стекляшками. Что разобьет — заплатит… Жалованье — две леи в день. До сих пор платили полторы леи. Но сделаем исключение, посмотрим, как будешь себя вести. Доволен? — спросил он растерявшегося кандидата.
— Очень доволен.
— Кстати, где ты работал до сих пор?
— Я учился…
— Учился?.. — На директорском лице расцвела презрительная улыбка. — Разве это дело — мне, директору, заниматься устройством школьных сопляков. Впрочем… А вы чего не работаете? — упрекнул он продолжавших стоять служащих. — Садитесь и работайте!
На второй день новый лаборант притащил в фабричное общежитие свой портфель с вещами и коробку с книгами и тетрадями.
Так началось непосредственное знакомство будущего писателя с рабочими и с порядками на одной из первых больших фабрик Румынии.
3
У него была тайная мысль — работать с самого утра до поздней ночи. А ночью, когда все спят, когда тихо и слышны осторожные шаги рабов вселенной по золотой россыпи Млечного Пути, писать, дать волю энергии, бушующей в душе. Но этому не суждено было сбыться. Главный химик завода, австрийский немец из Вены, заставлял юношу работать день и ночь. Лаборанту приходилось перемывать и чистить сотни различных хрупких сосудов и пробирок. А через два месяца ночная работа была узаконена распоряжением господина директора. Административный механизм фабрики нашел возможным уменьшить ему в два раза сумму заработка. К тому же возник чисто «научный» спор между лаборантом в техническими экспертами фабрики. Новичок доказал им, что из-за плохого анализа десятки вагонов сахара уходят вместе с водой на помойку. Взаимоотношения с главным химиком ухудшались, работать стало невыносимо.
Зимним вечером, получив разрешение отлучиться на воскресенье, он поехал в Бухарест. Гала часто печатался на страницах газет социалистической партии, его имя становилось известным в литературных кругах. Но у друга были печальные глаза и плохое настроение. В газете с его рассказом соседствовало сообщение о самороспуске социалистической партии и социалистических клубов. Прекращали свое существование и газеты, претендовавшие совсем недавно на роль выразителей чаяний трудового народа.
— Мы пропали, — сокрушался Гала. — А эти «великодушные» (так любили себя называть руководители социалистической партии) подняли лапы и перешли в буржуазный лагерь…
— В этом лагере они станут такими же буржуа, эксплуататорами, как мой господин директор. — Аргези долго рассказывал Галактиону о порядках на сахарной фабрике, о бесчеловечной эксплуатации, о той скотской жизни, которую ведут рабочие. И заключил: — По сравнению с власть имущими мы пока что нули. Нуль — это круг. А круг катят. Куда покатят нас, господин Гала Галактион?
— Куда? Не знаю. Я второй год штудирую философию. Кант, Ницше, Шопенгауэр… Я начал изучать Сенеку. Его письма к Луцилию. Все его советы и наставления пригодны были, может быть, девятнадцать веков назад. А кто скажет мне, что делать сегодня?
Аргези не находил, что ответить. Он хорошо знал — Гала ищет правду в Библии, перечитывает и цитирует наизусть Евангелие, часто ссылается на жизнь святых отцов и все твердит о великой силе, которая не может быть познана человеком. И Аргези не хотел его обидеть.
Гала открывается другу: он бросает философский факультет, куда поступил после лицея. Там ничему путному не учат. Переходит на теологический.
— Там хотя бы какому-то ремеслу учат, там получают тот
хлеб, который необходим живому существу.
— Это очень легкий хлеб, — возразил ему Аргези. — Но ты поступай как хочешь. Я могу тоже обратиться к богу. Но только не за ответом на мои вопросы. Бог не ответит на них. Потому что ответа не знает и он. А лгать не может. Я думаю, что на всем этом свете не лжет один бог… Если он есть. Да, если я и обращусь когда-нибудь к богу, то не за ответами и не за хлебом. Я за иным пойду.
За чем
иным, Аргези не сказал. Но выяснилось это очень скоро.
3 февраля 1900 года Гала Галактион напишет в своем дневнике:
«Сегодня вечером снова пришел ко мне Аргези. Дорогой мой друг Тео покидает мир и уходит в монастырь».
За несколько дней до этого они встретились в знаменитом пивном баре «Карул ку бере» — «Воз с пивом». Хозяин построил в непосредственной близости от Каля Виктории дом для уединения серьезных мужчин, для серьезного мужского разговора. С великолепного витража развеселый Бахус манит вошедших кружкой пенистого пива. К пиву положены горячие ароматные мититеи. Все очень вкусно, и Аргези думает про себя, что стоило три дня работать ради такого удовольствия. Гала думает о другом: как и почему этот молодой красивый парень бросает свободную жизнь и уходит в монастырь?
Этот вопрос задавал не только Гала Галактион.
Но Тудор Аргези был непреклонен. Его ничто, нигде и никогда не могло сбить с намеченного пути.
4
Частые встречи с бывшими лицейскими коллегами не уводили Аргези от усиливающегося чувства одиночества. Неизвестно, каким образом появилось у него стремление уйти из мира, удалиться в монастырь. Есть еще одна догадка. В лицей «Святой Савва» наведывался иногда митрополит угровалашской церкви, сухонький бородатый старик. Он интересовался наиболее способными учениками, отбирал их для пополнения рядов церковных служителей. Однажды он подозвал юного Аргези и сказал, что если когда-нибудь ему будет тяжело и понадобится помощь святой церкви, то он просит пожаловать в божий храм на холме Митрополии.
И Аргези воспользовался этим приглашением.
Митрополит Иосиф Георгиан принял юношу в своих покоях, расположенных напротив старинной главной церкви страны. Он поднял правую руку, изобразив двумя пальцами что-то вроде рожек улитки — это он так благословлял, — машинально дал поцеловать руку.
Первое чувство неловкости и смущения от встречи с владыкой церкви, который разговаривает и советуется с самим богом, прошло, и Аргези произнес так, будто перед ним был Гала Галактион:
— Я вспомнил о вашем совете — прийти к вам, когда настанет трудная минута.
— А что с тобой, сын мой?
— Я не могу объяснить, но мне очень тяжело. Я не нахожу ни в чем успокоения.
Митрополит долго молчал. В тишине запах горящих лампадок и свечей становился невыносимым, Аргези сдерживал дыхание. «Как он тут живет?» — промелькнул вопрос. Иосиф Георгиан медленно встал со своего огромного кресла, подошел к инкрустированной конторке, взял лист бумаги и стал писать. Потом из позолоченного пузырька посыпал на лист золу.
— В этом конверте мое слово к настоятелю святого монастыря Черника. Это здесь, вблизи от города. Ступай туда. Начнешь монашескую жизнь, сын мой, очень тяжелую жизнь. Уходя из мира, ты становишься слугой господа, а он требователен и строг. Милостив в то же время, но милость его проявляется в строгости. Монашеская жизнь — мука, которую смертный берет на себя по доброй воле. Он становится одним из младших братьев спасителя, отдавшего в страданиях жизнь за грехи наши. Тебе не страшны трудности и лишения монашеской жизни, сын мой?
Аргези встал.
— Нет, ваше преосвященство. Трудности монашеской жизни мне не страшны. Лишь бы она была неуродлива.
— Неуродлива! — воскликнул митрополит. — Это прекрасная жизнь!
— Тогда я вступаю
в эту жизнь.
Монастырь Черника — обширное хозяйство, раскинувшееся среди холмов: виноградники, рощи, плодородные долины. Зеркала двух уходящих к горизонту прудов, а между прудами, словно патриархи, два многовековых дуба. Массивные, крепостной толщины стены, арочные ворота, припорошенные снегом золотые кресты над куполами, ровные проходы среди сероватых сугробов. Мороз. Слышится треск свисающих с крыш исполинских сосулек — недавно была оттепель. Мелькают сгорбленные черные призраки в камилавках — кончилась утренняя служба, и монахи спешат к своим кельям. Доносятся торопливые обращения: «Благослови…» И ответы старших чинов: «Господь да благословит». У главного входа стоит, опираясь на посох, похожий на рыжую тень схимонах Мефодий. От холода он подпрыгивает как треногий козел. Увидев молодого горожанина, преграждает ему путь.
— Благословите, отец! — цедит Аргези.
— Бог да благословит всех нас!
Юноша протянул конверт с отличительными знаками Митрополии. Монах открыл скрипучую калитку и сделал знак рукой, проводив его поклоном.
Через несколько дней на вопрос одного из монахов, что привело его в монастырь, Аргези ответил:
— Я хочу научиться писать.
— Как это писать? — удивился монах. — Разве Можно в этом возрасте горожанину быть неграмотному?
— Грамоту я знаю, благочестивый отец. Но, — Аргези чуть подумал, — но хочу научиться писать
между строк.
Монах посмотрел на него с удивлением и перекрестился: это что еще за письмо
между строк?
Юноша Аргези говорил чистую правду. Много лет спустя, отвечая на вопрос газеты «Летр франсез»: «Как родилось у него поэтическое призвание?», — он сказал;
«Не знаю. Поэзия родилась во мне совершенно непонятным образом. Между прочим, в самом начале я колебался между живописью и поэзией. Но очень скоро понял, что, для того чтобы стать художником, необходимо располагать еще и определенными средствами? просторной комнатой, чтобы захламлять ее потом своими полотнами, деньгами для приобретения красок и для оплаты натурщиков. Для поэзии всего этого не нужно! Для нее нужны только карандаш, тетрадка и скамейка в укромном уголке бухарестского парка!.. Или монастырь!.. Да, я был некоторое время монахом, потому что у меня не было другого спокойного пристанища, где бы я мог думать и писать. В том монастыре, где я находился, в моем распоряжении была удобная келья и тарелка с похлебкой для утоления голода. Там я в основном и сформировался. Я искал без надежды, что найду когда-нибудь самого себя. И искал с жесточайшим упрямством. Ищу еще до сих пор».
В те далекие годы он не только искал пристанища и тарелку с похлебкой, он искал самого себя, свое место в жизни и надеялся, что бог поможет ему в этом.
«О невозможном ни о чем, Господь, я не молю тебя, хоть пью из горькой чаши. Ищу тебя не потому, что страждет плоть, а чтоб с рабом твоим ты говорил почаще…»
Но сколько бы в течение многих лет Аргези ни искал бога, он не находил его нигде, и бог не приходил на помощь поэту.
В трапезной несколько рядов длинных узких столов, за которыми сидят триста братьев и молча хлебают из глиняных чашек жидкий рыбный суп. Деревянные ложки свободно гуляют в мутной водице в погоне за редко попадающимися зернами пшеничной крупы. В углу под иконами на небольшом возвышении старый монах читает одну и ту же книгу — «Житие святых». Среди обедающих Аргези узнал только одного высокого монаха, который в полдень ходил вокруг церкви с билом — длинной ясеневой доской и выводил деревянным молоточком особую монастырскую трель, называемую
тоака. Отец Иакинт был удивительным мастером выводить эти трели, и Аргези запомнил, как этот высохший, еще совсем нестарый человек держал молоток и бил с особым старанием, хотя кисти рук почти побелели от лютого мороза. Иакинт говорил молодому Аргези, что проживающий в обители божье!! в святом монастыре Черника, не должен обращать внимания на испытания — устроены ли они человеком или посланы природой. Все от бога, а он знает, что делает. Общее смирение и наивысшее терпение, терзание плоти, казнь ежеминутная во имя господа — вот что приведет нас в царствие божье. Аргези слушал нравоучения, пытался больше молчать, чем говорить, а если и не соглашался с тем, что ему говорили братья, то и не возражал им. Слушать и наблюдать, быть покорным и не выделяться ничем, научиться писать и не откладывать никогда на завтра, что можно сделать сегодня, беречь себя и сохранить ясной мысль.
Дни, недели, месяцы строгого соблюдения канонов и монастырских правил принесли молодому монаху славу исключительно хорошо воспитанного юноши. Он выделяется своей аккуратной внешностью, грамотностью, умением ладить с братьями. Митрополит Иосиф Георгиан тщательно следил за своим подопечным и радовался тому, что святые отцы обители Черника не нахвалятся им.
Еще при первом знакомстве с Аргези у митрополита возникла тайная мысль — привлечь его к литературной работе. Он постоянно интересуется, продолжает ли юноша литературные занятия. II отмечает со скрытым удовольствием — продолжает! В его келье горит свет далеко за полночь, юноша сочиняет стихи.
«Печален диакон Иакинт. Сквозь переходов лабиринт он вором, татем во Христе бредет за братией в хвосте. Он плотью согрешил, поправ монастыря святой устав… Ведь иноки монастыря, усердьем ревностным горя, семь дней святых страстей Христовых терзали плоть в трудах суровых. А он всю ночь провел в веселье, скрыв девушку живую в келье: грудь — как упругие тюльпаны, а бедра — лютня из Тосканы. Всевидящий и грозный бог их на рассвете подстерег и с неба, бросив сотни дел, сквозь щелку на нее глядел».
Как точно все схвачено! За долгие годы одинокой жизни преподобного Иосифа не раз смущал образ девушки с бедрами, похожими на тосканскую лютню. Но он находил силы отгонять его молитвами, самоистязанием. Придется поговорить с отцом Иакинтом. А может, и не надо. Аргези не должен даже догадываться, что за ним в монастыре следят, а его сочинения аккуратно и незаметно переписывают и пересылают в Митрополию. Юноша очень талантлив, и надо с умом заставлять его работать на пользу святой церкви. Следует помешать ему применять свой удивительный дар во вред господу. Для этого надобно ускорить хиротонию
[19] его в первую степень священства. Ему немногим более двадцати лет, но молодость не помеха. Он достоин чина, ибо выделяется из среды рядовых монахов
всем. И Аргези был приглашен в церковь на холме Митрополии.
«8 сентября 1900 года, — напишет Гала Галактион, — в кафедральном соборе Митрополии состоялось введение в чин диакона моего любимого друга Иосифа (в монастыре Тудор Аргези получил монашеское имя Иосиф). Совершил рукоположение сам митрополит. Весь в черном, Иосиф резко опустился на колени, отчего непослушная прическа его вся взъерошилась. Святой отец положил на непослушные патлы открытую книгу с серебряными застежками и обрушил со страниц священного писания на голову друга сакраментальную фразу. Потом Иосиф поднес высокому сану медный кувшин и таз. Тот вымыл руки, вытер их о полотенце, затем закинул это полотенце вокруг шеи Иосифа и повелел ему предстать перед иконой богородицы с младенцем на руках».
Некоторое время спустя митрополит привлек Иосифа к переводу на румынский язык книги французского монаха Дидона «Жизнь Иисуса Христа» и разрешил ему жить в одной из келий для служителей Митрополии в Бухаресте. А когда убедился, что крестник справляется с этим переводом блестяще и у него к тому же остается еще и свободное время, поручил ему преподавание закона божьего в офицерской шкоде. Он получил доступ и к богатейшей библиотеке Митрополии, где мог пропадать день и ночь, знакомиться с огромным собранием книг: египетские папирусы, сочинения французских энциклопедистов, немецких философов, роскошные издания церковных книг на греческом и древнеславянском языках. Митрополит Иосиф Георгиан двадцать пять лет прожил во Франции, был там настоятелем румынской капеллы, прекрасно знал французский язык и литературу. Он охотно делился своими знаниями с молодым человеком, которого полюбил, и втайне надеялся, что он со временем займет высокое положение в церковной иерархии.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1
Тудор Аргези не собирался стать церковным иерархом. Перед ним была другая, уже давно намеченная цель. Сказав, что хочет научиться писать между строк, с глубоким подтекстом, он не слукавил. В монастыре он хотел тоже изучать жизнь, видеть и эту ее сторону. А в библиотеке Митрополии будущий писатель обрел великих учителей. Он радовался, смеялся, плакал и возмущался вместе с ними. Но ни одному учителю — ни Бодлеру, ни Овидию, ни Стендалю, ни Флоберу, ни Толстому, ни Эминеску он не собирался подражать. Идти только своим путем, «не перемешивая свои чернила с чернилами другого», искать, изучать народную жизнь, народную речь, осмысливать и переплавлять факты в горниле своей души и своего сердца и только тогда излагать их на бумаге. А потом смотреть, как светятся грани созданного и, если хотя бы в одном месте заметна неясность, бросать все в огонь. Огонь стал самым верным и постоянным его сотрудником, редактором и критиком на протяжении долгой жизни.
Поэтому так трудно изучить творческую лабораторию Аргези и рассказать о ней. Он почти не оставил рукописей — все, что не сдавал в печать, безжалостно сжигал. Мы не знаем, сколько вариантов предшествовало каждому его стихотворению, дошедшему до нас. Но и на основе напечатанного можем сделать вполне обоснованный вывод — каждое слово им выстрадано, его невозможно заменить другим.
Говоря о мучительном начале своего творческого пути, Аргези подчеркивал, что писательский труд подобен любви мужчины и женщины: он влечет за собой серьезные последствия, он, как и любовь, окутан великой тайной. Безгранична ответственность и пишущего и любящего. И подобно тому, как за любовью тащится чудовищной тенью проституция, так за творческий труд цепляются графомания и пустословие, являющиеся тоже своеобразной проституцией. На протяжении всей жизни он пытался дать ответ на мучивший вопрос, что же такое творчество.
«Художник раздваивается, — любил он повторять. — С одной стороны — творец, с другой — потребитель. Если второй живет и здравствует все двадцать четыре часа в сутки, то первый только время от времени. Доказательством сказанного служит то, что из тысячи стихотворений поэта девятьсот девяносто девять плохие и подлежат уничтожению. Исключение из этого правила составляют только абсолютные гении».
Аргези был далек от того, чтобы выдумывать какие-то новые законы, тем более навязывать их другим. Вот как рассуждал он в первой своей статье «Стих и поэзия»:
«Ты сидишь в полном одиночестве на огромном валуне, вдали несколько деревьев, торчит колокольня, паутиной очерчены проселки, видны холмы, синеет небо. На твоих коленях книга, ты только что читал ее, а сейчас закрыл и предался размышлениям. Подымаешь глаза. В них отражаются твои мысли, их противоречивость. Всматриваешься в бесконечное пространство, и все кажется глубоким сном — и ты видишь все и в то же самое время будто ничего не замечаешь. Терзаешь мысль, мучительно вспоминаешь когда-то давно прочитанное. Оказавшись невольником смятения собственной души, в которой, словно молнии, сталкиваются идеи, чувства, воспоминания, ищешь объяснения. Думаешь. А там вдали маячит та же серая колокольня и на ее вершине скрещиваются лучи медленно опускающегося за горизонт солнца. Кто докажет, что в этот миг солнце не умирает?
Твоя идея находит приют в тени за той колокольней, и все разделяющее тебя и колокольню пространство с деревьями, посевами, волнующимися высокими дикими травами дрожит. Ты запомнишь это дрожание, оно охватит и зеленое, и серое, и ветки, и клочья облаков и скатывающееся на холм солнце. Другая, забытая колокольня, другая, забытая тропинка, другие проселки, тоже забытые, вдруг возникнут в этом дрожащем воздухе, соприкасаясь с теми, которые перед твоими глазами, сливаясь с ними, создавая своими переплетениями новую, схожую, необъяснимого узора ткань. Этот узор так же таинствен и неуловим, как неуловима черта, разделяющая день и ночь. Устремления, привязанности, оставленные или обретенные убеждения, знакомства — все это обращает каплю обыкновенной росы в необыкновенную слезу, и этот символический образ и есть поэзия. И зачастую единым восклицанием она возвещает о целой жизни.
С чем можно сравнить эту слезу? Кто сможет
описать ее? Умением складывать слова в строки и строфы только создаешь обрамление для поэзии. Но что поместишь ты в этом обрамлении — кирпич или алмаз? Вот в чем соль».
Иеродиакон Иосиф — Тудор Аргези писал эти строки в своей келье в монастыре Черника. Он говорил с гневом о некоторых модничающих поэтах, которые стали «вульгарными акробатами базарных площадей» и подражают худшим образом «новой французской школе». Аргези подчеркивал, что до Бухареста звуки доносятся искаженными и
изуродованными, а «случайные парижские шутки воспринимаются некоторыми упрямцами как самая настоящая школа». Это подражательное кривляние приобрело характер настоящего бедствия, иные двадцатилетние поэты низвели поэзию до простой, примитивной версификации.
«Весь мир чувствует и думает, — пишет поэт, — но не каждый в состоянии точно сформулировать свои мысли, выразить свои чувства. Работа художника, равно как и тихо напеваемая сквозь слезы дойна у вечернего очага, — одно и то же. Разница лишь в том, что поэт выражает все это в чеканных формулировках. Но когда выражаешь свое страдание, разве не думаешь и о боли — особенно о боли своего ближнего? Существует естественная человеческая потребность время от времени выплакать свою боль. Можно допустить, что у поэта не было боли, о которой он говорит. Ну и что из этого? Каждому дано догадываться о радостях и горестях себе подобного, радоваться и страдать вместе с ним. Есть люди, которые только для того и живут, чтобы молиться за всех обиженных и страждущих. Но таких людей очень немного. Огромное большинство же страдает…
Настоящая поэзия — великая молитва. Молитва, написанная молящимся для самого себя. Но, становясь известной, она становится всеобщей. Поэтому настоящая поэзия — достояние самого поэта и в то же время общее, всенародное достояние».
Работая над статьей «Стих и поэзия», Аргези внимательно читает книгу Льва Николаевича Толстого «Что такое искусство?». Он характеризует яснополянского старца как великого писателя, философа и провидца, называет его «ядром множества литературных явлений в русское мире», «апостолом отмены рабства во имя братства» и в то же время задиристо спорит с ним, оспаривает некоторые положения толстовской статьи. Он, например, не согласен с толстовской критикой Верлена, Вагнера, Маларме, Бодлера, он считает, что Толстой навязывает искусству «путь, открытый им самим, как единственно верный». Все остальные пути, по мнению молодого Аргези, Толстой не признает и «клеймит как ересь».
Поэт молод, горяч, он ищет свой путь.
Наступил 1904 год. Завершена статья «Стих и поэзия». Накопилось много стихов. Но куда их отнести?
«Поговорю-ка я с Галой», — решает он.
Мысль о своем журнале, вокруг которого можно было бы собрать друзей по лицею, единомышленников по литературе и по отношению к общественной жизни того времени, не покидала и Галактиона.
— Наш «Зпг-Заг» умер, не успев еще родиться. Для нового журнала я уже и название придумал — «Правильная линия»! — сказал он Аргези.
— «Правильная линия» — это хорошо, — решают друзья.
Правильная линия — это борьба за правду, за справедливость. Характер этой борьбы они представляют еще весьма абстрактно и, как вскоре выяснилось, по-разному.
Неплохо, что у Галы имеются для начала кое-какие средства. Он сэкономил уже порядочную сумму из денег, выделенных матерью на карманные расходы. Нужно только добиться разрешения издавать журнал, а это может делать лишь издатель, директор. Иеродиакону Иосифу значиться директором нельзя, он ведь служитель Митрополии!.. Из этих же соображений не может возглавить журнал и Гала — он студент теологического факультета. Но выход найден. У них есть старый и преданный лицейский друг Василе Деметриус. Он и старше на два года и поэт уже довольно известный, горячий и тоже мечтающий о творческой независимости. Встреча была назначена в доме Галактиона, на улице Полукруга, 3.
По общему согласию друзей директором нового издания был определен Василе Деметриус. Настоящая фамилия его была Думитриу.
Деметриус казалось звонче. Но все организационные заботы, вся литературная работа и типографские дела легли на плечи Аргези. Друзья помогали только советами. Галактион признавал позже, что «у типографской машины потел один Аргези». На первые номера ушли и все сбережения прижимистого иеродиакона Иосифа. Он расходовал и «духовные накопления». Кроме статьи «Поэзия и стих», Аргези печатает в «Правильной линии» и свои стихотворения. Часть их была написана еще до ухода в монастырь или под влиянием событий, происшедших ранее в его жизни. Галактион полагает, что Аргези угнетало тогда не только полное прекращение связи с семьей, но еще в большей степени смерть юной возлюбленной. (О ней, кроме этого упоминания Галы, ничего не известно.) Написанные до монастыря стихотворения отмечены общим минорным настроем, хотя заметна попытка поэта вырваться из-под влияния Бодлера.
«Бедная моя раздавленная душа, в тебя целятся мыслители, пытаются изуродовать, но ты следуй своим путем…»
В «Правильной линии» помещаются и стихи бунтарские, в которых поэт осмеливается поднять руку на бога. Это было начало цикла, известного под названием «Черные агаты».
«Мой вкус, мой ум, весь мой бунтарский склад — их пропитал насквозь бунтарства яд. На скалах сплю я, льдом обогреваясь, в слепую темень факелом врываюсь, оковы рву, тревожа лязгом ночь, и ржавые замки сшибаю прочь. На высоте, беря за сопкой сопку, ищу отвесней склон, труднее тропку и на пути к опасной крутизне тащу с собой всю гору на спине. Но настоящий грех мой, всемогущий, куда непоправимей предыдущих! В жестокой страсти — все ниспровергать я руку на тебя дерзнул поднять. Задумал разорить твою обитель, чуть было власть твою я не похитил, — и вдруг, уже стрелой тебе грозя, услышал, как сказал ты мне: «Нельзя!»
Мы еще не раз встретимся с тем, как поэт разговаривает с самим всевышним, то обращаясь к нему за помощью, то ниспровергая его.
Однако не только всевышний в небе останавливал поэта повелением «Нельзя!». Журнал не был в состоянии выдержать конкуренцию больших изданий, у которых была и известность, и покровители, и сила. К тому же в редакционной троице отсутствовало единство, и 18 июня 1904 года Гала Галактион сделает в своем дневнике следующую горькую запись:
«Позавчера (16 июня) получил из Бухареста пятый номер нашего литературного журнала «Правильная линия». Он выходит с 15 апреля по два раза в неделю. У журнала только три писателя: Деметриус, Тео и я. Беда эта, может быть, и не самая большая. Но журналу недостает единства — как реального, так и идейного. Раз нет этого единства в сердцах редакторов, так его нет и на страницах журнала. Деметриус пишет по воле случая и по вдохновению без какого-либо строго определенного
кредо. Тео выделяется своим анархизмом и предстает в наряде черного ворона — предвестника неминуемых бедствий. Я же, само собой разумеется, — правоверный христианин. Таким образом, из этих трех писателей один блуждающий, другой — темпераментный и со взрывным устройством в карандаше, третий сосватанный с верой во Христе».
Гала был и всегда оставался честным и прямым человеком. Разлад, безусловно, не замедлил сказаться и на судьбе журнала.
Положение еще более усугубилось, когда Аргези напечатал в «Правильной линии» резкую статью, критикующую знаменитого профессора Николае Йоргу. Против этого ученого еще никто в румынской печати не осмелился до тех пор выступать.
Уже тогда, в 1904 году, имя Николае Йорги было широко известно в Румынии. Обладатель феноменальной памяти и обширнейших знаний во всех областях гуманитарных наук и особенно в исторической области, он в 23 года прошел по конкурсу на заведование кафедрой всемирной истории Бухарестского университета. Его научные работы, пьесы, стихи, критические статьи имели широкое хождение по всей Европе. Йорга становится членом Румынской академии и почетным академиком пятнадцати академий различных стран, он автор 1250 книг и 25 тысяч статей. И на этого гиганта поднял руку еще мало известный в начале века поэт Тудор Аргези. Поводом для выступления Аргези в «Правильной линии» послужила книга Николае Йорги, выпущенная к 400-летию со дня смерти молдавского господаря Штефана Великого.
Йорга взял на себя роль проповедника и защитника национальной исключительности румын, не смущался, когда его называли «апостолом нации». Его высказываниями не раз пользовались буржуазные националисты, которые сплошь и рядом спекулировали дорогими для Аргези понятиями «родина», «патриотизм», «традиции». И, по мнению молодого Аргези, Йорга «перегрузил свою книгу фактами, повествовательным растрепанным многословием… и выражениями с
патриотической целью разжигать читателя до такой крайней точки, пока ему чужая кровь не покажется сладкой», ученый пытается определить границы земли, на которой «чужие не имеют права на существование»
[20].
Об этой подмеченной молодым Аргези черте мировоззрения Николае Йорги напишет не один историк
[21].
Сам Йорга в 1934 году характеризовал выступление «Правильной линии» следующим образом: «Это был крик возмущения — крик против прославления кровопролития. Он раздался со стороны монаха Теодореску, который подписывал свои излюбленные сочинения именем «Тудор Аргези». Через тридцать лет развращенная подлая молодежь сделает из него нового Эминеску».
В редакционной «троице» «Правильной линии» разлад еще более углубился. Деметриус забросил журнал, Галактион написал Аргези письмо. Студент теологического факультета укорял своего друга за излишне суровую оценку книги Йорги.
15 июня 1904 года вышел последний номер «Правильной линии».
2
Перевод «Жизни Иисуса Христа» был выполнен блестяще. Оказалось, что молодой монах знает все тонкости французского и румынского языков, и книга Дидона стала украшением церковных библиотек. Старик восхищался удивительным талантом Аргези и гордился тем, что он возмужал под непосредственным крылом святой церкви. И в то же время митрополит не раз замечал тоску в глазах Иосифа. Молодой монах часто останавливался у окна комнаты митрополитской канцелярии, где работал, и смотрел вдаль. Из Черники приходили письменные донесения, что брат Иосиф осквернил стены сохраняемой за ним кельи вырезками из французских иллюстрированных журналов. Один из братьев докладывал, что Иосиф не расстается с толстой синей тетрадью, повсюду носит ее с собой, и никому не удалось заглянуть в нее.
Митрополит не обращал на эти доносы внимания. Однажды он оставил папку со своими секретными бумагами на рабочем столе. Нарочно ли он это сделал, или забыл — неизвестно. Иосиф же в этот день должен был переписать на особой бумаге обоснование составленного вместе с митрополитом проекта реставрации витражей главной церкви государства и письмо в правительство с запросом необходимых средств. Митрополит похвалил Иосифа за настоящую художественную работу — каждая буква была выведена с большим искусством. Потом владыка, бросив взгляд на папку с секретными документами, вопросительно уставился на своего помощника. По всему было видно, что тот до папки не дотронулся: розовая тесемочка была завязана двумя бантиками, точь-в-точь как завязал ее митрополит накануне.
— Память, память, — произнес Георгиан, — вот забыл, утром понадобилась, и забыл запереть. Никто сюда больше не входил?
— При мне никто, ваше высокопреосвященство.
— А сам не полюбопытствовал?
— Не имею привычки, ваше высокопреосвященство.
— Хорошо это, очень хорошо, сын мой. Тут и про вас всякое есть, скажу вам. Но я знаю — это напраслина, это все от зависти, сын мой, все от зависти. — Митрополит вздохнул глубоко, произнес что-то вроде краткой молитвы и стал рассказывать иеродиакону о своих дальнейших планах в области перевода. За годы работы под началом митрополита Аргези хорошо изучил его повадки, пристрастия, образ жизни. Казалось, этот человек создан для того, чтобы переводить книги, а не управлять православной церковью Румынии. Не завершив перевода жития одного святого, он тут же брался за другое житие. Неизвестно кем сочиненную французскую книгу «Жизнь души после смерти человека» митрополит переводил отрывками, продлевая таким образом удовольствие. Он хотел, чтобы это удовольствие получала и паства. По мнению митрополита, эта самая паства должна была после усвоения «Жизни души» жить только с одной надеждой — как бы побыстрее отправиться в царство небесное. В молодом иеродиаконе из Черники он не ошибся. Этому парню господь дал такие способности, что митрополиту даже не с кем его сравнивать. Стоит только ему пройтись слегка своей рукой по готовому переводу, и любое предложение обретает божественную музыкальность и очарование. Нередко у митрополита пробивалась слеза от волнения. Но, боже, сколько еще нужно работать! Древний старец, проведший всю свою жизнь в церквах и монастырях, всю жизнь убаюкивавший тысячи и тысячи верующих легендой о том, что «настоящая жизнь» их ждет в царствии небесном, терял всякое самообладание и спокойствие при мысли, что придет день, и он тоже оставит этот мир, и отправится туда, где ждет блаженство, смирение и бесконечная жизнь. Из-за этого страха он не замечал, чем занимаются многочисленные служители Митрополии, как подымаются по иерархической лестнице алчные люди, принесшие с собой, как напишет потом Аргези, «моральный бандитизм в священном синоде». Аргези все это видел и чувствовал до некоторой степени и за собой вину, что молчит, не может кричать во все горло, чтобы «вскрыть этот давно уже созревший гнойник». Так что же делать сейчас? Сказать Георгиану о своем решении или потерпеть еще немного? Терпеть. Но ради чего? И иеродиакон Иосиф, слегка склонив свою черную как смоль голову, произнес точно обдуманные слова:
— Ваше высокопреосвященство, я постарался выполнять вашу волю самым прилежным образом, и я благодарю бога, что он мне помог не огорчать вас…
Иосиф Георгиан поднял глаза и пытался уловить взгляд иеродьякона. Но тот продолжал смотреть в землю и говорить:
— Я не смогу больше выполнять здесь никакой работы, ваше высокопреосвященство.
— Ты же меня так любишь, сын мой! — трагически вздохнул митрополит. — И ты порываешь со святой церковью?
— Я благодарен вам, ваше высокопреосвященство, за помощь и за науку. В святой обители мои познания расширились во
всех областях.
Митрополит пытался понять, какова природа этого внезапного решения? Или оно не внезапно? Тогда ч» го стоят тайные рапорты, чего стоит вся его с такой четкостью работающая система слежки и здесь, в Митрополии, и там, в монастырях, в епархиях…
— Сейчас я устал, — сказал Иосиф Георгиан. — Я не могу ответить тебе ничего. Советую — одумайся… Нельзя так часто делать резкие шаги, от этого содрогается, — он поднял руки с подлокотников и прижал их к груди, — содрогается душа, содрогается вся эта сложная и таинственная система… Ступайте, сын мой, одумайтесь.
Аргези вышел, но не для того, чтобы одуматься. В своей келье он так же четко, как только что писал о восстановлении задымленных и потрескавшихся витражей, написал рапорт о том, что «навсегда уходит из отряда служителей церкви по сугубо личным соображениям». Подписал, завернул тугую папиросу из ароматного табака, открыл окно и стал пускать в небо серые кольца дыма, не опасаясь, что его заметит церковный шпик и в папку с розовыми тесемочками ляжет новая бумага.
ГЛАВА ПЯТАЯ

«Тео, — напишет в своем дневнике 1905 года Гала Галактион, — мой странный друг Тео, сбросил одеяние чернецов, покинул холм Митрополии, оставил монашеское братство, ушел от святой службы и, безусловно, навсегда… Природа, наделившая его даром гения, вырвала наконец его из когтей нищеты и всего того, что толкнуло его в монастырь».
В одном не прав Гала Галактион. От когтей нищеты Тудор Аргези не избавился, они будут его преследовать долго. И еще об одном не знал Гала Галактион — о письме, которое хранилось в боковом кармане друга. Но об этом позднее.
Пока что Аргези, тепло одетый и обутый
в валяные русские боты, сел в огромный холодный вагон прямого сообщения Бухарест — Париж. Многие отправлялись тогда в Париж «за счастьем», за возможностью «завоевать место под солнцем». Но для Аргези Париж только место краткой остановки, его путь «к счастью» лежит дальше; конечная остановка в другом городе, в другой стране.
Поезд уходил вечером, на просторах Бэрэганской степи лежал снег, он искрился под полной луной, редкие деревни только угадывались среди темных деревьев — нигде ни огонька, будто все вымерло. За ночь даже не вздремнул ни разу, все смотрел в окно. Он прощался со своей землей и в душе понимал, что прощается с нею надолго.
Когда начало рассветать, заснеженное, белое пространство сменила голая степь, кое-где зеленела озимь, чернела пахота. А вот и пахари. Те же волы, те же понурые, измученные крестьяне и в оставшейся позади Румынии, и в степях Венгрии, и среди холмов Австрии…
Плуг…
Может быть, тогда родилось знаменитое стихотворение?
«Кто изобрел тебя, мой плуг? Чтоб возрождать бесплодные долины, чтоб жизнь проникла в недра мертвой глины и чтобы расцветало все вокруг? Чьи руки землю бороздят? Кто первый на рассвете вышел в поле, межами разделив его раздолье? Кто угадал, что хлеб насущный свят? Кто под дождем, топча густую грязь, во мгле холодной разрезал впервые равнины дорогой пласты сырые, надеясь, проклиная и молясь? Ждет урожая бедный человек. Он пашет, жнет, в бразды бросает семя… Он в радость превратил и это бремя и потому прославился навек!»
Часто возникают вопросы относительно времени написания того или иного стихотворения. Поэт говорил не раз, что это не имеет никакого значения. Важно,
как написано, а не
когда написано.
После выхода его первой книги, о которой речь впереди, Тудора Аргези стали называть «поэтом плуга».
Аргези знал, что в Париже есть у кого остановиться. Там уже несколько лет жила его двоюродная сестра, певица Романица Манолеску. Она, как и Аргези и его друзья из лицея «Святой Савва», посещала вместе со своими подругами социалистический кружок, а после разлада в руководстве социалистической партии испытала то же самое разочарование и отправилась «куда глаза глядят» за счастьем. И конечно, это счастье должно было разгуливать по большим парижским бульварам.
Молодая девушка продает оставшийся после смерти родителей дом в местечке Питешть за восемь тысяч лей, садится в поезд, как сейчас Аргези, и отправляется в Париж. Но соблазн тянет ее в Монте-Карло, чтобы умножить свои тысячи, ведь она уже узнала, что на эти деньги и двух недель в Париже не проживешь… В Монте-Карло за пять минут Романица осталась ни с чем. Упрямая девушка не пала духом и все же добралась до Парижа. Стучалась то к одному концертному богу, то к другому, и — о ужас! — она убедилась, что их прежде всего интересует не ее голос, а ее ноги. «Выше! Выше!» — кричали они, когда она пела на сцене, пританцовывая. Она думала, что надо ноту брать выше, а «боги» издевательски требовали подымать ноги. Она плакала, вытирала слезы и отправлялась искать другое место. Места певицы она так и не нашла. И тогда Романица вспомнила, что она умеет издавать тот неповторимый свист, который звучит в
ее родном краю на берегах реки Арджеш, в предгорьях Карпат. Первое же выступление принесло громадный успех, аудитория сходила с ума, пресса стала называть Романицу «карпатским соловьем».
«Карпатский соловей» мерз в небольшой комнате в квартале Нотр-Дам. В огромном не по размерам комнаты камине тлел корень желтой акации. Это Аргези по запаху дыма узнал. Романица не стала рисовать радужные картины: найти здесь работу гораздо сложнее, чем в Бухаресте, потому что сюда за «счастьем» едут отовсюду, а «собаки с теплыми калачами на хвосте»
[22] и тут, как и в Бухаресте, почему-то не попадаются. Но возвращаться домой ни с чем неохота, да и потом что там делать?
— Я тебе сказала все это не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы ты сразу же все знал. Но не расстраивайся. В самом худшем случае научишься и ты свистеть.
Перед тлеющим камином раздался разбойничий свист, потом комната наполнилась звуками свадебных весенних трелей всех пернатых обитателей Бэрэгана и Карпат. Аргези мысленно перенесся в свои родные края: в Бухарест, на родину Галактиона в телеорманскую долину, к берегам Арджеша. Он вдруг вспомнил степную дорогу среди кукурузного поля в Бэрэгане, писк оставшихся без родителей дрофят.
Романица ожидала, что скажет этот угрюмый бородатый лохматый медведь.
— Я не умею свистеть, сестра моя… И не буду…
Хозяйка Романицы сдавала комнаты для одиноких, для семейных и койки для «всякого сброда». Романина сказала ей: бухарестский гость — давний друг и двоюродный брат, и, она гарантирует, он станет одним из примернейших ее постояльцев. Она не сказала хозяйке, что ее друг в Париже проездом. Хозяйка сдавала комнаты и койки на продолжительное время и брала плату вперед — таково требование домовладельцев, проживающих в центре.
Прекрасное знание французского помогало Аргези свободно обращаться среди пестрого населения Парижа и ничем не выделяться в шумной, вечно куда-то движущейся толпе. Вот только борода и эти длинные волосы. То и дело на него оборачивают взгляд. «Смотри, какой черный старик!» — воскликнет хихикающая барышня. «Это не старик, — скажет другая. — Это аккуратный цыган…» И Аргези вошел как-то в первую попавшуюся парикмахерскую. Он нарисовал еще вчера вечером свою будущую прическу — короткая стрижка, волосы на прямой пробор, усы как в Олтении
[23] — короткие, широкие, над всей губой: две жесткие щетки. Вечером он зашел к Романице. Перед певицей стоял молодой красивый мужчина, плечи широкие, глаза сверкают, под усами чуть заметная улыбка, наряд странный — яркая голубая блуза, поверх новый, выглаженный темный комбинезон с огромным карманом на груди. Это была форма парижских носильщиков знаменитого рынка «Чрево Парижа».
— Завтра приступаю к работе, — сказал Аргези Романице. — А сейчас я пошел отдыхать.
— А мы думали, что ты побудешь немного с нами, — сказала Романпца. И только тогда Аргези заметил сидящую в кресле молодую женщину. Это была Констанца Зису, румынская поэтесса, приехавшая в Париж тоже за счастьем. В Бухаресте она посещала кружок социалистов и печаталась в газете «Адевэрул» («Истина»). Узнав о приезде Аргези в Париж, она сказала Романице: «Я соблазню этого монаха…»
ГЛАВА ШЕСТАЯ

1
В суматохе парижского «чрева» любящие чистоту и аккуратность торговцы овощами, зеленью и ранней черешней уже успели заметить усатого черноголового носильщика. Только потребуется — он тут же подхватит ношу, поднесет и поставит, куда укажут, не торгуется, не считает денег, а получая монету, поклонится с улыбкой, поблагодарит и побежит к другому клиенту. К вечеру у него в кармане оказывалась сумма, достаточная для того, чтобы купить билет в «Комеди франсез» или «Гранд опера», не хватало на это — покупал билеты на любые спектакли, он впитывал в себя все — и образцы прекрасного искусства, и поделки, смотрел и откровенную халтуру, посещая базарные балаганы.
Через две недели работы на рынке старательный носильщик накопил денег на самый дешевый, но приличный черный костюм.
Романица не нарадуется, глядя, как ее двоюродный брат преображается на глазах. Она строит планы совместной покупки дома в самом центре Парижа и открытия собственного театра, где она будет «патронессой», а ее компаньон займется хозяйством, и, поскольку он имеет еще и наклонности к стихосложению, будет писать либретто, куплеты, шутки. Они поставят спектакли на сюжеты румынского фольклора, покажут французам экзотические картины из далекого прошлого. Правда, для осуществления этих планов не хватит жизни. Да, тут еще может пригодиться поэтический опыт и дарование Констанцы Зису. Что скажет об этом Янку?
Тудор Аргези не был фантазером. Жизнь научила его мыслить реально и не убаюкивать себя несбыточными надеждами. К тому же у него в кармане письмо. От того, что он уже так долго не дает этому письму хода, у него все чаще появляется тревога — не потерял ли? И поэтому нередко щупает свой левый внутренний карман.
— Не сердце ли у тебя болит? — спросила Романица однажды: он задержал ладонь у сердца. И Романица тут же побежала к шкафчику и поднесла брату коричневый влажный квадратик сахара:
— Прими валерьянки, Янку, сейчас же пройдет!
Аргези расхохотался. Давно он не смеялся так громко. Он никогда еще не принимал никаких лекарств. Обойдется без них и в Париже.
2
В пасмурные, дождливые дни на большом рынке работы было мало и носильщиков становилось вдруг больше, чем в дни бойкой торговли. Тогда Аргези вставал чуть свет и спешил к знакомой типографии, там можно было брать для доставки подписчикам газеты. У оптового торговца он забирал стеклянные безделушки и продавал их любителям парижских сувениров. Торговец предлагал ему как «человеку с прирожденным талантом коммерсанта» передвижную лавку и предвещал большое деловое будущее.
Когда он надевал черный костюм и отправлялся на очередной спектакль, снова давал о себе знать конверт с потертыми углами. Аргези был еще и человеком долга. Он обязан был доставить это письмо по адресу. Он обещал это митрополиту Иосифу Георгиану.
— Здесь моя помощь тебе, сын мой. Я написал своему другу архиепископу Доменику Жаке, ректору католического университета в Фрибурге. Это человек весьма образованный и знает, что советовать. Непревзойденный знаток всех оттенков французского станет там твоим духовным пастырем. Благословляю в путь…
[24]
Аргези поблагодарил его высокопреосвященство, признавшись при этом, что намерен заехать в Париж.
— Да, да! Обязательно! — Лицо митрополита осветилось. — Я хотел это сказать. Не стану советовать, что именно следует посмотреть в этом божественном городе… Я не проставлю тогда на своем письме дату. Только все же пусть парижские соблазны не задержат тебя. Ведь время, время, и кто знает, что может случиться со мной. А я бы хотел получить от своего друга письма с подтверждением твоего приезда и надежного там устройства. На адрес Фрибургского монастыря каждый месяц будут поступать для тебя деньги на пансион.
Монсеньор Доменик Жаке медленным движением взял письмо, достал из ящика массивного стола ножницы, посмотрел конверт на свет и отрезал узкую полоску. Читал внимательно, спокойно, не обнаруживая ни любопытства, ни удивления. Дойдя до подписи митрополита Иосифа Георгиана, он убедился в ее подлинности. Но по тому, как выведены буквы, Доменик Жаке понял, что его давний друг уже очень стар. Сколько же лет они не виделись? О, это было так давно!
— Просьба друга и его рекомендация для меня второй закон после воли всевышнего. — Доменик Жаке поднял руку с указывающим вверх перстом и застыл будто в молитве.
В углу небольшой кельи — ведро с водой. Аргези наклонил голову и сам себя не узнал — совсем короткая стрижка, усов как не бывало, над губами торчит странным образом увеличившийся нос. Ну что ж, следует выглядеть как все католические монахи, ничем от них не отличаться. И тут же горько рассмеялся: «Вырвался из одного монастыря и попал в другой — университет-то для монахов!» Через несколько дней Аргези почувствует, что здешняя обстановка не для него. В этом иезуитском гнезде его ничто не привлекает, кроме университетской библиотеки. Там имеются книги на французском и на латыни, которых в библиотеке Митрополии в Бухаресте нет. И Аргези просит монсеньора Доменика разрешить ему посещать университетские курсы, ему нужно усовершенствовать свое образование. Монсеньор разрешает только с одним условием. Правда, об условии скажет немного позже, пусть пока приезжий учится. (Ему даже позволяется ходить в библиотеку в гражданском платье.)
Аргези воспользовался этим разрешением и стал требовать и те книги, которые обычно выдавались только по особому разрешению начальства. «Здесь я читал, — скажет потом Аргези, — по три, четыре тома за неделю, чтобы пополнить глубокие провалы в моем образовании, создавшиеся во время несистематического обучения в школе, когда я старался сочетать учебу с насущной необходимостью зарабатывать на кусок хлеба. Я был студентом университетов Максима Горького».
В Фрибурге Аргези узнает, что монсеньор Доменик Жаке не только архиепископ, ректор университета и настоятель монастыря, но и генерал иезуитского ордена всей Северной Европы. Этот святой отец пристально следил за посланником митрополита Георгиана, и Аргези удивлялся такому высокому и, как ему казалось, бескорыстному покровительству. Но Аргези ошибался. Потребовалось совсем немного времени, чтобы внимание иезуитского генерала получило свое логическое объяснение.
В отличие от православного монастыря Черника, где братья вели себя довольно свободно, общались друг с другом, выходили «в мир», в иезуитском монастыре существовали жесткие правила, и, чтобы не обнаруживалось их нарушение, монахи были между собой крайне разобщены. Трудно было увидеть двух братьев вместе. Во время роботы на территории обители, богослужений, обработки монастырских угодий монахи держались обособленно, на почтительном расстоянии друг от друга и молчали. Аргези сразу же обратил внимание на это. и у него, привыкшего к простому человеческому общению, фрибургская атмосфера отчужденности вызвала крайнюю тоску. За несколько месяцев единственными его собеседниками были книги. И поэтому новое приглашение монсеньора Доменика «посидеть и поговорить по-дружески» не могло не насторожить.
— Мне говорили, что вы интересуетесь писаниями Паскаля, не так ли?
— Да, монсеньор, я не был знаком еще с его книгами, и это мои недостаток…
— Похвально, когда воин изучает оружие своего врага, сын мой, это весьма похвально… Я смел надеяться, что вы все взвесите, хорошо подумаете и придете ко мне сами.
— Я знаю вашу занятость, монсеньор, и считаю неприличным беспокоить вас без надобности.
— Как без надобности? Разве у вас еще нет надобности поговорить со мной о
главном?
— Я не понимаю, о чем речь, монсеньор.
— Ну уж так и не понимаете?! Здесь обитель, где воспитываются убежденные и готовые идти на все бойцы Иисуса. Ваши повседневные занятия в библиотеке университета заслуживают всяческой похвалы, но нам необходимо направить их в нужное для войска русло. Нужна система, а установить ее мы можем лишь только после вашей готовности соблюсти определенные для нашего ордена правила. Сложность в том, что вы привыкли к другим, отличным от наших порядкам. Пока что вы продолжаете быть на воле, а воля ведь не охраняет пас от шагов в сторону от правил, шагов непродуманных… — Доменпк Жаке, видимо, сказал еще не все. но остановился: что ответит иеродиакон? Монсеньор Жаке оставил свое массивное дубовое кресло и прошелся по кабинету. Встал и Аргези, уставившись упрямым взглядом в пол. Он ничего сейчас не ответит, он сделает вид. что не совсем понял, о чем ведет монсеньор речь, пусть скажет пояснее. Но монсеньор не стал уточнять, он считал, что этот парень довольно умен для того, чтобы понять, в чем дело. Пусть немного еще побудет в таком состоянии. Да, еще вот письмо из Парижа… И оно подождет тоже, пусть будет на следующий раз. — Тогда мы завершим на этом разговор, через некоторое время возобновим его. Пока можете заниматься в библиотеке и, естественно, посещать богослужения по
нашему уставу.
— Хорошо, монсеньор. — Аргези откланялся. Какими же разными бывают слуги одного и того же господа бога, подумал он, направляясь к своей келье.
3
Из альпийского дневника
«Фрибург — католический кантон Швейцарской республики. Гористая местность в тисках древних крепостных стен. На воротах сохранились темные пятна — следы пушечного дыма былых сражений и войн.
Здешние жители массивны и суровы, будто сошли с картин Ходлера. Затылки у них начинаются с макушки — ровные и широкие. Вечерами после работы они собираются у «Черной кошки». Это небольшое укромное, чистое заведение с зелеными занавесками на окнах. Хозяин подает пиво, читает стихи собственного сочинения и импровизирует на мандолине мелодии для десяти-пятнадцати друзей и клиентов. В Швейцарии считается вполне нормальным вызывать официанта стуком по столу и возгласом «Моn colonel». Официант ставит поднос, снимает передник, и перед вами настоящий господин полковник, конечно, в случае войны. Форму, оружие и боеприпасы он хранит у себя дома в шкафу вместе со служебным платьем. Иногда этих вояк призывают на учения и размещают в казармах — чтобы не забыли, с какого конца нужно держать карабин. II тогда по улицам города шествует настоящее войско царя Гороха. Что-нибудь более смешное трудно себе представить. Штаны падают, кители будто изжеваны, треуголки сбиты набок и вот-вот свалятся с голов. В период между двумя призывами на учения военный персонал растолстел. Жарко. Расстегивают пуговицы мундиров и суют за пазуху прохладные платки. «Привет, Дюран!» — кричит с порога своей молочной лавки чей-то знакомый. Весь отряд оглядывается и приветствует рукой: «До свидания, Фриц, до скорого». Бойцы и без этого оклика шагают кто как, не в ногу, равнения не соблюдают — в одном ряду трое, в другом — семеро, идут зигзагообразно, и каждый ступает той ногой, которой ему удобнее, могут, если захочется, шагать обеими ногами сразу, вприпрыжку, как кенгуру, и никто не обратит на это никакого внимания.
Вдруг одному захотелось пить, и весь строи останавливается и ждет, пока он выйдет из пивной, стряхивая пену с усов.
— Холодное? — интересуется офицер.
— Отличное! — отвечает солдат и опускает карабин на землю, придерживая его ногами, потому что руки заняты другим делом — они шарят по карманам, — где же затерялась эта проклятая папироса?!
— Подождите немного, — говорит лейтенант, — пойду-ка и я выпью кружечку.
Великолепная идея! За лейтенантом идет вся рота».
Три раза в неделю по вечерам библиотека не работала, не выдавались книги и в воскресенье, и Аргези заполнял это время начатой еще в Бухаресте работой — он переводил Достоевского с французского. Из всех русских писателей, с произведениями которых он познакомился, ему Достоевский нравился больше всех. И это не потому, что он был в то время самым модным русским писателем на Западе. Нет, не поэтому. Достоевский казался ему тогда близким по духу, по «бушующей, необузданной, жестокой мудрости». Строчка за строчкой, слово за словом пытается передать он на румынский «Записки из мертвого дома». В далеком сибирском остроге, в далеком мертвом доме, там, в холодной стороне, Достоевский, как писал Аргези, собрал для глубочайшего анализа под самым усовершенствованным микроскопом своей совести и своего «чудовищной силы таланта» образцы нынешнего мира — и отнюдь не только русского. «Мертвый дом» создала на земле система монархов, церковников, продажных политиков. Достоевский не видел никакого выхода из «мертвого дома», но видит ли этот выход он, Аргези, видят ли его оставшиеся в Бухаресте друзья: Гала Галактион, Деметриус, Кочя? Нет, ни он, ни они этого выхода не видят. Что же будет? Общий «мертвый дом»?
В свободные от библиотеки вечера Аргези продолжает писать и, как всегда, бросает в огонь почти все написанное. То, что не предает огню, переписывает в тетрадь, которую всегда носит с собой. После откровений митрополита Иосифа о содержании папки с розовыми тесемочками он стал осторожней. Стихи этого времени о любви, о приобретениях и потерях, ему они напоминают черные агаты, в которых очертания узоров еле-еле уловимы.
«Темень какая, мрак непомерный! Кто там стучится из этой бездны? Ни луна, ни фонарь, ни пламень свечи неверный. Не озаряют предметов окрестных…»
Неясность, неопределенность, стремление вырваться из душного, страшного мира «мертвого дома», найти спасение бьется пойманной птицей в строках:
«Кто там в черном? Что за скиталец усталый? Словно гвоздем, окровавленным ногтем стену царапавший… Эхом боли немалой ему откликаются рапы мои — мгновенно. Кто бродягой усталым стоит у дверей?»
И ответ последует неожиданный, страшный:
«— Язык мой сух, золы грубей… Дальше идти сил уже нет… Я пить хочу! Отвори, сосед. Вот — кровь, вот слава, вот манна, а вот и отрава, я удрал с Креста. Возьми меня на руки, спрячь поскорей».
Заполненную стихами тетрадь с общим названием «Черные агаты» он посылает по почте в Бухарест своему лицейскому другу Николае Коче, вернувшемуся из Парижа домой. «Ты только никому ее не показывай», — писал Аргези. Кочя то ли не обратил внимания на записку, то ли не послушался, потому что многие литературные издания Бухареста начинают печатать стихи из той тетради. Кто-то (до сих нор это осталось тайной) собирает газетные и журнальные публикации, сброшюровывает их и распространяет. «Черные агаты» начали свою самостоятельную жизнь без ведома автора.
Генералу иезуитов не терпелось. Через несколько дней он снова приглашает к себе Аргези. На этот раз разговор был прямой и недвусмысленный — он обязан принять католичество и стать воином ордена иезуитов. Не исключено, что его услуги понадобятся и в самом Бухаресте, но об этом разговор потом, когда все формальности будут соблюдены и обучение окончено. Да, пока необходимо прояснить еще одно обстоятельство. Бухарестский посланец во время пребывания в Париже, видно, не терял времени зря. Вот письма на его имя от некой Романицы Манолеску. Она пишет о связи Аргези с поэтессой Констанцей Зису. Это же грех!.. Тут пусть уж молодой человек не сердится, но письма подвергаются просмотру — таковы правила, записанные в уставе обители еще со времен Игнатия Лойолы. Кстати, прочитал ли Аргези «Духовные упражнения» и «Конституцию» Общества Иисуса? В библиотеке имеются экземпляры, которые держал в руках сам святой Игнатий. Прочитал? Похвально. Так, оказывается, гость духовно уже подготовлен к принятию католичества? Да, еще относительно последнего письма. Вот оно. Грех, о котором сообщается, нс будет принят во внимание. Париж далеко…
Аргези встал, и по тому, как он стоял, опытный глаз монсеньора уловил, что сейчас молодой человек скажет то, чего он, Доменик Жаке, больше всего боялся.
— Я, монсеньор, приехал сюда не за новой верой, а за новыми знаниями. О письмах же, монсеньор, я и подозревать не смел, что они подвергаются просмотру. Святой Игнатий в собственноручно написанном уставе обители не дает относительно этого никаких указаний. И я не мог себе представить, что о вскрытии чужих писем можно говорить с таким равнодушием и с такой бесцеремонностью, как это делаете вы. Я рад, что не вступил в ваш орден, и вы не имеете права подвергать меня суду святой инквизиции по уставу святого Игнатия. Мой бог дал мне достаточно разума, и потому я не стану воином вашего войска… Вас это, естественно, может не интересовать, но я с каждым днем убеждаюсь, что должен повиноваться только своему единственному богу, моему богу. Я буду воином своего собственного войска, войска моего разума и моей совести. Простите за беспокойство, монсеньор, благодарю за библиотеку и за науку. Да, деньги, которые будут поступать впредь на мое имя от его высокопреосвященства митрополита Георгиана, прошу отсылать обратно… — Аргези наклонил коротко остриженную голову и вышел.
Он очутился на улице. II рядом был только чемодан со всем его имуществом. При мерцающем свете газового фонаря он достал вчетверо сложенный листок из продолговатого конверта с письмом от двоюродной сестры. Она писала, что поэтесса Констанца Зису ждет ребенка, но держит это в строжайшей тайне и просила об этом никому не сообщать. Однако она, Романица, весьма рада этому событию и у нее снова вырисовываются планы относительно своего парижского театра и своего собственного дома.
4
Он долго не мог попасть в боковой карман, чтобы запрятать туда письмо Ромаиицы. Куда идти из-под этого фонаря, который только чуть-чуть рассеивает свет, а дальше тьма кромешная? Куда идти? «Куда ты пронесешь сейчас единственное свое орудие, свое перо, бродячий пес?» Аргези услышал вдруг звук собственных шагов. Он шел вдоль темной узкой улицы этого древнего холодного города и очутился перед оружейной мастерской Теофила Бюсера. Постучался, хозяин высунул голову в окно и спросил:
— Чего ты стучишь, Мишель? У тебя же есть ключ…
— Вы говорили, что, когда понадобится, я смогу к вам прийти, господин Бюсер…
— Это не ты, Мишель? Это мосье Аргези? Ха-ха-ха! А я принял вас за свою жену, подумал, что это она так рано вернулась, ведь договорились, что опа побудет у родителей в Лозанне дней пять. Кто еще ночью может мне звонить? У нас тут только к докторам по ночам обращаются, к акушерам. А я ведь мастер-оружейник, а не акушер. Ха-ха-ха! — Выпалив все это, господин Бюсер спохватился, что гость его ждет перед запертой дверью, и поспешил вниз.
Господин Бюсер был навеселе. Жена уехала еще утром, а в обед заглянул к нему друг.
Лишь на второй день смог объяснить Тудор Аргези своему знакомому господину Бюсеру, что привело его к нему в такое позднее время.
С чудаковатым добряком Теофилом Бюсером Аргези знаком уже давно, он встретился с ним в первый день своего приезда в Фрибург. Тогда стоял солнечный осенний день, дул ветерок и перемешивал дурманящие запахи осеннего леса. Аргези прошел около километра по горной тропинке и у небольшого быстрого горного ручейка увидел склонившегося над водой человека.
— Ты чего за мной подсматриваешь?! — крикнул тот. — Иди сюда!
Аргези подошел.
— Я не подсматриваю. Я просто так шел и остановился.
— Ну ладно. Я шучу. Видно, ты нездешний. Я Теофил Бюсер, мастер-оружейник, известный на весь Фрибургский кантон и окрестности. Ко мне идут ремонтировать свои ржавые допотопные игрушки чудаки из самой Женевы и из Франции приезжают… А ты кто такой? Откуда? — Услышав ответ, Бюсер сказал: — Так вот, из твоей страны никто у меня еще не был, я ни одного ружья оттуда не имею. Ты первый человек из страны, которую я не знаю. И потому гость мой вечный. По горам ходить любишь?
— Очень… Эти места мне даже чем-то напоминают мои любимые места, где течет река Арджеш.
— Тогда здорово! Ты мне про свои места расскажешь, а я покажу тебе мои родные места. Будем бродить вместе? Хорошо?
С этим человеком у Аргези будет связано очень многое в его швейцарской жизни. А сейчас Бюсер попросил его помочь сделать на речке запруду из камней и коряг.
— Сюда олени приходят на водопой. Вода в речке ледяная, а если сделать запруду, она
немного согревается, и олени это знают.
Покинув монастырь иезуитов, Аргези прожил до следующего лета у Теофила Бюсера и научился тонкому ремеслу слесаря-оружейника.
Однажды Теофил Бюсер зашел, как обычно, поговорить со своим квартирантом. Аргези любил развешивать на стенах вырезки из иллюстрированных журналов. Это он делал и в Чернике, и в своей келье на холме бухарестской Митрополии. Хозяину нравилось разглядывать вырезки, и он говорил, что, развешанные, они гораздо красочней, чем в журналах. Тем более что постоялец все время «освежал» экспозицию. Сегодня прямо над его столом разворот из французского журнала «Тарелка с маслом». Обширное пространство, согбенные, измученные босые крестьяне, бесконечной дорогой тянется колонна арестантов в кандалах, погоняемая верховыми жандармами, оборванные бурлаки, впряженные в баржу… Посредине рисунка изображено: лежит могучий богатырь с типичным лицом русского крестьянина. На его спине — пирамида. Первый ярус — кулаки и помещики, второй — исправники и жандармы, третий — множество чиновников, четвертый — духовенство, пятый — армия, шестой — министры, седьмой — царская семья, а на самой вершине — единодержавный Николай II. У лежащего богатыря напряглись руки, он чуть приподнялся, и вся пирамида перекосилась, на ярусах смятение и испуг, а глаза монарха вот-вот вылезут из орбит.
Шел 1905 год.
Россия в огне революции.
Аргези сказал своему доброму хозяину, что ему очень бы хотелось поближе познакомиться с русскими, он знает, что в Женеву прибывает много молодежи из России, приезжают те, кому удается уйти от преследования царских властей.
— Да, там очень много русских! — воскликнул Бюсер. — Отсюда ведь не так далеко до Женевы. Ты можешь туда съездить, возьми мой мотоцикл и отправляйся хоть сейчас!
Конечно, Аргези мог воспользоваться благорасположением господина Бюсера не один раз, но на переезды Фрибург — Женева уходило много времени. А тратить время на дорогу он не мог — нужно было писать, учиться и зарабатывать деньги «хоть на один обед в день».
И он переезжает в Женеву.
В Швейцарии и особенно в Женеве, где Аргези зарабатывает на жизнь ремеслом — делает «то крышки для часов, то кольца, то золотые зубы», — он не только работает. Беспокойного румына часто видят в читальном зале библиотеки Женевского университета, где уже точно знают, что господин Теодореску читает по две книги за неделю, то на лекциях в Виктории-хал, то среди беспокойной шумной молодежи на улице Каруж. В Женеве в то время было много русских, и они притягивают к себе Аргези как магнит. В свои блокноты поэт заносит удивительно теплые слова о русских людях. Он еще не видит разницы между настоящими революционерами-большевиками и анархистами, эсерами. Для него они все «русские в Женеве», но их революционный дух, их готовность отдать жизнь за идею вызывают его симпатию.
Он внимательно прислушивался к их спорам о пути развития России, пытался вникнуть в суть многих газетных статей, брошюр, с которыми его знакомили. И все больше его привлекали те, что разделяли идеи Ленина, говорили о нем с восторгом.
Ведь он с первых шагов, с той поры, когда шлифовал и расписывал камни в мастерской надгробий, слушал яркие речи социалистов в Атенеуме, общался с рабочими сахарной фабрики, дал себе клятву помочь рабочему люду сбросить ярмо насилия. Но как это сделать, Аргези не знал. Женева помогла ему видеть людей разных политических убеждений, общаться с ними, подружиться. У них он научился многому. Но сказать, что Аргези стал в Женеве марксистом, убежденным революционером, нельзя.
Член Исполкома Румынской коммунистической партии, заместитель председателя Государственного совета Социалистической Республики Румынии товарищ Штефан Войтек до объединения социал-демократической партии с компартией был генеральным секретарем Центрального Комитета социал-демократической партии Румынии. Он хорошо знал Тудора Аргези и рассказал, что писатель по всей своей сущности являлся революционером, он всегда был на стороне угнетенных масс, стал неукротимым бунтарем против несправедливости, шовинизма, национального неравенства. Утверждать, что он, когда писал свою «Вечернюю молитву», был уже глубоко убежденным революционером, конечно, нельзя. Но он был тем человеком, которого революционеры могли с уверенностью брать к себе в союзники, зная, что такие люди, как Аргези, не подведут никогда. И он никогда не подводил, до самого последнего дыхания.
5
Из альпийского дневника
«Швейцария небольшая точка на планете, а Женева — точка еще меньшая. Почему же именно здесь перекрещивается столько идей? Может быть, потому, что нейтрализм стал для швейцарцев составной частью их крови. Их страна не воевала уже шесть столетий…
Когда выходишь из трамвая на площади Бель Эр, перед глазами вырастает символический щит Женевы и латинская надпись: «Post tenebras lux» («После темноты свет»). На щите ключ: при его помощи заточенный в мрачной крепости свет был выпущен на волю».
Аргези обедал в большой столовой общества Белого Креста, где обычно обедали и русские.
«За нашим столом много русских парней и девушек. Некоторые девушки обладают могучими мужскими спинами и черными зажигательными глазами кавказских жителей. Пишу «за нашим столом» потому, что мы все Время сидим плечом к плечу — я, румын, один немец и русские. Из румынского племени только я один затерялся в Женеве и, любопытный от рождения, сую свой нос всюду, жажду все услышать, все узнать. Кого только здесь нет!.. Русские прибыли и прибывают из самых отдаленных мест необъятной империи. Их встречаешь всюду и постоянно — в харчевнях, в пивных, в библиотеках, на улице, в многочисленных парках, окружающих Женевское озеро…
На полке передо мной стоит безделушка. Это выточенный из дерева, обтекаемый предмет без ног, без рук, раскрашенный живыми ярко-маковым, небесно-голубым, зеленым и желто-ромашковым цветами. Краски легко читаются, они оттеняют юбку, рубашку, рукава и пестрый, в мелких крапинках передник. Это что-то вроде молодой молочницы с пухлыми розовыми щеками. Розовый цвет переходит из бледного в яркий и нанесен искусной, мастерской кистью. Все цвета передают одну и ту же свежесть и нежность, и нанесенный сверху слой лака, подобно глазури, не пристает к пальцам и не сдирается. Молочница, чуть повернешь, распадается на две части, словно кофейная мельница. Внутри ее обнаруживаешь еще одну, она точь-в-точь повторяет первую, из второй вылезает третья, а из третьей — четвертая. И так до восьмой. Восьмая, размером с кончик мизинца, уже не раздваивается, она из цельного куска. Не там ли хранится великая неразгаданная тайна России?»
«За нашим круглым столом иногда одно место пустует.
— Не будем ждать Васильева? — осторожно интересуюсь я.
Русская девушка, около которой пустует стул, отвечает:
— Сегодня он не будет обедать. — Она невеста Васильева.
Спрашиваю:
— Готовится к экзамену?
Барышня отвечает:
— Он уехал в Варшаву.
Я удивляюсь:
— Так неожиданно? Даже не предупредил нас…
Барышня смеется:
— Поехал с листовками.
Через несколько дней Татьяна приходит на обед с чертой повязкой на левой руке. В Варшаве Васильева по-весили. Это было в среду. В пятницу уехала в Варшаву и Татьяна. До вторника повесили и ее.
А мы собираемся по-прежнему вокруг стола, другие парни и другие девушки занимают свободные места. Часто уже никого из старых знакомых не остается и некому представлять новичков. Оставшиеся в живых смеются, шутят, учатся, им не страшны никакие виселицы.
Я вглядываюсь в лица этих русских, которые смотрят на жизнь и на смерть как на обыкновенную почтовую открытку. Прищуриваюсь, представляя, что передо мной бескрайнее пространство. Останавливаю взгляд, пытаюсь уловить хоть что-нибудь. Что-то горит и густо дымится. Я не в состоянии различить, что же это такое…»
«Барышня Кузнецова, дочь крупного землевладельца из Нижегородской стороны, вернулась из отпуска. Она не занимается революцией, она просто изучает здесь механику. Почему именно механику? Этот вопрос остается без ответа. Хотелось бы увидеть, как выглядит эта голубоглазая красавица с нежными и мягкими руками в рабочей одежде и как она орудует молотком, напильником, зажатыми в тисках заготовками. Ее идеал — механика. Работала в Цюрихском политехническом, а сейчас проходит здесь усовершенствование. Из двадцати русских, сколько их было, когда она уехала на каникулы, осталось только двенадцать. Она уже знает, что восемь попали в лапы охранки и были «удостоены» галстуков Столыпина. Но это в порядке вещей. Барышня протягивает мне серебряное кольцо. Я стесняюсь дотронуться до ее похожих на миндаль пальцев. Понимаю, что не смогу ответить ничем на такой дорогой подарок, и сижу в нерешительности. Она расхохоталась:
— Не делайте для себя проблемы из пустяка, милый господин! Стоит всего две копейки. — И объясняет со знанием дела: — Это чистое серебро, без единого миллиграмма меди.
Она открывает большой баул и раздает подарки всем, как сказочная Снегурочка…
Мое кольцо украшено рельефной лягушкой под толстым слоем прозрачной эмали. Эта первобытная красота, и лягушка походит на языческое изображение бога.
Я вспомнил, что недавно видел в книжном магазине книгу о Нижнем Новгороде, и тут же побежал купить ее. Я прочитал в той книге удивительную сказку. Бесконечные караваны задолго до ярмарки отправляются в Индию и Китаи и путешествуют месяцами. Одногорбые и двугорбые верблюды, эти странные животные с медленной походкой ленивого буйвола, тащат невиданные экзотические товары. Некоторые караваны путешествуют два года — один год туда, один — обратно. А Нижегородская ярмарка длится два месяца».
«Великий князь Владимир пригласил на банкет двести представителей высшего общества. В его распоряжении роскошнейший вместительный зал лучшего ресторана города. Посреди освещенного зала красуется богатый стол. Сотни бутылок дорогого шампанского «Veuve Cliquot» и «Moёt et Chandon» выстроились в ряд, целый батальон фужеров «Baccarat», посуда из дорогого фарфора «Limoges» чередуется с художественными севрскими сервизами. Появляется сияющий хозяин с длиннющим шестом в руке. Взволнованная элита гордо шествует за ним. Великий князь вдруг останавливается, хватает шест двумя руками и с размаху бьет им по столу, крушит, уничтожает, разбивает, сбрасывает со стола все, что может. Раздаются бурные аплодисменты и возгласы «ура».
«Столовая общества Белого Креста устроена специально для «воздерживающихся едоков», опа так и называется «Темперанца» — «Воздержание». Подают дешевые обеды и безалкогольное вино и пиво. Сегодня знакомый русский инженер, который упорно изучает ракету для полета на Луну, сообщает, что после обеда приедет Татьяна Леонтьева, дочь русского придворного генерала. Опа революционерка. Домашние об этом ничего не знают и посылают ей довольно много денег, чтобы опа не испытывала никакого недостатка, пока учится в Женевском химическом училище. Я наблюдал за пей и обратил внимание, что, когда опа разговаривала, хваталась нервными пальцами за нитку бус, окружающих ее грациозную шею, и все время перебирала их, будто считала. На днях Таня узнала от кого-то, что через Базель проедет инкогнито в Париж царь Николай II. Она помчалась в Базель и прождала там напрасно. Никакого царя нс было. Разочарованная и голодная, опа вошла в самый фешенебельный ресторан Базеля. Там развлекалась разноязычная богатая публика — финансовые и промышленные короли, видные чиновники, элита интеллигенции. Нарядные дамы дополняли своим блеском богато обставленный зал. И вдруг открывается позолоченная дверь и в зал, в сопровождении двух лакеев, входит самодержец всея Руси… Татьяна вскакивает, хватает револьвер и, не задумываясь, всаживает в вошедшего четыре пули подряд. Публика мечется, дамы падают в обморок.
Но покушение не удалось. «Царем» оказался некий промышленник Мюллер, как две капли воды похожий на Николая II. Татьяна была арестована и препровождена полицией в Женеву, к месту ее постоянного жительства. Ее должны были судить. Как только Татьяна сошла с поезда на вокзале Корнавин, она очутилась в окружении четырех элегантных жандармов при карабинах, в черных мантиях и треуголках. Они напоминали то ли могильщиков, то ли театральных гамлетов. Девушка высоко держала свою красивую обнаженную голову, шагала уверенно, гордо и пела революционные гимны. Заключившие ее в каре жандармы казались почетным эскортом.
На женевских тротуарах вдоль всех улиц, по которым шла Татьяна, собрались тысячи русских, и они пели хором вместе с ней. Было невозможно по слиться с этим взволнованным, темпераментным, горячим пародом. Сопровождать пленницу со всех концов Швейцарии, из Франции, из Германии собралась вся Россия. И я шел вместе с ней».
Аргези еще много раз вспомнит это женевское событие. Бушующая молодая толпа русских действительно казалась ему всей Россией. И в его поэтическом воображении вырастала огромная страна, которую потом он сравнит с гигантским таинственным океаном. С настоящей же Россией Тудор Аргези встретится лишь через полвека.
6
В Женеве при помощи Теофила Бюсора Аргези снял комнату в доме номер 14 на тихой Павильонной улице. Хозяин часовой мастерской доверил новому работнику настольный токарный станок, выделил недорогой металл для изготовления крышек карманных часов и объяснил ему, что он может работать дома. Это Аргези очень устраивало: будет время для учебы, для работы в библиотеке и посещения лекций в Виктория-хал. Навык обращения с миниатюрным токарным станком он обрел в доме Теофила Бюсера в Фрибурге. Но там он просто помогал Теофилу, а здесь нужно было делать все самому с максимальной аккуратностью и безошибочно. Хозяин предупредил: «У часов точность начинается с внешнего вида. Самый точный механизм в небрежно сделанном корпусе уже не внушает доверия. Я на вас надеюсь, господин Аргези».
И «господин Аргези» старался.
С того времени, когда одиннадцатилетний Янку начал шлифовать надгробия в мастерской при бухарестском кладбище, прошло пятнадцать лет. За эти годы он побывал в монастыре, но не вышел из него слуга православной церкви и тем более воин ордена иезуитов. Он ушел и от одной церкви и от другой. Сейчас он думал, как быть дальше. Тосковал по дому, по друзьям.
Когда родился сын, он помчался в Париж. Ему показалось, что поезд слишком долго едет до Парижа, и он нанял мотоцикл. Было уже за полночь, вернувшаяся со спектакля Романица Манолеску, «карпатский соловей», отдыхала в кресле. У Аргези в кармане был ключ от ее квартиры, и он открыл не постучавшись. Романица не удивилась неожиданному появлению гостя. Сказала устало:
— Она куда-то уехала. Элиазар у кормилицы, в приюте.
Элиазар. Так назвала Констанца Зису своего сына. А кого назвала она отцом Элиазара? Но в этот приезд Аргези не смог ничего узнать. Хозяйка, где жила Констанца Зису, не знала, куда она уехала, адреса кормилицы она тоже не оставила.
…Хозяйка дома в квартале Нотр-Дам на этот раз не потребовала гарантии, что он будет жить здесь долго, и денег вперед не потребовала — сколько проживете, столько и заплатите, какой может быть разговор, господин Аргези? Он не дождался, пока Романица вернется с концерта, устроился у печки сушить одежду, надел сухое белье и улегся под иконой божьей матери. Но сон не приходил. Так он и пролежал с открытыми глазами до самого утра, до «грани дня и ночи».
«День голубой всплывает в окне из синей ночи… Когда ушла надежда, когда она пришла?»
Вскоре после этой поездки в Париж Аргези привозит в Женеву своего маленького сына Элиазара и устраивает его в частный пансионат для малолетних.
«С поэтессой Констанцей Зису, матерью Элиазара, видно, отец не нашел общего языка, и создать общую семью они не смогли. Но факт остается фактом — Тудор Аргези узаконил в Париже ребенка и с согласия матери записал его на свою фамилию. С ее же согласия он увез маленького Элиазара в Женеву». (Из рассказа Баруцу, младшего сына Аргези.)
Таким образом, в Женеве у Тудора Аргези появилась еще важная забота — нужно было одному, без жены, без бабушки, вырастить Элиазара. И отец старается, чтобы сын не ощущал той нужды, которую ощущал он, Аргези, в детстве.
7
Хозяин мастерской ставит непременным условием для дальнейшего продления рабочего контракта — не переходить к другому хозяину, не требовать повышения заработка: в течение пяти лет хозяин сам, по своему усмотрению может об этом подумать, но не гарантирует. И еще одно — не отлучаться на продолжительное время. Это тоже непременное условие. Аргези осмелился спросить:
— Ну а случись что за эти пять лет…
Хозяин не дал закончить вопрос:
— Если за эти пять лет случится что-либо с мастерской? Банкротство, например? Тогда мои рабочие разделят мою участь. Но этого не может случиться! Этого не будет!
Хозяин был самоуверенным человеком.
А Тудор Аргези бедствовал. Даже самому стыдно признаться — нет денег, чтобы выписать бухарестскую газету, часто не на что купить марку и отправить письмо. Но откуда же узнал об этом «молочный брат» Жан? Жан, добрый товарищ его детства, стал посылать ему на Павильонную улицу по три франка в месяц. «Я сейчас зарабатываю немного, — писал Жан, — находятся любители моих картин и покупают. Если у меня будет больше денег, я тебе пришлю больше, если же нет — знай, я буду посылать тебе по три франка. Не вздумай высылать мне их обратно! Прошу тебя об этом, зная твой самолюбивый характер».
Милый, добрый Жан! Знал бы он, из какой нужды выручают Аргези эти три франка!
О Румынии швейцарские газеты почти не писали. Аргези перестал удивляться этому, когда в полицейском участке произошел следующий разговор:
— Имя?
— Иосиф Теодореску.
— Национальность?
— Румын.
— Что вы сказали?
— Румын.
— А это что такое? О такой национальности я что-то не слышал, — сказал полицейский с явным удивлением.
— Загляните в карту, — дерзко ответил Аргези.
— Это какой материк? — спросил серьезным тоном полицейский.
— Для вас материк неизвестности, — ответил Аргези. — А для меня это моя родина.
— Ваша профессия?
— Профессии у меня еще нет.
— Ваше постоянное местожительство?
— Постоянного места жительства у меня тоже нет. Снимаю комнату на Павильонной, четырнадцать.
— Временно?
— Да.
Полицейскому было все ясно — этого типа нужно провести по рубрике «подозрительный». Подумаешь, «материк неизвестности»! Пусть им занимается тайная полиция.
Из полицейского участка он вышел поздно. Женева спала, нигде ни огонька, только свет уличных фонарей бросал на опустевшую набережную страшные тени изуродованных голых ветвей платанов. Аргези свернул к району Павильонной. Что же предпримет полиция в дальнейшем? Может, спросить об этом мудрого турка Али? Какое совпадение! Бухарестский Али, старый продавец браги и восточных сладостей, прижавший его, маленького Янку, к своей костлявой груди, и этот турок Али Фехми, умный собеседник и сосед, содержащий свою лавку в переулочке неподалеку от Павильонной. Не заглянуть ли к нему?
Али продавал табак. Его лавка выходила на улицу одним окном и застекленной дверью, вечно запертой на ключ. Она открывалась только по звонку и только перед знакомым клиентом. Лавка Али походила на старый ящик, куда бросают домашний железный лом, старые календари, тряпье и хранят гвозди, молоток, клещи, тиски и прочие необходимые в хозяйстве вещи. Из-под прибавка с медными, турецкой ковки весами торчали истоптанные ботинки хозяина. Старый застекленный шкаф служил ему библиотекой, а весь его товар лежал в четырех жестяных коробках и в одной керамической бочке. Табак Али Фехми получал с родины, его клиенты — настоящие ценители табака, и он, Али Фехми, знает цену обхождению. Он при самом клиенте распеленает туго затянутую крепкими ремнями навощенную пачку и, словно перед молитвой, чуть призадумается, потом медленно доберется до отливающих золотом желтых листьев. Они высохли под горячим, родным солнцем Али и распространяют знакомый одному ему в этой стране гелветов душистый и неповторимый запах. В такие минуты он подымал на Аргези свои задумчивые глаза и обещал:
— Я расскажу вам, господин Аргези, когда-нибудь расскажу вам свою историю. Мог бы я писать так, как вы, я бы рассказал в книге об этом всему миру. А так все умрет вместе со мной. Умрет, господин Аргези.
Сквозь занавешенные стекла струился еле заметный огонек: Али еще не ушел в заднюю каморку, где готовил себе кофе и нехитрую еду, читал Коран и отдыхал. Услышав стук, он отодвинул уголок занавески. Не ожидая вопроса «Кто там?», Аргези приблизился к стеклу и сказал:
— Откройте, Али, это я, сосед ваш.
— О, как это вовремя вы пришли, господин Аргези, как я ждал вас! Вы видели, что пишут сегодня газеты? Русский броненосец «Потемкин» поднял восстание. Вы посмотрите!
Женевские газеты на первых страницах печатали обращение судовой комиссии «Потемкина» «Ко всем европейским державам».
— Вы только посмотрите! — потряхивал газетой Али. — Моряки повели крейсер в Констанцу, а правительство Румынии отказалось дать топливо, продовольствие! Вы только посмотрите!
Аргези не мог ничего ответить. Да, конечно, он румын, ему стыдно за то, что правители его страны отказались помочь русским революционерам. Но они и не могли этого сделать. Король Карол I ничем не отличается от русского императора Николая II. У них даже бороды почти одинаковы, а мозги уж наверняка, они зажаты тем же самым обручем короны тщеславия и величия. Бунтовщиков надо давить объединенными силами. И конечно, «цивилизованный» мир, «европейские державы», к которым обращаются потемкинцы за помощью, скорее помогут их задушить, чем дадут топливо или продовольствие.
Али слушает эти рассуждения Аргези, долго молчит, берет зарытый в раскаленном на плите песке кофейничек, наливает по-особому приготовленный напиток, для дорогого гостя постарался. Он откроет сейчас этому молодому румыну свою тайну. Он еще никому об этом не говорил. Тайная полиция долго домогалась, но Али ни слова об этом не сказал. Он, Али Фехми, был профессором в Константинополе, унаследовал от своих родителей большое богатство. У него стояли в конюшне и красавцы жеребцы, быстрые как молнии, были и необъезженные кони, у него были жены и неразлучные друзья, с которыми отправлялся не раз охотиться. Они имели все — богатство, положение в обществе, и все-таки в их горячих юных головах зародилась идея свергнуть могучего деспота Абдул-Хамида. Они решили бороться за свободу, за благо народа Турции. Но среди них оказался предатель, и все полетело. Богатство, вороные кони, красавицы жены остались в кажущихся сейчас далеким сном воспоминаниях. Он, Али Фехми, был приговорен к смертной казни, к жестокому четвертованию. Но аллах велик и помог ему вырваться из-под стражи, когда уже вели на казнь. В лодке добрался Али от Босфора до устья Дуная, приплыл в Галац и под видом юного турка, безродного сироты, продавца табака, добрался до Женевы. А здесь, под толстым переплетом Корана, у него хранятся страницы революционных книг и кодексов международного права. Он еще докажет миру, что все его устройство противоречит всемирному праву. (Чтобы снять этот подвальчик для своей лавки, Али копил целых пять лет сантим к сантиму и питался один раз в день только хлебом и молоком.) Он закрутил из табачного листа папиросу, прочистил спичкой толстый, похожий на свечу янтарный мундштук и закурил. Предложил в гостю пахучий, приправленный медом трубочный табак. Аргези медленно набивал трубку, а тем временем Али от затяжки до затяжки пел на своем труднопонятном языке тоскливую до боли песню. Небольшая комната наполнилась дымом, и собеседники, не сговариваясь, встали и вышли на улицу. Было совсем тихо, со стороны озера тянуло приятным холодком, а снежная шапка Альп, легендарный Монблан касался самой луны, и с его вершины, казалось, устремлялись вниз потоки бенгальских огней. И эти альпийские нетающие снега доносили до Али таинственный говор далекой родины. Они долго бродили по узким улицам, вдоль невысоких домов Женевы, в которых уже давно спали чиновники и часовщики, торговцы и фабриканты медикаментов. Завтра рабочий день, и надо за ночь выспаться, невыспавшемуся нечего на работу ходить. Вначале, когда только приехал сюда, Аргези удивлялся этому общему распорядку швейцарцев, потом удивляться перестал, но сам никак не мог к нему привыкнуть. Они говорили о том, о сем, снова закурили и не заметили, когда вышли из района Павильонных улиц и оказались на
более широкой улице, дома которой еще хранили запах свежей извести и краски.
— Я каждый вечер уже много лет делаю этот круг, перед тем как ложиться, — сказал Али. — Легче засыпаю после прогулки. Привык. Кругом все спят, а я гуляю. В прошлом году вот в этом доме, вижу вдруг, одно окно светится. Я очень удивился. Но окно светилось и завтра, и послезавтра, и через месяц светилось, и через два месяца. Подумал: наверное, хозяева уехали или, может быть, заболели, в больнице лежат и забыли свет погасить. Потом однажды вижу — не горит. Вернулись хозяева, значит. А в следующий вечер выхожу, вижу — опять горит. Уж, знаете, я от природы нелюбопытный. А тут, думаю, спрошу квартального. Того, видно, не я первый об этом спрашивал. Ответил: «Да там один русский чудак все пишет и пишет. Говорят, хочет перевернуть мир».
За тем освещенным окном работал Ленин.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1
В России бушевала революция. Ленин выехал из Женевы.
«Настроение, по всем признакам, нарастает. Взрыв неминуем и, может быть, недалек. Свеаборгские и кронштадтские казни, расправы с крестьянами, травля трудовиков — членов Думы — все это только разжигает ненависть, сеет решимость и сосредоточенную готовность к битве. Больше смелости, товарищи, больше веры в силу обогащенных новым опытом революционных классов и пролетариата прежде всего, больше самостоятельного почина! Мы стоим, по всем признакам, накануне великой борьбы. Все силы должны быть направлены на то, чтобы сделать ее единовременной, сосредоточенной, полной того же героизма массы, которым ознаменованы все великие этапы великой российской революции. Пусть либералы трусливо кивают на эту грядущую борьбу исключительно для того, чтобы погрозить правительству, пусть эти ограниченные мещане всю силу «ума и чувства» вкладывают в ожидание новых выборов, — пролетариат готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу буре, рвется в самую гущу битвы. Довольно с нас гегемонии трусливых кадетов, этих «глупых пингвинов», что «робко прячут тело жирное в утесах».
«Пусть сильнее грянет буря!»
[25] — писал Ленин в статье «Перед бурей».
Нарастание революционного настроения в России ощущалось и здесь, в Женеве. О статье Ленина «Перед бурей» Аргези узнает из споров своих русских товарищей. Он продолжает встречаться с ними в столовой «Темпе-ранца» на улице Каруж, ездит в Берн, в Цюрих слушать рефераты, старается узнать новости о происходящем в России.
Идут тревожные вести и из дома. Письма с родины приносят горькие сообщения. Аргези пишут о развернувшейся в стране кампании «оздоровления румынского духа». Ее возглавил Николае Йорга. Профессор противился переводу на румынский язык произведений иностранной литературы, поскольку она, эта литература, представляла, по его мнению, опасность для сохранения чистоты румынского духа. 13 марта 1906 года в Бухаресте разразился крупный скандал, окончившийся кровопролитием. Группа самодеятельных артистов должна была дать на сцене Национального театра большое представление на французском языке. Йорга призвал бухарестских студентов организовать на площади перед театром демонстрацию протеста против «осквернения первой сцены страны». Студенты двинулись к театру с пением песни «Пробуждайся, румын!» и учинили беспорядок, требуя отмены спектакля. Дело дошло до вмешательства войск. В том же году Йорга организовал «Общество чистокровных румын».
Русская революция оказала огромное влияние на крестьянское движение в Румынии. Судя по газетам и письмам Галы, страна кипит, и, если взорвется, никто уж не будет в состоянии успокоить. Так думал Гала. У него еще не было представления о том, что для «успокоения» революций власть имущие всех стран объединяются и помогают друг другу.
Так они «успокоили» и первую русскую революцию.
В феврале 1907 года поднялось крестьянское восстание в Румынии. Оно возникло на севере и вскоре охватило всю страну.
Газеты сообщали, что в парламенте на холме Митрополии депутаты правящей партии и депутаты оппозиционной партии, которые до сих пор разыгрывали между собой комедию демократии, единодушно решили усмирить восставших.
«Вершина нашей социальной пирамиды, — писал Гала, — закачалась от страха, гнев против бедных наполнил верхушку новой энергией… Непосредственная опасность сблизила бывших противников, они побратались. Вожди партий обнялись и расцеловались! Все присутствовавшие при этом прослезились. Несчастное крестьянство, вздрогни! Твои хозяева, оставив в стороне междоусобные распри, пошли общим фронтом против тебя!»
Гала Галактион обращается к лицейскому другу Иону Дуке, ставшему генеральным директором румынского банка, и просит помочь ему организовать группу священнослужителей, которые готовы разъехаться по стране, созывать верующих помещиков и власть имущих и просить их о милосердии.
«Бедный, наивный Гала!» — воскликнет Аргези.
Поэт-изгнанник далек от того, чтобы взывать к милосердию кровопийц.
События 1907 года тревожили Тудора Аргези всю жизнь. Кровь 11 тысяч расстрелянных крестьян обжигала его, горела неугасимым пламенем. Почти через пятьдесят лет уже в преклонном возрасте поэт завершает цикл стихов, объединенный общим названием «1907».
«…Вдруг в Стэнилешть, Флэмынзь и в Ходивое рванулось к небу пламя, хрипло воя… Так из селения в селенье бежало пламя в исступленья. Охватывали яростно пожары боярские хоромы и амбары… О боже! Помоги! Страна восстала!»
В популярном, всем близком и знакомом ритме народной дойны поэт слагает легко запоминающиеся, проникновенные стихи:
«Для господ народ — что мухи: к нашим стонам баре глухи… Коль избавят от расстрела, то взамен — хитро, умело — ткут из шелка паутину, заползают в середину и сидят, и ждут все вместе пауками в Бухаресте, чтоб при первом же улове пососать бедняцкой крови…»
«В сраженье со страною бояре победили, они в могильный саван деревни обрядили, злодеи, торжествуйте! Отребью честь и слава! Ликует в Бухаресте сановная орава… К земле пригнулись хаты, не вьется дым над крышей, нависло над полями зловещее затишье… Тьма тянется по пашне, вползает в помещенье, во мраке зреют гроздья грядущего отмщенья. Прорежет мглу шептанье, мелькнет огонь в глазах и вытеснят из сердца уныние и страх. Бунтарский ярый пламень не загасить слезами: наполнятся однажды усадьбы голосами, с резных боярских кровель взовьется красный кочет, и гром Седьмого года вновь грозно загрохочет. Иной — жестокий, мудрый, победный год грядет, он будет похоронным, последним для господ! Настанет день — восстанет проснувшийся солдат и с нами рядом станет плечом к плечу, как брат!»
Ион Георге Дука не помог бывшему своему коллеге по лицею «Святой Савва» и нынешнему студенту теологического факультета Гале Галактиону отправиться к восставшим крестьянам с проповедями. Гала Галактион метался из одного учреждения в другое, пытался собрать единомышленников среди служителей церкви и все же отправиться в деревни, но из этого ничего не вышло. Сытые столичные слуги господни предпочли не рисковать — мало ли что может случиться в восставших деревнях, а потом правительство все же лучше знает, что делать…
А правительство принимало серьезные меры.
Гала Галактион заносит в дневник:
7 марта 1907 года. На севере Молдовы происходят страшные события. Многочисленные села на территории нескольких уездов горят, подожженные огнем восстания и возмущения. Крестьяне взялись за дубины, схватили вилы и обрушились на виновников своих страданий. Они правы! Слепая, безнадежная, растоптанная правда подняла голову…»
«19 марта 1907 года. За девять прошедших дней наша несчастная страна прошла полосу разорения, огня и гибели тысяч и тысяч людей! Драма Молдовы приобрела в Валахии характер чудовищной трагедии… Правительство бросило на восставших войска. Они окружили упрямых и непокорных и устроили настоящую бойню».
На смену консервативному правительству, которое действовало против восставших не с должной решительностью, пришло либеральное правительство. Но, по сути, ничего не изменилось. Две главные буржуазные партии имели только разные вывески. Страна была разбита на военные зоны. Для защиты Бухареста от двигавшихся колонн восставших крестьян в помощь жандармерии было подтянуто 15 тысяч солдат регулярной армии, к деревням подходила артиллерия и стреляла по толпе прямой наводкой из пушек.
Крупнейшее в истории Румынии восстание было потоплено в крови. Газеты сообщали о тысячах и тысячах убитых крестьян. Министерство внутренних дел дало распоряжение местным властям сообщать в своих ежесуточных рапортах, сколько убито восставших. По этому показателю судили о доблести жандармов и воинских частей. Помещикам и богачам предоставлялось право самосуда над крестьянами, и они расправлялись с ними самым зверским образом.
Лозаннская газета «Голос народа» в своем субботнем номере 11 июля 1909 года сообщала, что вопреки твердым правилам охраны неприкосновенности частной переписки руководители почтового ведомства вмешиваются в переписку граждан и предоставляют сведения о ее содержании тайной полиции. Не минуло это вмешательство и Тудора Аргези. Почтовый служащий Морис де Сиебенталь обращается в редакцию газеты «Голос народа».
«Агент предъявил в окошечко предписание дирекции почт давать полиции необходимые сведения о господине Теодореску, проживающем в доме на Плэнпале. Агент попросил также составить список всех газет, адресованных господину Теодореску. Наш начальник Дюсингер подчинился всем требованиям агента полиции. Это меня возмутило в высшей степени потому, что прекрасно знаю господина Теодореску как уважаемого, порядочного и весьма честного человека. Ничего порочащего за ним я никогда не замечал».
А из Бухареста идут письма от друзей — они пишут, что его «Черные агаты» распространяются в рукописном журнале, их печатают многие газеты, его ждут, «дома много работы», — пишет Гала.
Но у Аргези совсем плохи материальные дела. Хозяин-часовщик оказался чересчур самоуверенным, дела его мастерских шли неважно, заработки рабочих были совершенно случайными. Мастерские то и дело переключались на новые виды продукции. Аргези приходилось делать серьги, кольца, брошки и другие дамские украшения. Еле-еле хватало денег на оплату за содержание сына и за квартиру. На питание и на одежду денег почти не оставалось, и он часто голодал, заменяя, как признается позже, обед сном. «Организм требует калорий, а у меня их неоткуда взять, я могу собраться с силами и дать ему единственное, что не надо покупать, — отдых. Так со временем я привык к тому, что можно заменить обед одним-двумя часами сна», — писал он.
Никогда еще Аргези не видел Али Фехми таким веселым и торжественным. Тот надел чистый костюм, навел блеск на свои истоптанные башмаки, завязал галстук, выбросил шапку и надел красную феску с кисточкой.
— Сегодня у меня и у всех турок великий день! Великий день, господин Аргези. Тиран Абдул-Хамид, мой смертельный враг, низложен. Надо ехать домой, господин Аргези, надо ехать домой.
Али стал готовиться к отъезду и снизил цену на табак, чтобы продать его быстрее.
Готовился к возвращению на родину и Аргези.
Седовласый бородатый Гала Галактион вихрем влетел к Николае Коче.
— Ты знаешь, что Тео погибает в Женеве от голода?
— О том, что погибает, не знаю… От голода, говоришь, погибает? Ну-ка, святой отец мой, сядь. — Залысины Кочи углубились, над высоким лбом торчали жесткие упрямые волосы, походившие на рога. Гала сел и вдруг засмеялся:
— Ты знаешь, кого напоминаешь сейчас? Лысого Мефистофеля! Я напишу об этом Тео.
— Конечно, напишешь… — Кочя встал и прошелся по комнате. — Да, но мы что-то не о том говорим. Нужно вернуть Аргези домой. У тебя, кроме эмоций, есть какая-нибудь идея?
— По пути из Женевы домой в Турцию остановился в Бухаресте один старичок по имени Али Фехми. Он дружил в Женеве с Тео и кое-что рассказал мне о нем. Тео собирается домой. Надо помочь ему.
Николае Кочя издавал в то время журнал «Факла» — «Факел». Параллельно он работал над первым номером журнала «Вяца сочиалэ» — «Общественная жизнь». Этому изданию было суждено объявить о том, что на литературном небосклоне Румынии появилась новая звезда первой величины. Кочя публикует стихотворение Аргези «Вечерняя молитва» и объявляет, что он открывает этим свободное сотрудничество социализма и искусства «под эгидой самого революционного поэта — Тудора Аргези…». Поэзия Аргези виделась ему именно такой.
«Вечность, вечность, — явись! Все купола свои разом сдвинь! — дабы в свисте слились бесконечном! О вечность! Вонзись, как стрела, в изнуренный мой разум, в грудь, где страшные сны зажились. Символ — вечность! Сожмись до пушинки в своем сокращеньи! Прояснись во мне и распространись! Дай из вечного вырваться круговращенья: метеором — дай ринуться вниз!.. О, дай мне могущество мага! И я разобью, рассыплю в мельчайшие дребезги землю твою. Дабы вспыхнул глагол мой, как сполох огня всемогущего, вездесущего, змеей ползущего; дабы голос мой шел по земле в виде плуга, несущего счастье, где бы он след ни провел.
Дай мне мощь погрузить на дно мир неясный, дряхлый, пустой; да восстанет из бездны той мир прекрасный, мир молодой (курсив мой. —
Ф. В.). Да поглотит тогда меня, просветленного, твой поток! В этот вечный мир — не вписал ли я новых несколько строк?! Хоть раздавлена в нем, как нежный росток, мечта моя»
[26].
Возможно, когда Кочя характеризовал Аргези как самого революционного поэта, он имел в виду не только его бунтарский дух, но еще и стремление Аргези революционизировать само стихосложение, писать так, как никто еще до него не писал.
«Вечерняя молитва» появилась 10 февраля 1910 года в первом номере журнала «Общественная жизнь» и произвела впечатление грома средь ясного неба. Узкий круг почитателей Аргези, знакомых с его стихотворениями по рукописным тетрадям, возликовал, дождавшись наконец, когда их кумир, заявил о себе полным голосом. Старейший румынский литературный журнал «Вяца ромыляскэ» — «Румынская жизнь», сообщая в редакционной статье, что «Общественная жизнь» помещает стихотворение Аргези, заявлял: «Нам не хотелось бы ничего говорить об этом явлении, чтобы не выглядеть смешными». Однако далее в статье отмечалось, что это стихотворение «предвещает гения». Автором редакционной статьи оказался известный румынский критик и теоретик литературы Гарабет Ибрэиляну. Аргези помнил этого человека с «яркими и живыми глазами» еще с тех пор, когда он с Галой и Ночей посещали кружок социалистов, получали из рук «дядюшки Гарабета» книги по искусству и литературе, политические трактаты модных в то время социалистов. Ибрэиляну привлекал ребят своей добротой, желанием поделиться знаниями, объяснить непонятное. Он был прямой противоположностью тех образованных педантов, которые несли свои образованные головы как завоеванные в тяжелых битвах бесценные трофеи.
Аргези же готовился к отъезду из Женевы в Бухарест и не знал о том, какое впечатление произвела его «Вечерняя молитва» на его поклонников и противников.
Здесь будет уместно небольшое отступление о положении в румынской литературе и общественно-политической мысли в канун первой мировой войны.
Кровавое подавление крестьянского восстания 1907 года развеяло иллюзии романтического направления в румынской поэзии конца прошлого века, литературных и политических течений «попоранизма»
[27] и «сэмэнэторизма»
[28] и прочих. Все больше пробивала себе дорогу литература критического реализма. Начал публиковать свои романы Михаил Садовяну, с острым политическим памфлетом «1907. От весны до осени» выступил Ион Лука Караджале. Но этому памфлету выдающегося, признанного классика румынской литературы не нашлось места на страницах издававшихся тогда в Румынии журналов и газет. Его напечатала венская газета «Ди цайт».
Караджале пишет, что в европейском понимании слова политических партий в Румынии нет. «Две так называемые исторические партии, чередующиеся у власти, на самом деле лишь две клики, располагающие не сторонниками, а клиентурой». Что касается администрации, то это две большие армии: одна находится у власти, другая ждет своей очереди. «Голодные садятся за стол, сытые уходят переваривать пищу. И так каждые три года и даже почаще».
И вполне естественно, что появление стихотворения Аргези «Вечерняя молитва», где поэт призывает «погрузить на дно мир неясный, дряхлый, пустой», чтобы восстал «из бездны той мир прекрасный, мир молодой», было воспринято с восторгом одними и с негодованием другими. Скоро читатели познакомятся с памфлетами Аргези. Они явятся прямым продолжением неутомимой работы вынужденного жить на чужбине старого и больного Караджале. В вышедшей недавно в Бухаресте книге Ов. С. Крохмэльничану «Румынская литература между двумя мировыми войнами» творчество Аргези определено как «аргезинское чудо» («Miracolul arghezian») и по праву утверждается, что возвращение поэта в страну в 1910 году «оказало огромное, определяющее влияние на все литературное движение».
Приближалась зима 1910 года, а денег на отъезд он так еще и не смог накопить. Друзья в Бухаресте откладывали каждый, сколько может, чтобы помочь Аргези. Больше всех старался Гала Галактион. Он снова пошел к Иону Георге Дуке.
— Ты банкир, Дука, чего стоит для тебя выдать своему коллеге по лицею несколько тысяч лей? Помоги!
Дука выдал чек на сто лей. По подписному листу собрали еще двести двадцать. И каково было удивление и радость
Аргези, когда пасмурным осенним женевским утром к нему постучался почтальон!
Вместо обычных ежемесячных трех франков от «молочного брата» Жана Стериади — триста двадцать франков! При его бедности целое состояние!
У Аргези не было с кем поделиться своей радостью. Али Фехми вот уже год как уехал. Обещал написать, но не пишет. В Турции снова репрессии, не угодил ли бедный Фехми на виселицу? «Между прочим, я радуюсь возвращению домой, а что же ждет там меня? Что бы ни ждало, я еду!»
Перед отъездом ему нужно повидаться со своим другом Теофилом, нужно съездить в Фрибург, от Женевы три часа езды поездом. Теофил рассердится, если не попрощаться с ним.
За эти пять лет после отъезда Аргези из Фрибурга город расширился, вдоль железной дороги строился новый район и какая-то фабрика. Но старый город сохраняется таким, каким он был сто, двести лет тому назад. Уходят почти вертикально от берега Сарины узкие древние ступенчатые улочки, торчат на уступах зубчатых скал белые, сверкающие на солнце домики, словно блестящие игрушки на рождественской елке, высятся иглы древних колоколен, журчит струящаяся вода в широких каменных лоханях, где кучера дилижансов поят лошадей, как и сотни лет назад. На берегу Сарины маленькие прачки стирают белье, бьют его короткими вальками. Посредине города — темные здания монастыря кордельеров. Там царствуют Доменик Жаке и его иезуиты. Смешно! Как этому генералу пришло в голову сделать из румынского экс-монаха иезуита?! Аргези пытается найти отсюда с высоты дом Теофила. Нет, не может. Интересно, что скажет Теофил? Он, конечно, ждет не дождется, когда закончится этот день, завтра же воскресенье! Он возьмет жену и отправится в горы, на свободу, к счастью, как любил говорить Теофил Бюсер.
— Конечно, поедете с нами, господин Аргези! На свободу, на воздух!
Этими словами встретил оружейник гостя из Женевы. Сколько времени прошло уже с тех пор, как уехал из Фрибурга господин Аргези и ни разу не приезжал сюда. А за это время в семье Теофила большое событие! Родилась эта болтунья Линель.
— Вы еще не видели нашей Линели? Жена! Посмотри, кто к нам приехал! Это господин Аргези. Покажи ему нашу дочку, живо, живо, он же не видел еще нашей Линели… Да, еще что я вам не успел сказать, господин Аргези! В Лозаннском музее приобретена новая картина Ходлера. Наш фрибургский пейзаж и наши суровые люди
с квадратными затылками, как вы изволили шутить. Обязательно нужно вам посмотреть.
Аргези стоял и слушал этот словесный водопад милого добродушного лилипута Теофила Бюсера, в черной бороде которого пробивалась проседь.
Жена Теофила ничуть не изменилась за эти годы, такая же проворная и властная. Она подчинилась на этот раз мужу и приодела дочку ради гостя. Об этом человеке, румыне, как говорил муж, она самого высокого мнения, и считает, что там, в Румынии, мужчины красивые, умные, трудолюбивые и заботливые, а не такие бестолковые, как ее лилипут Теофил, который ничего более умного не нашел в жизни, чем ремонтировать всякое хламье для убийства птиц и животных и — не дай бог — людей.
С вечера жена Теофила приготовила все для дороги. Тость, разумеется, пойдет с ними в горы.
Дождь, ветер, снег, гром и даже приезд самого дорогого гостя не могут изменить укоренившийся в семье жителя Швейцарии обычай уйти на воскресенье из дома, выйти на свободу. Так что Аргези оказался с семьей Теофила. Был ясный солнечный день, и из долины реки Сарины тянуло приятной осенней прохладой. Теофил громко кричал, пел песни на очень странном французско-немецком диалекте, заставлял Линель повторять за ним, и если та повторяла, то он становился лошадкой, давал девочке веревочку-уздечку и скакал с нею на спине по лужайке.
Тем временем его жена приладила на походной спиртовке кастрюлю и колдовала над ней. Она готовила фондью, любимое блюдо швейцарских горных пастухов. Аргези слышал об этой еде, но отведать не приходилось. Поджаристые квадратики пахучего хлеба, двузубые вилки с длинными деревянными ручками и эта вязкая кипящая масса из тертого твердого сыра, сваренного на белом вине и «кирше» — черешневой водке, приправленной чесноком и перцем. Бери на вилку кусок хлеба, макай в кипящую массу, дуй что есть силы и ешь. «Это очень вкусно, господин Аргези, очень вкусно. Моя жена горянка и в этом знает толк!» Теофил с аппетитом ест и приговаривает: «Какое счастье! Какое счастье!»
Что ожидает его, Тудора Аргези, дома, в Бухаресте? Элиазар спит сейчас на диване вагона второго класса мчащегося в темноте поезда. Через сутки они будут в Бухаресте. И что там? Элиазар улыбается во сне. Может быть, ему снится мать. Какое совпадение судеб отца и сына: расти без материнской ласки. Аргези и сейчас, правда очень редко, видит во сне мать. Хотя он ее никогда и не видал. У отца не было даже фотографии матери Янку. В квартире на виду была фотография Анастасии. Анастасия, видно, не могла перебороть, чувства отчужденности и часто откровенной враждебности к своему пасынку. Она сама сказала об атом иеродиакону Иосифу в главной церкви Румынии, на. холме Митрополии. Сколько уже лет прошло с тех пор и почему именно сейчас вспомнил об атом Тудор Аргези?
Был конец великого поста. С утра выдался яркий, безветренный теплый день. Церковь Митрополии пустовала, в такие дни верующие спешат в поле, на огороды, а не в церковь. Богатые верующие еще спят, они придут молиться позже. Иеродиакон Иосиф прочитал предусмотренные требником для этого утра молитвы и вышел посмотреть, все ли убрано вокруг святой церкви. Обратил внимание, что по широкой аллее, ведущей со стороны площади Объединения, медленно шагает облаченная в черное женщина. Странной выглядела эта фигура при ярком свете утреннего солнца. Она, казалось, подымается на Голгофу. Он, сам не зная почему, стал ждать ее приближения, ему захотелось узнать, куда и зачем она идет.
— Целую вашу руку, благословите меня, отец, — сказала она слабым потухшим голосом. Лицо ее было закрыто черным платком, глаза смотрели только вниз. — Где смогла бы я найти иеродиакона Иосифа? Он мне очень нужен.
— Я иеродиакон Иосиф.
Женщина подняла глаза к небу, посмотрела на высокие купола, перекрестилась и вздохнула с облегчением.
— Спасибо, господи, что услышал мою молитву, смилостивился надо мной, грешницей, спасибо, господи. — Закончив это обращение к всевышнему, снова потупив взгляд, женщина попросила иеродиакона: — Я пришла к вам, отец Иосиф, с преглубокой просьбой выслушать меня.
— В неделю великих страданий нашего господа Иисуса Христа это наш долг, мать. Пойдемте.
В темном углу перед иконой богородицы, стоя на коленях, женщина говорила три часа подряд, а иеродиакон Иосиф слушал не перебивая. Женщина говорила то тихо, то чуть повышая голос, рыдая и жалуясь, прося прощения и облегчения своей участи. Женщина говорила о том, как она шестнадцатилетней девушкой вышла замуж за высокого красивого человека. Только после венчания он признался ей, что у него была жена, что она родила ему мальчика и в тот же день умерла. И ей, шестнадцатилетней, придется растить этого мальчика, заменить ему мать, потому что никаких бабушек у него нет, и мальчика по имени Янку кормит сейчас грудью молодая и красивая крестьянка, жена разорившегося торговца овощами в «Пяца Амзей». У нее много молока, и она кормит за деньги сирот и ребят безмолочных матерей.
— Начались пеленки, каши, бессонные ночи. Я не могла с этим справиться, — продолжала женщина. — Я желала смерти этому мальчику, я его ненавидела. У моих родителей я росла одна, с самого детства не любила других детей, и этого Янку я приняла как божье наказание. И чем больше не любила я этого мальчика, тем хуже относился ко мне мой муж. Из-за меня мальчик ушел из дому. А потом муж мой ушел к другой женщине. Я осталась одна, мучаюсь мыслью, что это божья кара за все.
Она говорила еще о том, как преследовала мальчика на каждом шагу, как лишала его всех детских радостей. Анастасия запомнила все в мельчайших деталях.
Это была она.
— Прости меня, благочестивый отец, — просила Анастасия.
— Да простит вас бог. Он всех нас рассудит.
Она купила свечку, поставила ее у образа богородицы и долго стояла перед иконой, глядя также в пол. Потом медленно вышла из церкви. Сам не зная зачем, вышел и иеродиакон, он следовал за ней до высокой колокольни, откуда дорога круто идет вниз. Анастасия долго шла не оглядываясь и только у самого поворота к рынку остановилась, повернулась к церкви и трижды перекрестилась. Заметив, что иеродиакон стоит у колокольни, резко шагнула в гору, но тут же повернула обратно.
С тех пор Тудор Аргези ничего не знал ни о своей мачехе, ни о своем отце. Живы ли они? Увидит ли он их или нет? Элиазар спит, на улице кромешная тьма, усатый проводник предупреждает, что поезд скоро пересечет границу Румынии.
Да, скоро родная земля. Она звала его все эти годы.
«Шагай сквозь бури. Бейся до конца. Когда приходишь, радуй, смейся, пой. А горе не вноси, брось на пороге. Здесь — твой народ. К нему твои дороги. Да будет светел дом священный твой!»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1
По случаю первой встречи друзей после столь долгого перерыва устроено пиршество в ресторане «Континенталь». Друзья постарались встретить возвратившегося «блудного сына» самыми вкусными блюдами румынской национальной кухни, по своей роскоши этот обед мог сравниться лишь с давним пиршеством с Караджале в ресторане «Унион».
Был последний день 1910 года, и повара готовились к встрече Нового, 1911 года. Расползались запахи колбасок и приготовленного со специями по-домашнему окорока. Подали мамалыгу и сэрмэлуце в молодых виноградных листьях прошлогоднего сбора и, конечно же, в кисловатых «салфетках» проквашенной с яблоками белокочанной капусты. А кто же обедает в канун наступающего Нового года без мититей и кипяченой цуйки?
— Ну, Янку, с приездом! — открыл праздник Коля. — Подымем по чарке за нашего любимого Аргези! За его возвращение! За его будущие книги!
Не обошлось и без озорства.
Перед уходом Кочя достал из кармана небольшой сверток из плотной желтой бумаги.
— Кто угадает, что содержится в этой бумаге? Никто, конечно, никогда не догадается. Но я не буду вас мучить. На, Янку, держи!
Там была коса иеродиакона Иосифа. Перед отъездом в Париж он оставил ее в доме у Кочи. Гала расхохотался. А захмелевший Деметриус предложил:
— Давай сожжем ее.
И друзья предали отрезанную пять лет назад косу иеродиакона Иосифа публичному сожжению в парке интерната лицея «Святой Савва». Они вспомнили проделки своего детства и радовались тому, что желание поозоровать не покидает их и по сей день.
Тудор Аргези сразу включился в работу журналов «Общественная жизнь» и «Факел». Николае Кочя собрал коллектив молодых, боевых журналистов, он не скрывал, что будет пропагандировать идеи социализма и вскрывать язвы прогнившего румынского буржуазно-феодального общества. Крупные счеты с этим обществом были и у Архези. Со страниц «Общественной жизни» и «Факела» звучат его гневные слова против душителей народа, яркие призывы его к румынской интеллигенции и особенно к учителям, в которых он видел тогда главных носителей слова правды и справедливости на селе. Писатель снова выходит на прогулки вокруг Бухареста, объезжает на велосипеде Кочи бухарестские окраины, заезжает в села и завязывает разговоры с крестьянами. Он видит, насколько они напуганы, как они сторонятся городского человека, и тут же пишет свое знаменитое обращение к учителям. Писатель рисует жуткую картину румынского села после разгрома революции 1907 года.
«Время от времени встречаешь на дороге идущее тебе навстречу существо, и твоя душа наполняется удивлением и болью. Ни у одного зверя нет такой удручающей внешности, как у румынского крестьянина. Сморщенные щеки, изъеденная голодом и язвами кожа, грязные, еле держащиеся на нем лохмотья. Узловатые ноги кажутся вырванными из земли корнями древних деревьев. Руки землепашца выглядят так, будто на них всей своей тяжестью давили Карпаты. И в каждом шаге его слышишь страшный звук гигантской цепи, которой он прикован к чернозему. Любого горожанина, прилично одетого, крестьянин сторонится. В любом шагающем не босым, а в ботинках крестьянин видит повелителя. Его так угнетали и угнетают, так запугали и опалили пороховым пламенем и дымом, что он начинает сам себя убеждать в том, что он какое-то особое существо, не человек, а нечто подобное скотине, созданной, чтобы все делать, все терпеть, все переносить безропотно, без всякой надежды… Лицо земли настолько изменилось, что уже нигде не встретишь ничего, кроме горя, нищеты и рабства».
Говоря о политической прозе Тудора Аргези, румынский академик, литературовед Шербан Чокулеску замечает: «Вернувшийся из Швейцарии молодой публицист выражал интересы крестьянства, он глубоко понимал смысл восстания 1907 года, решительно и неоднократно осуждал организаторов дикой расправы над безоружными. Аргези идет путем Эминеску. Но в отличие от своего великого предшественника в области поэзии, а также художественной и политической прозы он выражает и интересы рабочего класса и способствует его победе».
2
Над Бэрэганом, где обычно к ночи ветер стихает, дул жестокий суховей. Он доносил дыхание каменистых пространств Добруджи и ничего хорошего не предвещал. Такой ветреной ночью в самом центре Бухареста, на бульваре Елизаветы, возник пожар. Горел большой дом, и пожар грозил уничтожить целые кварталы. Жители высыпали на улицу с ведрами и под треск огня и колокольный звон пытались помочь пожарникам. Огонь грозил и дому, где снимал комнату Тудор Аргези. Элиазар был сегодня у Галы. Аргези выбежал на улицу с ведром. В толпе взбудораженных и напуганных людей трудно было различить чье-либо лицо — все сливалось в один потревоженный муравейник. И казалось, сейчас нет ничего в этом большом городе, кроме громадного пламени и океана искр, уходящих к самому небу. Но люди постепенно укротили огонь, не дали ему распространиться на соседние дома, стало темно, прохладно и сыро, густо пахло гарью. Громадная шатровая крыша пятиэтажного дома рухнула, и несдавшийся огонь то и дело вырывался оттуда изнутри, освещая ряды выбитых окон с дымящимися рамами. Аргези снова кинулся к колонке за водой и там Столкнулся лицом к лицу со статной, крепко сложенной девушкой, которая только что наполнила свои ведра и спешила к месту пожара. Они встретились взглядами. Ему захотелось что-то сказать ей, помочь тащить ведра, но она затерялась в толпе.
Он долго не мог успокоиться после пожара, и, куда бы ни смотрел, что бы ни читал, перед ним все время возникали большие глаза, в которых горел невиданный им до тех пор огонь. «Где ты, девушка? Я буду искать тебя, я найду тебя». Она должна была быть где-то рядом, потому что не могла же она прибежать на пожар из другого, отдаленного района Бухареста. Аргези верил в это и день, и два, и неделю, и целые месяцы. Он жил надеждой встретить девушку.
Товарищи попытались было уговорить его жениться: тебе, мол, уже за тридцать, сколько же бобылем будешь жить, да и за Элиазаром нужен присмотр. И Гала, и Кочя, и другие друзья подбирали ему невест, но Аргези искал ту. И однажды — трудно этому поверить, но это было так — по тесному и грязному переулку, подымающемуся от площади Объединения к главной улице торговых рядов Липскань, ему навстречу шла
она. Именно
она, а не другая, потому что он узнал бы ее среди тысячи девушек! Шла гордой походкой девушки из народа, правой рукой прижимая к груди пакет. На пальце у нее он разглядел недорогое кольцо с сердечком. Значит, не замужем! Одна! Несколько дней уже моросил дождь с мелким мокрым снегом, и переулки превратились в настоящие сточные канавы с липкой противной грязью, идти было трудно, и мало кто по сторонам глядел — нужно было смотреть под ноги. Этим объяснял себе позже Аргези, почему красавица не подняла на него глаз, как тогда, на пожаре. Он пропустил ее, онемевший от радости, подождал, пока она отдалится на несколько шагов, и пошел за ней, не упуская из виду ни на секунду.
Она пересекла шумную торговую улицу, не остановилась поглядеть на выставленные товары, а пошла дальше, мимо недавно построенного серого куба национального банка. Скромное, аккуратно сшитое пальто, теплый домотканый платок, вязанные из разноцветной шерсти чулки — поздняя осень ведь, идет этот противный мокрый снег, и холодно. Как же найти повод, чтобы начать разговор с ней? Аргези подумал о своем внешнем виде — усы, фуражка блином, немного измятое, поношенное осеннее пальто и палка. Она заметит ее и подумает, что хромой пли больной. И вдруг повод появился. Нужно спешить, не терять времени.
— Барышня, вы потеряли галошу… Добрый день… Целую ручку… Вы потеряли г-галошу, — начал он, заикаясь впервые в жизни.
Галоша действительно застряла в глине, а хозяйка ее, держась за железную ограду, стояла в нерешительности с правой ногой на весу — могла ведь и левая галоша остаться в глине, и тогда что делать…
Он подал ей галошу и сказал, продолжая заикаться:
— М-меня з-зовут Тудор Аргези… А к-как в-вас зовут?
— Параскива меня зовут, но это к вам не имеет никакого отношения. — Девушка заметила, что этот усатый старик преследует ее, и сейчас не знала, как же от него уйти.
— Меня зовут Тудор Аргези, — сказал он, перестав заикаться, — я пойду за вами но всему Бухаресту и куда угодно, я вас после этого пожара ищу вот уже почти полгода… Где вы пропадали?
— Почему ты не прогнала меня тогда? — спросит свою Параскиву Тудор Аргези много лет спустя.
— Потому что ты мне показался не похожим ни на кого другого. Ты был единственным в своем роде человеком, хотя сказал такие же слова, как многие другие.
— А что я тогда сказал?
— «Какая жуткая погода, барышня! Какая невыносимая слякоть!»
За один вечер он ей рассказал всю свою жизнь, рассказал о своем неуюте и горе, рассказал о своем сиротстве и о маленьком сыне Элиазаре.
— У меня не было матери, — сказал он.
— Я буду твоей матерью, — ответила она.
— У меня нет сестры, — сказал он.
— Я буду твоей сестрой, — ответила она.
— У меня нет никаких родных, — сказал он.
— Я заменю всех твоих родных, — ответила она.
— У меня нет богатства, — сказал он.
— Я соберу для тебя все богатства мира, — ответила она.
— У меня нет жены, а есть сын, — сказал он.
— Я буду женой тебе и матерью твоему сыну, — ответила она.
— Ты будешь моей дочерью, — сказал он.
— Я буду твоей дочерью, пока не носарю тебе дочь, — ответила она.
И они пошли по жизни вместе.
«Вкралась песней в меня ты однажды, когда сердце наглухо запертым зимним окном распахнулось от ветра и хлынул туда теплый голос твой вслед за ликующим днем, запустение смыв без следа… Отчего ты запела? Отчего я тебя услыхал? Неразрывно слились мы с тобой в вышине, как два облака белых над серыми гребнями скал. Шел я сверху к тебе, ты с земли поднималась ко мне, ты из жизни пришла, я из мертвых тогда воскресал».
3
Параскива тоже сирота: ей не исполнилось еще и десяти лет, когда родители, буковинские крестьяне, умерли — они отравились гнилой рыбой, которой в голодное зимнее время года «облагодетельствовал» местный помещик своих батраков. Оставшись одна, маленькая девочка скиталась в поисках куска хлеба, пока не добралась до Бухареста, и здесь стала зарабатывать иглой — Параскива была прекрасной рукодельницей.
— Я, когда первый раз заговорил с тобой, чего-то страшно боялся, — признался ей позже Аргези. — И потому заикался как мальчишка.
— И ты не знал, что дрожишь перед девчонкой, которая боялась булавочного укола.
— Я почему-то увидел в тебе личность. Сразу же узнал по твоему виду, что ты сильная, волевая, выносливая и гордая хозяйка. И я не ошибся. Это было твое главное приданое.
Природное «приданое» Параскивы во многом определило дальнейшую судьбу Тудора Аргези. С ней он обрел новые, сильные крылья, он почувствовал себя неодиноким и был уверен, что со своей Параскивой одолеет любые трудности.
Аргези уже ясно понимал, что его призвание — литературный труд. Это навсегда. Но что писать? Стихи? Да.
Стихи он писать умеет и напечатал уже немало. О возвращении Аргези в страну пишут как о главном литературном событии. Многие газеты и журналы считают за честь печатать его стихи. Но Аргези не торопился. На предложение Галы и Кочи собрать все написанное вместе и выпустить первый сборник стихов поэт ответил: «С этим я не хочу спешить. За свою жизнь я выпущу только одну книгу стихов. Но для этого мне надо еще десять лет». А сейчас он берется за решение другой задачи — «соскребать с общества плесень, выжигать ее каленым железом». И этим каленым железом оказались памфлеты Аргези-газетчика.
У Николае Кочи не было средств, чтобы арендовать для редакции «Факела» солидное помещение, и он нанял комнату в доме на улице Брезояну. Вся редакция размещалась в этой комнате и владела одним колченогим столом и пятью видавшими виды стульями. В длинный коридор выходило множество таких же дверей, как у редакции. Предприимчивая хозяйка сдавала комнаты и «девочкам» для приема клиентов. Бывали забавные случаи: «клиенты», прожженные политиканы, известные фабриканты, промышленники, «борцы» за высокие моральные устои общества, вместо того чтобы попасть к «девочкам», открывали дверь редакции и, до смерти напуганные, пытались как можно быстрее унести ноги. Такое соседство редакции вместе с явными неудобствами давало возможность получить и добавочный материал.
Каждый номер «Факела» выходил с острым памфлетом Аргези, с его язвительными критическими заметками.
Он без страха подымает руку на самого короля Карола I Гогенцоллерна. «Человек с синяками вместо глаз» — назовет Аргези чужеземного коронованного правителя страны.
«Слава и могущество его красноречивее и ярче, чем псалмы и песнопения. Это доказано безмолвием угнетаемых им тридцати двух уездов нашего края», — пишет Аргези и замечает, что за сорок лет правления Гогенцоллерна положение трудового народа страны стало еще тяжелей. Элита страны превратилась в свору лакеев. Самый обожаемый во дворце министр — это тот, который лучше всех умеет валяться лапками кверху на королевских коврах, а самое удобное для короля правительство — это то, которое больше спит, чем работает.
«Сейчас, — гневно пишет Аргези, — когда исполняется пять лет со дня кровавой жатвы 1907 года, мы должны напомнить, что состояние крестьянства стало еще хуже. Волнения подавлены, король закрылся во дворце, и никто уже не видит его глаза. Но он должен знать, что народ вступил на путь социальных революций, что одно подавленное восстание рождает другое. Тень убитых невиновных людей бродит по горам и долинам нашей страны».
Николае Кочя, главный редактор «Факела», быстро прочитал исписанные мелким почерком страницы, провел ладонью по лбу, поднял глаза на Аргези и произнес взволнованно:
— Завтра мы все это напечатаем! Бить так бить!
Бой «Факела» против тирана-короля Карола I был длительным и беспощадным. Антидинастические памфлеты Аргези чередовались с еще более резкими выступлениями Николае Кочи. «Факел» обнажает и анализирует всю систему буржуазной парламентарной монархии, разоблачает махинации многочисленной королевской челяди и соревнующихся с нею в способах высасывания народной крови правительственных чиновников и духовенства.
«После крестьянских восстаний, — пишет Кочя, — поднялась буря реакции. Господствующий класс, напуганный широтой и глубиной восстания, сплотился и бросил все свои силы на кровавое подавление народного пожара. Правителями руководит одно стремление — не допустить в будущем никаких поползновений к возмущению и самостоятельным действиям рабочего класса. Административная и законодательная деятельность либерального правительства направлена только к одному — возводить все возможные препятствия на пути к демократическим свободам». Далее Кочя пишет, что при молчаливом или явном согласии оппозиционных партий были приняты драконовские законы против народа. Земледельцам предоставлена полная свобода действий, а для того, чтобы помещики чувствовали себя в полной безопасности, государство держит в нищих и голодных деревнях сытых, готовых к прыжку жандармов. Во главе всего этого беззакония стоит король, и «Факел» крупными буквами призывает: «ДОЛОЙ ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОРОЛЯ!», «ДОЛОЙ СООБЩНИКА УБИЙЦ 1907 ГОДА!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!».
Насколько далеки интересы правящей, всемогущей элиты от интересов народа, Аргези писал многократно. Из его памфлетов читатели «Факела» узнают подноготную пышных торжеств, устраиваемых по всякому поводу в Митрополии. Вот как отмечается очередная годовщина дня коронации Карола I — 10 мая.
«Все приготовления закончены еще накануне. Над обычным ковром застелен еще один — желтый, а вдоль хоров — коврики поменьше. От самого входа до главного ковра — красная, цвета виноградного вина дорожка. Это бархатный путь для мужей в ослепительных парадных мундирах, при таком же ослепительном оружии. Главный распорядитель отец Ювеналий четверо суток кряду, не разгибая спины, сам прикреплял эти дорожки гвоздиками к полу, наводил блеск щеткой и рассказывал братьям монахам, таким же балагурам и пьяницам, как и он, про «мирские дела». На этих красочных коврах в огромном зале собора преподобные отцы напоминали еще шевелящихся пузатых пиявок. Один из них то и дело отрывался от работы, полз к колонне и доставал оттуда кувшин, стакан и сифон. Раздавалось шипение бьющей струи и звонкий глоток…
В день 10 мая, как всегда, будет служить весь синод: два митрополита, шесть епископов со своими викариями и шестнадцать архиереев. Одни епископы похожи на шагающие матрацы, другие на кровати, покрытые шикарными покрывалами с кисточками и узорами. Архиереи дружески толкают друг друга своими раздутыми животами.
Прибывает его величество. Синод выходит ему навстречу… Король шагает чинно. Высокие голенища его сапог отражают тот же свет, что и цилиндры официальных лиц. Митрополит чувствует, что у него прерывает дыхание. У всех волнение одного порядка — страх… Генералы и офицеры всех рангов еще заметнее шевелят мундирами, на которых по сорок осколков разноцветной жести — награды, пуговицы украшения. Все сверкает как хозяйственный двор, переполненный фазанами, павлинами и другими видами декоративной птицы. Глаза наших государственных мужей, генералов и придворных, — пишет Аргези, — не отрываются от короля, который уселся на свое королевское место, украшенное золотом и кроваво-красным велюром. Он смотрит на все с безразличием и величественностью пограничного столба. Король, кажется, считает сейчас, из скольких многоцветных нитей вышит на лежащей у его ног подушке Орел Государства Румынского.
Самым внимательным наблюдателем за всеми движениями короля Сказывается наследный принц, усевшийся тут же. Когда король кладет, подобно Бонапарту, руку на грудь, принц делает то же самое. Если король подымает голову, так же поступает и принц. На лице монарха ни тени улыбки, ни следа какого-либо чувства.
Выходят.
Хор, барабаны, оркестры, солдаты, застывшие как немецкие фигуры из саксонского фарфора. Королю подставляют невысокий табурет, при помощи которого он садится довольно легко на роскошно оседланного коня. Говорит что-то, наверное, потому что его мундир чуть-чуть пошевелился.
У самых дверей церкви неизвестно откуда взявшийся калека смотрит высохшими глазами.
— Который здесь король? Хочу посмотреть на него.
Дюжий сержант незаметно для присутствующих сует тому кулак в морду и рычит приглушенно:
— Сгинь, проклятый!..»
Из номера в номер «Факел» говорит о том, что в стране свирепствует сигуранца
[29], а руководители правящей либеральной партии, напуганные крестьянскими волнениями, усилили репрессии и против рабочего класса, мелких служащих и кустарей. Запрещены собрания. Книги, газеты и брошюры ежедневно подвергаются конфискации или запрету.
За подписью «Иеродиакон Иосиф» Аргези публикует на страницах «Факела» серию памфлетов о лживости и фарисействе румынского духовенства. В то же время, чтобы не оскорблять чувства верующих, Аргези разъясняет, что «вера» — составная часть чувства, она проявляется в идеалах, в мышлении, в искренности, в прекрасных звуках музыки, в глубоком успокоении, в дуновении ветра, в самой ясной и отдаленной звезде, в твоем друге и в твоем враге, в твоей любви и в твоей ненависти. В церквах же, — пишет далее он, — дымящие свечи, ограниченные попы, кутья, кадила, поповские распри, воющие на амвонах псаломщики, спертый воздух и звонкая монета, которая катится в кошельки преподобных отцов. Я самый непримиримый противник церкви».
У входа в редакцию «Факела» стоит пузатый священник, скрашивает не поздоровавшись:
— Что же это вы так рьяно выступаете против нас?
— С кем имею честь? — интересуется Аргези.
— Я помню вас диаконом святой Митрополии…
— Ну и что?
— Хотелось просто полюбопытствовать: что это вы подписываетесь «Иеродиакон Иосиф», раз уж отреклись от нас? — Священник сообщает «по секрету», что синод предпринимает против бывшего иеродиакона церковное расследование.
— Вы, — продолжает он пьяным голосом, — любимец такого высокого церковного лица, как митрополит Иосиф, и вдруг восстали против церкви… Он так любил вас, что, когда однажды вернулись из Швейцарии посланные вам деньги, огорчился и попросил меня разыскать вас.
— И вы тогда обратились в швейцарскую полицию, — оборвал его Аргези.
— А куда же еще?
— Скажите священному синоду, что я с нетерпением жду вызова на суд.
Об этой неожиданной встрече Аргези рассказал Гале Галактиону. Тот после окончания теологического факультета получил должность церковного следователя. Разъезжал по стране, разбирал многочисленные, далеко не святые дела святых отцов.
— Нужно предотвратить суд над тобой, — сказал Гала.
— Я никакого суда не боюсь.
— Ты же понимаешь, что разговор пьяного попа не случаен. Группа священников и епископов требует твоего привлечения к суду и публичного осуждения.
— Я об этом прекрасно знаю, милый мой умиротворитель, но не боюсь я ни всех богов вместе взятых, ни всех их представителей на земле. Им объявлена война. И я не боюсь поражения. Бой только начинается… Ты лучше порасскажи, какими делами занимаешься сам. Какие новости в провинции. Я сейчас не могу отлучаться надолго, Параскиве очень трудно одной с Элиазаром, мальчик пошел в школу, очень много хлопот.
По коридору прозвучали резкие шаги. Друзья знали уже, кто так шагает. Кочя открыл дверь стремительно, сбросил на спинку стула свой поношенный плащ и достал из портфеля большой лист картона.
— Вот посмотрите! — Аргези и Галактион наклонились над листом. На подготовленной к производству обложке «Факела» во всю ширь полз громадный клоп в короне Карола Гогенцоллерна, ва ним два клопа поменьше. — Прочитайте, — попросил Кочя. И достал из портфеля две тетрадные странички. Очередной памфлет Кочи назывался «Его величество». Румынский король сравнивался с клопом, единственное предназначение которого высасывать кровь.
«Он высасывает без отдыха, безжалостно, беспощадно. Он сосет ненасытными ртами политиканов, щупальцами всех партий, всех акционерных обществ, всех управляющих заводов и имений, всеми средствами он отрывает от народа хлеб, обрекает его на постоянный голод. Он высасывает не только наше золото, но и наше сознание, нашу веру и надежду. После сорока лет господства короля Карола мы являемся сегодня страной пеллагры, хронических бунтов и постоянного голодания. Мы народ с оторванными крыльями, лишенный всех идеалов народ. Мы родина Карола Первого».
Аргези обрадовался такой смелости друга, Галактион попытался смягчить выражения, предупреждал о возможных репрессиях против автора и против журнала.
— Не будем бояться. Я не берусь доказывать тебе, милый Гала, что молитвами мы не поможем. Крестьянину нужна не молитва, не попы и церковь. Селам нужен хлеб, городскому люду нужны жилища и свобода, без наших знаменитых владельцев домов, малых, но многочисленных клопов из свиты его величества. Я подписываюсь под страничками Кочи. В воскресенье «Факел» выйдет.
Наряду с антимонархическими выступлениями «Факел» публикует множество материалов о положении трудящихся, о махинациях крупных и мелких эксплуататоров и чиновников. Журнал разворачивает кампанию против военных приготовлений — и Аргези и Кочя понимали, что назревает и стучится в дверь мировая бойня, балканские войны были лишь небольшой увертюрой к предстоящему столкновению главных мировых сил. На чьей стороне станет Румыния? Этот вопрос будто висел над каждым. И в это время готовился визит в Бухарест русского царя Николая II. Ненависть Аргези к всемогущему правителю России созревала еще во время его общения с русскими революционерами в Швейцарии. Сейчас он со страниц «Факела» рассказывает читателям о Николае-вешателе, о том, какие приготовления ведутся в Румынии по случаю предстоящего приезда Николая для встречи с Каролом I. Аргези пишет с горечью, что этот монарх, не обладающий ни особым умом, ни знаниями, никакими другими талантами и который ничем не отличается от самого рядового купца, царствует над огромной страной, повелевает ста тридцатью миллионами людей и мнит себя хозяином Толстого, Горького, Чехова… Власть Николая поддерживается двором великих князей и принцев, завоевавших себе дурную славу грубых, пьяных, бешеных сатрапов, наводивших ужас даже на видавших виды завсегдатаев парижских ночных заведений. «Приветствуя» гостя румынской короны, Аргези пишет: «Настанет время, когда могучий русский народ топнет сапогом и золотой венец бездарного монарха покатится в пропасть вместе со своим хозяином».
Это опубликовал «Факел» в 1912 году.
4
Острые антимонархические и антивоенные выступления Аргези продолжал печатать и в журнале «Хроника». Он издавал его вместе с Галой Галактионом. Произведения «бородатого писателя в рясе» завоевали к тому времени широкую известность.
Аргези и Галактион стараются сохранить и в «Хронике» дух товарищества, характерный для «Факела».
«Литературная жизнь первого десятилетия нашего века, — подчеркивает современный румынский литературный критик Емпл Ману, — страдала от застоя. И в этой атмосфере появляются два великих имени румынской литературы — Аргези и Галактион».
Правомерно ли это утверждение?
В начале июня 1912 года Румынию потрясла трагическая весть о кончине Караджале. Он умер вдали от родины, в Берлине, куда был вынужден выехать еще в 1905 году. Много лет его безжалостно и методично травили, не давали ни работать, ни жить. Но он боролся. Своей сокрушительной сатирой он разоблачал тех румын, которые «устами сотрясали небеса речами о прогрессе, демократии, расцвете нации, а руками раздевали страну и отбирали у народа последний кусок хлеба».
Тудор Аргези испытывал к «пеню Янку», как неясно называли Караджале все его близкие, особую сыновнюю любовь с того самого дня, когда встретился с писателем в выставочном зале гостиницы «Унион». Аргези учился у Караджале мужеству, бескомпромиссности, учился быть непримиримым к любым проявлениям расовой исключительности, буржуазному, враждебному интересам трудящихся национализму. Особенно нравился Аргези остроумный памфлет сатирика, в котором он зло издевался над поборниками чистоты румынской крови. «У общества «зеленых румын», — писал Караджале, — свой шеф и своя эмблема в виде «Зеленого румына», давящего каблуком гадюку — олицетворение всех нерумын. В уставе общества начертано: «Мы, «зеленые румыны», исходим из следующих принципов социального прогресса — любить свой народ может лишь тот, кто ненавидит другие народы;
— настоящий народ не может усматривать противника в своих собственных недостатках, его врагами являются только чужаки;
— отсюда следует, что народ должен быть приучен жить в вечном страхе перед остальными, а воспитание самой крайней национальной исключительности становится насущнейшей необходимостью».
Аргези часто возвращался к комедии Караджале «Бурная ночь». Гениальный сатирик вывел там еще одну разновидность «зеленых румын». Один из наиболее ярких ее представителей «студинт права и публицист» Рикэ Вентуриано. Этот образец чистейшей демагогии восклицает: «У нас не может быть другой политики, чем политика суверенитета народа, поэтому в нашей политической борьбе — мы это говорили и будем повторять до бесконечности перед всеми гражданами! — вопрос стоит только так: или все умрете, или все спасемся!»
Всего полгода назад в Бухаресте проходили вечера по случаю шестидесятилетия Караджале. Аргези писал тогда горькие строки: «С трудом вывожу эти слова о берлинском изгнаннике. В его честь организованы представления в Национальном театре, в «Модерне» и «Комедии». Веселая толпа развлекается и пьянеет от удовольствия: она наконец поняла этого автора и участвует в литературных торжествах в его честь». Играют «Бурную ночь»… В переполненном зале друзья молодости Караджале, его единомышленники, бывшие хроникеры, мимолетные сотрудники. Среди порядочности сидит посредственность. Особенно многочисленна та посредственность, которая довела писателя до отчаяния, вынудила его бросить родину с поспешностью оленя, который не знает, куда деваться от тирании сонмища мух… Караджале оставил нашу среду с величественностью статуи, покидающей пьедестал и отправляющейся на поиск своей собственной тени в надежде добраться до солнечного берега. Я не ошибусь, если скажу, что самым несчастным зрителем этих представлений был бы сам Караджале…»
Со смертью великого сатирика Тудор Аргези потерял сильную моральную опору. И Аргези понимал, что какую-то долю той гигантской работы, какую вел ушедший из жизни титан, должен взвалить на себя. И не потому ли еще яростнее становятся его памфлеты и выступления?
Но «зеленые румыны» не простят ему это.
Уже разразилась первая мировая война, Европа была в огне. Тудор Аргези и Гала Галактион в своем журнале ратуют за соблюдение Румынией строгого нейтралитета, хотя в официальной прессе, как вспоминал Аргези, воинствующие националисты, «патриоты» рвались в бой. Антивоенную позицию Аргези и Галактиона разделяли широкие круги интеллигенции и трудового народа. Социалисты, идеологию которых выражали редакторы «Хроники», разоблачали империалистический характер войны и боролись за строгий, честный нейтралитет. Позиция Аргези и Галактиона была диаметрально противоположна официальной политике правительственных кругов и королевского двора. «Хроника» считает, что в эти тяжелые дни честные труженики пера должны говорить народу
и всему миру правду.
— Я формулирую свое кредо так, — сказал Гала Тудору Аргези, — правда должна быть высказана любой ценой. Потому что, сколько бы правды ни говорилось на этой земле, она всегда будет неполной.
Но правда не всем выгодна, она не всем нравится. Против выступлений Аргези, Кочи и Галактиона ополчился известный уже читателю Николае Йорга. Еще в 1906 году он создал «Национал-демократическую партию». Как утверждается в «Политическом словаре» Румынии, изданном в Бухаресте в 1975 году, «эта партия отбирала своих членов из среды некоторых слоев мелкой и средней буржуазии, интеллигенции и студенческой молодежи»… Она «отрицала классовую борьбу
и проповедовала социальную гармонию, основанную на национализме» (разрядка моя.
— Ф. В.). Союзником Йорги был тогда А. К. Куза. Немного времени пройдет, и последний станет главарем откровенно фашистской организации Румынии. Основную борьбу против выступлений Аргези, Галактиона и Кочи Йорга вел через свою газету «Румынский род». Не было номера этой газеты, в котором выступления «Факела», а потом «Хроники» не подвергались бы грубым нападкам, искажениям и клевете. Памфлеты Аргези, в которых вскрывались «смердящие гнойники» общества, Йорга называл «грязными сочинениями бывшего попа», а всю редакцию «Факела» — «сборищем, пытающимся размыть единение румынской нации вокруг короля и святой церкви».
Тудор Аргези открывает огонь по румынским буржуазным националистам. Он подчеркивает, что их национализм — это прежде всего невежество и в современной ситуации способствует сознательному обману народа.
Полемизируя с Йоргой, он доказывает, что ни один по-настоящему крупный государственный деятель, ни один настоящий ученый, выдающийся писатель, художник или музыкант не может утверждать единство своей нации за счет унижения других. Такой национализм ограничивает, одурманивает и оглупляет человека.
Аргези разоблачал попытки Йорги осветить интересы правящей буржуазии ссылками на интересы нации, в действительности чуждые и даже враждебные ей. Поэтому Аргези и продолжает: «Мы просили бы господина Йоргу хотя бы на миг утихомириться и обратить свой взгляд в настоящее». Тем более что с возникновением первой империалистической войны идеи Йорги все более приобретали шовинистический характер. Редакторы «Хроники» пытаются показать читателям, что разразившаяся война — это прежде всего дело рук империалистических группировок, а потому она и не может быть «общенациональным делом». «Кто виноват? — спрашивает Галактион. — Русский царь, германский кайзер, сараевский убийца?.. Детские рассуждения! Глупости!» Редакторы «Хроники» разъясняют на доступном широким массам языке, что причины войны в неутоленной жажде наживы господствующих классов. И тем чудовищнее выглядит на этом фоне предательство социалистов II Интернационала. «Красный интернационал, — пишет «Хроника», — исчез словно призрак. Его вожди за одну ночь превратились в буржуазных воинствующих шовинистов… Какое чудовищное разочарование!.. Немецкие, бельгийские, французские социалисты за 24 часа стали вояками».
Тудор Аргези вступает в борьбу против «священных и неприкосновенных» учреждений буржуазной государственной власти. В ярких памфлетах он доказывает, что ее церковь, ее система образования, судебные органы, армия и сама монархия представляют собой гнойник, его нужно вскрыть и каленым железом выжечь его остатки.
Это сделает «богатырская сила рабочего, который пока что устало
наблюдает за копошащимися паразитами… Они, эти пауки с огромными лапами, пользуются пока благоприятным «героическим временем» и высасывают соки…» «Вылезайте-ка на свет, — зовет их Аргези. — Усталый рабочий подымется и раздавит вас своим могучим башмаком… Пусть скорее настанет этот светлый день! Он нам очень, очень нужен!»
Так писал Аргези в 1916 году. Он уже видел, что рабочий класс — главная революционная сила. Поэт-бунтарь начинал понимать логику борьбы Ленина.
В 1916 году директора «Хроники» мобилизовали в армию, и журнал прекратил свое существование.
В армии Аргези проникается еще более глубокой ненавистью к войне, к бессмысленным жертвам, к воспеванию мнимых побед, раздуванию лжепатриотизма. Он продолжает писать памфлеты и стихи.
«Мое сердце — путь с дождями, долгий, нудный шлях с гуртами, скудный путь в тени деревьев, плеть кривой лозы в селеньях, двор, на пахоте зола… Я ищу источник чистый, а хлебаю щи из грязи — мутный ил больных болот. Разверну ли крылья снова? Бьет меня время, бьет меня день, мгновение бьет».
За антивоенные выступления в 1918 году Аргези вместе с группой журналистов и писателей привлекают к суду. Его новый адрес — тюрьма «Вэкэрешть».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1
Вэкэрешть — это старинный монастырь, соединенный с бывшим господским двором тайным подземным ходом. В давние времена в случае опасности для двора господарь мог уйти по этому ходу и скрыться за толстыми стенами обители. В конце прошлого века, когда участились выступления рабочих и крестьян Румынии против господствующего класса, правительство в общем согласии со священным синодом переселило монахов, и на окраине Бухареста вместо монастыря Вэкэрешть появилась грозная тюрьма с таким же названием, а подземный ход быстро превратился в каземат, куда сажали особо опасных. Восемьсот узников стонали там, где раньше раздавались молитвы и песнопения во славу всевышнего. Тут были и грозные убийцы, и разбойники, карманники и конокрады, фальшивомонетчики и проститутки. Сюда же привозили неугодных режиму «Великой Румынии» политических преступников. Обвинение писателя в не-проявлении должного патриотизма расценивалось общественным мнением страны как повод для правительства и короля Фердинанда, пришедшего на смену Каролу, свести с ним старые счеты. Аргези не пишет жалоб, не просит снисхождения у властей. Он просто обращается к своему родному городу:
«Родной мой город, любимая моя колыбель. Я смотрю на тебя сквозь зарешеченные окна, слушаю песню лягушек, которые так беззаботно живут в болоте, тянущемся между мной и тобой. Город моих светлых дум и моих страданий, я только сейчас понял, что тебе нечего больше со мной делать, ты равнодушно наблюдал за тем, как мучается мое сердце и страдает моя душа, а мои надежды оскорбляли тебя. Я был твоим беспокойным жителем, и ты взял меня под вооруженную охрану. Ты требуешь от меня осуждения моего прошлого как бездумного, а мои мечты о твоем преображении ты требуешь отбросить прочь как преступные. Ты заживо похоронил меня здесь среди карабинов и штыков в сообществе мошенников, карманных воров, взломщиков и бандитов, в соседстве с кладбищем для неопознанных трупов и домом для умалишенных. Ты бросил меня в ад. За что, любимый мой город?»
Ноты отчаяния, беспомощности одинокого человека прорываются не раз в бунтаре Аргези.
Тудор Аргези заявляет городу, что он никогда и ни за что на свете не откажется от своего прошлого. Он не делал это тогда, когда могучие духовные отцы вначале пряником, а потом — при помощи высшей судебной инстанции — кнутом пытались вернуть к себе блудного сына. Он не делал этого и когда стоял после ареста перед военным трибуналом и заявлял судьям в лицо, что он, Аргези, своим пером защищал человеческие жизни от отправки на бойню. Он громогласно заявил тогда, что любое правительство, которое отправляет своих сынов на смерть ради завоевания других земель и подчинения себе других народов, есть правительство преступников. Писатель возмущался поведением тех, кто потерял веру в силы народа, кто под нагайкой отказывается от дальнейшей борьбы. Встречались даже и бывшие поклонники поэта, которые сейчас клеветали на него.
«У тебя не было никогда ничего святого, мой город. У тебя есть закрытая для читателей и открытая только для мышей библиотека: У тебя несколько сот церквей, в которых стрекочут цикады. У тебя есть профессора без студентов и студенты без профессоров. На твоих улицах — рестораны, гостиницы, роскошные жилые дома, в которых никто не живет, и масса несчастных бездомных, ночующих на мостовых. Я ничего тут не преувеличиваю, мой милый город. Когда я вырвусь отсюда, я пойду из дома в дом, из клуба в клуб, из землянки в землянку и расскажу обо всем, что я видел и что я думаю о тебе, городе, стоящем в самом центре непомерно великой нашей исторической трагедии».
Начатый в тюрьме «Вэкэрешть» разговор со своим городом Тудор Аргези продолжит в серии очерков «С тросточкой по Бухаресту», а пока он накапливает материал, делает наброски для книги «Черные ворота» о годах заключения. Она будет дополнена поэтическим циклом «Цветы плесени».
Нацарапанные гвоздем на спичечных коробках, на содранной коре с поленьев, на коже изношенных башмаков строки он передавал на хранение Параскиве. Она добилась разрешения приносить мужу и узникам, сидящим в одной камере с ним, еду.
— Ну-ка дай попробовать, большеглазая, какой вкуснятиной собираешься кормить своего усатого! — К Параскиве, принесшей два ведра борща, подошел, сутулясь, дежурный надзиратель тюрьмы.
— Это не для вашего желудка! — дерзко ответила Параскива, пытаясь обойти его.
— Борщом не отделаешься, красавица! Придется поступиться еще кое-чем!..
Надзиратель подошел к Параскиве кошачьим шагом, готовый сказать что-то еще. Он был огромен и нахально улыбался. Параскива отступила на шаг, поставила одно ведро на землю, а другое приподняла и замахнулась. Стоявший у ворот главный надзиратель наблюдал с интересом, чем же это кончится. Верзила не побоялся угрозы быть облитым борщом и со всего размаха ударил стоявшее ведро сапогом. Борщ разлился по булыжному настилу, а ведро покатилось, тарахтя, к будке часового. Параскива бросила со всей силой второе ведро в тюремщика, тот отпрянул, но уже было поздно — борщ выплеснулся на его отутюженный щегольской мундир, теплая жидкость текла за голенища. Надзиратели как по сигналу, выглянув из-за укрытий, оскалили зубы.
— Сними сапог, Мандря! Попробуй! Очень уж вкусно пахнет! Идиот! — Старший надзиратель не любил этого нахального щеголя, который всегда только и ожидал выделиться чем-либо среди тюремщиков, а сейчас получил такое, что вся тюрьма будет над ним еще долго издеваться. Что касается Параскивы Аргези, то ей ничего не сделаешь. Она добилась разрешения приходить один раз в день и приносить еду мужу. В разрешении так и было написано: «Приносить еду». А что именно и сколько, в бумаге не было означено. И вот она каждый день тащит по два эмалированных ведра, и по всей тюрьме разносится аппетитный запах борща.
— У меня бумага, — сказала Параскива старшему надзирателю. — А этот бык смотрите что сделал! Оставить без обеда стольких людей! Не хватает вам, что они заживо гниют в этой вонючей тюрьме.
На следующий день тюрьму посетил председатель румынского парламента профессор Николае Йорга. Не зная истинной причины визита Йорги в «Вэкэрешть», мелкие тюремщики связывали это со случившимся накануне, и появление Параскивы с неизменными ведрами у тюремных ворот они встречали теперь с некоторой опаской и пропускали ее без препятствий и зубоскальства.
Скольких людей спасла Параскива от мучительного голода за время пребывания Тудора Аргези в тюрьме «Вэкэрешть»! Тридцать восемь узников, сидевших вместе с поэтом в одной камере, ожидали появления Параскивы как спасения. Не было дня, чтобы она не приносила еды, и не было такого случая, чтобы Аргези не поделился этой едой со своими товарищами по несчастью. И он глубоко презирал тех, которые и здесь, в тюрьме, когда все узники одеты в одни и те же лохмотья с печатью королевства Великой Румынии, находятся под охраной тех же штыков и от всех болезней для всех одно-единственное лекарство — «английская соль», пытаются выделяться хотя бы тем, как едят то, что им приносят из дому.
Аргези зло высмеивает подобных людей, пишет, что они ничем не отличаются от обыкновенных животных. Мысль о том, что нестойкие, слабые духом люди, оказавшись в сложной, непривычной для повседневной жизни обстановке, уподобляются животным, Аргези проводит в стихотворении «Двое голодных».
«Лед подобен камню, камень — льду. Сумрачней еще с рассвета стало. Шепелявя, спотыкаясь на ходу, мрачные куранты с башни бьют устало… Полдень брел во мраке. Лютовал мороз. Кость — в крещенском воздухе — сама парила… И в урочный час опять сюда явился пес, — грязен, пропылен… Заключенный один, что пожизненно был осужден, угощенье и сам заприметил. «Ну нет, не собаке достанется эта кость!» — так сказал себе он. И готов был к драке…»
Мысль художника бьется в тесноте тюремной камеры. Аргеаи запоминает все, чтобы когда-нибудь потом, когда, может быть, это кончится, сообщить людям страшные страницы тюремной жизни, маленького мирка среди двойного каменного забора, жизни восьмисот человек, которая так похожа на жизнь страны в целом. Иногда сквозь щели отодвигающихся глухих ворот его глазам открывается пыльная, уходящая вдаль дорога. Повозка, в пей крестьянин в черной мерлушковой шапке, сзади семенит собака. Как хорошо, что этот крестьянин свободен, что его не отделяют от мира ни тяжелые замки, ни эти толстые каменные степы, ни надзиратели с карабинами! Он долго размышлял над свободой того крестьянина и его собаки. А поздно вечером, когда началась перекличка, пришел к выводу, что крестьянин такой ate узник, но ограждение его тюрьмы дальше, его не видно. Оно тоже охраняется карабинами. Эта граница «великого королевства». А в этом королевстве буйно цветет плесень. И Аргези пишет об этой плесени полные боли стихи.
«Писал я ногтем на пустой стене. Во тьме кромешной, в мертвой тишине ломала штукатурка ноготь мой, и помощи не ждал я никакой… Мои стихи вне времени. Из ямы упрямо кричат они о голоде, о зле, о стынущей золе… Когда до крови стер я ноготь, его не стал я трогать, чтоб он отрос. Но он не вырастал. Дождь на дворе стучал, и правая рука болела нестерпимо. Неутомимо, кроша со стен измызганных куски, я ногтем стал писать другой руки».
2
В один из весенних дней, когда Аргези «писал ногтем на пустой стене», Параскива шла через весь Бухарест к тюрьме со своими ведрами. Сегодня она сварила чорбу бедняков. Элиазар на окраине города собрал молодые побеги хмеля, красные верхушки жгучей, как огонь, крапивы, молодые пятачки листьев мать-и-мачехи, сабельки дикого лука, растущего среди голых кустов виноградника, и щавеля.
Элиазар большой парень. Ему четырнадцать лет. Он на время прервал учебу, сейчас за обучение в лицее нужно платить большие деньги, а их нет. Параскиве стыдно признаться Элиазару в том, что у нее нет денег, но он и сам это видит: чтобы заработать лишнюю копейку и кормить мужа, Параскива сдает квартирантам свою Комнату в квартире, а сама сбила три доски, ставит их в ванную и спит там.
— А ты знаешь, — говорит мальчик, — сегодня, когда я собирал зелень, не знаю откуда, но как из-под земли появился передо мной старый-престарый дед, горбатенький и хромой. За спиной у него ноша и в руках корзинка. «Здравствуй, бре Янку! — сказал он мне. — Как давно я тебя не видел…» — «Здравствуйте, дедушка, — ответил я, — но я не Янку. Меня зовут Элиазар». — «Нет, мальчик, тебя зовут Янку. Ты маленький Янку, которого старый Али спас от грозы…» И я вспомнил рассказ отца про хромого Али. Он мне в Женеве рассказывал, и говорю этому дедушке: «Тог маленький Янку вырос уже большой, его зовут Тудор Аргези, он сейчас в тюрьме «Вэкэрешть», а я его сын и собираю зелень ему на еду, мама Параскива сварит». — «Я знаю, что Тудор Аргези в тюрьме. Ты сын своего отца, и для меня ты Янку, потому что очень на него похож. Тебя в тюрьму к отцу пускают?» — «Нс пускают меня. Туда разрешили только маме с едой». — «Тогда отдай это Параскиве. Пусть передаст Янку, Тудору Аргези, в тюрьму. И скажет ему, что альвица от старого Али. Пусть Параскива скажет ему еще, что старый Али желает ему вырваться оттуда».
Тудор Аргези не скоро узнает о встрече Элиазара с хромым Али. Со дня столкновения с надзирателем у ворот тюрьмы Параскиве разрешали только передавать еду, свидания ей запретили. Запретили даже передавать письма и записки. Аргези почти не знает, что происходит на воле, с особой пристальностью он наблюдает за жизнью тюрьмы, пропускает все увиденное через свою особую «лабораторию». Глубокий анализ всего происходящего на его глазах дает возможность нарисовать жуткую картину общества, «рассмотренного в микроскоп». Он как бы через многие десятки лет после «Записок из мертвого дома» Достоевского ведет другую тетрадь этих «Записок», продолжает их. Книгу Достоевского он начал переводить еще в келье на холме Митрополии в Бухаресте, работал над переводом в Швейцарии, написал предисловие и выпустил книгу в 1912 году в серии «Прекрасная библиотека». В тюрьме «Вэкэрешть» он работает над портретами заключенных и с особой симпатией и болью пишет о страданиях простых людей, «без вины виноватых» жертвах гнилого и безжалостного общества.
Хозяева отдали под суд свою служанку из Олтении Марию Никифор, обвинив ее в краже домашних вещей. Мария была беременной, но это не помешало жандармам арестовать ее. Служанка не отвечала на вопросы следователя, и это принималось за признание вины: молчишь, значит, виновата.
В тюрьме о ней забыли. И вспомнили, лишь когда по всей тюрьме разнеслось: олтянка родила ребенка. Это был первый ребенок, появившийся в стенах «Вэкэрешть». И сразу же возник вопрос: а почему должен этот ребенок сидеть в тюрьме, раз у него никакой вины ни перед кем нет?
В тюремной церкви, бывшей монастырской, был совершен обряд крещения. Бандиты и воры — потому что только из них одних и состоял церковный хор — старались как можно нежнее исполнить положенные по правилу этого обряда молитвы. Потом каждый считал своим долгом подарить ребенку что-нибудь. Среди подарков встречались красивые резные ложки из белого ясеня, выбранного из поленьев, приготовленных для топки, разукрашенные скорлупки яиц, плетеные игрушки из женской косы льняного цвета, бусы из хлебного мякиша, окрашенные в разные цвета краской, стекавшей со свежевыкрашенной крыши. Цыган-музыкант смастерил крошечную скрипку, а грозный бандит, который умудрялся и здесь, в тюрьме, иметь свой потайной склад дорогих вещей, принес мундштук и подсвечник. А один фальшивомонетчик откуда-то раздобыл на этот раз настоящую серебряную монету и прицепил к ней разноцветную кисточку на счастье.
За неделю до пасхи администрация тюрьмы разрешила Марии Никифор выходить на прогулки, и она ходила как мадонна, прижимая к груди свое сокровище.
Прошло еще несколько месяцев. Администрация тюрьмы стала узнавать по судебной иерархии, почему эта женщина сидит столько без суда и никто ею не интересуется. К тому же в тюрьме к числу восьмисот заключенных прибавился восемьсот первый. Он тоже сидит без ордера на арест, без суда. Ребенок ускорил ход следствия. Не раздобыв никаких доказательств, суд все же решил осудить Марию на пятнадцать дней тюрьмы и потом отпустить ее с богом. Но тут же после приговора обнаружилось, что пропажу нашли — считавшиеся украденными вещи лежали забыты в шкафу для старых вещей, куда их забросили после очередной попойки сами подгулявшие хозяева.
— Ну посидите эти пятнадцать дней — и домой! — сказала Марии и ее сыну подобревшая надзирательница.
Мария и на этот раз ничего не ответила. Что означают пятнадцать дней по сравнению с теми муками, которые она испытала за полтора года! Пятнадцать дней… Это же только две недели!
На шестнадцатый день она уже видела себя за тюремными стенами, там, где ее никто не ждал, никто не встречал. Она попрощалась с воровским миром тюрьмы, достала вышитую кофту от своего царского наряда, прижала сына и направилась к канцелярии тюрьмы. Чиновник, ведавший выпиской бумаг об освобождении, пожал плечами и сказал:
— Еще нет документов. Подожди, должны прислать. Мария подождала день.
— Не прислали еще? — спрашивает снова.
— Нет.
— Говорил же, что пришлют.
— Говорил, но еще ничего нет.
Она терпеливо ждала. А тем временем сын заболел. У него распухло горло, он трудно дышал, был горячий, как огонь. Одна грамотная воровка посмотрела на сына Марии, махнула рукой и сказала: «Дифтерит». Откуда пришел этот дифтерит в тюрьму? А у тюремного лекаря, тоже из заключенных, одно лекарство от всех болезней — слабительная соль. Мария умоляла его прописать сыну хоть это лекарство, но лекарь повторял в сотый раз — не поможет, не поможет. Старые женщины, давние узницы, собирали под тюремными стенами травы, прикладывали мальчику к пяткам, на грудь, одна старуха цыганка принялась заговаривать болезнь. Мария отдала цыганке единственную серебряную монету, подарок фальшивомонетчика маленькому Санду. Но и заговоры цыганки не спасли мальчика.
…Конвойный из похоронной команды забрал мертвого и увез его на кладбище. А через две недели пришел приказ об освобождении из тюрьмы Марии Никифор и ее незаконнорожденного сына.
3
Одинокий, бедный человек в условиях безжалостного эксплуататорского общества. Болезнь, старость, неожиданно нагрянувшая беда. Чего стоит человек без поддержки перед лицом беды? Эти вопросы занимают Аргези постоянно, и его отзывчивая душа регистрирует как тончайший барометр все происходящее вокруг. Куда делась Мария Никифор со своим горем? Может быть, снова поступила к хозяину?
И вот еще одна судьба.
Зимняя ночь. Лютый мороз. Термометр показывает двадцать градусов ниже нуля. Перед театром варьете, с витрин которого смотрит танцующий строй краснощеких полуголых девиц, от резких порывов ветра чуть держится на ногах громадный черный пес. Время от времени он подымает переднюю лапу, будто защищается ею от холода. Чуть в стороне от собаки, прислонившись к металлической ограде большого сада, стоит одетая в легкое пальтишко молодая женщина. На руках у нее завернутое в голубое одеяльце спящее дитя.
«Мы, — пишет Аргези, — выдумали для книг и картин целый сонм ангелов, спасающих от снегов и нужды женщину и ребенка и вводящих их в светлый, теплый дом, посредине которого стоит накрытый стол, а вдоль стен — кроватки с накрахмаленными постелями, с мягких половиков глядят довольные глаза ухоженного пса.
Ангелы улетели, сказочные, райские дома рухнули, монастыри для бедных были превращены в кладбище и тюрьмы. Как и собака, Мадонна осталась навеки всем чужой и бездомной. Она вынуждена ждать, как и собака, подаяния или искать себе и ребенку пищу в отходах, выброшенных на помойку соседнего ресторана, где оркестр бойко отбивает ритмы американских мелодий. А чтобы подойти к отходам, Мадонне понадобится выиграть состязание с собакой.
Я спросил бога: «Кто имеет право петь, радоваться и жить в то время, когда Мадонна просит милостыню?» И я услышал в ответ обвал камней с черной вершины.
Это зал театра варьете аплодировал успеху негра, танцующего в кандалах под рифмованные куплеты гастролирующей в Бухаресте англичанки.
Я сказал собаке: «Кидайся; кусай и уничтожай. Войди в зал театра, разгоняй и вали с ног танцовщиков, актеров, авторов, разорви их на куски своими мощными, острыми зубами». Но собака осталась на том же самом месте и как привидение шаталась на своих ослабевших ногах около раскрашенной рекламы при ярких огнях электрических ламп.
Я собрал все силы моей души и крикнул женщине: «Подымайся! Выше голову! Собери в подол булыжники, одной рукой прижимай свое дитя, а другой сделай рогатку и стреляй! Разрушай, уничтожай, свергай! Что не сокрушишь камнем, хватай зубами и рви! Рви губы, перегрызай горло, кусай до крови нахальные щеки сытых!» Но женщина стояла на коленях, рыдала, и ее холодные слезы замерзали на подбородке. Сквозь тряпье она добралась до тощей груди и дала пососать проснувшемуся от шума ребенку.
Спектакль окончился, и публика расходилась.
И я тогда спросил свою собственную душу: «А ты?» И моя душа зажглась от молниеносно пронесшегося метеора».
Тудор Аргези ищет выход из мира, зашедшего, по его глубокому убеждению, в тупик. Он знает о том, что в России совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, но все источники получения какой-либо информации оттуда для него закрыты. До тюрьмы Аргези следил за логикой борьбы Ленина. Он знал, насколько ненавистен царизм народам России. Он знал, что за Лениным стоит крепко сложенная, хорошо организованная партия. Это признавали в Женеве те, кто общался с Лениным, с русскими революционерами. И Аргези верил этому. Аргези знал, что в революционную Россию отправился Кочя. Он уже несколько месяцев там, но пока что никаких вестей. Что расскажет он, когда приедет?
В однообразие тюремной жизни врываются неожиданные, радующие душу события. Приехавший напыщенный генерал вдруг заметил, что у одного заключенного прицеплена к груди яркая вишневая хризантема.
— Это что означает? — грозно спрашивает генерал у сопровождающего офицера.
— Это не наш заключенный, господин генерал, он из неосужденных… — выкручивается офицер.
— И что, если неосужденпый! Он в тюрьме, а не на Каля Виктории, болван!
Офицер явно лжет, говоря о том, что заключенный с хризантемой только что прибыл сегодня.
— А почему не обыскали? Ты знаешь, что означает красный цвет? Знаешь? — нажимает генерал.
Положение спасает вышедший из крыла для политических полковник. Он отдает честь генералу и шепчет ему что-то на ухо.
— Кто позволил? — спрашивает генерал. — Кто позволил?! Всех в карцер!
Полковник сообщил генералу, что в отделении политических заключенных был обнаружен целый букет вишневых хризантем — там праздновали победу венгерской революции.
Параскиве снова разрешили свидания. Чего стоило это Гале Галактиону, только один он знал. Сегодня Параскива принесла плохие вести: Раду убили…
— Его еще зимой призвали в армию…
Аргези изменился в лице.
— В Будапеште. Домника как получила это известие, совсем растерялась, ходит к нам, смотрит на Элиазара и все спрашивает: «Правда, Элиазар, что дядя Раду не убит, правда?» Элиазар не знает, что ответить, он так любил дядю Раду. Он плакал, когда его взяли в армию. А сейчас спрашивает меня, за что убили Раду. А я откуда знаю, что ответить.
Надзиратель, подслушивавший разговор, прервал Параскиву:
— Вам осталось еще пять минут, но о том, о чем вы разговариваете, запрещается говорить.
Когда Параскива ушла, Аргези спросил надзирателя:
— А думать об этом можно?
— О чем?
— О том, о чем запрещается говорить с женой.
— Это уж как вам захочется. На этот счет у нас нет никакого приказа господина директора.
А господин директор человек очень серьезный. Он здесь бог, король и премьер-министр. В его руках хлеб, нож и нагайка. Хочет — отрежет ломоть, хочет — исполосует нагайкой. Но не дай бог оказаться под ударами его пудовых кулаков! И особенно когда обнаруживается какой-либо непорядок, тогда устраивается «директорское расследование». Господин директор появляется в полном блеске парадной формы тюремного главнокомандующего — сшитый по талии в тюремной мастерской черный мундир, сверкающие позолотой пуговицы, фуражка с высокой кокардой, на которой скрещены символы директорской власти — ключ и карабин. Доведенные до глянца сапоги подчеркивают мощь директорских ног, которыми он также не брезгует «щекотать ребра» заключенных. На директорских пальцах сверкают дорогие перстни — то ли для красоты, то ли для амортизации ударов — слишком костлявые скулы у этих ничтожеств.
Во время допросов за ним следует старший надзиратель и главный бухгалтер, который фактически ведает всеми хозяйственными делами тюрьмы и может делать все, что делает господин директор, кроме одного — избиения заключенных.
Директор вышел из своего кабинета и прошел незамеченным под самыми стенами, чтобы появиться у главного входа и услышать положенное приветствие заключенных: «Здравия желаем!» Когда приветствие звучит слабо, директор сердится, подобно дирижеру, не услышавшему звуки всех инструментов оркестра. И тогда директор требует, чтобы приветствие повторялось. И не дай бог кто-нибудь посмеет лишь мурлыкать, а не кричать во весь голос, тогда тот познакомится с кулаками господина директора и будет иметь возможность гордиться тем, что его бил не какой-нибудь слюнявый надзиратель или сопляк новобранец. Но на сегодня у директора цель определенная: он должен лично допросить того несчастного, который прицепил на тюремную одежду хризантему. Вишневую хризантему! А, вот он, любитель цветов!
— Ну-ка скажи мне, новобранец, что же это тебя так развеселило, что решил портить вид тюремной одежды?
— Да так, господин директор. Я очень люблю цветы.
— Врешь, бестия!
— Не вру, господин директор.
— А если не врешь, почему же ты именно сегодня решил проявить свою любовь к цветам?
— Сегодня день рождения матери, господин директор.
— И это неправда! Я моту проверить, когда родилась твоя мать! — Тут последовало длинное ругательство, которым директор украшал свою речь при всех случаях. Его разговор с заключенными состоял главным образом из слов, которых на бумаге не напишешь. — Так скажешь или не скажешь?! — Этот вопрос директор подкрепил сильным ударом кулака. Посмотрел на свою свиту и подозвал подчиненных — учитесь, мол, как это делается! Клиент оказался хилым, и его, окровавленного, нужно было уложить на булыжники под забором тюрьмы в ожидании медицинского работника. Директор заявил, что он продолжит беседу с этим любителем цветов в другой раз. И тогда уж он скажет все. А сейчас весь выстроенный во дворе сброд должен отрепетировать приветственную песню в честь господина генерального инспектора министерства внутренних дел, который пожалует ровно через полчаса.
Генерального инспектора директор встретил у главных ворот и повел к строю. Слышна была приветственная песня, и генеральный инспектор явно был доволен. Но вдруг и он и директор тюрьмы резко остановились, прислушались: с противоположного конца строя, там, где стояли политические заключенные, раздавалась мелодия и слова «Интернационала».
Парад не удался, а у них сегодня еще столько дел! Через агентуру сигуранцы разнюхали, что социалисты в честь победы венгерской революции собираются завтра колонной прийти к тюрьме «Вэкэрешть» и устроить митинг в знак солидарности с политическими заключенными, отметившими вчера победу венгерской революции красными цветами. А сегодня «Интернационал». Эта невиданная дерзость будет наказана переводом зачинщиков в каменные мешки «Дофтаны».
Церемония приема генерального инспектора была сокращена, заключенные проведены в камеры, а те, что пели «Интернационал», и осужденные газетчики вместе с Аргези препровождены в бывший тоннель подземного перехода между монастырем и господским двором «на свидание с ангелами», то есть с летучими мышами, как горько шутили в тюрьме.
Ночью к «Вэкэрешть» были подтянуты регулярные войска и три роты горных стрелков. В тюрьме вели дежурство ударные отряды, приведенные в боевую готовность. На помощь директору для руководства операцией были выделены королевский комиссар и многоопытный военный прокурор. Была усилена охрана камер, вооружен весь обслуживающий персонал. Дополнительные пулеметные гнезда проверялись лично господином директором. И нужно было видеть разочарование господина генерального директора, когда после стольких ожиданий и приготовлений пришлось дать отбой — демонстрация была задушена в центре города, пробиться к тюрьме социалистам не удалось.
Аргези запомнил и торжество в тюрьме по случаю победы венгерской революции,
и выстроившуюся для директорского смотра массу заключенных, и избитого до полусмерти смельчака с вишневой хризантемой на полосатой куртке, и «Интернационал», и неудавшуюся демонстрацию. Он размышлял над всем этим в долгие дни вынужденного безделья, а бессонными ночами, когда все успокаивалось и только храп и стоны спящих заключенных нарушали тишину, писал:
«Тишину ночную режет мерзкий скрежет, лязг цепей. Из дверей, словно ржавчиной покрытый, зверь избитый выползает еле-еле… Вышли все ли? Цепи крепко заклепали на руках и на ногах, чтоб спокойно, сладко спали богачи в особняках, чтоб от пыток, гнева, боли дохли воры поневоле…»
Размышления о жизни и смерти, о предназначении человека на земле, о власти одного человека над другим — все занимает писателя. Мысль о том, что из этой тюрьмы, как и из общей тюрьмы безжалостной капиталистической эксплуатации, дорога ведет только к смерти, он проводит в большинстве прозаических и поэтических произведений этого периода.
«Последний исход покойников из новых и мрачных ворот. Их десять — и парами, в ряд, прижавшись друг к другу, лежат. Гробов теснота… Без плача родных, без молитв, без креста несут их в морозном тумане, луны потревожив сиянье… Счастливый вам путь, отдыхайте, усопшие! Добрей вам могила покажется общая, чем вас осудившее царство господ, чем старый священник, что к вам не придет. Старайтесь быстрей обойти преграды на темном пути, ведь завтра, а может быть, даже сейчас, лишь звезды взойдут восковые, светясь, предстанете в царстве ином — пред новым судом…»
Суд на этом свете, суд на свете ином…
А что ожидает человека еще? Во имя чего он живет?
Об этом должна была быть книга стихов Аргези, которую он намеревался выпустить к своему сорокалетию. Но этот день 21 мая 1920 года, день святых Константина и Елены, застал его в тюрьме «Вэкэрешть». Он надеялся, что в этот день разрешат ему свидание с сыном Элиазаром и с Параскивой. Их же пустили только до ворот, с передачей. По случаю этого дня Параскива испекла пирог. Тюремщики разрезали его на мелкие куски в поисках «недозволенных вложений» и, не обнаружив ничего, кроме капусты, передали его в камеру вместе с ведром борща и сорока свечами.
Пирог съеден, сорок свечей догорели.
Сорок лет… А где же обещанная книга, Тудор Аргези?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1
Освобождение Тудора Аргези из тюрьмы пришло неожиданно. После окончания первой мировой войны академик Николае Йорга становится председателем палаты депутатов и занимает главное кресло за столом круглого зала дворца на холме Митрополии. В один прекрасный день Аргези слышит громкий голос надзирателя:
— Ион Теодореску!
Аргези медленно встал с нар и подошел к зарешеченному квадратику двери.
— Меня так зовут…
— На выход к господину министру!
«На выход к господину министру» были вызваны все проходившие по «делу журналистов».
Старший надзиратель принял за господина министра Николае Йоргу. Он стоял в конце длинного коридора и, когда подходил к нему заключенный, протягивал руку, и спрашивал:
— Вы за что сидите?
— За то, что писал, — ответил Аргези. И добавил: — И честно признался в этом — на суде сказал правду.
— А другие?
— Те сидят тоже за то, что сказали правду. Те, что солгали, сейчас на свободе…
— Вы Аргези? — спросил Йорга, не веря, что этот наголо остриженный, небольшого роста крепыш в полосатой тюремной одежде и есть тот самый Тудор Аргези, иеродиакон Иосиф, посмевший не раз подымать руку на священный синод, на его величество короля и на него, академика Йоргу.
— Мне вас жаль…
Гала Галактион, Николае Кочя, многочисленные друзья и поклонники Аргези писали королю, председателю совета министров и председателю парламента академику Йорге многочисленные письма с требованием освободить Аргези. Йорга, как один из наиболее известных представителей буржуазной интеллигенции, не мог оставаться равнодушным, и он посетил тюрьму «Вэкэрешть». Об этом широко сообщала вся пресса и выражала надежду, что Николае Йорга скажет свое слово.
Вскоре Аргези был на свободе.
Встает вопрос: почему Йорга пошел на этот шаг?
Во-первых. «Пусть будут на воле мои противники, — заявил Йорга, — они мне не страшны». Во-вторых, как можно говорить о широчайшей демократии в проповедуемой им «Великой Румынии», если в тюрьме сидит невинно осужденный, выдающийся писатель страны, и, в-третьих, Николае Йорга надеялся сделать из Аргези своего сторонника.
После выхода из тюрьмы он послал Йорге короткую телеграмму и выразил благодарность за помощь, но идейно остался его противником.
Сражение Аргези с несправедливостью и с самим собой не утихает ни на единое мгновение.
Вот строки из стихотворения «Портрет».
«Участие нежное, слезы печали заключены во мне, но если черная молния ранит в кровь мои веки, — не верь тогда в пощаду: во мне воспрянет, восстанет железный зверь».
В другом стихотворении, в котором угадывается сам Аргези, мы читаем:
«Я тот, которого провидел в снах своих, разыскивал и выдумать мечтал. Дабы пробился в мусоре насущностей людских свет благородства, разума кристалл. Кто в силах незапятнанным остаться и в грязи, кто путь до неба в силах одолеть и кто железным будет впредь, тому какая ржавчина грозит?!»
Помочь насущностям людским пробиться к свету благородства и разума… А как?
Выход Тудора Аргези из тюрьмы был встречен с восторгом всей прогрессивной общественностью страны. Но к нему пытаются подбирать ключи и друзья Николае Йорги, могущественная семья потомственных румынских помещиков Брэтиану, представители которой не раз возглавляли румынское правительство. В свое время именно правительство Брэтиану посадило Аргези в тюрьму. Сейчас же, в разгар шовинистической пропаганды националистического хора румынской буржуазии, писателя приглашают для беседы.
На квартире у Иона Брэтиану собралось все руководство либеральной партии, и Аргези предлагают организовать издание главной газеты партии и быть ее директором.
— Для газеты прежде всего нужна бумага, — пошутил Аргези.
— Мы закажем бумагу, какую пожелаете, — был ответ. Его шутку не поняли. Аргези тогда спросил:
— А какова будет программа газеты?
Руководители либералов посмотрели друг на друга и сказали:
— Программу определите вы… Ведь для этого вас пригласили…
— Хорошо, — ответил Аргези. — Но я приучен с детства писать только своими чернилами.
Либералы ничего на это не ответили, они делали вид, что не понимают смысла сказанного.
В феврале 1922 года выходит первый номер «Румынской мысли». Ее директор — Тудор Аргези. В этой газете он публикует ряд собственных стихотворений, переводы из Шарля Бодлера, серию псалмов в прозе под названием «Одинокий псалмописец». Вокруг «Румынской мысли», а главным образом вокруг Аргези, собираются молодые литературные силы страны.
Но либералы требовали программы, а вернее, чтобы Аргези осуществлял их программу. Работать по указке редактор не умел и вскоре ушел из «Румынской мысли».
С Галой и с вернувшимся из Советской России Коней Аргези проводит вечера, вспоминая давние заседания кружка социалистов на улице Полукруга. Коня восторженно рассказывает об октябрьских событиях в Петербурге, о том, как отражала молодая Советская Республика атаки объединенных сил международного империализма.
— Идет гигантское сражение за преобразование огромной страны. Выметается мусор, и создается единое государство разноплеменных народов, объединенных общей идеей, — говорил Коня. — Как я счастлив, что видел это своими глазами! Объединить под одним знаменем всех жителей России мог только Ленин и его партия. И в основе всего братство, истинный интернационализм. Мы еще станем свидетелями того, в какую силу превратится страна Ленина!
Друзья вспоминали свои юношеские мечты, работу в «Факеле» и «Хронике».
— Помните, как я вам говорил о Ленине еще до войны?
Аргези жадно читает журналы и книги, пропущенные за годы заключения в «Вэкэрешть», радуется как ребенок, когда Галактион дает ему папки с вырезками своих статей из газеты «Сочиалистул», где он печатался в годы заточения друга. Особенно понравилась Аргези статья Галы «Новый мир».
Гала писал, что Октябрьская революция перевернула весь мир, все прежние представления.
«Подымается новый могучий, великий и хорошо устроенный мир — мир справедливости и глубоких социальных преобразований… Из социального океана пробивается к небесам справедливости будущее социалистическое общество». «Мы, румыны, — с горечью замечает писатель, — всегда запаздываем, плетемся в хвосте. Израненные, избитые, в вечной тревоге, мы всегда опаздывали… Но из нашего укромного, незаметного уголка мы смотрим с горячим сочувствием и любовью на замечательное народное брожение, которое приведет к будущему прекрасному обществу… Проклятием заклейменные, создающие все богатства на свете, полны решимости применить к нашему старому и несправедливому обществу самую современную терапию».
В этой статье Галактион призывает румынских писателей не сидеть сложа руки, не быть пассивными наблюдателями событий, понять дух времени и бороться за то, чтобы румынская литература могла с гордостью заявить, что и она имела высокую честь сражаться за великое дело социальной справедливости.
— Это ты правильно написал! — воскликнул Аргези. — Настанет суд времени, когда совесть каждого будет держать ответ…
Литератор обязан держать ответ перед своим временем!
Под этим девизом начинается новый период в литературной работе Тудора Аргези.
После его выхода из тюрьмы не было в Румынии органа печати, который бы не обратился к нему с предложением сотрудничать. Крупнейшие ежедневные газеты считали за честь видеть Аргези среди своих авторов. Но писатель разборчив и отдает свои произведения не каждому желающему. Памфлеты, очерки, стихотворения, отрывки из прозаических книг Аргези публикует в журналах и газетах «Румынская жизнь», «Литературная и художественная истина», «Мир», «Мысль», «Современник», «Горизонт», «Свободное слово», «Колокол». Он пишет новое предисловие и готовит к печати второе издание «Записок из мертвого дома» Достоевского. В эти годы он начинает публиковать отрывки из своих будущих книг «Деревянные иконы» и «Черные ворота». В этих книгах все остросоциально, все без исключения — безжалостное вскрытие пороков прогнившего буржуазного общества, сочувствие горю и тяжелой жизни простых людей, попытка помочь им вырваться из цепей бездушного и жестокого мира. Но порою за строками иных стихотворений чувствуется борьба Аргези с самим собой, идет поиск непроторенных путей и форм выражения своих мыслей и устремлений.
«Не раз ты просыпался со стыдом, застигнут первым солнечным лучом, что возвестил, скользнув по простыне, о новом дне. Не выветрился весь еще в дремоте из памяти твоей, из плоти вчерашний день, пропитанный тоской и отвращеньем, и неправотой, как новый день непрошеным ниспослан слепой судьбой, скиталицей подзвездной. Сгибая плечи мне, на коромысле дни мои ведрами повисли. Едва ступаю, чтобы их не расплескать… Кровь старую несу и не пойму — чья эта кровь, несу ее кому?»
В беседах с Кочей и Галактионом Аргези часто пытался выяснить многие непонятные для него вопросы. Когда он в «Вэкэрешть» узнал о том, что в Будапеште погиб друг его детства Раду, что у него осталось пятеро детей, больная жена и старая мать, он особенно остро почувствовал боль за погибших на войне. Смерть Раду была болью, касавшейся непосредственно его, Аргези. Погиб тот мальчик, с которым он заработал цветные шары у хромого Али. Аргези после выхода из тюрьмы искал Али, хотел сказать спасибо ему, но не ходил уже по улицам Бухареста старый торговец брагой и восточными сладостями Али… А Раду погиб молодым, он старше Аргези на два года, ему, значит, за сорок… Пятеро детей, старая мать, больная жена. За что погиб Раду? Ведь та большая война, в которую Румыния была втянута всемогущими державами, закончилась. Был заключен уже мир. За что погиб Раду в Будапеште? И сколько таких, как Раду, погибло там, молодых и постарше…
— Чего тут непонятного? — спрашивал всегда находивший ответы на все вопросы Николае Кочя. — Руки, которые пытались задушить Советскую Россию и не смогли, задушили Советскую Венгрию.
И правительство «Великой Румынии» тоже приложило к этому руки. Чет о тут неясного? По чтобы тебе было более понятно, я принесу одну брошюру, только смотри не попадись, сигуранца узнает — снова посадит, и на этот раз не в «Вэкэрешть», а в «Дофтану».
Николае Кочя принес брошюру через день. Ее автор был один из руководителей Венгерской советской республики Бела Кун. Оп писал, что контрреволюция, которая готовилась в резиденциях военных миссий Антанты, в будуарах любовниц аристократов, во дворцах и церковных приходах Венгрии, в залах заседаний профсоюзных бюрократий, расцвела пышным цветом. Выбитое из рук пролетариев оружие подхватили буржуазия и ее наемники. «Международная контрреволюция полностью отдавала себе отчет в том, что Венгерская советская республика, — подчеркивал Кун, — это тот мост, по которому революционное направление рабочего движения распространяется с востока на запад».
— Так вот на этом мосту и погиб Раду, — сказал Кочя.
После долгого молчания Аргези встал, отложил брошюру, подошел к Коче:
— Ты не думаешь, что и некоторые деятели социалистической партии все больше отходят от идей интернационализма? Похоже, они устали от похода под красным знаменем…
— Те, кто твердо стоит под красным знаменем, — ответил Коня, — сидят в «Дофтане» или работают в подполье, многие гибнут. Вот Фриму погиб от побоев в тюрьме… Гала об этом писал. А сейчас посмотри, его статья напечатана листовкой.
«Дорогой друг, горячее сердце и апостольская душа! Ты добивался избавления твоих братьев от страданий, ты стремился к хорошей жизни для своего народа, хотел обстругать своими руками великолепного столяра сучковатый ствол нашего общества. Я всегда с любовью наблюдал за тобой и восхищался. Я любил твой
порыв, преклонялся перед твоей откровенностью, уважал и буду всегда уважать твое социалистическое кредо. Но почему не могу и я полностью принять это твое кредо, быть таким же преданным ему, каким был ты? Почему, отдавая тебе и твоим товарищам все свое сердце, я не могу быть и формально с вами, в едином строю?»
— Так он, наш Гала, будет всю жизнь метаться между биением своего истинного пролетарского сердца, — сказал Аргези, — и звоном церковных колоколов… Ничего не поделаешь с ним.
— А ты? — спросил Кочя.
— Я? У меня свое собственное кредо. Ты это хорошо знаешь.
— Знаю, но все же я спрашиваю себя всякий раз, когда думаю о тебе: что же ты будешь делать дальше?
— Что бы я ни делал, моя совесть будет всегда чистой, все, что я стану делать, будет соответствовать делу партии с самой чистой совестью… Потом, раз уж мы заговорили об этом, времена ужесточаются, игра наших, да и не только наших, правителей в демократию подходит к концу. Запрещение Компартии Румынии
[30] — ты это лучше меня понимаешь — сигнал тревожный. В тюрьме многого не сделаешь. Я уже это хорошо почувствовал на собственной шкуре… А что касается меня, ты не беспокойся — я буду всегда рядом с тобой. Всегда я буду с тобой, что бы ни случилось. А сейчас мне немножко грустно, и я впервые почувствовал боль вот здесь, где стучит наш насосик… — Аргези замолчал, приложил правую руку к груди. — Я уже говорил тебе, что Элиазар собирается в Париж. Лицей он окончил, собирается стать оператором кино. Парень он настойчивый, наверное, что-то от меня перенял. А мне трудно с ним расстаться, даже больно думать об этом… Да куда же от этого денешься. Параскива тоже грустит. У пас общих детей с ней пока нет, так что, понимаешь…
— Тут уж я ничего тебе не посоветую… Но парню уже почти двадцать лет. что же ты хочешь?
— Все понимаю, но болит…
— Ты знаешь что… Если Элиазаоу нужна будет помощь, там, в Париже, у меня же много друзей, я ему дам письма к ним, помогут.
— Мне не хотелось, чтобы он стал таким одиноким, каким был я в его возрасте.
— Скажи спасибо, что он не ушел в монастырь, как ты. А в Париже все уладится. А как у тебя с книгой, Аргези? Где книга?
— Книга будет. — Аргези сказал это твердо, и Кочя не стал больше задавать вопросов.
2
После отъезда Элиазара в Париж Параскива сказала:
— Ты не грусти, Тудор Аргези. Мы будем вдвоем недолго. — При этих словах жены Аргези вздрогнул. В глазах Параскивы появилось что-то совсем незнакомое для него.
10 декабря 1925 года Параскива родила девочку. У нее были черные как смоль волосы и карие глаза. Родители назвали ее Митзурой, и отец тут же написал для нее «Колыбельную».
«Боже, в царстве тридевятом сделай для моей девчушки домик из цветов и мяты вот такой, с кошачье ушко. Озерко, чтобы под оконцем спичку-лодочку качало; чтобы звезды, чтобы солнце синева его вмещала. Пусть Митзурину избушку окружает лес полыни. Дай в подружки ей лягушку, мотылька из летней сини. Подари ей кисть и краски и бумаги белой тоже — пусть малюет без опаски вкривь и вкось во славу божью! А как будет все готово, въедет папа в домик новый».
Через год и две недели у Митзуры появился братик. Ему дали имя Иосиф. Но в семье ласково называли его Баруцу, и это стало его именем.
Двое маленьких детей, взрослый сын в Париже — ему надо помогать. А средств мало. Разногласия с руководством партии либералов по всем кардинальным вопросам ведения газеты «Румынская мысль» вынудили Аргези оставить ее и перейти на чисто писательский хлеб. Но этот хлеб горек. Гала Галактион тоже бедствует. У него три дочери, денег нет. Уже много лет Гала ведет переговоры с руководством патриархии — он предлагает приступить к переводу Библии с оригинала на румынский, труд громадной сложности и на многие годы, да святым отцам не нужен перевод Библии: если у вас возникло такое желание, переводите на здоровье, мы посмотрим, что получится, и тогда решим.
У Аргези чемоданы рукописей, вырезок, опубликованных в газетах и журналах работ — Параскива все собирала с большой аккуратностью. Аргези — известный писатель, признанный публицист, и для любого издателя нет никакого риска подготовить к выпуску его первую поэтическую книгу. Скорее всего это честь. Но где книга? Тудор Аргези тщательно отобрал все, что он счел нужным из написанного за тридцать лет работы, и объединил под названием «Cuvinte potrivite»
[31]. Дословный перевод— это «Подогнанные слова». В книге сто два стихотворения, Подогнанные слова…
Любой настоящий мастер, будь он плотником или столяром, часовщиком или портным, каменщиком или слесарем, занимается подгонкой, доводкой того, что он делает, чтобы его работа служила людям долго и они вспоминали о мастере с благодарностью.
Подогнанные слова…
Тридцать лет неутомимой работы ушло на то, чтобы подобрать, соединить вместе, подогнать к самым высоким требованиям тысячи и тысячи слов из бескрайнего моря народной речи. Аргези владеет этой речью виртуозно, как никто другой в истории румынской литературы. Он выражает этими словами мысли, которые еще до него не встречались. Он считал, что книга эта — итог его жизни, и потому начал ее тоже необычно — со стихотворения «Завещание».
«Когда умру — останется на свете лишь только имя в книге, буквы эти. В мятежное грядущее — не прямы к тебе дороги предков: рвы да ямы. Ползти по ним пришлось на брюхе дедам. И ты, мой сын, пройдешь за ними следом. И на пути твоем к вершинам света одной ступенькой будет книга эта. Не бойся — и себе рукою смелой из этой книги изголовье сделай! Из этой рабьей грамоты впервые к вам, дети, в ней кричат рабы живые. Чтобы в перо их заступ изострился, а чернозем в чернила превратился, копили пот веков, терпели беды погонщики волов — отцы и деды. Мой прадед разговаривал с волами — и завладел я этими словами: из года в год я их месил, как тесто… Я красоту освободил от грязи, от плесени лучи отмыл в алмазе, удары плети — боль тысячелетий — хоть медленно, но зреет месть на свете! — вернул с лихвой — в жестокой, хлесткой фразе. Вон ветка справедливости несмело на свет из леса выглянуть посмела, но мучает и жжет ее — прибавок извечностью взращенных бородавок. Княжна разнежилась на ложе леве. Ей с этой книгой столько затруднений! Ужасные здесь происходят вещи: венчаются с железом жгучим клещи. Раб книгу создал. Господин читает. А между тем догадки не хватает, что притаился в недрах книги сей раб, — гневный раб — да с родословной всей».
Этим завещанием, обращением к потомкам, которых он считал своими сыновьями, Тудор Аргези открывал все свои книги избранных стихотворений.
Этим завещанием открывается и выходящее в Бухаресте шестидесятитомное собрание его сочинений.
«Вылетайте, стихи, из ладони моей, вылетайте на цветущие простор, ковыляя и трепеща; словно бархатных птиц молодых неуклюжие стайки майские, — первую школу для крыльев ища».
О своей поэзии сам Аргези говорил, что кует слова, соединяя их со словами из глубин народной речи. «Ужасные здесь происходят вещи: венчаются с железом жгучим клещи». Над стихами Аргези размышляли и продолжают размышлять поколения критиков. В тайну его поэзия проникнуть очень непросто и потому еще, что слог у него новый, обновляющий язык, диктующий новую структуру стихосложения.
Так долго созревавшая книга вдруг оказалась в руках у читателей, и само это наполняло великой радостью сердца любителей настоящей, реалистической, глубоко социальной поэзии. Газета «Контемпоранул» («Современник») организовала коллективное интервью двадцати известнейших представителей румынской культуры. Михай Раля писал, что «Тудор Аргези — самый крупный ваш поэт, пришедший в поэзию после Эминеску». Другой видный критик, Джеордже Кэлинеску, подчеркивал, что «Тудор Аргези дал монументальную могучую поэзию возвышения человеческого духа к свету. Поэтому господин Аргези является самым крупным современным румынским поэтом». Такие же оценки содержали и выступления других критиков, писателей, деятелей культуры.
Прочитав все написанное о нем, Аргези отвечает своим критикам своеобразной поэтической исповедью, такой же яркой, откровенной и глубокой, как и его первая книга.
«В те тридцать лет, которые понадобились мне для того, чтобы написать одну книгу, я написал целую гору других книг. Большинство из них было очень просто отправлено к небу с кувыркающимися колечками дыма. Но я должен был писать. Мне хотелось писать так же, как хочется есть, как хочется спать. Для меня это являлось физической потребностью. Наклонившись над листом бумаги, я часто отдыхал после тяжелого трудового дня. Моими союзниками были сосредоточенность, терпение и фактическое насилие над самим собой».
Книга Аргези вызвала и неожиданные нападки со стороны тех, кто считал его поэзию непонятной для народа, слишком усложненной. Критиковали его и за то, что его поэзия слишком доступна. Ее называли «крестьянской». Аргези действительно был и сложным и простым одновременно. Наиболее резко выступил против Аргези Ион Барбу. Этому критику предоставил страницы своей газеты «Европейская идея» философ Рэдулеску-Мотру. Ион Барбу, Рэдулеску-Мотру и Николае Йорга были наиболее ярыми противниками поэзии Аргези. Именно поэзии. Потому что выступать против боевых, разоблачительных памфлетов Аргези было не очень удобно: уж слишком ярко обнажал автор пороки современного общества. А вот критиковать его поэзию, обвинять в том, что ее «не понимают широкие массы», или что она для изысканного вкуса ценителей поэзии слишком груба, можно было себе позволить. По крайней мере, мало кто разберется в сути спора. И все же появление статьи Иона Барбу в газете Рэдулеску-Мотру было непонятно для многих. Ион Барбу сам был поэтом весьма сложной манеры, он претендовал на самую высокую ступеньку пьедестала в истории румынской литературы. Оказалось, что, будучи весьма самолюбивым, Барбу обиделся на Тудора Аргези за то, что тот не дал ему экземпляр своей книги. Отношение же Йорги к Аргези известно. Что же касается Рэдулеску-Мотру, то он не мог воспринимать Аргези, поскольку все творчество Аргези и его социальная позиция противоречили философским установкам Рэдулеску-Мотру, о которых речь впереди.
3
Издатель не поскупился. Он хорошо знал, что книга Аргези не залежится на полках, а потом и престиж издательства, выпускающего книгу писателя с такой богатой биографией, не самое последнее дело. Впервые в жизни у Аргези появились лишние деньги, и он мог подумать о собственном жилище. Параскива никогда не верила, что труды ее мужа принесут наконец какие-то деньги. Она привыкла, что должна делать все, что на ее плечах лежит главная забота о жилище, о семье, да и о самом Аргези. Она понимала: муж делает что-то очень значительное, большое, но это приносило до сих пор одни неприятности. А сейчас такая большая, непривычная для их семейного бюджета сумма.
— В конце концов, — сказал ей Аргези, — труд никогда не бывает напрасным, настоящий, честный труд всегда вознаграждается… — Может быть, он не подумал сейчас, что это вознаграждение пришло после тридцати лет работы.
— Так начнем строить дом?
— Да, Параскпва. Начнем строить дом. Я давно уже выбрал место для нашего дома…
— А почему ты мне ничего не сказал?
— Боялся испугать мечту. Не хотел разочаровать тебя, а вдруг ничего не получится с книгой…
Заплакал Баруцу. Аргези взял его на руки:
— Ну чего же ты, малышка, заплакал, когда Тэтуцу и Мэйкуца
[32] ведут такой важный разговор?
— Ну и где же мы, Тэтуцуле, будем дом строить?
— На том самом месте, где ты мечтала, — напротив тюрьмы «Вэкэрешть»… Там есть небольшой переулок, Мэрцишор
[33] называется. И болото с лягушками. Так там и построим дом.
— Ты слышишь, Митаура? Тэтуцу будет строить дом в Мэрцишоре!
А Аргези добавил полушутя:
— А когда Тэтуцу снова посадят в «Вэкэрешть», Мэйкуце не надо будет далеко ходить.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ИЗ «ЗАПИСОК ПОПУГАЯ КОКО»

1
«Кричал в лицо мне поток могучий, упрям и зол: «Ступай за мною!» — но я не шел. Шептал мне ветер, клубящий тучи над скукой сел: «Ступай за мною!» — но я не шел. А в поднебесье, отваги полный, парил орел. «Ступай за мною!» — я зов услышал — и не пошел. Река на запад умчала волны за лес, за дол… Исчезли ветры, орлы и звезды. А я остался, я не пошел».
Помните Коко? Того попугая, который достал для Янку в Чишмиджиу билетик? Красивая заморская птица достала билетик с крохотным вопросительным знаком. Время проходит, а перед глазами Аргези стоит все тот же вопросительный знак. К нему присоединяются новые и новые малые и большие вопросы, и как трудно находить на них правильные ответы. А что, если привлечь самого Коко, взять его к себе в помощники? Может быть, он поможет находить ответы на это множество вопросов?..
— Тэтуцуле, что ты там делаешь? — Митзура уже говорит четко, выговаривает все буквы, слова у нее получаются певучими, мелодичными.
— Рисую птичку…
— А зачем?
— Она будет разговаривать.
— А-как ее зовут?
— Коко.
— А кто его научит разговаривать?
— Я его научу…
Митзура смеется. Тэтуцу научил разговаривать ее, учит разговаривать братика, а сейчас будет учить птичку говорить. Как интересно!
Аргези хорошо в мире наивных вопросов дочери, и стоит ей только подойти, как он уже забывает обо всем. Интересно, о чем она еще спросит?
— Тэтуцуле, все люди спят?
— Спят.
— А почему?
— Если они не будут спать, тогда не будут расти, так и останутся маленькими.
— А ты почему вырос большой?
— Как почему?
— Ты не спишь, а вырос.
Тэтуцу действительно не спит. Митзура не видела его еще никогда спящим. Вечером они с Мэйкуцей укладывают детей спать. Потом Тэтуцу уходит в свою комнату и все пишет, пишет и рисует. Это у него называется работать. Утром он уже одет; если не выходит гулять с детьми, тоже садится и работает.
Рисунок попугая Коко Аргези закончил ночью. Этот попугай станет его помощником, главным литературным героем, бойцом, критиком, поэтом. Аргези наделит его разумом, и Коко долгое время будет доставать из ящичка свои знаменитые записки.
— Что это ты задумал, родной? — интересуется Параскива, заметив, что муж разложил по всему полу большие, многостраничные газеты «Универсул» и «Адевэрул» и примеривает то к одной, то к другой по-разному сложенный лист бумаги.
— Хочу подогнать газету к бедным карманам, родная…
— Какую газету?
— Свою, вот эту… Чтобы стоила гроши и помещалась в кармане… Испещренный умными буквами клочок бумаги, понимаешь?
— Такая маленькая газета?! Над тобой же смеяться будут!
— Пусть посмеются немного…
«Записки попугая» назовет Аргези новую, необычную, малоформатную и общедоступную газету. Это «самый маленький листок со времен Гутенберга. Подобная газета не встречается даже в царстве муравьев», — шутливо замечает Аргези. Четыре страницы всего, на первой странице крупными буквами написано: «Bilete de papagal» — «Записки попугая», указаны номер, дата, цена и директор. Над ящичком с аккуратно сложенными записками устроился Коко. Он держит в клюве конвертик с запиской. Так выглядела первая страница вышедшего в четверг, 2 февраля 1928 года первого номера «Записок попугая».
С первого же номера стало ясно общедемократическое направление газеты.
«Кричал в лицо мне поток могучий, упрям и зол: «Ступай за мною…» А я остался, я не пошел».
Аргези не пошел за «могучим и злым» потоком, он остался, чтобы идти ему навстречу, бороться с ним. Он директор «Записок попугая», он автор, он наборщик, он крутильщик, он относит отпечатанный тираж на почту. Но директор понимает, что борьба в одиночку трудна и пользу она приносит малую. И поэтому он собирает вокруг Коко молодые талантливые силы румынской литературы. В условиях, когда, по словам Аргези, преобладало вялое, часто бессодержательное, приспособленческое письмо, а многие литераторы использовали литературу как пьедестал для достижения своих политических целей, своими «Записками попугая» Аргези бросает вызов бездарности и безразличию в литературе. Это находит поддержку со стороны крупных, именитых писателей. В первых номерах газеты выступают Михаил Садовяну, Георге Топырчану, Отилия Казимир, Гала Галактион. Один из самых ярких румынских публицистов, Феликс Адерка, становится первым помощником Аргези по выпуску «Записок попугая». Аргези заявляет, что он предоставляет страницы газеты молодым талантам, лишенным возможности печататься на страницах буржуазных газет и издаваться. Он подчеркивает, что ставит перед собой цель поддержать молодые таланты и ставит эту задачу «выше узких, сиюминутных интересов».
Редакция помещалась в квартире Аргези на бульваре Елизаветы и стала своеобразным ульем, куда каждая пчела-сотрудник приносила нектар только самого высокого качества. Вокруг небольшого на вид четырехстраничного листка собираются самые талантливые силы творческой молодежи, и Аргези как дирижер оркестра, состоящего только из солистов — победителей трудных конкурсов, становится не
учителем, а старшим товарищем. Материалы, написанные сотрудниками, подвергаются глубокому анализу и испытанию «при максимально допустимой температуре». В творческой лаборатории «Записок попугая» поднялись широко известные писатели Джео Богза, Михай Бенюк, Раду Боуряну, Эмил Ботта, Вирджил Георгиу, Ион Бибери, Еуджен Жебеляну, Константин Нисипяну и многие другие. Для всех этих писателей характерна четкая гражданская позиция, отсутствие каких-либо узконационалистических отклонений, борьба за лучшую жизнь для подавляющего населения страны — для рабочих и крестьян. Не случайно с первых же номеров на страницах «Записок попугая» появляются материалы, из которых видны симпатии коллектива редакции к борцам-коммунистам, вожакам рабочего класса Румынии. «Записка», подписанная Отилией Казимир и опубликованная в четвертом номере, называется «Михай Бужор». Это имя одного из замечательных румынских коммунистов.
«Перед моими глазами стоит приземистый, древний, ветхий домик в самом бедном квартале города Яссы. Маленькие темные комнаты, где пахло старыми вещами, оставшимися от дедов. Там жила тихая и трудолюбивая девушка. Звали ее Ксенией, и была она сестрой… Михая Бужора. Работала от зари до зари, и у нее все время были воспаленные глаза то ли от усталости, то ли от слез. При слабом свете керосиновой лампы Ксения вышивала нежнейшие цветы на рубахах, юбках, скатертях, занавесках — все для других. Сидя у окна ее комнаты, я замечала иногда подкрадывающуюся тень: человек невысокого роста, очень бледный, с черной бородой. Это был «опасный человек». Как только замечала его Ксения, она вздрагивала и тут же откладывала работу:
— Прости меня, пришел Михай. Пойду спрошу, может быть, ему что-нибудь надо…
Однажды говорит мне:
— Знаешь, нас выселяют. Куда поедем, не знаю…»И не обо мне речь — что будет делать бедный мой брат. Он как ребенок, только о других и заботится… — Она достала из-под подушки старую, поношенную мужскую рубаху. — Прости меня, мне нужно залатать вот это для Михая….
Прошло много лет с тех пор. Я не знаю, что случилось с Ксенией. Но на днях прочитала в газете заметку о томящемся в больнице тяжело больном человеке Михае Бужоре и вспомнила, как она прятала под подушку от чужого глаза поношенную рубашку брата, и в моих ушах зазвучали ее слова: «Он как ребенок, только о других и заботится…»
Основные записки Коко пишет сам редактор. Он твердо держит газету в своих руках и затрагивает в хлестких, полных сарказма и остроты коротких произведениях все стороны жизни румынского общества. Свои выступления в «Записках попугая» он называет «таблетами». Это новый. жанр, которому в румынской литературе проложил дорогу Тудор Аргези. Его таблеты периода тридцатых годов — это своеобразная попытка лечить общество от его тяжелых недугов, откликаться на некоторые философские и социальные теории своего времени. Выше мы говорили о том, что книга «Подогнанные слова» подверглась резким нападкам на страницах газеты профессора- философии Рэдулеску-Мотру. В своей газете «Европейская идея» этот профессор разрабатывал теорию «энергетического персонализма», пытаясь доказать, что все проблемы румынского общества сможет разрешить некая сильная личность, отрекшаяся от своих интересов, жертвующая собой во имя нации. Философия «энергетического персонализма» не была беспочвенной утопией размечтавшегося ученого. Она имела глубокие социальные корни. Рэдулеску-Мотру в своих печатных и устных выступлениях не раз прибегал к давним источникам для того, чтобы обосновать необходимость появления сильной личности, своеобразного спасителя нации от всех бед. В этом отношении чрезвычайно интересна приводимая Рэдулеску-Мотру заключительная часть статьи И.-К. Брэтиану «Национальность», опубликованная в брюссельской газете «Румынская республика» еще в 1853 году.
«Человек, — писал он, — получает первые уроки морали от матери, от отца — первые лучи мудрости, коммуна
[34] учит его любить себе подобных. Затем его подхватывает на крыльях родина и открывает перед ним горизонты, о которых он даже во сне не мечтал. Родина дает ему чувствовать, что в его груди бьются сердца миллионов, вооружает его пониманием братства и солидарности, готовностью жертвовать собой, она посвящает его в гражданина. В среде нации круг его братьев увеличивается, и он чувствует себя сильнее Самсона, жизнь для него становится гармонией, все растет, все раздвигается, все плывет на необъятных морских просторах…»
А что тут неправильного? — спросит иной читатель. Разве нехорошо получать первые уроки морали от матери или первые лучи мудрости от отца? Разве плохо, когда родина дает тебе чувствовать, что в твоей груди бьются сердца миллионов?
Но посмотрим, для чего понадобилось ученому жонглирование этими совершенно правильными понятиями. Не имея собственных положительных ценностей и не желая выдавать истинные практические цели своих теорий, идеологи буржуазии, как и теоретики рвавшегося к власти фашизма, спекулировали сложившимися веками понятиями, приспосабливали их к своим целям, в корне враждебным именно тем, которые они брали на вооружение в извращенном виде, борцами за которые провозглашали себя.
Буржуазный идеолог доказывает, что лишь Джинта
[35] способна научить человека «всеобщим законам жизни», приобщить «к великим личностям» и, главное, «позволяет ему наконец добраться до самого бога с полной уверенностью в своем бессмертии». А раз с нами бог (чего не дано ни одной из других наций), значит, нам все позволено во имя нации.
Эти рассуждения, являющиеся, по выражению самого профессора Рэдулеску-Мотру, «явной имитацией немецкого расизма», имели довольно широкое хождение на страницах журналов, газет и других публикаций.
Итак, энергетический персонализм, возвышение сильной личности до самого бога «с полной уверенностью в своем бессмертии».
А как смотрит на это Коко?
Он называет вещи своими именами, предупреждает общественность страны об опасности надвигающейся диктатуры. Очередная записка Коко носит название «Господин Констант».
«Мое имя: господин Констант… адвокат. Выделяться из общего ряда — мое наивысшее стремление. Люблю манерность, высокий стиль. Мне, наверное, суждено было родиться англичанином, эдаким денди в белых перчатках, верхом на шикарной лошади с развевающейся гривой и коротко подстриженным хвостом. Мне бы подошел монокль, упругий цилиндр и хлыст для пеших и верховых прогулок. Я бы мог устроить шумные охоты на оленя, а следом за мной шли бы лакеи в красных жилетах и собаки, а там вдали, над моим обширным, окутанным туманом лесопарком, плыли бы медные звуки завитых труб охотничьих фанфар. Моей женой могла бы стать шикарная леди, а моей собакой эластичный пинчер. II даже свиноматки моих ферм могли бы воспользоваться высшими благами, которых никогда не удостаивалась их йоркширская порода.
В нашей стране моя способность выделяться раздражает и бесит — ясно, зависть…
— Брось заниматься ерундой, моншер Костяке
[36]…
Единственный город, в котором я хорошо себя чувствовал бы, — это Париж, там я получил свой диплом. Сказал и подумал, что все же мое настоящее место — это столица Британской империи. Но по сравнению с Бухарестом и Долгопольем, где я появился на свет, Париж все-таки величественней и прекрасней. Представьте себе великую столицу на набережной Сены, Лувр, а по Лувру разгуливаю я. Каково?.. Какие там люди! Какая страна! И какие женщины! И какая у нас трагедия!..»
Аргези срывал маски «патриотизма», защиты «национальных интересов», что называется, раздевал идеологов «Великой Румынии» и разоблачал их истинные буржуазно-космополитические интересы и пристрастия, чуждые подлинным проблемам нации, народа. И не только чуждые, но и прямо враждебные.
«Мои политические убеждения — самые современные, — продолжает самораздевание господин Констант. — Верю в империю! Мне нечего делать с республикой. Мне необходима революция аристократов и установление диктатуры, которую я осуществил бы в самом высоком стиле. В моем лице в Долгополье родился великий диктатор — господин Констант! Мне понадобится для излечения народа и страны от всех болезней всего два года и один телефонный аппарат. Первые распоряжения, которые будут вывешены на стенах Столицы, мною уже отредактированы.
— Народу запрещается выходить на улицы для того, чтобы дать ему возможность использовать свое свободное время дома.
— Воскресенье переносится с конца недели на начало, а четверг из середины недели исключается.
— Впредь все обязаны писать только левой рукой, а моим помощникам надлежит изучить влияние этой меры на моральное состояние всего общества.
Мои политические взгляды были обнародованы в достопамятной лекции, в которой я доказал необходимость установления диктаторской империи. Ясно, что многие слушатели по праву были глубоко взволнованы и призадумались. И с тех пор, когда прохожу по улице, меня хлещет по ушам следующий диалог:
— Смотри, слушай, вот это мосье Костаке.
— Пошел он…
Когда я стану диктатором, подобные диалоги повлекут за собой лишение головы путем отсечения».
За двенадцать лет до установления фашистской диктатуры в Румынии в «Записках попугая» нарисован отвратительнейший образ будущего «руководителя» румынской нации Иона Антонеску.
Кличкой «господин Констант» или «мосье Костаке» подымали на смех любого претендента на пост диктатора, будь это в городе или деревне. Но, как скажет потом Аргези, это был смех отвращения, издевательства, а не активного сопротивления приходу к власти подобного «Константа». Выход на политическую арену Антонеску и его клики стал печальной реальностью.
В другой таблете Коко-лектор рисует неутешительную картину румынского общества тридцатых годов.
«Мы больны, — говорит Коко, — наша болезнь достигла уже той степени, когда медицина бессильна и не в состоянии помочь ничем. Спасение принесут непредвиденные и не поддающиеся расшифровке события.
Мы те, которые стремимся к выздоровлению больного и способствуем этому. (Разрядка моя. —
Ф. В.). Но мы почти беспомощны, потому что, до чего ни дотронешься, обнаруживаешь или нарыв, или гангрену. Вывод неутешителен — мы тяжело больны, и болезнь прогрессирует с фатальной неизбежностью. А виновные в том, что страна доведена до такой серьезной болезни, не проявляют никакого беспокойства об ее исцелении. Их, этих виновных, примерно одна тысяча. И удивительное дело — все их старания направлены совершенно к противоположному — они пытаются убедить и себя и нас в том, что мы совершенно здоровы. В то время когда наша ткань медленно, но верно гниет заживо, они болтают о том, что организм жизнеспособен. Порой они трезвеют и до них доходит истинное положение вещей, и тогда их оптимизм обретает агрессивный, опасный характер. Они пытаются вырвать чувство нашей великой боли с корнем и защищаются с жестоким остервенением, затем переходят в наступление с намерением сокрушить нас, понимающих, что мелкие примочки не остановят бурно развивающуюся болезнь страны. Они в панике и в то же время не отказываются от мысли стать хозяевами не только текущего момента, но и всего будущего…
Перед нами одна-единственная задача, — продолжает Коко, — показывать ежечасно и ежедневно эволюцию нашей жизни, ничего не фальсифицируя.
Интеллигенция никогда не сможет одна выполнить почетную задачу глубокого изучения и анализа состояния общества путем критики его недостатков и очищения его… Миссия очищения и морального возрождения общества — удел работников физического труда. Они свободны от колебаний, от чрезмерного сюсюканья вокруг да около так называемых национальных традиций, от чувства всепрощения и от всех двусмысленностей, разлагающих четкие контуры конкретных идей и превращающих эти идеи в бильярдные шары и мячи для жонглирования».
Аргези анализирует разные стороны жизни страны, дает свои объяснения многим социальным и культурным явлениям. Вот как метко характеризует он ту часть интеллигенции, для которой общественные заботы, боль и страдания народа весьма далеки и чужды.
«Интеллигент, как правило, сельского происхождения. Чтобы пройти путь от постолов до лакированных ботинок, ему нужен покровитель, а вознаграждение покровителю — полная и безропотная зависимость. Лакированный ботинок, шелковый носок, галстук с булавкой и жемчужной горошиной, а затем — пост, автомобиль, квартира, а дальше и собственный особняк в столице. Не исключены зарубежные поездки, выгодная женитьба со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это идеал вырвавшегося из берлоги обывателя. Он не жалеет о том, что оставил в родном селе буренку и лошадку, уже сторонится работы на глине и черноземе, ему претит навоз скотного двора, пугает темнота села, тошнит от дождя, слякоти, непогоды и всей нищенской жизни села. В тот день, когда подобный интеллигент почувствует запах духов от поднесенного к носу платочка, стремящаяся к преобразованию мира армия потеряла еще одного будущего бойца… От личностей подобного рода чего нам ожидать?»
В «Записках попугая» Аргези и его друзья часто знакомят читателей с крупнейшими представителями человеческой культуры. В доступной, лаконичной и в то же время интересной форме идет рассказ о Жан-Жаке Руссо, о Толстом, Достоевском, Бодлере, Ибсене, о крупнейших художниках, музыкантах, ученых. Артезианские таблеты нередко сопровождаются такими же лаконичными рисунками, выполняемыми талантливыми художниками.
После приезда из Швейцарии в 1910 году Аргези часто возвращается мыслью к этой стране, к ее трудолюбивому народу. В 1912 году он стал сочинять послания Жан-Жаку Руссо. Он обращался к нему как к живому. Он писал ему тогда, что весь день и часть ночи «мы с отвращением делаем что-то, транжирим время на чужих дорогах и только к своей настоящей дороге не находим никакого выхода. Это у нас называется деятельностью, и мы довольствуемся тем, что в конечном итоге ничего полезного не делаем. Артисты, писатели, философы и ученые, как мы любим называть себя, страдают от общего безразличия… Слышал ли ты, Жан-Жак, о Караджале? Он умер. То был настоящий писатель, и он был похож на тебя. Сейчас здесь, в Бухаресте, много шума вокруг его имени. Те, из-за которых он покинул страну и умер на чужбине, в Берлине, надевают сейчас маску благодетелей и низвергают потоки красноречия…»
В «Записках попугая» в 1928 году Аргези снова возвращается к памяти Жан-Жака. Многие взгляды Руссо ему близки.
«Доброе утро, мосье Жан Жак. В стопятидесятую годовщину со дня твоей смерти позволь разбудить тебя и воскликнуть: «Вставай! С добрым утром! Как спалось?» Я могу позволить себе такое, добрый мой философ. Мы ведь так давно знакомы, еще задолго до того, как в твоем городе часовщиков была собрана музыкальная машина Лиги Наций. Наши беседы длились лет десять подряд. Ты весь бронзовый, а я в легком пальто. Было холодно и, кроме тысячи птиц, прилетевших на твой остров
[37] из северных стран, кроме Белой Горы и редких электрических фонарей, кроме осеннего холодного одиночества озера Леман, никого не было рядом с нами…
Я часто звал тебя тогда — пойдем со мной, господин Жан-Жак, я покажу тебе мою страну, я очень по ней соскучился… Мне снилось, что идем вдвоем по желтеющей ниве, где стебли пшеницы похожи на тростники, а колосья полные, словно жирные воробьи. Мы пробивались через хлеба и ощущали запах горячей земли. Опустились среди поля, и я, распаленный воспоминаниями, стал щедро делиться с тобой миллионом выдуманных и настоящих приключений, напоминать многое из того, что пережил ты и мое скифское племя. Я рассказывал тебе еще и о том, как любят парни и девушки моего края гулять по колосящемуся хлебному полю под высоким, открытым небом. И рассказал я еще тебе тогда, как из чистой, светлой молодой любви под открытым ясным небом рождаются самые красивые дети, называемые в нашем народе детьми цветов…
Что ты делаешь сейчас, господин Жан-Жак? Доброе утро! Как спалось?»
Ничего не проходит мимо пристального взгляда вездесущего Коко. Его интересуют внутренние проблемы страны, положение рабочих, жизнь крестьян, правосудие, правительственное законодательство. «Записки попугая» не раз возвращаются к воспоминаниям о минувшей войне, о преступлениях милитаристов.
«Небольшой бельгийский городок. Осенью 1918, всего за несколько дней до заключения перемирия, сюда пригнали партию французских военнопленных. Немецким конвойным было приказано не допускать никаких контактов пленных с гражданским населением. Пленные были истощены многодневным голоданием и еле держались на ногах. Жители городка каким-то образом узнали об этом, но их строго-настрого предупредили, что осмелившиеся передавать французам продукты и воду будут наказаны со всей жестокостью военного времени.
Пленных загнали за железную ограду, и они печально Смотрели на прохожих. Несколько учеников, только что отпущенных из школы, остановились и с интересом разглядывали французских солдат, которые походили на измученных, умирающих животных. Дети знали, что это пленные французы, что их ведут издалека и что им предстоит еще большой путь, знали они и о приказе не давать этим людям ни корки хлеба, знали, что немецкие солдаты следят за соблюдением этого приказа.
Одна восьмилетняя девочка тоже знала о приходе пленных. Приказ не кормить их был обнародован накануне, и его обсуждали родители. Но она сохранила свой завтрак и, не обратив никакого внимания на крики немецкого солдата, подошла к ограде и отдала сквозь решетку этот завтрак первому протянувшему руку французу. Немецкий солдат прицелился, и девочка в тот же миг упала, сраженная пулей.
Эта дикость конвойного сродни поступку другого немецкого солдата, который, увидев, что какой-то мальчишка целится в него из деревянного пугача, тут же его пристрелил.
Все дикости между собою сродни. Их великое множество. Это было сутью окончившейся десять лет назад четырехлетней войны. В каждом солдате постарались разбудить зверя… А в том далеком бельгийском городке у железной ограды, где совершилось одно из бесчисленных преступлений зверья, стоит сейчас с протянутой рукой бронзовая восьмилетняя девочка. Сегодня ей было бы восемнадцать…»
Коко пристально следит за международными событиями, прилетает на международные конференции, делает свои оригинальные комментарии. Вот как он рассуждал о Пакте Келлога.
«Когда пишутся эти строки, за подковообразным, накрытым красной скатертью столом в зале Курантов министерства иностранных дел Франции подписывается Пакт Келлога… Агрессивная война запрещена. Это преднамеренное преступление, совершаемое во все времена всеми правителями, называвшими себя цезарями, императорами, кайзерами, королями или могучими финансовыми владыками, делалось руками простого народа. Сейчас оно объявлено вне закона.
По мы должны внести некоторые уточнения в статьи этого американского пакта.
В документе не предусматриваются никакие санкции против нации-агрессора и не дается точного определения, когда именно нужно считать, что началась вооруженная агрессия. Не указывается также, по каким признакам отличать агрессию от оборонительной войны».
В другой таблете Коко сообщает о том, как ведут себя американцы в Бухаресте, в Плоешти и в других румынских городах. Где бы ни появлялись сыновья Нового Света, они учиняют дебоши, напиваются как свиньи и ведут войну с официантами, сторожами, поварами и счетными работниками. В Плоешти они устроили настоящий спектакль американской морали: разогнали зрителей в театре, побили всех участников балетного ансамбля, пустив в ход рамы от разбитых окон, зеркала, стулья. В главной гостинице столицы «Атене-палас» группа взбесившихся от алкоголя американцев избила до полусмерти прислугу гостиницы.
«Приезжайте к нам, господа американцы, — заключает Коко, — когда устанут от работы ваши кулаки, хватайте дубинки, пистолеты и карабины. Мы все перенесем— ведь какая честь получить по морде удар американского кулака! Мы телеграфно поздравим вашего Президента и Белый дом с геройскими поступками потомков дядюшки Сэма…»
И снова стихи:
«Моя душа — мой старый пес покорный, и часто, цепь бряцающую сняв, я волоку его из будки черной к одной из самых сумрачных канав, чтоб утопить его во тьме суровой, где все мои начала и основы. Но пес, привыкший к тягостной неволе, торопится обратно в свой закут. Он видит хлыст, он помнит чувство боли, он знает, как удары спину жгут. И пес рычит, страшась расправы новой… У нас одни и раны и оковы… Но ты одно запомни, пес постылый: пусть суждено мне скоро умереть — ты не уйдешь, и даже из могилы тебя везде моя настигнет плеть».
Не давать душе покоя, держать ее в постоянном напряжении. Вот еще один незыблемый принцип отношения Аргези к художественному творчеству.
На страницах «Записок попугая» Тудор Аргези печатает отдельные главы из будущей своей «Книги игрушек». Главными героями этой удивительной книги для детей и взрослых становятся его дети Митзура и Баруцу. Он умело использует воспоминания своего безрадостного детства, свои парижские и женевские впечатления. Но главная территория — это Мэрцишор. Записки Коко о проделках Митзуры и Баруцу читаются и сейчас, пятьдесят лет спустя после их опубликования, с тем же интересом, они о вечном детстве, о том, как радуются
и страдают дети и родители.
«Митзура большая, а Баруцу маленький. Мицу исполнилось четыре года, а ее брату — три.
— Правой ручкой, правой ручкой! — говорит Мэйкуца. — Сказала же — держи вилку правой рукой!
Почему же столько препятствий между тарелкой и ртом голодного ребенка? Скатерть, которую нельзя пачкать, белое полотенце, тарелки, кружки, стаканы, ложечки, большая ложка и ко всему еще и эта вилка. Зачем?
Вся еда была бы очень вкусной, если бы не столько правил, о которых напоминают на каждом шагу. И вообще без этих правил можно было бы жить с утра до самой ночи. Но ничего нельзя. Нельзя пачкать стены кончиком красного или хотя бы синего карандаша. Нельзя царапать двери граблями. Нельзя таскать землю в ведерке, перемешивать ее с водой и делать куличи посреди комнаты прямо на паркете. Нельзя бросать камешки в лампу. Нельзя резать ножницами диван. Нельзя рвать книги и выливать чернила из чернильницы Тэтуцу. Нельзя пудриться и краситься красками Мэйкуцы и нельзя пачкаться углем и делать облака из золы. Нельзя звонить весь день в колокольчик и нельзя ложиться неумытым и пачкать своей грязной мордашкой белую подушку, на которой Мэйкуца вышила ромашку и бабочку. Баруцу возмущает не только все это. Раз его умывают вечером и он уже чистый, так зачем же нужно умываться еще и утром? Вы же знаете, сколько неприятностей приносит это умывание; теплая вода, потом холодная. Мыло. Уши. Нос. Дуй раз, потом еще раз, еще немного. И так всегда».
Баруцу это все не устраивает, и он начинает капризничать. И тогда Тэтуцу…
Ну и хитер же этот Тэтуцу! Он начинает рассказывать сыну всякие сказки. И не про Фэт-Фрумоса и семиглавых чудовищ, а про картошку или про сливу, он знает сказки про жуков и про козлят из Мэрцишора, а потом умеет рассказывать про все цветочки и растения. Но Баруцу умеет задавать такие вопросы, что Тэтуцу должен думать целые дни, пока ответит. Вот, например, про это: как сделала Мэйкуца Митзуру?
Оказывается все, что находится в их доме, сделала Мама. Вначале была Мама. И вокруг нее ничего не было, кроме дома и огорода. Не было уток, кошек тоже не было, не было поросенка и не было игрушек, не было кур, и ни одной собачки тоже не было — все сделала Мама, которая и сейчас все делает своими руками. И поэтому Мицу целует их все время.
На рождество, когда Мама делала пирог вместе с Мицу, потому что Мицу очень хорошая хозяйка — она выбирает изюм из теста и не успевает запихивать его в рот, — Мама рассказала ей, как она ее сделала четыре года назад, тоже в такой день, на рождество… Мицу Мама сделала из теста с орехами, а Тэтуцу она сделала из теста с маком, и поэтому у него есть и усы. А для Мицу она взяла кулек муки, кружку молока, пять взбитых яичных белков и пять желтков, и все это хорошенько перемешала и перемесила. Потом она добавила немного ванили, а еще потом взяла белое сито и просеяла над тестом много-много сахарного песка. Когда тесто подошло, Мама выбрала его из корыта и выложила на широкой, посыпанной мукою доске. Опа мяла это пухлое тесто, нащупала там ножки, вытянула их оттуда, а потом и ручки нашла, и пальчики, приделала к ним ногти и говорила какую-то молитву, чтобы все получилось хорошо и не ломалось. Мама хотела, чтобы ее дочка была быстроногой и стройной, потому она сделала ей ножки тоненькими, а на бока не стала лепить много теста. По середине животика она надавила ногтем, чтобы пуп получился как закрытый глаз, а рядом тремя черными изюминками сделала три родинки для того, чтобы, не дай бог, не потерялась дочка или чтобы не украла ее Святая Святых, которая ходит и собирает красивых девочек для своего далекого монастыря, что стоит среди далеких и
плешивых каменных гор.
Очень трудно было сделать Митзуре глаза. Для них Мама взяла вначале две горошины перца, потом две маслины, а потом еще две миндалины. Но ничего не подошло, ничего не блестело и не сверкало молниями, как хотелось Маме. И тогда Мама бросила в ступу свои сережки и кольцо, раздробила их тяжелым пестиком, перемешала с каменным жиром, и у дочери появился сегодняшний взгляд — глаза как черный алмаз, освещенный внутренней звездой.
Ну вот наконец она посадила дочку в печь для хлеба и достала ее оттуда как ты ее видишь — тоненькую, легонькую и красивую. Но в печи произошло что-то непредвиденное: подкралась по дымоходу к тому тесту душа. И эта неизвестно из какого мира прилетевшая душа знает многое такое, что незнакомо Маме.
— А как сделала Мама Тэтуцу?
— Ну, это уж совсем другое дело. Мама была очень бедной, у нее не было денег, чтобы купить хорошей муки, сахара, ванили и яиц. Она раздобыла откуда-то целый мешок отрубей кукурузной муки и израсходовала его целиком на Тэтуцу. И из громадной мамалыги получился вот такой Тэтуцу…»
В мире взаимоотношений родителей и детей Аргези замечает самые различные оттенки добрым, все подмечающим взглядом. Он то восхищается детьми, то включается в их игру, то весьма осторожно обращает внимание на то, какой нагрузке подвергается хрупкий детский организм хотя бы на протяжении одного дня. Аргези не морализирует, не читает нотаций, не учит. Он просто почти стенографически записывает нам происходящее. Выводы может делать каждый по своему усмотрению.
Итак, Коко ведет стенограмму.
«За столом. Не держи ложку левой рукой. Смотри внимательно, как ешь, не капай на полотенце. Не знаю, что и поделать, — эти дети пачкают по пять пар белья на день. Вот тебе и пожалуйста — не говорила я, что накапаешь? Держи руку выше, а то угодишь локтем в подливку. Не надо делать нору в хлебе как мыши, мякоть едят вместе с коркой. Остановись! Высморкай нос! Опять потерял платочек…
На прогулке. Вы уже совсем замучили меня. Где угораздило запачкать платьице? Когда? Не говорила ли я — сидите на одном месте! Какую стенку протерла? А у тебя уже штанишки расстегнулись? Какой срам! Дай подыму чулочки. Разве так надевают чулки? Боже мой! И пуговицу потерял? Дайте руки, мы перейдем дорогу…
Нет, это не для вас. Оставьте собачку в покое, запачкает вас своими грязными лапами. Иди домой, милая собачка. Видите, собачка умнее вас. Она поняла и ушла…
Если будете слушаться и вести себя хорошо, пойдем сейчас домой, и я вам расскажу сказку, знаете, эту про медведя и про ежа.
Дома. Сперва умойтесь. Потом сними с них одежду и надень ночные рубашки. Пусти воду. Сделай воду тепленькой. Как, снова скандал? Без этого нельзя? Кто же чумазым ест и таким же ложится спать? Без мыла? Почему? С мылом и теплой водой. Не плачь, а то вырастешь некрасивой. Я сегодня видела мышку, она такая же грязная, как ты. Успокойся уж!.. А подушки почему валяются на полу? Спать сию же минуту!»
Аргези наблюдает за детьми, помогает Параскиве воспитывать их.
В каждом выпуске «Записок попугая» обсуждаются и проблемы внутренней политической жизни страны. Коко сообщает новости из мира «забот всемогущих правителей» о народном благе. И поскольку правительства менялись часто, эти заботы занимали не только светлые головы правителей, но и находившихся на время в оппозиции министров. Будущие министры тщательно следили за промахами правящих и громогласно вещали о благах, ожидающих народ в случае, если он, народ, выберет их своими представителями. И прежде всего будущие благодетели готовят, естественно, новые законы. Вот как рассуждает по этому поводу Коко.
«Когда меняется правительство, ко дворцу резиденции совета министров движется большая арба. На ней — огромный шкаф с новыми законами. Будущего министра занимает одна забота — какие еще нужны законы родной стране?
В государстве имеются леса — издадим закон о лесах. Текут реки — необходим закон о реках. Добывается нефть — давай народу закон о нефти. Проложены железные дороги — где закон о железных дорогах? Есть просеки. А по какому закону они существуют? Все материальные блага должны обладать своим законом. И наконец, налоги. Закон о налогах должен состоять из многих рубрик и статей. Разложенные по полочкам суммы должны быть небольшими, зато их общий итог не может быть меньше существующей суммы налогов, он должен ее превышать. Иначе за счет чего содержать тех, кто пишет законы?
Если придавать значение всем изданным законам, — подчеркивает Коко, — что, к счастью, не случается, то нужно было бы организовать громадный исследовательский институт. Ему понадобились бы годы для того, чтобы разобраться в огромном количестве изданных, вносящих путаницу и противоречащих друг другу законов, количество которых измеряется уже не томами, а тоннами. Бог три тысячи лет управляет целым миром при помощи десяти заповедей, а правительству, находящемуся у власти шесть месяцев, необходимо сто тысяч законов и миллионы статей. Но самое любопытное — фантазия любого идиота при помощи большинства голосов становится законом. Бред ничтожества в руках жандармерии и административных органов обретает силу священного писания. Не ругай закон, потому что оскорбляешь принципы и сопротивляешься богу, создавшему все на земле, в том числе и идиота».
2
Представим себе 1928 год. В Румынии свирепствует цензура, уже несколько лет запрещена компартия, малейшее неповиновение достаточно для того, чтобы человека объявили большевиком и лишили свободы. Словом «большевики» пугали детей, за подозрение в симпатии к России и всему русскому хватали и сажали в тюрьмы. И тем не менее попугай Коко продолжал вести свой неравный ежедневный бой. «Записки попугая» выходят регулярно каждый день, без выходных. Тудор Аргези не знает отдыха. В его квартиру на бульваре Елизаветы приходят ежедневно письма со всех концов страны, люди жалуются, просят о помощи, присылают свои первые литературные опыты. Аргези читает тысячи писем, пишет тысячи ответов. Параскива помогает ему во всем. Они работают как окрыленные, Коко стал одушевленным, родным, членом их семьи. Аргези и сотрудников редакции радуют вести, что во многих городах страны появляются свои «Записки попугая», своеобразные филиалы главной, бухарестской редакции Коко. Аргези дает консультации, советы, направляет работу этих периферийных редакций. Для подписчиков «Записок попугая» посылаются специально приготовленные кассеты на сто номеров, чтобы можно было сложить «Записки» и сохранить как книги. Самая маленькая и дешевая газета становится и самой дешевой книгой.
На страницах «Записок» часто появляются рискованные материалы, они вызывают гнев власть имущих, но Аргези дает им должный отпор, доказывает, что Коко действует в пределах существующего законодательства. Аргези не скрывает своих симпатий к России, к русской культуре, к русским людям. Одна записка озаглавлена «Иван».
«Смотрел я на тебя, Иван, как на доброго, наивного, правоверного христианина. Вопреки мнению тех, которые видят в вас, русских, беспробудных пьяниц и утверждают, что водка — это составная часть вашей жизни, ты доказал обратное… На той окраине, где ты жил… твое слово вызывало уважение и на тебя смотрели как на особого, излучающего свет человека. Стал уважать тебя даже сам Нае, хозяин корчмы, который поначалу сердился, что ты отговариваешь его клиентов от рюмки. Твоя доброта, твое простое человеческое поведение заставляли любителей громких скандалов вести себя тише; окровавленных черепов, поножовщины, разбитых столов и витрин становилось меньше. Когда же под твоими узловатыми, огрубевшими пальцами… вздрагивали струны балалайки, происходило чудо — корчму затопляли таинственные звоны далекой русской степи. Тебя любили, Иван, и восхищались тобой. Все чувствовали себя в долгу перед тобой, Иван, но им не было чем отплатить тебе. Они дарили тебе лишь свою любовь и уважение. Даже самый ограниченный посетитель корчмы Нае в глубине души понимал, что ты сама доброта… Встречали тебя с радостью и по-братски протягивали руки:
— Норок, Иван! Сыграй нам что-нибудь русское…
— Хорошо.
Но однажды, Иван, злой дух проник в заведение корчмаря Нае. Группа полицаев неожиданно окружила тот домик. Они держали в руках вороненые пистолеты как в гангстерском фильме, закрыли все выходы и потребовали от клиентов удостоверения личности. Один из полицаев заметил твою балалайку и заорал во все горло:
— Вот большевик! Хватайте его!
Они надели на тебя наручники. Ты опустил глаза и, окруженный стволами пистолетов, шагнул в ночь…
Как жалко, Иван! Ты был таким порядочным человеком и, может быть, даже не замечал, что твое появление в корчме Нае было настоящим событием, ты поселил в огрубевших от стольких бед и страданий сердцах надежды, слабый луч грядущего рассвета…»
У Аргези еще нет представления о русских, включившихся в борьбу за переустройство старой России. С новым, советским человеком он встретится только после освобождения Румынии от фашистского ига.
1928 год. Весь мир празднует столетие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. В «Записках попугая» публикуются не только яркие статьи, в которых Аргези и его товарищи пытаются как можно, глубже и в то же время понятнее для широкого круга читателей дать образ Толстого, показать его значение для всемирной культуры. Аргези объясняет появление титанической личности Толстого титаническим образом России, русского народа. Он рисует для своей газеты портрет Толстого, вспоминает давние, юношеские споры с его книгой «Что такое искусство?», замечает, что личность яснополянского гения будет господствовать над веками. «Его литературная работа, его литература подобна выданным на-гора ценностям из самых отдаленных глубин трудом гиганта, пробивающим себе дорогу к неизведанным недрам земли. После такой изнурительной, нечеловеческой работы яснополянский старец вскинул на спину котомку и, опираясь на посох, пустился в путь. Он не умер. Он улегся от усталости на твердой земле своей и заснул между Иисусом Христом и Жан-Жаком Руссо…»
Одновременно с изданием «Записок попугая» Тудор Аргези продолжает работать над переводами из русской литературы. Он готовит новое издание «Записок из мертвого дома» Достоевского, пишет несколько статей о нем, переводит «Молох» Куприна, рассказы Салтыкова-Щедрина, готовится к переводу «Мертвых душ» Гоголя и к давно задуманному переводу всех басен Крылова. Параллельно он работает над переводом полного собрания сочинений Мольера. Выходит второе издание «Подогнанных слов», готовятся к выходу новые книги его прозы.
Творчество Тудора Аргези, как и всех великих поэтов, не ограничивается только поэзией. Его книга «Деревянные иконы, или Воспоминания иеродиакона Иосифа» (1929 г.) — сборник антиклерикальных выступлений и впечатлений писателя о годах, проведенных в монастыре Черника и среди окружения митрополита Иосифа Георгиана. Позже Аргези говорил, что это писалось «в эпоху, когда раздавался звон барабанов фальшивого политического православия, выразителями которого являлись два-три авантюриста с не принадлежащим им крестом и с гнилушками за пазухой». Вторая книга — «Черные ворота» (1930 г.) содержит все, что пережил Аргези в тюрьме «Вэкэрешть». Ее отличает глубокое проникновение в психологию узников и карателей румынской тюрьмы. Аргези и здесь обличает капитализм.
В 1933 году выходит третья книга прозы Аргези «Таблеты из страны Кути». Страна Кути — выдуманная, фантастическая страна, населенная свифтовскими героями. Но каждый узнает в ней современную Аргези Румынию, с политиканством и демагогией ее руководителей, нищетой и бесправием народных масс. Автор с пристальностью археолога углубляется в исследование всех социальных слоев. Смотрите, судите и ужасайтесь!
Появившиеся один за другим романы «Глаза божьей матери», «Кладбище благовещения» и «Лина» — произведения многоплановые. «Глаза божьей матери» — поэма в прозе. Главная ее тема — беззаветная, самоотверженная любовь матери к сыну, конфликт личности и общества. «Кладбище благовещения» — место действия второго романа. Те же проблемы социальной неустроенности волнуют писателя. Выход ему видится в страшном суде, когда даже мертвые станут из могил и будут судить строй, в котором единственный путь к спасению — кладбище.
Аргези находит время, чтобы создать и книгу литературных кроссвордов. И после «Подогнанных слов» называет свое новое произведение «Слова подогнанные и перекрещенные». Зная слабость румына ко всякого рода играм, он сочиняет своеобразную игру для ознакомления широкого читателя с современной литературной жизнью.
Когда же он успевает столько делать? Где тайна его невиданной работоспособности?
Баруцу снова долго не засыпал и донимал мать вопросами: «А почему Тэтуцу все время пишет? Он что, сочиняет слова?» Про слова сын спрашивал впервые. И Параскива решила рассказать об этом мужу. Правда, и она призадумалась — Тэтуцу на самом деле сочиняет беспрерывно слова. Может быть, неправильно будет говорить «сочиняет», слова, из которых он складывает свои стихи, свои рассказы, существуют, они ведь не выдуманы им, но почему же тогда не все могут складывать слова так, как он? Как это происходит и почему?
Параскива тихо вошла, поставила на край стола чашечку крепкого кофе и, когда Аргези поднял глаза, рассказала ему о разговоре с Баруцу, задала свои собственные вопросы о словах.
Аргези отвлекся от недописанной страницы и стал рассуждать вслух о языке, о словах и их предназначении.
— Бесконечные тайны и чудеса затворены внутри каждого из нас. Верховная тайна — это слово. Чье оно? Человека ли? Природы ли? Не является ли слово одного происхождения с водами, с растениями, с ископаемыми, например? Я думаю, что слово наследуется так же, как биение сердца и как кровь. Каждому предмету, каждому действию, каждому явлению, существующему или изображаемому, соответствует слово. Любая идея становится действием, если она выражена в словах.
Он, как это бывало часто, позабыл, что Параскива тут, рядом, он просто рассуждал вслух, затем стал записывать в тетрадь свои мысли, потом, снова обращаясь к жене, принялся читать ей.
«Слово может стать самостоятельной силой, оно, подобно неустанному решету времени, просеивает мир и его душу. Это «просеивание» слов родило литературу и красноречие. Одно слово ничтожно, другое в состоянии разрушить громадную гору. Ни одно ремесло, милая моя жена, не может быть красивее, богаче, болезненнее и нежнее, чем проклятое и счастливое ремесло составителя слов. Оно одинаково становится необузданной страстью и посредственности и гения. И когда ты его, это занятие, начинаешь ненавидеть, только тогда понимаешь, что любишь его еще больше, прикован к нему. Мастерская — уголок стола, инструмент — ручка и клочок бумаги. Это самое дешевое оборудование на свете. Все сконцентрировано в той невидимой линии, которая должна соединить кончик пера и бумагу. И если это соединение вызовет искру, подобно небесной молнии, и раздастся гром, значит, произошло чудо художественного открытия. И если бы писатели представляли себе по-настоящему, каким богатством обладают они, как оно бьется живой ртутью в тайниках души, то они чувствовали бы себя более удовлетворенными и их литературные открытия внесли бы больше радости и оптимизма в жизнь доброжелательных читателей».
Тудор Аргези отпил глоток кофе и наклонился над листком белой бумаги. Он несколько секунд продержал ручку над неначатой строкой, а потом стал писать мелкими, четкими буквами. Параскиве показалось, что в то мгновение, когда он поставил точку в конце строки, из-под пера вырвалась искра и осветила его лицо.
Он не лег в ту ночь спать, работал до утра. Отвлек его от работы детский голос. Один, потом несколько сразу.
Прислушался.
Маленькие продавцы утренних больших газет сообщали заголовки, повторяли наперебой: «Читайте речь профессора Йорги в парламенте! Читайте речь Николае Йорги в парламенте! Йорга ведет бой с попутаем Аргези!», «Читайте речь Николае Йорги в парламенте!»
Поэт выводит восемь строк одного из своих многочисленных стихотворений-надписей. Сейчас это «Надпись на ноже».
«Отточен он и в ножны вложен. Носи — и грудью чувствуй рукоять. Учись, держа десницу возле ножен, добру и злу достойно отвечать. Будь тверд, как эта сталь в ее оправе. Будь справедлив — и ты всегда поймешь, пред кем ты преклонить колени вправе, пред кем для схватки вырвать верный нож».
Не для себя ли сделал эту надпись Тудор Аргези? Впереди был долгий и нелегкий путь борьбы.
Предстояли еще многие бои художника с жестоким и несправедливым миром.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1
Жена писателя…
Могла ли представить себе двадцатилетняя Параскива Бурда, какая предстоит ей жизнь с Тудором Аргези? И мог ли себе представить вернувшийся из своих странствий по Франции и Швейцарии поэт, что он встретит в Бухаресте эту крестьянку из буковинского села Бунешть, которая станет для него подругой, женой, матерью, хозяйкой дома, единомышленницей и любимой? А сколько труда уходит на то, чтобы и он, и дети, и сотрудники «Записок попугая», и посетители редакции чувствовали себя уютно, сытно, весело, празднично! Но Параскива делала все с такой легкостью, с такой любовью, так незаметно, что порою Аргези казалось, что они увидели свет одновременно и помнят себя еще с самого детства, будто росли в одном доме. Эти годы сделали их одним целым. Незаметно для себя они стали называть друг друга нежным словом «пуйкэ». Этим мелодичным румынским словом называют оперившихся, но еще не ставших взрослыми птиц.
Пташечка, птиченька ты моя…
К тому, что Тудор и Параскива называют себя этим словом, привыкли сотрудники, привыкли подросшие Митзура и Баруцу.
Какие бы ни были трудности, какие бы ни встречались, казалось бы, непреодолимые препятствия, Параскива никогда не жаловалась на свою судьбу, никогда не жалела о том, что встретила тогда, давно, накануне той, не первой мировой, а первой балканской войны, этого беспокойного человека. Она старалась вести себя так, как будто дом — полная чаша. Бывало, Аргези спросит:
— Пуйкэ, как там у тебя с деньгами, есть еще?
— Есть! — отвечает она уверенно, а в кармане нет ни единой леи. Пусть Аргези об этом не знает, у него и без этих забот голова трещит. Леи! Подумаешь, будут, если их нет.
Она никогда не болела, не жаловалась на недомогания. Бывало, он заметит усталость, услышит негромкий стон, спросит:
— Что с тобой?
— Ничего, пройдет, чепуха. — И назавтра она вставала с улыбкой. «Никогда не встречайте солнце с пасмурным, невеселым лицом, никогда не провожайте его вечером угрюмыми», — любила она повторять. Детей Параскива учила не беспокоить отца мелочными просьбами, не хандрить, не шуметь, не огорчать его, дать возможность работать.
Временами комната Аргези за один только день становилась похожей на громадный беспорядочный архив. И он, аккуратный и любящий порядок во всем, старался перебирать бумаги, складывать их в папки, подшивать медленными внимательными движениями. Появлялась Параскива. Она, ничего не говоря, осторожно принималась помогать ему, он обретал вторую пару рук, работа спорилась, все ложилось в положенное место, стол очищался, из-под вороха бумаг выглядывал брусочек, о который он точил карандаши, жена мягкой тряпкой снимала бумажную осыпь, невидимую пыль: посредине стола оставался чистый лист бумаги и отточенный, как игла, карандаш.
— Я принесу тебе кофе.
За чашкой любимого напитка они посидят вдвоем и продолжат начатые десятки лет тому назад беседы. Они любят разговаривать. Говорят обо всем, обсуждают все, что уже прошло.,0 том, что впереди, они почти не говорят. Они обсуждают прошлое и сверяют свои поступки друг с другом. Правильно ли они поступили. Вот, например, в этом случае.
…У подъезда дома номер 42 по бульвару Елизаветы, где, пока строится дом в Мэрцишоре, проживает Аргези, остановился роскошный фаэтон. Бухарестская знать, дорожащая традициями, ездит по городу в фаэтонах на вороных лошадях, а на козлах — принаряженный усатый кучер, или «мускал», как обычно называет знать кучеров роскошных экипажей. Кто же это мог пожаловать в такой ранний час?..
Неужели?..
По соседству «дом свиданий». Его навещают высокопоставленные лица из бухарестской протипендады. Аргези смотрит в окно и не верит своим глазам: неужели? Престарелый хозяин всемогущего банковского объединения «Марморош Бланк и компания» сошел с фаэтона. Аргези наблюдает. Интересно, что же дальше? А дальше господин во фраке удостоверился, на месте ли бабочка, всей пятерней сверху вниз потрогал жидкую, коротко остриженную бороденку типа «клюв орла», направил взгляд на дом номер пять, смерил его от первого до последнего этажа
и шагнул в подъезд. Найти квартиру Аргези не составляло большого труда, нужно было только подняться по ступенькам вверх до третьего этажа. Один звонок, и на пороге стоит невысокого роста, коренастый человек со знакомыми по портретам усами, видно, только что снял очки — на переносице след дужки.
— Вы Аргези? Можно пройти?
— Здравствуйте… — Аргези спрашивает ядовито: — Вы не перепутали адреса?
Гость делает вид, что не понимает вопроса.
— Вы Аргези? «Записки попугая», да?
— Коко, Коко… — отвечает Аргези. — Проходите.
— Я ненадолго, господин Аргези. — Вошедший садится на табурет и прикидывает, снимать котелок или нет, потом снимает и кладет его к себе на колени — стол завален бумагами, положить больше некуда.
— Ну так что? Я вас слушаю.
— Господин Аргези, я знаю, что в вашей… как это… газете… В «Записках попугая»… будто готова заметка о связях высших священнослужителей с нашим банком…
— Простите, а вы откуда это знаете? — резко прерывает его Аргези.
Гость подымает удивленный взгляд:
— Я откуда знаю? Ха-ха! Откуда я знаю! Господин Аргези, о том, что думает румынская пресса сегодня и о том, что замыслили ее редакторы вчера, я знаю еще позавчера! Позавчера! Понял? — Гость почему-то неожиданно перешел на фамильярный тон, на «ты». — Мне точно известно. что завтра в вашей газете появится эта статья. Она ведь набирается в типографии, а в типографиях моих людей больше, чем ваших! Я обязан знать, о чем пишет пресса этой страны! И знаю! Поэтому я пришел к вам (снова на «вы»).
— Записки же не мои. — издевательски смеется Аргези. — Они попугая Коко, а он — птица, как вы понимаете. И у птиц другие нравы, особенно у попугаев, они живут по триста лет, их мудрость питается другими эссенциями…
— Будем серьезными людьми, господин Аргези. Я очень занят, как вы догадываетесь, и…
— И что?
— У меня на этот счет есть предложение — вы не печатаете статью, не печатаете, подчеркиваю, а мы взамен вам вот это! — Гость достал двумя пальцами из кармана ключ. — Этим вы откроете новенький особняк в районе шоссе Киселева. Он будет принадлежать вам и вашей семье…
Аргези встал,
с трудом сдерживая себя. А тот продолжал:
— …ютитесь с семьей и с вашей редакцией в этой, даже не знаешь как ее называть, квартире, что ли… А с Мэрцишором дело еще длинное. Вы же не вылезаете из долгов… — Гость так увлекся своим красноречием, что и не заметил, как хозяин комнаты открыл дверь.
— Я вас сразу же спросил: не перепутали ли вы адреса? С вашими разговорами вам нужно обращаться вот туда! — Аргези резко показал гостю на публичный дом. — Да, ступайте немедленно…. Честь имею, у меня дела.
Если бы гость не встал и не ушел сейчас же, Аргези швырнул бы его с лестницы. Но, видно, тот понял и осторожно попятился. Когда увидел перед собой закрытую дверь, а на двери таблицу с именем хозяина, он решил испробовать последний шанс. Снова нажал на звонок и произнес вкрадчиво:
— А вы не посоветовались с госпожой Аргези… Я поговорю с ней…
— Поговорите, поговорите, — ответил Аргези. — Она сейчас в Мэрцишоре… Желаю удачи!
Проводив таким неделикатным образом непрошеного посетителя, Аргези достал с полки папку с немногочисленными пожелтевшими вырезками из газет за 1913 год. Их собрала и аккуратно сложила там Параскива. Он помнил, что когда-то давно у него было уже дело с руководящим кланом банка «Марморош Бланк и компания». Да, вот она вырезка. Аргези писал тогда по поводу рекламы знаменитых сейфов «Фишет». Он их окрестил «фортами Марморош Бланк». «В этих сейфах, — писал он тогда, — эти банки хранят колоссальные богатства. Закройте глаза на секунду и представьте себе, как текут к этим сейфам сокровища нашей земли, как исчезают в их пасти наши села, тяжелыми, окованными дверьми банка придавлены тысячи и тысячи людей. Банк «Марморош Бланк» сумел придавить тяжестью своих сейфов трудовой народ и выжать из него всю кровь. Богатства рабочего и крестьянина упрятаны за многотонными дверьми под портретом, с которого улыбается довольный своим всемогуществом банкир… Нет сомнения в том, что стальные сейфы, рекламируемые зарубежным заводом, крепки, они не боятся ни огня, ни воды, они тяжелы — их не сдвинуть с места.
Но когда все обкраденные, все несчастные и все, кто работает задаром, все разоренные и пущенные милостью банка «Марморош Бланк» по миру сплотятся и проявят волю, эта несокрушимая сталь лопнет как мыльные пузыри, превратится в золу, станет мягкой, как растопленный на сковороде кусок сала» (разрядка моя.
— Ф. В.).
Он достал гранку со статьей о связях этого банка с верховным духовенством, добавил эти строки и позвонил в типографию.
Собака залаяла неистово. Еще никогда не лаял так отчаянно этот приблудный пес. Хозяева Мэрцишора нашли его покалеченного в соседнем овраге, приласкали и из-за длинных, до самой земли скрученных прядей черно-белой шерсти назвали его Оборвышем. Что же ты так залаял? Параскива еще накануне выкопала большую яму, натаскала в нее воды, засыпала двумя мешками половы и мелкой соломы, а сегодня, отправив детей в школу, пришла и месит ногами «тесто» для самана — фундамент времянки уже заложен из бутового камня, надо успеть до осенней слякоти высушить саман и поднять стены. Земля Жирная, чавкает, солома царапает оголенные выше колен ноги.
— Перестань, Оборвыш! — кричит она на собаку и замирает от удивления: у сбитых из нескольких реек ворот стоит роскошный фаэтон, запряженный вороными конями. Человек в котелке делает какие-то странные знаки рукой. «Это что еще за чудеса?!» — думает Параскива и говорит громко:
— Если к нам, то пожалуйте, собаки не бойтесь, она не тронет… Оборвыш, иди сюда! — Но собака не переставала лаять, ее голос сливался с общим лаем множества собак предместья, встревоженных в это жаркое утро появлением необычной упряжки. Человек в котелке продолжал стоять у калитки, он явно боялся собаки.
— Иди сюда! — крикнул он повелительно. — Неужели трудно передвигать ноги.
Параскива удивилась этому нахальству, но в то же время подумала, что, может быть, что-то случилось с Аргези, может быть, этот господин из полиции, но тогда почему в фаэтоне, почему в штатском? А может быть, из сигуранцы?.. Она выбралась из глиняного месива и подошла к калитке.
— Проходите.
Недовольный господин посмотрел с презрением на эту крестьянку, которая позволила себе столько времени держать его у ворот, и процедил:
— Вызови хозяйку!
— Какую хозяйку?
— Мадам Аргези.
— А нельзя ли узнать, что вам нужно от мадам Аргези?
— Это уж не твое дело! — Господин в котелке покраснел, у него тряслась борода.
— Если вы не будете так сильно волноваться, то я ее вызову, — ответила Параскива, не меняя тона. — Вам жена Аргези нужна? Так говорите.
— Вы мадам Аргези?
— Я не мадам Аргези, я жена Тудора Аргези.
Всемогущий банкир онемел и не находил, что сказать. Он нащупал в кармане кольцо ключа — с чего же начинать?
— Вы простите меня, госпожа Аргези, я знал, что вы и ваш муж бедствуете, но не мог себе представить… У меня в этом кармане находится средство, которое избавит вас от необходимости месить глину. Я пришел вам помочь.
— Нам не нужна помощь ни от кого… Сами все делаем. Простите, мне некогда…
Смотрите, с каким достоинством разговаривает эта крестьянка! Но ничего. Она ведь еще не знает, о какой помощи идет речь. Посмотрим, что она скажет сейчас. Банкир медленно достает из кармана ключ, подымает руку на уровне пенсне, улыбается:
— Ну как?
— Не понимаю, — отвечает Параскива.
— Это ключ от нового дома для вас.
— А за что это нам? За какие заслуги?
— За пустяк. За совершенный пустяк. — И банкир излагает свои условия. От госпожи Аргези требуется немногое — уговорить мужа. А какая жена не в состоянии уговорить своего мужа?
Смуглое лицо Параскивы то ли от напряжения, то ли от попытки сдержаться, чтобы не ударить кулаком по этой лоснящейся морде, стало еще темней. В ее больших глазах банкир заметил какую-то созревающую для него опасность и попятился, так и держа ключ на весу. А Параскива сказала очень тихо, но четко:
— На этой земле, может, и продается многое… Так вы запомните, что Аргези не продается ни за Какую цену… — Она посмотрела на присмиревшего Оборвыша. — А вам нужно уйти, мне кажется, этот пес что-то замышляет. — С этими словами Параскива повернулась и пошла к яме с глиной. На окраине Бухареста усилился лай собак — экипаж банка «Марморош Бланк и компания» покидал Мэрцишор.
А на другое утро «Записки попугая» вышли с памфлетом о связях церковных владык с банками «Марморош Бланк и компания». Этим памфлетом начиналась новая серия разоблачительных выступлений Аргези против верхушки румынской православной церкви, промышленных и финансовых магнатов страны.
2
Николае Йорга оскорблялся всякий раз, когда читал едкие таблеты Аргези, призванные, как заявил их автор, «лечить наше общество от тяжелейших недугов». Историк Николае Йорга в устных и печатных выступлениях призывал «не читать Аргези», своим студентам в университете и своим ученикам запрещал произносить это имя.
Разгневанный профессор готовится к главному удару против Аргези: он использует для борьбы против него три-буну румынского парламента.
После опубликования парламентской речи Йорги к Тудору Аргези неожиданно как вихрь ворвался Гала Галактион.
— Конечно, ты уже прочитал?
— Я еще вчера знал, Гала. Для тебя что, это новость?
— Не новость, по противно.
— У него со мной старые счеты, еще со времен, когда у тебя бороды не было. Помнишь еще пашу «Правильную линию»? Ты ругал меня тогда. А сейчас видишь?
— Конечно, многих подкупают его речи. Он беззастенчиво спекулирует понятиями «национальные традиции», «паши древние предки», «невиданная красота крестьянского наряда», «пи с чем не сравнимая храбрость даков»… Кому это сейчас надо? Националистические бредни буржуазии, тайно и явно преклоняющейся перед Парижем, Лондоном и Берлином, превратились в своеобразную реку, она разлилась и волочит всякую пакость, грязь, пресмыкающихся всех категорий… Когда река войдет в свои нормальные берега, распространится страшное зловоние… Я об этом пытаюсь написать статью… Да, ты знаешь, что наш приятель Дука выделывает? Тоже мне крупный знаток национальных традиций… Плохо кончит, увидишь.
Пока Гала говорил и при этом отчаянно жестикулировал, Аргези рисовал его обычным пером тушью.
— Вот посмотри. Правится?
— Здорово! А чего это ты?
— Давно я тебя не рисовал… Со времен нашей юности… Мы с тобой уже старики… Увидим ли мы хоть что-нибудь из того, о чем мечтали в нашем лицее в начале этого века? А? Что ты скажешь, Гала?
Снова и снова вопросы, на которые трудно найти ответ. Надо бить противника ежедневно, ежечасно, нужно не давать ему покоя, показать ему, что он хоть и силен, но не страшен. Аргези, разоблачая спекуляции шовинистов, в своих стихотворениях обращается к истинно народным преданиям о борьбе со злом, его вдохновляют мужественные образы богатырей из легенд, и он воодушевляется образами этих богатырей и вселяет в парод добрые чувства уверенности и надежды.
«Опять на бой уходит Фэт-Фрумос: взял острый меч рукою закаленной. Взял гибкий лук и палицу принес, чтоб уничтожить страшного дракона. И он идет на подвиг свой один. В ночной тиши от края и до края разносится призыв земных глубин, волнуя кровь и силы умножая. Не зря врага решил он подстеречь и ждал его, кромешной тьмой укрытый: насквозь пронзил дракона острый меч, и хлыпул гной, густой и ядовитый. И он с горы дракона сбросил вниз и бился с ним на дне сырой канавы. Но щит его, но меч его прогрыз осатаневший змей десятиглавый…»
— «Осатаневший змей десятиглавый» прогрыз меч Фэт-Фрумоса. Но сказочный богатырь ведь всегда выходит победителем из боя. Он найдет способ сокрушить змея.
— Не будем сдаваться, милый мой Гала… Не будем. Посмотри, что я написал в ответ.
«Литература «Записок попугая», — цитирует поэт, — это анархистские, деморализующие общество сочинения», — читает Гала эпиграф ответа Тудора Аргези знаменитому профессору. Он озаглавил ответ «Sirenissima» — молитва, обращенная к господину Йорге. В этой «молитве» Аргези в едких выражениях дает краткую историю отношения профессора к его творчеству. Он напоминает о том, что Йорга использует любую предоставленную ему трибуну для того, чтобы опорочить его работу. В лекциях перед студентами университета Йорга в самых резких выражениях говорит о «порнографии бывшего попа-расстриги», о «писаниях, противоречащих духу воспитания парода».
«Моя маленькая беспокойная газета, — пишет Аргези, — которая подвергается клеветническим нападкам с парламентской трибуны, — мое творение. Она моя неоспоримая собственность. И я ее защищаю от посягательств владельцев обширнейших латифундий большой прессы, потому что они не раз пытались осквернять мою небольшую территорию».
Тудор Аргези папомипает, что автор «Записок попугая» не располагает своей типографией, а друзья не преподнесли ему в подарок дворец в Бухаресте, банки и различные политические партии не поддержали его бюджет миллионами лей или хотя бы несколькими десятками тысяч. Чего нельзя сказать о господине Йорге…
3
Еще до смерти короля Фердинанда либеральная партия, боясь, что приход на трон его сына Карола изменит политическую расстановку сил, добилась высылки Карола из страны. В 1927 году Фердинанд умер. Был создан регентский совет, а королем объявлен трехлетний сын изгнанного Карола — Михай. Верхушка румынской буржуазии почти три года пыталась найти выход из создавшегося положения, но ни одна буржуазная политическая партия — ни партия либералов, ни партия царанистов — не собиралась уступать власть другой. Наконец пошли на компромисс — на трон был приглашен Карол. Еще при жизни отца этот принц заигрывал с румынской интеллигенцией, проводил под своим непосредственным покровительством праздники книги, способствовал организации литературных вечеров, организовал книжное издательство. С возвращением Карола в страну и с провозглашением его королем Румынии были связаны иллюзии многих — наконец страна заимеет хозяина. Сам «хозяин» по случаю вступления на трон заявил, что он вернулся для того, чтобы отомстить, то есть свести счеты с теми, кто его выдворил пять лет тому назад, одним словом, буржуазия могла быть спокойной — король ее не тронет.
Тудор Аргези находит способ обратиться к новому королю — он адресует ему несколько записок попугая Коко, называя их «королевскими планетами».
«Обыкновенные короли принадлежат двору или особой надстройке. Определенная социальная категория накладывает лапу на короля, заявляет о своей монополии над ним, как врач над своим больным. Политические партии и могучие группировки превращают монарха в своего пленного, и тогда сила и всемогущество короля переходят в собственность узкого круга людей. И вот этот круг, а скорее всего клан, защищенный от народа частоколом штыков, финансируемый банками и вооруженный «незыблемыми принципами», призван осуществлять государственную власть. А под властью находится так называемый народ — эта мягкая мостовая из живой плоти и горячей крови, по которой должна катиться в полной безопасности и без тряски государственная колесница».
Аргези пытается объяснить королю, что страна ждет от него отмежевания от партий промышленных и финансовых магнатов, советует ограничить аппетиты и обуздать разгул всемогущего клана буржуазии.
«Мы обращаемся к вашему величеству на Ты, как к самому господу богу, — пишет Коко. — Народ надеется, что Ты услышишь его».
Аргези приглашает короля посмотреть страну, где среди моря созревающей пшеницы бродит согнутый как серп жнец — нищий и голодный крестьянин. «Он обескровлен, села и города представляют собой сплошные кладбища, посыпанные мертвой золой. Сквозь эту золу пробиваются лишь дурман, колючки, трилистник и репейник. Растения эти — своеобразное олицетворение чесотки и туберкулеза, прочно укоренившихся в сельских землянках в то время, когда по улицам Бухареста мчатся пятнадцать тысяч роскошных лимузинов и введено одностороннее движение, как в Париже.
Видел ли Ты, о могучий король, детей, собак и животных, блуждающих по живописнейшим, сказочно плодородным просторам страны? Все живое будто только что вышло из подземной лечебницы, где искало и так и не нашло исцеления. Понял ли Ты, о превеликий король, почему народ, живущий на такой богатой земле, доведен до крайней нищеты, ходит голодным и босым?..
Наши воды хранят столько рыб, что можно накормить ими всю Европу. Арбузы и дыни размножаются и прибавляют в весе как поросята. Стада быков, коров и овец пасутся на богатейших лугах среди живописных гор и долин. Шелка, мед и вина залеживаются в переполненных господских складах. Из глубочайших колодцев бьют фонтаны черной жирной нефти. Леса стонут от зверья и прочего богатства. А человек ходит в лохмотьях и не знает, куда деть глаза от стыда за то, что он гол, бос, голоден и болен. Мы могли бы быть народом миллиардеров, а являем собою племя пущенных по миру нищих.
Что-то прогнило в глубинах нашего государства, о Мудрейший из королей!»
Но призрачные надежды на короля улетучились столь же быстро, как и возникли.
В условиях глубочайшего экономического и политического кризиса и подъема рабочего движения в 1929–1933 годах меняется восемь правительств. В борьбу за власть вступает и Николае Йорга, он создает политическую группировку «Национальный союз» и под ее знаменем занимает пост премьер-министра. Как отмечается в «Истории Румынии»
[38], правительство «Национального союза» Йорги «с твердостью осуществляло мероприятия, целью которых являлось перекладывание трудностей экономического кризиса на плечи трудящихся, оно с ожесточенностью защищало интересы господствующих классов». Приход Йорги к власти еще более наглядно показал истинную цену его буржуазных теорий национального единства. Авторы «Истории Румынии» пишут, что правительства того времени, в том числе и правительство Йорги, «приняли целый ряд антирабочих законов, создали новые полевые суды для рассмотрения дел и осуждения революционных элементов, приступили к ликвидации единых профсоюзов и подавляли любые открытые проявления недовольства. Для предотвращения революционной пропаганды правительственные круги запретили демократическую прессу и деятельность демократических организаций. Террор, военное положение и цензура являлись главными средствами осуществления государственной власти. Для того чтобы иметь под руками ударную силу для подавления революционных выступлений, румынская буржуазия поддерживает создание откровенно фашистской организации «Железная гвардия».
В новом качестве — премьер-министра и министра просвещения — Николае Йорга разъезжает по стране с шумной когортой советников и помощников.
Все трудней и трудней становится «Запискам попугая». То из одного, то из другого уезда поступают сообщения о конфискации номеров «Записок» полицией, о запрещении их распространения. С присущим ему юмором Коко просит у читателей «увольнительную» на неопределенное время. Но и после прекращения выхода «Записок попугая» премьер-министр и одновременно министр просвещения Николае Йорга то и дело нападает «на бывшего попа». Но Аргези будто обретает от этих нападок новые крылья, он работает не покладая рук, потому что вопреки враждебному буржуазному хору произведения Аргези пользуются невиданным спросом и издатели требуют от него новых и новых книг. Томики, на обложке которых значится «Тудор Аргези», распространяются мгновенно.
Автор не ставил перед собой задачу показать панораму развития румынской литературы, в русле которой развивался и мужал талант Тудора Аргези. Современниками Аргези были великий романист, мастер реалистической прозы Михаил Садовяну, романисты Ливиу Ребряну, Чезар Петреску, Камил Петреску, Гортензия Папагат-Бенджеску, поэты Лучиан Блага, Джеордже Ваковия, Адриан Маниу, крупнейшие литературные критики Джеордже Кэлинеску и Тудор Виану. Аргези гордился тем, что на борьбу против подымающегося фашизма рядом с признанными мастерами румынской литературы вставали молодые писатели, недавние авторы боевых выступлений на страницах «Записок попугая»: Джео Богза, Александр Сахия, Еуджен Жебеляну, Михай Бенюк. Именно они стали основоположниками зарождавшейся пролетарской литературы.
В преддверии классовых боев румынского рабочего класса 1933 года стихотворение Аргези «Калигула» обретает новый смысл.
«Пух волны качает тихо лебедей блаженно-сонных, муравейник звезд и гнезда белоснежные перин; упадет звезда в стремленье скрыться в их крылах смеженных, лебедь голову подымет, словно лилия глубин. Благодетельные руки хлеб, чужим трудом добытый, в полночь им с моста бросают — руки, чуждые мечтам. Лучше пусть поголодают, голубой луной омыты! Лебеди, пусть тот, кто сеет, чистый хлеб бросает вам! Лебеди, луна как будто на прозрачной акварели, звезды на воде спокойной расстилают хрустали… Во дворцах же озаренных и сегодня мессу пели, мессу гнусную богатству клир кощунственный служил. Кто, когда, в какой лачуге без огня и без постели гимн любви, победы, боли, вдохновенный гимн сложил? Песня вам дана и тайна, пейте светлую надежду, человеческие кубки суеты и пустоты! И зола, пройдя сквозь пламень,
обретет себе одежду, пух крыла найдет и снова в мир вернется с высоты. Мы уродливы и голы, только песни, свет, просторы собираем, сохраняем, подымаясь и борясь. Как бы нас вы ни терзали, наши — вечности опоры, вы, что ныне веселитесь, упадете в тьму и грязь».
Тюремной жизни посвящена новая книга поэта «Цветы плесени». Рассказы Аргези о мире маленьких детей составляют его «Книгу игрушек». Широко известными становятся его выступления по радио; ежедневно очерки, памфлеты, фельетоны, таблеты публикуются в более чем двадцати периодических изданиях.
Аргези находит способы узнавать, что происходит в стране Ленина. 9 июня 1934 года были восстановлены дипломатические отношения между Румынией и СССР. Используя момент, Аргези пишет:
«Восстановление связей с советским материком равносильно открытию незнакомой империи. Там осуществлен еще невиданный доселе эксперимент. Период противостояния и полемики остался позади, и Европа поняла наконец, что нельзя дальше отрицать свершившееся. Что же касается культуры, то от почти стопроцентной темноты русские пришли к стопроцентной грамотности. Как же могло только за шестнадцать лет свершиться это беспрецедентное чудо? Ведь за это же время многие государства оказались отброшенными на многие десятилетия назад, а многие народы барахтаются в болоте посредственности и не видят выхода из него». Читатели узнают от Аргези, что в молодой Стране Советов оригинальная и переводимая со всех языков литература выходит в роскошных изданиях миллионными тиражами. Мир никогда не видел ничего подобного. И это в то время, когда в Европе не перестают говорить о том, что в России насильственно внедряется невежество, а интеллигенция уничтожается как «ядовитый сорняк».
Аргези говорит о гигантской фигуре Ленина, об этом «феноменально образованном человеке», и подчеркивает, что происшедшее великое чудо проникновения света культуры в самые далекие уголки России произошло в результате осуществления ленинских идей. Давая отпор клеветникам на советскую действительность, Аргези опрашивает: «Кто напечатал столько книг и кто распространил столько грамотности, если интеллигенция была безжалостно уничтожена как ядовитая сорная трава? Не является ли подобного рода «объективная информация» стремлением к заведомому распространению небылиц?»
Аргези сообщает читателям, что в Советской Республике талант писателя и его прирожденное любопытство привлечены к нуждам государства. Русские писатели и художники, как признанная и полезная сила, вовлечены в общее дело развития страны, они могут трудиться в общем согласии, вовлеченные в общую логику созидания, могут приобщить к труду своего народа творения своего одаренного разума. Советское государство не исключает из напряженной, подчиненной вдохновляющей идее и возвышенной мечте работы ни одного талантливого человека, способного внести свой вклад в дело духовного и материального раскрепощения человека, отрыва его от грубых и цепких «объятий» земли и тщеславных толстосумов.
Статья Тудора Аргези называлась «Совет и интеллект» и была напечатана в газете «Литературная и художественная истина» 17 июня 1934 года.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1
Что может делать писатель, если загнать его в тесное помещение, оставив для света лишь небольшую щелочку у самого потолка? Что может делать писатель, лишенный возможности встречаться с людьми, ощущать дуновение ветра, зимнюю стужу и летний зной? Как быть, когда ты не можешь подставлять лицо теплому дождю и мягким снежинкам, когда пытаются заставить тебя забыть, как пахнут цветы и резвятся на лугах сытые молодые кони? Что должен делать писатель, когда на него польется поток грязи, безудержная несправедливая брань, когда не дают ему возможности писать то, о чем он думает, высказать наболевшее, выстраданное? Что должен делать писатель, глава и отец семейства, когда у него не окажется средств на хлеб насущный? Как должен отвечать писатель на устремленные на него то сочувствующие, то злорадствующие взгляды?
— У Аргези на все эти и на многие другие вопросы был один-единственный ответ — писать.
Этому принципу он следовал везде и всегда.
Писатель не имеет права не писать, как доктор не имеет права не лечить людей, учитель — не учить ребят, а пахарь — не выращивать хлеб. Только такой писатель завоевывает право называться
тружеником. Где бы ни находился писатель, он обязан помнить о том, что он носитель и боли, и радости, и печали, и надежды своего народа. И еще одно — он всегда певец, а не псаломщик. Он лекарь, врачеватель, трибун и громовержец. Писатель — усилитель голоса своего народа, он в состоянии донести его стон до самых небес, и он может пронести через тысячи лет свои песни. Но для этого писателю необходимы талант и трудолюбие. Талантом наделяет природа, а трудолюбие нужно выработать самому. Лишенная возможности собирать нектар, пчела погибает в переполненном медом улье, трудолюбие и талант не погибают никогда.
В трудные для Аргези минуты калитка Мэрцишора вдруг открывается, и заходят то Галактион, то Кочя, то перешедший на сторону рабочих потомок древнего господарского рода, взбунтовавшийся «красный принц» Скарлат Каллимаки, а то и все вместе. Параскива спешит с чаем, и друзья начинают беседу или просто молчат. Параскиве иногда хочется спросить, о чем они молчат.
Исполнилось пятьдесят лет великому композитору и музыканту Джеордже Энеску. Друзья заговорили об этом событии, но оно послужило лишь поводом, чтобы заговорить о другом, вспомнить иное время. Под тенистой вишнею в Мэрцишоре друзья вспоминали давно умершего, всеми забытого еще при жизни прекрасного художника Штефана Лукиана. Девять лет пролежал тот парализованный и одинокий в своем скромном домике, и редко кто заходил к нему. Многие считали, что он давно уже покинул этот мир. Аргези навещал его, любил слушать рассказы художника о том, как живут цветы. Лукиан лучше всех знал, что все цветы на белом свете имеют свою индивидуальную, неповторимую жизнь, и он посвятил им свое искусство и самого себя до последнего дыхания. Прикованный к постели безжалостной и неизлечимой болезнью, он никогда не запирал двери своего дома, кто помнил о нем, мог войти в любой час. Бывало, придет показать свою работу талантливый ученик, и тогда Лукиан огромным усилием воли заставлял себя подняться. Всмотревшись в картину, он просил кисть и краски. Один только мазок, и картина ученика приобретала новое дыхание, полотно начинало играть и переливаться всеми Оттенками чуть покачивающегося на ветру при ясной погоде цветка. И лицо художника озарялось мгновенной радостью — он еще может приносить какую-то пользу. Но однажды — он сам рассказывал об этом Тудору Аргези — к нему пришел не ученик, а совсем неизвестный человек в темном плаще. У него не было в руках привычного подрамника с полотном. Смеркалось. Комнату освещала лишь небольшая лампадка, и на противоположную стену легла огромная тень вошедшего. Он достал из-под плаща скрипку и смычок и начал играть. Два часа без перерыва лилась в комнате смертельно больного Лукиана волшебная музыка. Он закрывал глаза, и ему казалось, что все цветы, нарисованные им за целую жизнь, пришли к нему, в знак благодарности запели и медленно водят хоровод по его дому. Через два часа волшебство кончилось, тень спрятала свою скрипку под черный плащ, подошла к кровати страдальца и произнесла, будто прося прощения за причиненное беспокойство: «Простите меня, я Джеордже Энеску…»
Художник не спал всю ночь. Когда к нему утром зашел Аргези, глаза художника горели и голос шептал сквозь слезы: «Бывают чудеса, бывают чудеса…»
Тудор Аргези написал поэму об этом союзе струны и кисти.
В феврале 1933 года развернулись бои румынского рабочего класса невиданных ранее размеров. Они охватили всю страну. Особой организованностью и силой отличались выступления нефтяников и железнодорожников. Разбились вдребезги иллюзии Йорги и его последователей о единстве нации, о святой вере, о преклонении перед останками предков во имя сохранения «единого остова» и «единой песни» всей нации. «Национальный остов» затрещал, в «единой песне» мощно раздавались аккорды гимна пролетарского единения, выступления народных масс против векового бесправия, за хлеб и лучшую жизнь. 108 вожаков рабочих выступлении были преданы полевому суду, осуждены и брошены в каменный мешок одной из самых страшных тюрем Европы — «Дофтаны».
На волю проникали сведения о зверском режиме для политических заключенных «Дофтаны» и других тюрем. И демократические силы страны выступают с единым протестом.
Поздним зимним вечером пришли в Мэрцишор Николае Кочя, Василе Деметриус и Скарлат Каллимаки. Несмотря на строгую цензуру, «красный принц» умудрился выпускать боевую коммунистическую газету, которая почти ежедневно меняла название. Он предлагает опубликовать «Протест» в новогоднем номере газеты «Колокол» 1 января 1934 года.
«Как только политические заключенные попадают в «Дофтану», их начинают избивать до крови без всяких причин. В ход пускают молотки, железные прутья, палки, дубины. Доведенных до обморока несчастных связывают, заковывают в кандалы и бросают в одиночные камеры инквизиторского отделения «Н». Там кромешная тьма, холодный цементный пол, страшная грязь. Чтобы привести в чувство свои жертвы, тюремщики обливают их ледяной водой. И снова избиения и истязания до крови. Заключенных не кормят и держат в неотапливаемых камерах.
Мы требуем прекращения этого варварского, инквизиторского режима!»
Под этим протестом стояла и подпись Тудора Аргези.
В Мэрцишоре Тудор Аргези соорудил себе настоящую монашескую келью, в которой помещались лишь железная кровать и небольшой письменный стол. Из единственного окошка кельи Аргези видит весь мир, и он, то один, то с неразлучным Коко (знакомый скульптор слепил ему попугая) ведет разговор с миром, с травами, с птицами и животными, с картошкой и букашками. А прежде всего разговор с блуждающим по миру ветром.
«— Что же тебе надобно, ветер? Что же ты хочешь от меня?»
Это спрашивает Коко.
Аргези же видит себя в роли шарманщика, а Коко, экзотическая птица с причудливым клювом — то ли от птиц произошла она, то ли от улиток, — стережет свои записки. «Хотите билетик? Пожалуйста! Только учтите — счастливые попадаются очень редко».
Птица спрашивает:
«— Что тебе надобно от меня, ветер? Почему ты ворошишь мои записки, почему ты раздуваешь мои перья и разбрасываешь мои конопляные семечки? Тебе хочется, чтобы я запел? Я не знаю никаких песен, ветер, я не умею петь, и поэтому за меня поет моя деревянная коробка, она полна воспоминаний, а ее вальсы намотаны на дремлющих флейтах и маленьких трубах только ей одной подчиняющегося органа. Дать тебе билетик, ветер? Возьми билетик одинокого, вечного попугая. Не хочешь? Тогда что же ты хочешь от меня, ветер, чего треплешь мои перья? Почему ворошишь мои записочки? Ты проворный, ветер, но глупый. Ветер, студеный ветер, ты ведь даже читать не умеешь…»
Своеобразной поэмой в прозе «Чего тебе надобно от меня, ветер?» открывается одноименная книга писателя. К ней примыкают еще две книги — «Ветер, земля» и «На пятачке».
Эти книги полны философских размышлений об окружающем мире, о добре, в них борется, мечется, тревожится неспокойная душа Аргези.
«Откуда мы берем свое начало? — спрашивает писатель. — Может быть, от длинной, нескончаемой череды рабов, где господствовало одно-единственное слово «Нельзя!». Не из тех ли далеких времен преследует нас это повеление?»
«Видно, таков мой удел — ползти на коленях и таскать на горбу блага для других. Где встречу глубокое болото или водную преграду, я помогаю людям выйти на твердую почву.
Я воз для всех, я лодка для всех, я амбар для всех, а мне ничего не остается. Почему? Подожди, потерпи…
Я раб, я должен трудиться. Я напрягаю все свои силы и работаю все время. И в этом мое избавление. И тогда я уже ничего не боюсь. Я освобождаюсь от своей усталости, выпрямляюсь и вглядываюсь в даль с высоко поднятой головой. Как прекрасно! И сразу же тот мир, который властвовал до сих пор надо мной и не отпускает меня и сейчас, кажется мне сборищем мелких насекомых…»
Что это?
Сон? Кошмар? Казнь?
Многие страницы этих книг — борьба с самим собой, взлеты в поднебесье, спуск в глубины ада. Часто Аргези обнажает меч для борьбы со всеми — с обществом, с мирозданием, с самим богом. А на пути «сборище мелких насекомых». Одолеть это сборище не так-то и легко.
На городском перекрестке поет слепец. Длинная, как неизлечимое страдание, песня. Из его уст на головы прохожих падают булыжниками тяжелые, убийственные вопросы песни:
«Как же ты, несчастный, терпишь нищую и голодную жизнь? Как ты осмелился лежать на дороге, по которой следуют к сытому обеду хорошо одетые и обутые обыватели? Они останавливаются на миг, чтобы пнуть тебя ногой побольней…» И Аргези в такт песне слепца пишет: «Мне хотелось видеть, как ты вырастешь в гиганта, как подымешь над нами подошву гигантского башмака, я хотел услышать, как затрещат под этим башмаком наши святые тела».
Потом он продолжает:
«Я встречал эти взоры всюду, на всех перекрестках. Вы приняли настоящее мироустройство как оно есть и покорились, коленопреклоненные. Перед вами проносятся нарядные колесницы с развеселыми и пресытившимися господами и их расфуфыренными женами и любовницами, а вы валяетесь у их ног среди выброшенных в плевательницы спичек и обмусоленных окурков. Кто приучил вас подавлять свои желания и издавать одни только стоны?.. Следуйте за мной, и я покажу вам этих «учителей». Они гуляют по прохладным аллеям парков и бульваров, сидят в ложах театров, развлекаются на ипподромах, играют в карты, и чем выше они подымаются, тем богаче, тем роскошнее и азартней их игра. Я протяну указательный палец в их сторону, вы увидите их оскал и еще увидите, как они закроют глаза, обдумывая, как мне отомстить за этот указующий жест… Тысяча человек купается в богатстве, а народ смотрит на все это как на хору сошедших с ума.
Ты, тот, который стоишь с протянутой рукой не для того, чтобы повелевать, а для того, чтобы просить милостыню, попробуй раздуть жар своего гнева, расшевели этой рукой огонь. Ты, который плачешь, остановись и сожми зубы, пусть раздастся их скрежет. Ты, вечно жалующийся, обрети голос обвинителя. Ты, дремлющий, оборви веки свои, чтобы они не заслоняли пламень твоих глаз. Не ленись, не сиди сложа руки, не опоздай: привыкай идти только вперед, чтобы смерть застигла тебя на ногах и чтобы поступь твоя слышна была и после твоей смерти».
Может быть, Аргези в часы раздумий обращал эти призывы к самому себе?
2
В 30-е годы румынское радио предлагает Аргези вести цикл бесед. Он тщательно готовится к ним, заранее обдумывает и записывает текст. В этих радиобеседах затрагиваются не только литературные, но и самые злободневные вопросы жизни народа. Писатель ведет неустанный бой за оздоровление общества, против политиканов и демагогов, требует от правителей обеспечить кусок хлеба и кров над головой для миллионов обездоленных. Беседы Аргези — наглядное доказательство того, что время требовало от литературы и чисто прикладной роли, об этом он говорил неоднократно. Стал выступать по радио и Николае Йорга.
О чем говорил маститый академик почти трехсоттысячной аудитории румынских радиослушателей?
Свои радиобеседы Николае Йорга называл «Советы в потемках». В годы после кровавого подавления выступлений румынских железнодорожников и нефтяников, в годы наступления на Европу фашизма Гитлера и Муссолини и готовившегося разгула «Железной гвардии» и Антонеску в Румынии он призывал румын к героизму. Но для того, чтобы стало ясно, что это такое, он объяснял:
«Никакого героизма нет в том, когда ты предъявляешь свои претензии к своей несчастной стране. Какие бы у тебя ни были права, ты не должен хватать свою мать-родину за горло и требовать от нее того, чего она не может тебе дать. Ты поступишь героически, если будешь терпеть и поразмыслишь над тем, какую помощь оказываешь этим терпением своей родине».
Слушатели задавали смелые вопросы: почему рабочий должен терпеть безжалостную эксплуатацию «своего» и международного капитала? Почему крестьянин должен мириться с ударами нагайки своего помещика-эксплуататора, почему он должен ходить босым и голым?
«Для любой страны, — объясняет Йорга, — для любого народа существуют определенные великие проблемы, от которых зависят их права и их будущее. Это давность проживания на территории своей родины, доказательство своих особых, выдающихся способностей, роли, которую он играет в судьбах всего человечества… Это — сознание, что мы совсем иные, чем те, которые нас окружают, что наша сущность должна быть сохранена любой ценой. Это веление, от которого мы не должны отступить…»
И тогда:
«Народ наш найдет красоту в огненном смерче всепожирающей молнии, в разливе рек, в которых тонет и гибнет все».
Николае Йорга давал советы не только «из потемок». Он печатал обширный статьи в газете «Румынский род» («Нямул ромынеск»), одну за другой выпускал свои книги. Ускорить издание книг ему помогало и пребывание на посту премьер-министра и министра просвещения: как же не издавать книги господина министра! Уместно сказать, что за свою жизнь Николае Йорге написал и «наговорил» свыше тысячи книг! И почти во всех главенствует одно и то же: среди огромного большинства стран и народов «одна Румыния сумела создать сама, без постороннего влияния свое государство, строго очерченное границами и состоящее из одной-единствен-пой расы…». «Я горд тем, что смог разместить свою нацию в общем комплексе всемирной истории, из которой она была исключена». Йорга замечает, что он как историк «постарался придать каждой нации все, что ей положено не с точки зрения занимаемой территории и численности населения, а с точки зрения того нового и того влияния, которое она оказывает на общий ход развития человечества… С этой точки зрения я показал, что румынский народ, — подчеркивает далее историк, — являясь наследником великой геометрической цивилизации самых отдаленных предков… своего рода ситечко, сквозь которое процеживались варвары…»
К подобным «теоретическим» выкладкам Николае Йорги примыкали не менее «глубокие» рассуждения его единомышленников. Еще в начале века дала ростки так называемая школа «ромынизма». Ее проповедником и рыцарем был профессор Бухарестского университета, член Румынской академии Рэдулеску-Мотру. Аргези и Кочя еще в период «Факела» и «Хроники» выступали против его путаных философских концепций, основанных на ницшеанстве. Они писали тогда, что в области философии профессор «шагает по глиняным мискам»! В разработке «теории» ромынизма Рэдулеску-Мотру шел в одном русле с Поргой, но «простой» национализм Рэдулеску-Мотру не устраивал. Он полагал, что это давно пройденный этап. Он так и писал: «Национализм сороковых годов девятнадцатого века, приведший к объединению княжеств и созданию самостоятельного румынского государства, стал анахронизмом и главным препятствием на пути духовного оздоровления румынского народа». По его мнению (здесь он уже дословно повторяет Йоргу), окружающие Румынию страны или совместно проживающие с румынами представители других народов — реальная опасность для самостоятельного существования румын. Он так и пишет: «Представляют угрозу для нашего будущего те нации, которые не в состоянии утвердиться и выполнить свое историческое предназначение, не уничтожив или ослабив нас. Это обстоятельство должно служить нормой при определении нашей политики по отношению к национальным меньшинствам. Евреи, турки, цыгане, сербы и болгары составляют у нас простые вкрапления (инфильтрации). А вот венгры, немцы и русские, если их численность возрастет, окажутся для нас враждебными национальными группами. Способствуя триумфу ромынизма, — заключает профессор, — мы обеспечиваем будущую консолидацию нашего рода, шагая в ногу со временем… XX век явится веком организации наций в соответствии с их истинной духовной и биологической сущностью».
Чем мог ответить румынский патриот, поэт, всю жизнь проповедовавший братство между народами, всю жизнь прославлявший труд как источник жизни и единения людей, на эти расистские, «пещерные» теории?
«Вот кто-то из них ахинею понес — и что же? Хохочут до слез. Слова, потерявшие головы… Совсем перешли через край… Зачем повторять их устами своими под говор струны, нараспев? Пускай же на них твой обрушится гнев, насмешки, досада — так надо!»
Обрушить насмешки и гнев на «теории», способные лишь внести раздор и ненависть среди народов, призванные отвлекать трудящихся от главного — от классовой борьбы против своих и иноземных эксплуататоров, против фашизма и подготовки новой войны, — вот главная задача.
— Что ты обо всем этом думаешь, Гала? — спросил Аргези своего старого друга, который тридцать с лишним лет тому назад не одобрил выступление «Правильной линии» против Йорги.
Николае Кочя, «красный принц» Скарлат Каллимаки и Аргези слушали задумавшись. Скарлат Каллпмакп неравно вернулся из поездки по Трансильвании. Там в селе Цебя было подписано соглашение о единых действиях всех прогрессивных сил страны против приближающейся фашистской опасности.
— В истории, как правило, происходит так — если ошибки не учитываются, то они повторяются… Чему научились наши националисты, Тео, за прошедшие годы? Помнишь, как мы выступали против них в нашем «Факеле», потом твои и Галы статьи в «Хронике». Помните? — спросил Кочя.
— А чего помнить? Все произошло будто вчера… — Аргези взял из стопки газет и журналов, принесенных Параскивой (он попросил ее об этом до прихода друзей), пожелтевший номер «Факела». — Давайте вспомним те бои. Посмотри, Нику. Узнаешь?
Сегодня они просидели под вишней перед домом Тудора Аргези в Мэрцишоре дольше обычного. Параскива тихо, чтоб не мешать, приносила на подносе чашечки с горячим кофе, варенье и холодную воду из выкопанного неподалеку от дома колодца. Кочя перелистывал желтые страницы «Факела» молча, затем стал читать вслух. Друзья слушали сосредоточенно, все более мрачнея. Передовую статью «Факела» «Национализм — это опасность для всего народа» он прочитал от начала и до конца.
— «Не нужна особая проницательность для того, чтобы заметить, как националистическая идеология развивается и проявляется с возрастающей силой. Внимательно наблюдающие за развитием событий в нашей стране уже давно заметили, как мы спешим установить господство националистической фразеологии… Последние события показали, что мы плывем в огромном потоке национализма и опасность всеобщего наводнения стала угрожающей. И никто в этом потоке не выделяется ярче, чем господин Йорга. Наставник нашего народа стал живым олицетворением национализма.
По отношению к естественному, человеческому чувству любви и уважения к родине национализм — это то же самое, чем была печальной памяти инквизиция по отношению к религиозному чувству. Это уже шовинизм, а следовательно, ослепление и фанатизм. В Германии подобный подход к пониманию любви к своему народу осмеян прозвищем «Хурапатриотисмус». Йорго-кузистский национализм подходит к родине с ревнивой, замученной любовью, с любовью, вызванной подозрительностью, страхом в вспыльчивостью. Кругом видятся одни враги, заговоры и препятствия, возведенные злоумышленниками. Истеричные националисты охвачены страхом и боятся собственной тени. Страдая манией преследования, национализм логически становится милитаристским в политике, чрезмерно милитаристским. Господин Йорга, например, требует, чтобы вооруженные силы Румынии в два раза превышали вооруженную мощь любой балканской страны…»
«Красный принц» уже приготовил другой номер «Факела».
«Держать руку на спусковом крючке — против кого? — спрашивал «Факел». — Разве мы окружены одними лишь врагами? А если так, не должны разве призадуматься над тем — почему же столько врагов кругом? Нехорошо, господин Йорга, чтобы целый народ был окружен одними лишь врагами. Это нехорошо ни с какой точки зрения, тем более с точки зрения национальной. Каждый народ должен иметь друзей, и как можно больше.
Держать все время оружие заряженным! Господин Йорга забывает географию. Мы рекомендуем ему взять в руки карту и заглянуть в элементарный учебник географии. По ту сторону Прута — русские, а за Карпатами — немцы и венгры! Мы сомневаемся в том, что такой серьезный политический деятель, как господин Йорга, думает всерьез, что мы должны держать оружие наготове против колоссов. Ведь фразы господина Йорги не в состоянии победить этих противников. Господин Йорга толкает страну к националистической, агрессивной политике, толкает нас к мании величия. Это очень опасный путь».
— Я беру это все и перепечатаю в «Колоколе», — сказал «красный принц», — не буду указывать, откуда перепечатано. Подпишу одной буквой «Ф»…
— Можно перепечатать, — сказал Аргези. — Подумать только, больше четверти века прошло со времени наших выступлений с Нику в «Факеле», со времен нашей с тобой «Хроники», Гала… А что же изменилось? Чему научило наших правителей и «идеологов», апостолов национализма, это время? И прошла с тех пор не только четверть века, позади война…
— Это говорит о том, что борьба против этого зла не нами начата и не нами, к несчастью, будет завершена… Видно, мы не так решительно действуем…
3
После жестокого подавления массовых выступлений рабочих в первой половине 1933 года произошла не одна схватка за власть между «историческими» политическими партиями страны — национал-царанистской и национал-либеральной. В составе руководства самих этих партий продолжались грызня и борьба за лидерство между старыми, признанными вождями и более молодыми претендентами на лидерство. Распрями в руководстве ведущих буржуазных политических партий воспользовались реакционные, экстремистские круги, которые организуют свою особую группировку профашистской ориентации и называют ее «Румынский фронт». В июле 1935 года образована национал-христианская партия. Одним из ее лидеров был А.-К. Куза. Фашиствующие, шовинистические элементы из этой партии сгруппировались вокруг отъявленного головореза, главаря «Железной гвардии» Корнеллу Кодряну. В 1935 году он переименовал свою гвардию в самостоятельную партию «Все для страны». Сущность идеологии «Железной гвардии» и под новым наименованием оставалась прежней: «Ее характерные черты, как сказано в румынском «Политическом словаре», — политическая демагогия, мистико-религиозные предрассудки, национализм, антисемитизм, политические диверсии, терроризм и дикий антикоммунизм»
[39].
Некоторое время спустя от «Железной гвардии» откололась еще одна группировка под названием «Крестовый поход за ромынизм». Ни Николае Йорга, ни Рэдулеску-Мотру не примыкали к «Железной гвардии». Йорга выступал против железногвардейцев, но румынские фашисты использовали и лозунги, провозглашенные ранее Йоргой и Рэдулеску-Мотру.
Тем не менее в это время Аргези добивается разрешения снова издавать «Записки попугая». На этот раз они выходят еще меньшим форматом, на 20 страницах, один раз в неделю. Для первых номеров Аргези отобрал некоторые боевые, не потерявшие актуальности материалы из «Факела» и «Хроники», а также из первых выпусков «Записок попугая».
Уже сорок лет ведет он поединок с белым листом бумаги. Это целая жизнь. За сорок лет Аргези стал профессиональным писателем и журналистом. Он пробивался сам без протекций и рекомендаций. Группировки, богема, интриги и зависть ему претят. Бахвальство, самодовольство, шапкозакидательство и заносчивость — его смертельные враги. В мучениях он добивается недостижимого — совершенства. Против него выступили университетские профессора, академия и вся гротескная, фальшивая культура того времени. «Зато все думающее, все, что есть прекрасного в нашем времени, следует за мной. На простом и общепонятном языке это называется победой», — пишет он.
Но победитель не должен почивать на лаврах. На каждом шагу подстерегают его непредвиденные опасности. И в первом же номере нового выпуска «Записок» Аргези признается:
«В один прекрасный день я решил покинуть печать — и ежедневную, и еженедельную, и ежемесячную — и дал себе обет не заниматься больше этим делом. Я притаился среди детей, собак, кошек и пчел. Я дал и тебе отдохнуть, Коко. Я бросил крошечную твою газету, у которой, помнишь, какая громкая популярность была? И занялся большими книгами. Несколько томов написал. А ты, Коко, перебрался в наш сад и стал резвиться с воробьями и котятами. Я не собирался занимать тебя больше шрифтами и печатными машинами. Но произошло непредвиденное. Кто-то подошел к нашему забору, плюнул и скрылся. Подошел еще кто-то, бросил камень и тут же удалился. А третий остановил Коко и грубо потребовал от красивой птицы отказаться от родного языка и от своих привычек».
Мог ли Тудор Аргези допустить подобное? Конечно, нет! И он сказал:
— Пошли, Коко! Займи свое место на шарманке, проверь, в порядке ли твои записочки. В бой, Коко!
4
Снова хлопоты — бумага, типография, налаживание связей с распространителями, авторами. Но уже имеется опыт, авторы — и старые, те, что уже стали известными прозаиками, поэтами, драматургами, и новые — дебютанты — обрадовались вести о возобновлении выхода «Записок». Не было трудностей и с распространением — за несколько дней поступили заказы от 20 тысяч подписчиков! Для небольшого литературного еженедельника это тираж невиданный. Для сравнения скажем, что тираж газеты Йорги в самые лучшие для него годы не превышал и 5 тысяч экземпляров. Но все же некоторые знакомые спрашивали: зачем это вам?
И на самом деле. Зачем известнейшему писателю, у которого уже издано столько прекрасных книг — только что вышли новыми изданиями «Подогнанные слова», «Цветы плесени», «Таблеты из страны Кути», «Вечерняя книга», итоговый том «Стихи», роман «Глаза божьей матери» и сколько еще хороших книг, — зачем такому писателю повседневные, изматывающие заботы журналиста?
— Я не могу идти рядом, параллельно с заботами и болью моего народа, — говорит Аргези, — боль народа во мне, и я внутри этой боли…
Ощущать эту боль, быть «внутри ее» помогает и то, что писатель со своей семьей поселился среди бедноты предместья Мэрцишор, и эта беднота попросила его быть ее уполномоченным и защищать ее интересы перед городскими властями. «Все время заходят ко мне бедные люди, — замечает он в одном письме. — Они верят, как в бога, в силу написанного слова. И потому самые частые просьбы — написать жалобу». Жалобу, что уже сколько лет как городская управа собрала деньги на дорожку с твердым покрытием и не делает ее, собрали деньги на свет и не проводят… Жалобу на налоговые притеснения, на отсутствие работы и на то, что не во что обуть детей, на несправедливые штрафы, на жестокость финансовых агентов, на свирепость участкового жандарма, который ни за что ни про что избивает, жалобы, что не на что купить кусок хлеба… жалобы, жалобы, жалобы… И делегат бедноты Тудор Аргези помогает всем, чем может. Нет более близкого человека для бедноты предместья Мэрцишор, чем господин Аргези. Они даже выхлопотали для него от городской управы особый документ, удостоверение о том, что он, Тудор Аргези, — делегат предместья Мэрцишор. Жена, а с тех пор как подросли Митзура и Баруцу, и они помогают соседям всем, чем могут, и особенно писать прошения. Вишня неподалеку от дома, стол, сбитый из елового теса, выскобленный добела «госпожой Параски-вой», такие же тесовые скамейки. Там ведет Аргези беседы со своими посетителями — с бедняками, с рабочими, с друзьями-писателями. Там происходят самые неожиданные разговоры.
Неподалеку поселилась женщина из Олтении, было ей лет тридцать пять. Иногда она помогала Параскиве по хозяйству, а по воскресеньям наряжалась в ослепительный национальный костюм, говорила обычное «целую ручку» и просила написать письмо домой. Олтянка была неграмотной, но обладала удивительным природным даром высказывать свои мысли четко и ясно, она диктовала письма односельчанам, и Аргези не требовалось добавлять ничего от себя. Однажды он спросил:
— Не хотела бы ты научиться сама написать?
— А разве это возможно?
— А почему нет? Посмотри, начнем прямо сейчас. — Аргези развернул газету и стал указывать пальцем на заглавные буквы. — Видишь бублик? Это О. А козлы для пиления дров — X. Старуху с двумя животами видишь? Это В. А свечу? Это I. От бублика откусили половину и остается С.
Олтянка взволновалась:
— Значит, это те же слова, из которых складывается разговор?
Она только что сделала для себя это открытие.
Беседуя с бедняками, Аргези часто думал: как хорошо говорить с ними, как все просто, какие они доверчивые и добрые.
С высшим обществом Аргези разговаривал откровенно и прямо. Он понимал его силу, но не боялся. Он понимал еще, что столпов этого общества никогда не переделать, они такие от природы, от рождения их общественной системы, имя которой капитализм. «Столпы» сплошь и рядом выдавали себя за единственных представителей народа. Они искренне верили в то, что их власть — объективная необходимость, что без них всякий порядок покатится в бездну и страна погибнет. «А если к этой установившейся привычке руководить, — замечает Аргези, — примешивается еще и показатель посредственности, «столп» чувствует себя превращенным в табу. Он олицетворяет себя со страной и с государством до такой степени, что его насморк становится насморком страны, а принадлежавшие ему эвкалиптовые леденцы — государственной реликвией».
И против этих «столпов», опиравшихся на многочисленный слой «пробившейся в люди алчной посредственности», нужно было начинать новый бой, не боясь того, что его в который уже раз обвинят в отсутствии должного патриотизма.
Ему ли, Тудору Аргези, чуждо чувство любви к своей земле, к своему краю, к своему многострадальному народу? Ему ли чуждо священное слово «родина»? Как нелегко было поэту в живописной и сытой стране гельветов чувствовать себя чужаком, безродным бродягой! Он тосковал по родным Бэрэганским степям, по родной Дымбовице, дни и ночи думал, что же он будет делать для своего народа, когда вернется домой, окажется среди своих и своими глазами увидит то, о чем лишь время от времени писали газеты, — нищету и голод, босых и обездоленных крестьян, стонущих под пятой помещиков. Как больно ударили его слова женевского полицейского, узнавшего из паспорта Аргези, что на земле, оказывается, живут и румыны… Он, Аргези, не любит свой народ?! Да полно вам, господа политиканы!
«Моя душа хранит с минувшим связь, я вижу прошлое за слоем ныли… Во мне веков останки опочили, меня об этом не спросясь. Так, некогда поверженные ниц, в слепой земле, беспамятством объятой, лежат вповалку груды древних статуй, и дремлет множество гробниц. Там эпитафий гул разноязыкий и надписей давно затихший зов. Там время отделилось от часов, как легкий запах — от гвоздики. Но чей-то голос, немоту сломив, врывается в наш говор повседневный, и этот голос, медленный и древний, опять во мне сегодня жив. Внезапно наступает пробужденье, с далеких тайн срывается покров. И вижу я основы всех веков и бодрствую на крайней их ступени».
Аргези бодрствует и борется «на крайней ступени веков», он срывает маски со всяких лицемеров, лжепатриотов, за душой у которых нет никаких чувств, кроме единственного — жажды наживы. Ведь произнесение звонких слов о «патриотизме» не требует от политиканов ни особых знаний, ни затрат, ни усилий — кричи погромче. И польза может получиться немалая. К тому же так приятно видеть себя в роли борца за народные интересы. У таких «патриотов» на языке певучие слова о любви к родине, к ее прошлому и предкам, а в голове — расчеты, как бы получить от этого максимум пользы для себя. Иные «зеленые румыны» напоминали Аргези «преданных» родственников, приходящих на кладбище поклониться предкам и тут же прикидывающих, за какую цену можно загнать их дорогие надгробия.
В нескольких номерах нового выпуска «Записок попугая» 1937 года Аргези тщательно и аргументированно анализирует творчество Йорги и показывает, как он еще с первого десятилетия века стремился выдавать себя за апостола всех румын, на какой бы точке земного шара они ни проживали.
Против йоргизма выступали не только Аргези, Кочя, Галактион. Позиция Йорги в. трактовке истории, его анализ литературного и культурного движения вызвали протест многих. Говоря о том, что Йорга действительно человек большой культуры, неуемной энергии, неутомимый, фантастической дотошности исследователь, Иларие Кенди, признанный авторитет в литературной критике, отмечал еще в начале века, что действия человека определяются не только его культурой, но и его характером, умением владеть своей образованностью и применять ее на благо людям. Отдавая должное заслугам Йорги в создании ряда работ по общей истории мировой цивилизации, критик отмечает, что было бы гораздо полезнее, если бы Йорга ограничился только исследованием прошлого, «замкнулся бы в башне древних мыслей и древних слов. Тогда он был бы сегодня уважаемым ученым, а авторитет его был бы непререкаем».
Йорге показалось же, что этого ему недостаточно. «И он, — пишет Кенди, — вышел на шумную дорогу, невозможную без принципиальных и личных уступок, на проторенную стежку тех, которые стремятся к одному-единственному — во что бы то ни стало достичь гребня. И тут начинаются ошибки… Но проходит не так уж много времени, и мы видим эластичного Йоргу, видим его, отправившегося в поход с барабаном в поисках единомышленников, он вербует союзников из среды провинциальных ничтожеств, объезжает соседние страны, стараясь произвести как можно больше шума вокруг своей персоны… В литературе вообще и в литературной критике в частности он так и не сумел сказать нового слова. И постепенно вокруг «апостола» образовался вакуум… Он еще попытается некоторое время напускать на себя вид титана, которого мучают великие заботы народа, прольет еще несколько фальшивых слез над несчастной жизнью крестьян, нападет на тех, которых когда-то хвалил, и похвалит тех, которых оскорблял… до тех пор, пока обстоятельства снова не вынудят его признать, что все его усилия были напрасными».
Все это было сказано о Йорге человеком беспристрастным и честным. Йорга никогда до этого не критиковал Иларие Кенди, поэтому не мог сказать, что тот сводит с ним счеты. В 1912 году Кенди умер и, естественно, не смог, увидеть последующих шагов профессора. Но предвидения Кенди сбылись. Аргези, анализируя дальнейшую эволюцию Йорги, показывает, что позиция этого ученого может поставить его «во главе всех националистических групп Румынии». Среди этих групп были и такие, программа которых лишь отчасти совпадала с программой Йорги. В Румынии начался дикий антисемитизм. Йорга признавал любые выступления против евреев нормальными, а еврейские погромы «непреступными». Что же касается открытых фашистов из партии его бывшего союзника Кузы и поэта Октавиана Гоги, а также железногвардейцев, то Йорга не был согласен с ними, и это решило его дальнейшую судьбу. Тудор Аргези делает последнюю попытку уговорить Николае Йоргу идти вместе со всеми прогрессивными силами против надвигающейся опасности фашизма. Он еще верит, что этот человек опомнится. «Йди с нами, Николае Йорга, — звал Тудор Аргези. — Иди с нами, со всеми писателями, приди к нам, и пойдем вместе хотя бы в этот последний, двенадцатый час. Объединим в этот предзакатный час свои души, освежим их новым светом, объединим, сольем воедино наши перья перед надвигающейся темнотой».
Этот здравый голос не был услышан.
5
В начале 1938 года король Карол II установил свою личную диктатуру. Были запрещены прогрессивные газеты, ужесточена цензура. Прекратился выход и «Записок попугая».
За время королевской диктатуры с февраля 1938-го по сентябрь 1940-го сменилось шесть буржуазных правительств. Они выражали интересы капитала, и вся их политика была подчинена этим интересам. Не могло уже быть и речи о демократических свободах, усиливалась эксплуатация трудящихся, законодательство подгонялось к нуждам промышленной, банковской и торговой буржуазии.
Своеобразным откликом на эту правительственную чехарду, на погоню буржуазии за правителем, который бы устраивал всех, стала «Хора для парней», написанная Аргези в духе народных частушек, которыми сопровождается любой быстрый, молодецкий румынский танец с припевками.
«Неким царством. — вот так так! — правил некогда дурак. Би-би, ба-ба, ли-ба, ла-ба… А кто не был дураком — оставался босиком. И~ха, па-па, па-па, и-ха…»
Тудор Аргези знал, что давно уже была запрещена издаваемая «красным принцем» газета «Колокол». Но при встрече он дал Скарлату Каллимаки стихотворение о Дыбе-воеводе со словами:
— Может быть, ваша царская кровь подскажет, как пристроить это сочинение куда-нибудь. Оно весьма ко времени. Король обрадуется.
«Слава, слава Владу-воеводе, в мире утвердившему покой и лад! Слышен лист, дрожащий в чистом небосводе, на земле бояре как листва дрожат. Он большой мыслитель, Влад непобедимый, гуманист деяньями и душой, он сажает на кол бояр любимых, зад соединяя с головой. Дорогим боярам приготовив свечку, он от христианства не отошел — ставит в церкви свечи в честь жизни вечной, каждому по чину выбирая кол. Кол из кипариса подобает визирю, кол из лучшей липы подойдет послу. Благостный епископ над страной возвысился на ароматизированном колу! Чтоб восславить Влада, съезжались гости — во дворец съезжался Совет страны. Закипали кубки, взвивались тосты: как все любят Влада и как верны! И пока оратор говорит: «Спасибо!», Влад соображает, припав на стол: «Какую б тебе, милый, придумать дыбу, какой бы лучше приготовить кол?»
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1
Встревоженный Гала Галактион сообщил друзьям:
— Аргези при смерти!
Пригласили врача, он посоветовал положить пузырь со льдом. Достали из-под глубокого слоя соломы из ледника крупный скол прозрачного льда, измельчили, набили им два пузыря. Больному
полегчало лишь ненадолго, через несколько часов он уже не мог встать с постели.
Галактиону Аргези тогда сказал:
— При малейшей попытке кашлянуть в позвоночнике взрывается фунт динамита… Никаких сил нет больше…
Чуть ли не каждый день Параскива приглашала в Мэрцишор все новых врачей. Одни осматривали больного, другие ожидали своей очереди, все хотели помочь. Митзура угощала их фруктами, чаем с вареньем. Но заключение специалистов было единодушно: у Аргези неизлечимая болезнь, медицина беспомощна. Сорок четыре врача осмотрели больного, и наконец, самый авторитетный консилиум сообщил Параскиве: рак.
Аргези не знал об этом врачебном приговоре, но по глазам врачей догадывался, что они не видят выхода.
В Мэрцишор пришли Гала, Деметриус, Кочя, Калли-маки, издатель Александру Росетти. Их встретила печальная Параскива, растерянно смотрели Митзура и Баруцу. Было тихо, и казалось, что в этом недавно веселом, озорном царстве поэзии все замерло.
Параскива вынесла его из дому на руках, как ребенка. Митзура положила на постланный под вишней ковер надутую автомобильную камеру, он мог сидеть только на этой камере; у него начали образовываться пролежни. Больной приветствовал друзей глазами, пытался сделать какой-то знак правой рукой, но рука повисла и болталась, как маятник останавливающихся часов. Сказал с трудом:
— Какая-то невидимая бестия выпиливает из моего позвоночника микроскопические пластинки… Доктора не в состоянии облегчить эту боль…
Кочя и Каллимаки впервые видели Аргези в таком состоянии. Они знали о его болезни, но не представляли всей трагедии. Гала был у него еще несколько раз, но тоже таким слабым не видел его. Наклонился и спросил:
— Ну, может быть, мы хоть чем-нибудь сможем помочь?
— Вы — ничем… Вот бог… — И попробовал шутить: — У меня ведь столько друзей среди священников… Неужели вы не сможете помолиться, чтобы он облегчил мне боль?
— Ты тридцать пять лет назад отказался от него, — сказал Гала. — Внутренне вернись к нему, иеродиакон Иосиф, и, может быть, тогда он услышит наши молитвы.
Шли месяцы, а в состоянии больного не происходило никаких перемен к лучшему. Близкие ухаживали за ним как за маленьким ребенком. Жена переносила его на руках из дома в сад, часто держала его перед открытым окном. В одно мартовское утро, когда пригревало солнце, набухали почки и пахло свежим весенним воздухом, он сказал ей:
— Ты моя мама.
Параскиве на один миг действительно показалось, что он беспомощный, обиженный жизнью ребенок. А ему скоро исполнится шестьдесят. Он уснул у нее на руках у открытого окна в сад. Усы и волосы седые, лицо исстрадалось, но сейчас, в этот миг, оно умиротворенно, видно, отошла чуть боль, вот и заснул… Улыбнулся как ребенок, снова посуровело лицо, вздохнул глубоко… Параскива вспоминала его стихотворение «В прятки», которое он очень любил. Написано оно давно, потому что вошло в сборник «Подогнанные слова» 1927 года. Как это он так давно мог все предвидеть и описать?
«Милые мои, однажды мы сыграем с вами в странную игру. Февралем то будет или маем — только обязательно сыграем на закате или поутру. Люди старые игрой старинной забавляются с детьми, как ты. В ней и слуги и хозяева едины, все справляются с игрой старинной — птицы, и собаки, и цветы. За столом широким мы семьей большою любим весело собраться в круг, преданы друг другу всей душою. Но настанет день — не шевельнешь рукою, онемеют ноги, а в глазах — испуг. Словно дуновенье, той игры начало. Я смеяться буду в тишине. Лягу я на землю, как не раз бывало, и, возможно, буду я молчать устало, под зеленым деревом лежа на спине… Не горюйте: ждите вы меня живого, Лазарь, вы ведь помните, воскрес… Не случилось ничего такого, что необычайно было бы иль ново. Ваш отец бесследно не исчез… Вы живите в мире да совете. Пусть вас радость не покинет до седин. Что же делать, так заведено на свете — поначалу, дорогие дети, месяц без отца пройдет один, день за днем вы не получите привета. Больше ваш отец не приходит в дом. Видно, не хватает сил на это, тяжеленько стало с того света ковылять к себе домой пешком. Вот уже хозяева вы сами, вы большие, вы ученые теперь. Мать все так же долгими часами над рубахами сидит и над носками, но отец ваш больше не стучится в дверь. Да, птенцы мои, гнездо мое родное, в хитрую игру сыграть придется всем…»
Параскива держала на руках мужа. Она боялась шевельнуться, а по лицу катились невольные слезы. Он не должен их видеть, эти слезы. А как их сотрешь, не потревожив его?
Залаяла собака. Опять кто-то идет проведать. Калитка почти не закрывается: приходят писатели, приходят соседи и рабочий люд предместья Мэрцишор. Который месяц он болеет, прошел слух, что он совсем ослаб, что положение его безнадежно. По старому, заведенному с древних времен обычаю к уважаемому человеку заходят попрощаться… Собаку утихомирил Баруцу и осторожно открыл дверь. У матери на глазах слезы, отец у нее на руках, не шевелится. «Неужели уже все?!» Баруцу бросился к матери, но она сделала ему знак головой: «Тихо, тихо…» Он вытер катящиеся по ее щекам слезы, понял, что отец крепко спит, и шепнул ей, что пришел режиссер из Национального театра, хочет обязательно видеть отца. Губы матери чуть зашевелились: «Пусть подождет…»
Режиссер Национального театра Соаре пришел к писателю узнать о судьбе давно начатой Аргези работы: год назад он предложил театру перевести на румынский всего Мольера. — Согласились охотно, обещали заключить договор, но не торопились. Соаре намечал ставить Мольера, и переводы Аргези, конечно, были бы самыми подходящими. Но вдруг слух об этой страшной болезни. Неужели правда? И Соаре поспешил в Мэрцишор, Узнав, что Аргези спит, ждал на улице, под вишней; Митзура несколько раз приглашала в дом, предлагала чай.
— Нет, нет, спасибо, если позволите, подожду здесь, я не тороплюсь.
Ему было интересно посидеть в этом волшебном уголке Бухареста, о котором ходит столько легенд. Говорят, что Аргези построил свой дом как вызов грозной тюрьме «Вэкэрешть». Вот она рядом. Высокие, массивные стены, за ними еще одно каменное кольцо. Сторожевые вышки, арочные черные ворота, как в известной книге Аргези. По стенам прохаживается вооруженная охрана… А тут, в саду Мэрцишора, зеленеет трава, гудят разноцветные пчелиные домики. Стали взрослыми Митзура и Баруцу, о которых знает вся читающая детвора страны из «Книги игрушек». Митзура чернявая, красивая девушка, глаза такие же, как у отца, — темно-карие, лицо озабоченное, печальное. Но не забывает, что в Мэрцишоре гость, предлагает чай еще раз.
В дверях появилась статная женщина в простой одежде, рядом с ней стоял Баруцу.
— Добрый день.
— Как маэстро?
Аргези часто называли «маэстро», он раздражался и даже написал по этому поводу басню. Не любила это слово и Параскива. Так было несозвучно оно со всем, что сейчас происходило с Аргези. И Параскива отозвалась на вопрос после некоторого раздумья:
— Аргези очень плох… А что вы хотели?
Режиссер понял, что неуместно говорить о делах, о переводах. Какое дело сейчас Параскиве, Баруцу, Митзуре до переводов Мольера, когда они только и живут судьбой Аргези, его жизнью? И он решил не говорить о Мольере, а только о том, чем можно было бы еще помочь Аргези. Он рассказал Параскиве о враче-чудодее, у которого, как говорят, имеется средство от многих болезней…
— Я поговорю с Аргези, — ответила Параскива. — А вам большое спасибо за совет. Я поговорю с мужем сегодня же, обязательно, мы все делаем только с его согласия.
Выслушав Параскиву, Аргези сказал:
— Сорок четыре доктора лечили меня до сегодняшнего дня. Я их считаю… Этот будет сорок пятый… Пусть…
Жил тогда в Бухаресте высокий широкоплечий человек с длинной рыжей бородой и ярко-голубыми глазами. Он был оригинал: ходил в красной рубашке, светло-синих шароварах и желтых ботинках. Широкий кожаный пояс с позолоченной бляхой и болтающимися побрякушками делал его похожим скорее на вождя дикого племени, чем на доктора. Звали его Григориу-Арджеш. Параскива разыскала его на море, заплатила 5 тысяч лей за авиабилет, и «чудодей» появился в Мэрцишоре. Он попросил таз с теплой водой, вымыл свои громадные ухоженные руки с массивными перстнями в полудрагоценных камнях и подошел к больному. Осмотрел и сказал:
— Если у вас нет той болезни, на которой согласились все доктора, через двадцать минут вы встанете! Только пусть все уйдут из этой комнаты…
А в это время заседавший в другой комнате консилиум под руководством видного румынского доктора Багдасара сообщил издателю Александру Росетти, что писателю осталось жить не более месяца.
— Для блага румынской литературы займитесь рукописями Аргези, — сказал издателю доктор Багдасар, — пока у него не отнялась речь…
2
Сорок пятый врач, доктор Григориу-Арджеш, обнаружил, что у Аргези был простой поясной радикулит, который в самом начале болезни по совету неопытного врача стали лечить ледяными компрессами и рентгенотерапией. Никто до сих пор не знает, каким лекарством вылечил «доктор-чудодей» приговоренного врачами к смерти поэта. Но после первого же укола Аргези пошел на поправку. Секрет лекарства Григориу-Арджеш унес с собой в могилу — через несколько лет он умер, так и не добившись от министерства здравоохранения Румынии утверждения своего изобретения. Аргези горько сожалел о том, что умер его странный спаситель и погибло вместе с ним и его чудодейственное лекарство. О периоде своей болезни и о том, как его «лечил» целый «собор» из сорока четырех докторов, он рассказал в пьесе «Шприц», написанной позднее, в лагере для политических заключенных Тыргу-Жиу.
За долгие месяцы страданий Аргези очень ослаб, и требовалось длительное, спокойное лечение. Параскива лечила его разговором. Митзура и Баруцу всегда удивлялись: о чем разговаривают отец с матерью все время? Иногда отец записывал на маленьких картонках то, что рассказывала ему Параскива, потом заносил в особые тетради. Она очень много знала, и он воспринимал ее рассказы о детстве, о родителях и односельчанах, о ее клиентках того времени, когда она зарабатывала на жизнь шитьем, как только ему одному доверенные драгоценности. Думал обработать все и когда-нибудь издать «Рассказы Параскивы»…
Во время болезни семья ограждала Аргези от чтения, газеты читали ему дети, и то когда это разрешала мать.
Осенним днем тревожного 1940 года Аргези сидел у окошка и смотрел в сад. Было очень тихо, и только время от времени срывались с веток багровые листья вишен и плавно опускались на землю. Аргези прислушивался к их таинственному шепоту: природа готовилась к приближающейся зиме. Баруцу взял у почтальона газеты, посмотрел и посоветовался с матерью: показать это отцу или не показать? Параскива внимательно прочитала, подумала и сказала:
— Это я сама ему покажу…
Да, это покажет она сама. Она не имеет права умолчать. Это страшно. Все газеты публиковали на первых страницах следующее правительственное сообщение:
«Вечером 27 ноября 1940 года неизвестные ворвались в дом профессора Николае Йорги в Синае и увезли его в неизвестном направлении. Срочные меры, предпринятые властями в течение ночи для розыска и освобождения бывшего премьер-министра, не дали результатов. 28 ноября жандармское управление Прахова обнаружило безжизненное тело профессора Николае Йорги в коммуне Стрежник (уезд Прахова) — он был убит шестью выстрелами из револьвера. Правительство разыскивает виновных для применения к ним строгих мер в соответствии с действующим законодательством».
Николае Йорга являлся противником Тудора Аргези всю жизнь. Его
идейным противником. Тудор Аргези защищал себя и свою литературу от нападок всесильного профессора, академика и премьер-министра. Иногда нападки Йорги сопровождались прямыми попытками лишить писателя средств к существованию. Когда вышла книга избранных стихотворений Аргези в 1936 году, Йорга обратился с протестом к самому королю, угрожая, что если издательство будет продолжать печатать Аргези и впредь, то он, Йорга, вернет королю все награды, которых он был удостоен. Об этом заявлении Йорги писал директор издательства Александру Росетти. Аргези видел в Йорге своего противника, но не своего врага. Он в преддверии наступления фашизма обратился к Йорге с призывом: «Иди с нами, Николае Йорга!» Но Йорга остался глух к этому призыву.
«О безумная, бессмысленная алчность человечья! Человек себе подобных всюду жжет, казнит, калечит, — он хватает, загребает, он и хапает и душит, и дворцы сооружает для своей бесстыдной туши. Власть захватывает нагло он при помощи сокровищ. Прах его хранят хоромы, но они — его могилы. Кровь из жил рукой жестокой жмет, а золото — из крови, гасит радость озарений и высасывает силы. Жизнь прекрасную вгоняя в безобразные оковы, судьбы и надежды многих складывает он в подвалы и, бессмысленной, мертвящей алчностью своей влекомый. все живое погребает в золоте своем кровавом. То, чему бы жить под солнцем, чему Радость было имя, ты, как губка, жрешь: безумью твоему конца не видно! Все задавлено тобою и останками твоими. Слушай, человек! Мне стыдно за тебя. Мне очепь стыдно».
В газете «Румынский род» Николае Йорга публикует очередное выступление против Аргези, где уже совершенно открыто обвиняет писателя в том, что он не в достаточной мере проявляет национальные чувства, как их понимал сам Йорга. Новый поход Йорги против Аргези длился полтора года и назывался «кампанией за моральное оздоровление румынской литературы». Как было уже замечено, Аргези предъявлялось обвинение: его творчество антинационально. Тудор Аргези гневно отвечает:
«Господин Йорга обвиняет меня в отсутствии сердца, то ость в том. что у меня нет национальных чувств… Мне же сдается, что национальное чувство — это не какое-то особое достоинство. Любой нормальный человек обладает им в той или иной степени, и редко, кто находит нужным хвастать этим. Еще никому и никогда не выдавалось свидетельство о высокой моральной стойкости, которое содержало бы утверждение, что он не избивал свою родную мать и не выбивал зубы своему родному отцу. Хвастаться на каждом перекрестке тем, что ты любишь свою страну, с которой тебя связывает неразрывная духовная пуповина, это странное и достойное сожаления бахвальство».
Тудор Аргези пытался мысленно проследить за цепью событий, приведших к кровавому злодеянию. Конечно, это дело рук фашиствующих элементов — легионеров.
Первой их жертвой в сентябре 1939 года стал премьер-министр периода королевской диктатуры Арманд Кэлинеску.
Был полдень. Тихо играл радиоприемник. Несколько минут назад Аргези позвонил Гала Галактион и сообщил, что он только что пришел из бюро регистрации бракосочетаний, сегодня он выдал замуж свою четвертую дочь — Елену. Делился со своим другом волнениями, приглашал на свадьбу, понимая, конечно, что Аргези в таком состоянии ни на какую свадьбу не пойдет… Камерный оркестр румынского радио передавал вальсы Штрауса. И вдруг музыка резко оборвалась. Запыхавшийся человек произнес четко: «Внимание! Внимание! Господин Арманд Кэлинеску убит! Смертный приговор был приведен в исполнение группой легионеров сегодня…» Все будто провалилось, тридцать минут радио молчало. Потом заговорило снова: «Наши передачи были прерваны событием, достойным сожаления-. Продолжаем…» И музыка — пластинка за пластинкой. Почти четыре часа. А в шесть часов передали официальное правительственное сообщение. Оказалось, что легионеры убили премьер-министра, убрали охрану радио, сами проникли в дикторскую, прервали передачу и сами сообщили об убийстве… Последовали драматические события. Для устрашения народа правительство решило расстрелять представителей легионеров во всех населенных пунктах страны и выставить на три дня их трупы для всеобщего обозрения на самых оживленных перекрестках. Три дня лежали на главной улице Бухареста трупы расстрелянных девяти главарей легионеров. Гадом раньше был расстрелян главный руководитель легионеров Зеля Кодряну. Легионеры лихорадочно начали искать «виновников» массовых убийств, проводили тайные судебные процессы и выносили приговоры. Претив убийства Арманда Кэлинеску и террористической тактики легионеров выступил и Николае Йорга. Тогда в легионерской газете «Порунка времий» («Веление времени») появились материалы о том, будто Николае Йорга один из виновников массовых расстрелов легионеров после убийства Кэлинеску. Судьба профессора Йорги была предрешена.
— Наступают страшные времена, — сказал Аргези Параскиве и вытер увлажненные глаза. Несмотря ни на что, ему было жаль Йоргу.
Страшные времена не замедлили наступить.
«Используя финансовую и экономическую помощь гитлеровских кругов и верхушки внутренней реакции, — пишут авторы изданной в Бухаресте «Истории Румынии»
[40], — фашистские и профашистские группировки вынудили короля Карола II передать 5 сентября 1940 года всю полноту власти в руки генерала Иона Антонеску. В стране была установлена военно-фашистская диктатура, а десятью днями позже было создано правительство, члены которого были в подавляющем большинстве из рядов «Железной гвардии»… С первого же дня военно-фашистская диктатура вела антинародную политику, ликвидировав последние остатки демократических свобод. Диктатура Антонеску установила режим жестокого террора против демократических, антифашистских сил и в особенности против коммунистов. Заключенные в тюрьмах и в лагерях коммунисты подвергались режиму заведомого уничтожения».
Карательные органы военно-фашистской диктатуры приговорили в смертной казни и видных румынских коммунистов — Филимона Сырбу, Аду Маринеску, Николае Мохэнеску, Петре Георге и многих других. Под развалившейся во время землетрясения 10 ноября 1940 года тюрьмой «Дофтана» погибло 14 вожаков-коммунистов и один из любимых руководителей компартии, Илие Пинтилле.
Одновременно с террористическим разбоем и грабежом легионеры вели борьбу даже против самого Антонеску. С ведома гестапо они организовали в январе 1941 года попытку вооруженного отстранения Антонеску для полного захвата власти.
При помощи армии и прогитлеровских кругов, которые поняли, что нельзя в дальнейшем делать ставку на скомпрометировавших себя убийствами, погромами и насилием легионеров, Антонеску удалось ликвидировать их путч и создать новое правительство. «Таким образом, — подчеркивается в «Истории Румынии», — гитлеровская Германия обеспечила себе возможность использовать материальные ресурсы Румынии в своих агрессивных целях. Диктатура Антонеску окончательно связала свою судьбу с гитлеровским режимом. В области внешней политики Антонеску сохранил верность Германии и делал все это для того, чтобы постоянно держать страну в фарватере гитлеризма»
[41].
После известия о гибели Йорги Тудор Аргези попросил Параскиву и детей показывать ему газеты каждое утро, обещал не злоупотреблять чтением, но подчеркнул, что хочет быть в курсе всех дел. «Пока это единственное, на что я способен», — горько усмехнулся он.
Сообщения газет с каждым днем становились все тревожней. Под крупными заголовками писали о посещении Антонеску главной ставки Гитлера, о переговорах в Берлине, о присоединении Румынии к антикоминтерновскому пакту.
В день рождества, 25 декабря 1940 года, газета «Веление времени» писала: «В наступающем году мы станем на колени, чтобы восславить в песнопениях политическое единство ромынизма». В топ передовой статье из номера в номер печатали материалы яркого шовинистического толка, изображения давно почивших монархов, портреты Гитлера и Муссолини, фотографии румынских молодчиков с вытянутыми в приветствии «хайль!» руками.
27 декабря 1940 года в Бухарест прибыл чрезвычайный полномочный министр фюрера в Румынии барон Манфред фон Киллингер. Газеты опубликовали портрет барона, как две капли воды похожего на Гитлера. Такая же прическа, такой же овал лица, такие же усы черным тараканом над вытянутыми в прямую линию злыми губами. Как видно, барон всеми силами старался
походить на своего шефа, у него тот же надменный, самоуверенный поворот головы и такие же глядящие в пустоту глаза. Волос только меньше, чем у бесноватого, более полная фигура — барон по возрасту старше своего шефа. Газеты напоминают подробности биографии барона. Оказывается, он выделился как «хороший организатор» во время подавления ноябрьской революции — руководил тогда ударным карательным батальоном и стал одним из вдохновителей национал-социалистского движения. В 1927 году Киллингер организовал в центральной Германии ударные отряды в поддержку фюрера. А когда фюрер стал во главе государства, барон был назначен рейхскомиссаром и затем министром-председателем Саксонии. С начала второй мировой войны Киллингер был уполномоченным по особым делам министерства иностранных дел рейха на Балканах, а после оккупации Чехословакии назначен чрезвычайным уполномоченным в Братиславу. Завершив там дела по «наведению порядка», барон прибыл в Бухарест. Ясно было, что он займется «наведением порядка» и здесь. Он должен был присматривать за тем, как готовится Румыния к войне против СССР, на это у него были особые полномочия фюрера, о чем знал только Антонеску. Киллингер стал фактическим хозяином Румынии.
— Эти бандиты со свастикой, наверное, не оставят и нас в покое, — сказала Параскива мужу, удивленному ее странным облачением. Параскива была опоясана широким кожаным ремнем, а на ремне в кобуре висел старый револьвер, который она взяла у родственника, полковника в отставке Стаматиади. — Пусть только попробует кто-нибудь приблизиться…
Аргези расхохотался:
— Хорошая ты моя, храбрая ты моя, все это твое снаряжение для воробьев… Будем готовиться к тяжелой жизни. Будет очень тяжко.
3
Со вступлением Румынии в воину против Советского Союза публикация произведений Аргези в периодике находилась под запретом. Писатель постепенно поправлялся после перенесенной болезни и работал над новым романом «Лина». Основываясь на материале той поры, когда он был лаборантом на сахарной фабрике, Аргези с новой силой обрушивается на эксплуататорский строй, на политические нравы своего времени, разоблачает продажную буржуазную печать. В это же время он создает большую книгу (в собрании сочинений она занимает три тома) под названием «Учебник практической морали». Он скрупулезно анализирует нравы общества, не оставляя без внимания ни одно, казалось бы, самое незначительное явление повседневности. Эта книга и своего рода «учебник жизни», трактат о том, как нужно жить бескомпромиссно, честно, чтобы тебя никогда не мучила совесть. И впервые за многие годы он пишет как бы лаконичную, весьма выразительную автобиографию. Поводом для этого послужило письмо одного оказавшегося в затруднительном положении молодого литератора, в котором он «разъяснял» Аргези, что молодые таланты должны быть на иждивении писателей, художников, композиторов старшего поколения, что старшее поколение обязано, мол, выдавать молодым постоянное денежное пособие. Парень сообщал, что ему двадцать один год, и подчеркивал, что, не оказывая материальную помощь молодым, — старшие писатели толкают их на путь Раскольникова. Тудор Аргези напоминает молодому человеку, что «на родине Раскольникова выработан прекрасный принцип, которым руководствуются все, — «кто не работает, тот не ест».
Он вспоминает, как в двенадцать лет он преподавал математику взрослому человеку и изучал алгебру вместо него. Во время каникул работал учеником каменотеса, расписывал надгробия. В шестнадцать лет был секретарем художественной выставки и печатал первые стихи. Семнадцати лет работал лаборантом завода, а в восемнадцать лет руководил этой лабораторией. В девятнадцать был диаконом и преподавал закон божий в офицерской школе. Во время своих странствий по чужим землям он становился то грузчиком, то продавцом стеклянных побрякушек за десять сантимов штука, научился мастерить кольца и крышки для часов. Когда было нечего есть, терпел. Вернувшись на родину, не чуждался никакой работы, кроме грязного дела газетного шантажа и торговли своим пером и совестью. «Моя совесть и перо ничем не запятнаны. В пятьдесят восемь лет сдал экзамен на аттестат типографского наборщика. В этой деревне, где я живу, выполняю любую работу как настоящий раб земли
вместе с женой и со своими детьми, которым не стыдно делать все, кроме четырех вещей: паразитировать, лгать, красть и попрошайничать (разрядка моя.
— Ф. В.).
Если я и обрел литературное имя, то это ночным трудом. Дрожащей от физической усталости рукой я брал ручку и писал. Я не знаю, заслуживаю ли звания писателя, но я заработал это звание жесточайшим трудом и сейчас в шестьдесят казнюсь над листком бумаги так же, как и в двадцать один».
Работать! Найти, чем заниматься, не ждать, пока работа придет к тебе… В условиях, когда государство занято только заботами о наживе, о завоевании чужих земель, о том, как подавлять недовольство масс в условиях, когда государство, воевавшее со своим собственным народом, вовлекло страну в преступную войну против своего великого соседа, нужно работать, если хочешь выжить. Так говорит Аргези тем, кто обращается к нему за советом, что делать. Так говорит он своим детям. Прежде всего личный пример. В создавшемся положении он не в состоянии обеспечить семью, прокормить себя. И он поступает на курсы усовершенствования наборщиков, сдает экзамен, чтобы на всякий случай иметь возможность заработать кусок хлеба в типографии. Курсы полиграфии проходит и сын Баруцу и идет работать наборщиком. Митзура помогает матери по хозяйству с утра до ночи — нужно добывать все со своего участка, из своего сада, он — единственное спасение. И главное, говорит им отец, берегите здоровье, военная обстановка не время для болезни.
Со своими бедами идут к своему защитнику бедняки окраины Мэрцишор. Взрослые мужчины на фронте. Приходят заплаканные женщины — матери, жены, сестры убитых и пропавших без вести. Показывают сообщения военного командования: «погиб под Одессой», «погиб под Симферополем», «погиб под Новороссийском», «погиб, под Ростовом», «погиб на подступах к Кавказу»… Погиб, погиб, погиб… И все незнакомые простому, безграмотному народу названия. «Где это, господин Аргези? Хотя бы знать, где это, где похоронен…» Что он ответит им, уполномоченный бедноты предместья Мэрцишора, поэт Тудор Аргези? Но отвечать надо.
— Это далеко, в России, — говорит он и опускает глаза. Он вспоминает вдруг, как он должен был отвечать двадцать три года тому назад на такие же вопросы матерей румынских солдат, погибших на улицах Будапешта… За что они погибли? За что погибает сейчас в степях России румынский бедный крестьянин? Он так и останется там, неизвестно за что отдавший жизнь… Богатые арендуют вагоны и привозят с фронта убитых. Газеты полны сообщений в траурных рамках — это только те могут позволить, у кого есть деньги платить за объявления…
Смерть уносила не только солдат на фронте. Погибали коммунисты и революционеры в тюрьмах, специальных лагерях для политических заключенных, старые, несгибаемые борцы, умирали дома в нищете и безвестности. Так ушел из жизни один из членов «Созвездия Лиры», организатор и директор «Правильной линии», затем неутомимый издатель популярной дешевой книжной серии для бедных «Библиотеки для всех», поэт Василе Деметриус. 18 марта 1942 года Тудор Аргези позвонил Гале Галактиону и сообщил ему печальную весть:
— Вчера в больнице Колця скончался наш дорогой Деметриус, его лечили грубо и бесчеловечно, и он скончался скорее от возмущения тем, как с ним обращались…
Гала Галактион заносит в дневник:
«Наш друг должен был чувствовать до самого смертного часа безжалостный коловорот нищеты!.. Он всю жизнь мучился от отсутствия денег и закрыл глаза от страдания, даже для лекарств и докторов у пего не было средств… Это была чистая душа, он никогда не унижался, не раболепствовал, ему были чужды мерзости, интриги… Он был полон поэзии и достоинства. Аргези, Кочя, Деметриус, сорок с лишним лет мы шли рука об руку. Были и тяжелые моменты, испытания и боли этой жизни нас не миновали. Но мы свято сохранили свою дружбу. Она была нашим общим капиталом… Мы видели себя связанными друг с другом, дорожили друг другом и были уверены в том, что наступит день, когда и мы будем вознаграждены за это».
Ушел из жизни Деметриус. Тудор Аргези потерял дорогого друга, «Созвездие Лиры» лишилось своего основателя. Аргези искал возможность высказаться, добивался наказания врачей, загнавших друга в могилу. Но никому не было дела до умершего, к тому же еще неугодного фашистскому режиму.
Вскоре после смерти Деметриуса случилось еще одно печальное событие — был выслан из Бухареста и посажен под домашний арест в горной местности без права заниматься какой-либо политической, журналистской или творческой деятельностью шестидесятитрехлетний Николае Кочя. Недавно, перед вынужденным выездом из Бухареста, Кочя сказал: «Спасение человечества от нынешнего ужаса придет только с победой коммунистической революции». Притесняют и Галу. Иногда он заходит в Мэрцишор, и старые друзья тихо обсуждают, что же будет.
— Помнишь, во времена «Хроники»… Какие были у нас надежды тогда…
— Относительно надежд, дорогой Гала, ты знаешь, что я надеждами не очень-то себя убаюкивал… Ты и Нику иногда грешили этим, вы романтики, а я — жестокий реалист… А это ты видел?
Белая книга, окаймленный оранжевой рамкой переплет. Автор — известный собеседникам человек. Он президент Румынской академии наук, действительный член академии Рэдулеску-Мотру. «Румынская этническая суть. Общность происхождения, языка, судьбы».
— Только что издана! — удивляется Гала. — 1942 год…
— Да. Порадуйся. Мы теперь, оказывается, высшая раса! А ты об этом и не подозревал…
«Высшие расы, — писал Рэдулеску-Мотру, — отличаются от низших тем, что они выдвигают из своей среды людей, наделенных исключительными способностями… От воли и разума последних исходят благотворные, обновляющие идеи, которые, будучи распространяемы в массе народа, составляют сегодняшнюю цивилизацию… Нация, принадлежащая к высшей расе, когда видит, что ее будущее в опасности, находит единственное спасение в объединении под флагом воли и единой мысли своих исключительных личностей. Для того чтобы установить среди своих членов единую дисциплину, общность единой судьбы нуждается в вожде. В таком вожде, который может возвыситься над всеми своим ясным умом и суждением, своей волей и энергией и который прежде всего умеет брать на себя всю ответственность. В руководителе символизируется судьба нации, потому как от его мысли и от его действия зависит будущее.
В этих условиях было создано новое немецкое национал-социалистское государство под руководством Адольфа Гитлера».
Дальше:
«У нас в Румынии 2 марта 1942 года вождь государства господин маршал Ион Антонеску решил начать бы-строе введение параметров точных измерений для установления биологических и психологических типов, которыми следует руководствоваться в дальнейшем при организации воспитания молодежи и проведения общей национальной политики».
— А вот это еще посмотри. — Аргези перевернул страницу.
«Руководитель, вождь, осуществляя свои идеи, может пожертвовать интересами черни…»
— В газете «Информация дня» уже опубликовано сообщение о начале антропологических измерений. Нужно выявить у каждого этническое происхождение.
— Измеряют черепа?! — крикнул Гала. — Проверяют чистокровность… Боже милостивый, помоги разобраться! — Гала перекрестился, прочитал еще раз. — Глазам не верится… Как же это Мотру мог написать! Я его ведь внаю… Старый человек… Когда же это кончится?
— Ты меня спрашиваешь или бога? — не мог удержаться Тудор Аргези.
— Ответь ты, если знаешь.
— Знать я не знаю. — Аргези призадумался, как бы перестраивался снова на серьезный лад. — Знать я не знаю, — повторил, — но одно могу сказать — конец этому положим не мы с тобой, милый и добрый мой Гала…
Галактион ушел, и Аргези как бы от его имени, от имени честного, ищущего и мучающегося человека, вознес к небесам слова молитвы:
«Обращаюсь к тебе, о господи, хотя я не знаю, к кому обращаюсь с этой молитвой и зачем. Моя душа переполнена болью, подобно кораблю, возвращающемуся с богатым грузом жемчужин, которому грозят гибелью волны бушующего моря. Я должен поделиться своей болью, и не находится никто, кто бы понял меня и проникнулся моей болью.
Молитва моя — это признание того, что я ничего не знаю, а хочу знать. В голове моей собирается на совет весь мир.
Я искал бога в воздухе, воздух мне не ответил, я искал его в земле и тоже не нашел. Обратился тогда к горным вершинам, и они промолчали. Спросил у источников и горных ручейков, они отвернулись от меня, не ведая, что ответить. Я обошел все страны и спрашивал у всех животных, у всех птиц, у всех листьев, но и они его не видели, хотя и догадывались, что он здесь, где-то рядом, и прячется от нас как вор».
Своеобразный возврат к метаниям юности характерен для настроения Аргези этого времени. А тут еще и его давние недруги начинают новый поход, граничащий с прямым доносом. Один из этих недругов Думитру Каракостя. Его атаки начались еще в 1937 году в пространной статье «Подходы к творчеству Аргези». Тогда он безуспешно опровергал тех, кто видел в Аргези первого румынского поэта. Из-за болезни Аргези не смог ответить Каракосте. Ответил он ему лишь в начале 41-го года, когда Каракостя стал министром просвещения и культуры Румынии. В своем ответе Аргези назвал автора «Подходов» «господином Некто». И вот «господин Некто», ставший в начале войны генеральным директором всех издательств режима Антонеску и единственного в стране литературного журнала, открывает свои карты. В статье 1937 года Каракостя касался лишь чисто литературных мотивов, по которым он не приемлет поэзию Аргези. Он, например, обрушивался на стихотворение «Завещание», делая вид, что не понимает, о чем там речь. Во второй статье, озаглавленной музыкальным термином «Контрапункт», критик пытается объяснить, почему поэзия и все творчество Аргези не отвечают духу времени. Он высокомерно указывает писателям, в чем состоит их ответственность, каково их предназначение. «Когда творишь, — спрашивает он, — чувствуешь ли ты, что стоишь перед лицом ромынизма и человечества?»
Этот вопрос обращен непосредственно к Аргези.
Каракостя укоряет поэта: он-де, Аргези, «пролетарий», «посланник, призванный вывести мир из равновесия». «Плодотворная почва для процветания подобных личностей, — замечает Каракостя, — скифские пространства». Что же касается европейского сообщества, то оно «следует другими путями — это пути консолидации и интеграции под знаменами устроителей «нового порядка». А эти знамена, к удовольствию Каракости, высоко подняты пятой сессией общества «Служба культуры письма» в Германии. Там, оказывается, установлено, что «литературное творчество должно быть рассматриваемо как функция биологическая». Дабы не отстать от участников этой сессии, Каракостя замечает, что он давно «предсказал банкротство творчества Аргези и его ценителей». Могущественный издатель и редактор требует от критики «навсегда покончить с шумными преувеличенными оценками «аргезинского мира» и бесконечными хвалебными сближениями Эминеску — Аргези».
Заметим, что это писалось и печаталось в 1942 году, когда фашистское войско Гитлера и Антонеску рвалось к Сталинграду.
Газеты призывали народ к терпению и послушанию.
«Румынскому народу всегда жилось нелегко в этих краях на семи ветрах и на пути всех бед. Но его жизнеспособность, непреклонная вера в справедливость выдержали все испытания, и род наш продолжал свое существование сквозь века и тысячелетия благодаря особой дисциплине, покорности, послушанию, уважению к своим руководителям и законам, тесно, сплоченный и единодушный во всех больших и малых делах» («Универсул», июнь 1942 г.).
Осенью 1942 года вся пресса сообщала о выходе книги барона Манфреда фон Киллингера «Борьба за Верхнюю Силезию». В этой шикарно изданной и щедро иллюстрированной книге печатаются портреты и семейные фотографии барона: лощеные, сытые физиономии чад и домочадцев, снимки молодого командира ударного батальона до зубов вооруженных и брошенных против немецкого рабочего класса головорезов. Книгу предваряет полное значительности предисловие: «Присутствие господина министра Манфреда фон Киллингера среди пас пусть будет постоянным стимулом и примером для подражания. Пусть это напоминает о том, чего может достигнуть человек, когда он смел, решителен, полон инициативы и безгранично предан своей стране». (Предисловие Е. Лупашку к книге Киллингера.)
Приближался 1943 год. Калитка Мэрцишора почти не закрывалась. Старики, женщины, оставшиеся сиротами дети приходили к уполномоченному бедноты со своим горем — все больше и больше становилось мертвых, все дальше и дальше на восток уходили оставшиеся в живых их близкие. И тогда по недосмотру военных цензоров к родным просачивались письма, в которых сообщалось о боях в излучине Дона. «Где это, господин Аргези?»
Из газет ничего нельзя было понять — сплошь материалы о победах и доблести фашистских войск.
По случаю новогоднего праздника газета «Универсул» поместила передовую под заголовком «Румыния — защитница Европы». И тут же сообщила о визите Антонеску в Берлин, о его встречах с фюрером, о восторженных похвалах, заработанных Антонеску у главарей рейха.
«Румыния является одним из самых главных партнеров рейха в войне и, следовательно, одним из самых главных ее партнеров по распределению плодов будущей победы и последующего мира… Участие Румынии в общей антибольшевистской войне получило в Берлине самую высокую оценку» («Универсул», 15 января 1943 г.).
Эта же газета в статье «Восточная плотина Европы» писала: «Румыния всегда служила и будет и впредь служить неприступной стеной против восточных нашествий». И снова упоминание о «беспримерной жизненности румынского рода», о том, что он, этот род, будет и впредь «выполнять с самоотверженностью миссию восточной плотины Европы».
«Возводить плотину из трупов… Вот к чему они призывают». Аргези отложил газету. Он поднялся наверх в угловую комнату, в которой работал, пока не наступали холода. Комнату эту называют еще и лабораторией потому, что здесь находится некоторое оборудование для анализа почвы, для приготовления различных отваров из трав, микроскоп для «продления луча моего глаза», как он говорит. Когда большие деревья сбрасывают листву, из окна лаборатории виден почти весь город. Вот высокое здание дворца связи на Кала Виктории, вот здание банка, широкая лепта Больших бульваров… «Восточная плотина Европы». Каком# подлецу пришла в голову эта мерзость? Он машинально протянул руку и включил старый батарейный радиоприемник. Передавали то же самое, о чем писали газеты:
«Сегодня больше, чем когда-либо, мы должны основываться на моральном единстве мысли и чувства. Это должно объединить нас вокруг трона, вокруг вождя государства и правительства. Только так мы сможем преодолеть трудности этого тяжелого часа».
Вдруг заговорили о трудностях «тяжелого часа». Но пока что еще только в общей форме. А в конкретной — трубят вовсю о великой миссии румынской армии, «которая оказывает упорное сопротивление советским атакам. Боевые действия румынских воинов, закаленных в совместных боях плечом к плечу с армиями рейха, превратили румынские войска в отборную армию современной войны». В обзоре печати сообщают заголовки главных статей: «Россия — вот главный враг», «Тотальная война», «Большевистская опасность», «Пробил час», «Героическое румыно-германское сопротивление под Сталинградом»… Радио передает, что в завтрашних газетах будут широко освещаться торжества в Бухаресте по случаю десятилетия прихода к власти Гитлера. Барон Киллингер устроит по этому случаю дружескую встречу с румынскими журналистами в институте румыно-немецкой культуры на улице Василе Ласкэр.
«Журналисты могут оказать политическому руководству огромную помощь, — говорил Киллингер на этой встрече. — Но они, если не применяют так, как положено, свою интеллигентность и ловкость, могут принести как политическому руководству, так и своему народу в целом непоправимый вред. Серьезный и ответственный журналист дороже золота. Безответственный журналист достоин виселицы». Барон предложил тост за вклад румынских журналистов в общую победу и не преминул предупредить, что за малейшую ошибку журналисты вызовут на себя не только его, барона Киллингера, гнев, но и гнев целой группы ответственных лиц. Касаясь Сталинграда, Киллингер процитировал слова Геринга из опубликованного в газетах доклада по случаю десятилетия прихода Гитлера к власти: «Сталинградская битва — это сражение, в котором Германия утвердит свою окончательную победу». Но на второе утро предупрежденные об ответственности журналисты все же должны были сообщить, что «бои под Сталинградом… с каждым часом принимают характер все более волнующий и драматический», и о том, что «командный пост фельдмаршала Паулюса передал последнюю радиограмму»… «Музы должны молчать».
7 февраля 1943 года во всех церквах Румынии служили молебен. Поминали погибших под Сталинградом…
Война пошла в обратный путь.
4
«Гадюка».
Так озаглавил Тудор Аргези свой памфлет.
«Ты увиваешься вокруг меня, гадюка. Слышу, как шуршишь среди бумаг… Ты, тварь, питающаяся грязью и доносами, шпионила за мной, подстерегала как вор и вот уже сколько времени лежишь поперек моей дороги… Но я давно тебя заметил, смотрю на тебя и о тебе веду речь, гадюка…
Гадюка — твое коллективное имя, подлый, мерзкий люд. Ты, гадюка, воплощение всех гадов, к тебе подползли гиена и хорек, присосался клещ и прилипла тля. Я ударю палкой, и ты забьешься в судорогах, я перебью твой хребет!
Время теснит, загоняет в угол, утюжит. И твои старания увильнуть от веревки напрасны. Недолго осталось до наступления той минуты, когда запляшешь в воздухе с веревкой на шее…
Хотелось бы, разумеется, и тебе, тварь, избежать наказания, но к твоему спасению дороги нет, тропинки запутаны, горы круты, земной шар качается и кидает тебя из стороны в сторону. Ты стала пресмыкаться,
бросаешься в ноги к тому, которому служила нашептыванием и доносами. Но ему уже не нужен Иуда, он швыряет тебя с порога пинком как презренную нечисть. А во дворе спокойно поджидает палач. Он знает, что твоя дорога ведет только к нему.
Сколько времени носит тебя эта несчастная земля, синяя, многоглавая гадюка? Она позволила жиреть, расти и возвышаться на костях сраженных твоим ядом и твоим вероломством. Ты и меня, распятого, вынудила переносить твое зловоние, слышать и терпеть тебя.
Но чуешь? Пробил твой час, гадюка. Звонит твой кладбищенский колокол».
Памфлет готов, тщательно, как всегда, переписан набело, черновики брошены в печку. А кто же его напечатает? К кому обратиться? После статьи Каракости «Контрапункт» мало кто упоминает о существовании Аргези. Кому же дать «Гадюку» с уверенностью, что будет напечатана? Вспомнил. Недавно в тесной толкучке на торговой улице Лицскань его приветствовал давний знакомый Ион Панаит, он сейчас ответственный секретарь «самой распространенной и самой информированной газеты» «Информация дня». Не попробовать ли?
Ион Панаит прочитал памфлет и долго молчал, потом сказал:
— Вы знаете, мастер, нужно начинать с чего-нибудь другого… Может быть, вы напишете нам несколько таблет на тему дня, из городской хроники… А потом… Потом видно будет. А ото оставьте у меня.
8 апреля 1943 года после долгого перерыва имя Аргези снова появилось в печати. Он давал в газету короткие заметки на злобу дня, о городской жизни, короткие сообщения о знаменитых художниках, памфлеты о посредственностях, о вечно бездействующих скептиках, о завсегдатаях кафе, ресторанов и злачных мест. Короче, он продолжал неблагодарную работу «социального ассенизатора». И среди таких материалов ответственный секретарь редакции умудрился пропустить и «Гадюку».
К Аргези примчался Гала:
— Я тебя поздравляю и благословляю, мой милый! Какая удача! Какая удача!
Прошло несколько дней. Аргези принес в редакцию очередную заметку. На этот раз он написал о нечистых делах в Национальном театре. Ответственный секретарь взял заметку, покачал головой и, показав взглядом на дверь кабинета директора, шепнул:
— Говорит, что нам крупно повезло, немецкая цензура обо всем догадалась, но махнула рукой, их цензор сказал: «Пусть, он ведь о своих гадюках пишет… Пожалуйста…» Ответственный секретарь сообщил новость: в главной гражданской цензуре будет смотреть «Информацию» другой цензор — Иля…
— Иля? А имя как? — спросил Аргези.
— Ион. Поэт Иля… Немецкий цензор остался прежний, он визирует материалы, содержащие военные сведения. Гражданские будет визировать Иля. Правда, не каждый день, через смену.
Аргези хорошо помнил Иона Илю. Это рабочий поэт. В 1934-м выпустил сборник стихотворений «Толпа». Стихи о рабочем классе. Аргези, когда встретил Илю в ассоциации румынских писателей, похвалил его: «Молодец, жеребенок, твой стон отражает твою жизнь, твое страдание… Приходи ко мне в Мэрцишор…» А потом Иля исчез, его не слышно было. И вдруг в центральной цензуре… А может быть, это не он? В другой раз он поинтересовался у ответственного секретаря «Информации», как же Иля попал в цензуру?
— После выхода «Толпы», — ответил тот, — его забрали в армию, служил у одного полковника, любителя поэзии, и тот пожалел его, создавал условия для работы. Поддерживал он связи с тем полковником и после увольнения из армии. А когда была объявлена всеобщая мобилизация, полковник оказался командиром резервного полка нестроевых здесь, в Бухаресте. Вот он и устроил Илю в цензуру… Все так просто. С ним будет полегче пропускать кое-что…
Наступила осень. Закончился еще один трудовой день семьи Аргези в Мэрцишоре. Собран небольшой урожай слив, часть просушена в самодельной сушилке, падалица, перебродившая в бочках, пущена на цуйку, сложена в ящики фасоль, сушатся початки кукурузы для мамалыги…
Аргези поднялся в «лабораторию»
[42]. Тут все выглядит как всегда: придвинутый к окну простой стол — то ли обеденный, то ли письменный, — сколоченный из еловых досок, железная кровать, печка-времянка, этажерка, шкаф, жесткое кресло. На столе — оселок, о который Аргези заостряет карандаш, керосиновая лампа. За окном Бухарест. На Каля Виктории резиденция Киллингера… Аргези сел, взял заостренный карандаш и начал писать. Пройдет совсем немного времени, и мир узнает, что в этой комнате в полный голос заговорил художник, никого и никогда не боявшийся, заговорила совесть народа.
Не подозревал в тот день посланник Гитлера, чванливый и высокомерный наместник Гитлера, он же и начальник гестапо в Румынии Киллингер, что здесь, на окраине Бухареста с непонятным для него названием Мэрцишор, готовится против него удар.
Тудор Аргези увеличил огонь керосиновой лампы, опустил занавески: с наступлением темноты в городе и его окрестностях введены жесткие правила затемнения. Как-то по-особому светится гипсовый Коко. Тудор Аргези чуть улыбнулся ему: ну что ж, Коко, пошли в поход! И он вывел четким почерком: «Эх ты, барон!»
На другой день к обеду все было готово. Нужно позвонить в редакцию. Однако имеет ли он право до этого звонка не посоветоваться с домашними? Правда, он редко когда читает им свои сочинения. Но можно ли не прочитать это? И он позвал громко:
— Параскива! Идите все ко мне!
Они сидели на его кровати — жена Параскива, дочь Митзура и сын Баруцу. Ему хотелось, чтобы в эту минуту был здесь и Элиазар, но от него уже сколько времени нет никаких вестей
[43]. Аргези стоял и спокойно смотрел на своих. Они ждут, что же будет.
— Я написал это… — Повернул стул к ним, сел и начал: — «Эх ты, барон! Ты был олицетворением нахальной надменности, ни дна тебе, ни покрышки! Ты — сущий хам. Какая неотесанность! Какая измятая кулацкая харя! II не узнаешь прежнего тебя. Будто в твою одежду облекся кто-то чужой, а хозяин удрал голышом, и ищи — не найдешь: то ли к небесам вознесся, то ли в преисподнюю сполз… На рыле уже никакого лоска, холеные щеки ввалились, и — о боже! — губы, с которых уже не течет жир, пытаются еще вымучить какую-то улыбку. Признаки явного истощения и на загривке, подался маленько и подбородок, а брюхо ищет соприкосновения с позвоночником. И то, что, извините, ниже спины не так уж господствует над всем и отступает под коротким мундиром, прячется от пинков.
Думаю, что по утрам с былым удовольствием душа уж не принимает четыре чашки кофе с молоком, фунт ветчины и восемь отборных пирожных. Наелся! Сейчас отрыгивается, не правда ли? Помнишь ли ты, каким тощеньким выглядел- когда-то и с каким удовольствием хлестал нас по щекам, когда раздобрел? Тебе казалось, что я появился на свет лишь для того, чтобы служить укреплению твоих костей, алчности твоего пищеварительного тракта, ненасытности твоих мешков и эшелонов…
И ты осквернил постель, на которой спал, нагадил в источник, откуда брал воду, чтобы умыться и утолить жажду. Ты мыл ноги в реке Олт, а вонь разносилась до самого Калафата. Какая же благородная нечисть!..
В моем саду показался из земли цветок, подобный красной птице с позолоченным клювом. Ты задушил его. Ты дотронулся до него своей лапой, и цветок засох. В моем поле поднялся колос. Ты его вырвал с корнем. Ты взял все плоды из моего сада и вывез их. Ты опустил клюв с десятью тысячами ноздрей в мои горные родники и осушил их. Болота и слякоть остаются после тебя в горах и рыжая, опаленная пустыня в степи. А от всего божественного хора певчих птиц выжила лишь стая каркающего воронья.
Сейчас дрожишь, развалина! Скулишь! Так случалось со всеми хищниками, которые пустились грабить и разрушать то, чем одарил людей бог. Ты похудел и посинел. Щеки ввалились будто ямы, воротник болтается на шее, Подобно обручу на иссохшей бочке. Еще чуть-чуть, и развалятся клепки. А какие размокшие патлы вместо роскошной прически! Какие тощие усы! Какие размытые глаза! Мышка, вытащенная за хвост из кипящего казана, а не что иное. Эх ты, барон…»
Семья молчала. Дети еще не понимали значения написанного отцом. Но предстояло принимать решение и им. Поэтому Параскива сказала, чтобы они поняли:
— Тебе снова захотелось в тюрьму, Аргези?
Тудор Аргези знал, что она это скажет, и спросил:
— Что будем делать? Пускаем в газету или нет?
Параскива посмотрела на ребят. Она видела в их взглядах ожидание: что же скажет мать? И она сказала без всяких колебаний:
— Пускаем!
— Готово, — сообщил Аргези по телефону ответственному секретарю.
Получив памфлет, Ион Панаит положил его в карман и позвонил
в цензуру- узнать, когда дежурит Иля. Подсчитал строки, отмерил место в правом углу на первой странице под самым шпигелем, достал из ящика стола клише с изображением Коко и подписью «Записки попугая». Положил и это в карман. Аргези позвонил еще раз.
— Не меняйте ничего.
— Все до последней запятой будет, как вы написали. Только не сможем прислать гранки. Если до трех ночи не позвоню, значит, пошел.
В десять вечера все четыре полосы «самой распространенной и наиболее информированной газеты», как значилось под заголовком «Информация дня», были сверстаны, перед директором лежали влажные, пахнущие свежей типографской краской страницы. Он пробежал взглядом по заголовкам. Самый главный материал, конечно, его, директора Малчу, передовая статья. Тема и заголовок подсказаны главным идеологом фашистского режима Румынии Михаем Антонеску — «Хладнокровие». Главная мысль статьи набрана крупным шрифтом: «Не терять времени и душевного равновесия в поисках смысла происходящих на Восточном фронте событий. Фюрер заявил подчеркнуто своим хорошо известным историческим жестом, что цель этой войны настолько возвышенна, что о финале можно будет вести речь лишь тогда, когда на поле сражения останется последний батальон». Далее обширная информация, «народная» газета сообщала, что на фронте войска «героически отстаивают Днепр», а в Италии стабилизируется новое правительство Муссолини, в Югославии идут «победоносные бои против партизан коммуниста Тито». А вот Констанцу атаковали советские самолеты, и, естественно, — как могло быть иначе?! — они были отогнаны с потерями для атаковавших. Большое объявление — в Бухаресте вводится «тотальное затемнение с 7 вечера до 5.30 утра». Ниже сообщение из Берлина о том, что между фюрером и дуче состоялся обмен телеграммами, содержащими взаимные заверения в том, что «гигантская борьба, которая ведется за свободу и будущую жизнь народов Европы и Азии, будет в конечном итоге увенчана лаврами победы». Директор по обыкновению обратил внимание на номер 624, пятница 1 октября 1943 года, цена 5 лей. Хорошо.
— А вот здесь? — спросил он ответственного секретаря, показывая на свободное место под шпигелем. — Ожидается официальный материал?
— Да, — ответил Панаит.
— Ну, ждите. Желаю удачи. — И директор Малчу спокойно ушел домой. Из дому позвонил, поинтересовался, поступил ли официальный материал. Узнав, что еще не поступил, сказал, что можно будет ждать до часа ночи, ну для перестраховки — до часа тридцати, и, если не поступит, можно будет ставить что-нибудь из загона. Панаит пощупал карман. Там лежал «загон» — два тетрадных листочка, исписанных карандашом Тудора Аргези. Пошел к цензору. Ион Т. Иля прочитал и, еле сдерживая волнение, поставил свой штамп: «Годен для печати. Цензор И. Т. Иля, штамп 13».
— Только вот что, — сказал он, — здесь сидит в ожидании официального материала немецкий цензор Кеплер. Он читает после меня все материалы, содержащие военную информацию.
— Так этот не содержит никакой военной информации. Не так ли?
Скупой на слова Иля подумал, прочитал
еще раз уже утвержденный к печати материал, улыбнулся:
— Да, военных сведений здесь нет. Так и скажем Кеплеру.
Ответственный секретарь редакции газеты «Информация дня» Ион Панаит вспоминал:
«Я намеренно тянул со сдачей этого материала в набор. Знал, что немецкий цензор Кеплер очень любит выпить, и заранее послал сторожа Иона Буйкэ купить еду и крепкую цуйку. В 1 час 30 минут я пошел в наборный цех, а Буйкэ отнес еду и цуйку Кеплеру в кабинет. Через некоторое время я заглянул в комнату Кеплера. Бутылка была пуста. Он, уронив голову на стол, слал. В типографии остались наборщики, хорошо знавшие Аргези и очень любившие его. Они молча, с огромной радостью вмиг набрали «Барона», пристроили в верхнем углу первой полосы клише с надписью «Записки попугая» и обычным изображением Коко, а печатники стали спешно изготовлять тираж — лишь бы успеть до рассвета. В 3 часа 30 минут утра весь тираж был уже отпечатан, и рабочие типографии вынесли все до единого экземляра распространителям. В 6 утра типография была окружена войсками, все редакционные помещения опечатаны».
Рано утром 1 октября 1943 года по шоссе Олтеница мчались три полицейские машины. На полном ходу они свернули в переулок Мэрцишора и въехали во двор Тудора Аргези. Писатель догадался, что газета вышла. Он взял свой видавший виды баул, с которым многие годы скитался по Европе. Параскива уже сложила туда все, что нужно было ему для дальней дороги.
У Тудора Аргези появился новый адрес: «Лагерь для политических заключенных Тыргу-Жиу».
5
Приказ министра внутренних дел Румынии № 203208 от 2 октября 1943 года: «Арестовать и интернировать в лагерь для политических заключенных Тыргу-Жиу гр. Иона Теодореску-Аргези. виновного в опубликовании в прессе ряда статей, оскорбляющих общественную мораль».
В лагере Тудора Аргези поместили в одиночке номер 8 пятого барака. От Бухареста до Тыргу-Жиу ехали почти целый день, и Аргези наблюдал сквозь зарешеченное окно машины дорогу, пустые села, осиротевшие землянки крестьян.
«К нам из Жиу длинен путь… Пламя в печке не раздуть, — и нигде идущий мимо не увидит струйки дыма. В доме хлеба ни ломтя… Плачет мать, кричит дитя… гнев томит тебя и жалость. Все загублено, отпето… О Румыния, ты ли это?»
Аргези знал, что в лагере Тыргу-Жиу томятся коммунисты, честные патриоты, представлявшие опасность для фашистского режима. Сюда привезли оставшихся в живых после землетрясения 1940 года узников «Дофтаны», здесь заключены руководители компартии Георге Георгиу-Деж, Киву Стойка, Георге Апостол, Николае Чаушеску, «красный принц» Скарлат Каллимаки, профессор Октав Ливезяну, многие антифашисты, не склонившие головы перед Антонеску и гитлеровскими киллингерами.
Солдат, дежуривший у камеры, шепнул Аргези, что он знает все его стихотворения наизусть, а дома держит его книжки за образами. Через солдат, крестьян в военной одежде, Аргези удавалось получать бумагу, карандаши, и он писал. В лагере Тыргу-Жиу он создал цикл антивоенных стихотворений и пьесу «Шприц».
«Лагерь этот, — напишет Аргези после освобождения, — был идиотским карательным учреждением, где люди содержались без суда и следствия, и представлял собой изобретенную в Берлине чудовищную машину для опустошения континента посредством массовых убийств. За время войны машина усовершенствовалась, применялись индустриализированные методы уничтожения людей. Вершиной этих злодеяний явились преступления в Люблине, Киеве, Краснодаре и в десятках и сотнях сел и городов Советского Союза. В лагере Тыргу-Жиу заключенные жили в постоянном страхе перед наступлением ночи. Ночью убивали без разбора. Опасность парила в воздухе. Среди заключенных находились замаскированные агенты гестапо, которые шпионили и доносили. В довершение ко всему за право быть заключенным этого лагеря надо было платить».
Параскива получила первое письмо. Узник пытался успокоить семью, просил не поддаваться на провокации приспешников режима, заверял, что чувствует себя хорошо и ему ничего не надо. «У меня новая келья», — шутил он в письме. На конверте мелким почерком указан обратный адрес: «Тыргу-Жиу, лагерь для политических заключенных».
Параскива собралась в путь. Митзура осталась дома, а Баруцу поехал с матерью.
В тесный вагон то и дело заходили жандармы и устраивали проверку. Молодой прихрамывающий офицер взял документы у Параскивы, потом у Баруцу.
— Вы куда едете?
— В Тыргу-Жиу…
Офицер снова посмотрел в документы, переводя взгляд с Параскивы на Баруцу. Юноша с темными усиками очень уж был на отца похож. Оглянулся. Его коллега проверял документы в другом конце вагона.
— Вы к Тудору Аргези едете? — спросил офицер тихо.
Офицер молча погасил фонарик, достал из бокового кармана аккуратно сложенную газету, на миг зажег фонарик и показал ее Параскиве и Баруцу. Это был экземпляр «Информации» с «Бароном».
— Из рук в руки переходит, — шепнул офицер, — и в том лагере тоже…
Это было самое радостное сообщение, которое привезли на свидание с Тудором Аргези его жена и сын.
Из лагеря Параскива увезла предписание о необходимости уплатить большую сумму денег за содержание там мужа.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1
Тудор Аргези, как и другие узники, сидел в лагере Тыргу-Жиу без судебного разбирательства. Властям было невыгодно вести судебные процессы над видными деятелями страны — удобнее держать их изолированными от общества негласно. Не было устроено суда и над- редакцией «Информации дня». Газету просто закрыли в день появления памфлета Аргези, 1 октября 1943 года.
В лагере Тыргу-Жиу Аргези тяжело заболел. Лагерной администрации он показался безнадежным, и писатель был выдан семье под обязательство не выпускать его за пределы Мэрцишора и не допускать его участия в любой форме в работе печати.
После освобождения Румынии от фашизма и ее вступления в войну против гитлеровцев на стороне Советского Союза Аргези включается в активную литературную и журналистскую жизнь вместе с демократическими силами страны. Хорошо знающий Тудора Аргези видный румынский публицист и общественный деятель, нынешний председатель Союза писателей Румынии Джеордже Маковеску сказал: «Тудор Аргези всегда был с нами, на нашей стороне».
В новой серии «Записок попугая» Аргези бичует фашистское охвостье, приспособленцев и саботажников, укрывающихся от возмездия, истинных военных преступников, тех, которые пытались укрыться за привычной прозрачной ширмой фашистов — «мы выполняли указания».
24 января 1945 года начинался процесс над румынскими военными преступниками, втянувшими Румынию в антисоветскую войну, и Тудор Аргези называет его «днем траура». Характеризуя гнилую, инертную часть общества, всегда стремившуюся извлекать выгоду для себя даже из самых трагических для народа событий, Аргези пишет с болью: «Сегодня, 24 января 1945 года, предаются суду авторы цепи последовательных трагедий нашего народа. Это день позорного траура. Позора для всех нас — не будем делать исключения ни для кого. Ни для тех, которые хлестали нас по щекам и издевались над нами, ни для нас самих, терпевших эти пощечины молча и безропотно…
У французов были маки, у русских — партизаны. Известно, чем занимались во время оккупации сербы, греки, норвежцы, бельгийцы, голландцы, поляки… Наберемся смелости и в этот час обратимся мыслью к горькой правде и к своей совести. Вполне естественно, это неудобно. Но мы все в разной степени являемся сообщниками всех преступных актов, подлежащих суду. В то время. когда наши друзья, братья и товарищи гибли в тюрьмах, бродили по белому свету, — не будем лицемерить — мы ели жирно, запивали смачно, хохотали громко, развлекались в переполненных пивных, ресторанах и на балах».
На окраине Бухареста, в Мэрцишоре, снова заговорил в полный голос замечательный писатель Румынии.
Одну из своих таблет в «Записках попугая» Аргези посвящает общему положению страны, борьбе политических группировок за власть, стремлению буржуазных кругов распространять в народе чувства неуверенности, паники и страха. Аргези ведет разговор от имени воина, вернувшегося с фронта в краткосрочный отпуск с наградой за отличное выполнение боевого задания в схватке с гитлеровцами. Побыв несколько дней в Бухаресте, воин отправляется снова на фронт, где все гораздо ясней, — надо помочь Советской Армии скорее добить врага. А на вопросы товарищей относительно политического положения в стране он отвечает очень кратко: «Воняет».
Так кратко, емко и жестко озаглавил свою таблету Аргези.
Писатель считает долгом честного художника напомнить о некоторых на первый взгляд неприятных для всех вещах. 2 февраля 1945 года, когда весь прогрессивный мир отмечал вторую годовщину Сталинградского сражения, Тудор Аргези пишет с присущей ему откровенностью:
«Для нас, румын, переживших с такими жертвами и с такой болью это сражение, Сталинград должен стать наиверховнейшим судом. Сталинград для нас означал пробуждение от летаргического сна, отрезвление, начало новой жизни с осознанием своей вины и своего долга перед человечеством. Корни нашего 23 августа — в почве Сталинграда. Там же источник могучего наступления советских войск, которое приведет к капитуляции Германии».
Закончилась война. Аргези отдает все свои творческие силы служению нарождающемуся в Румынии новому демократическому строю. В 1946 году его многолетняя работа на благо румынской культуры была увенчана Национальной премией за поэзию, а 29 декабря 1946 года Министерство искусств Румынии, у руководства которого находился видный писатель-демократ, впоследствии член Центрального Комитета Румынской коммунистической партии Ион Пас, организовало национальные торжества по случаю исполнения пятидесяти лет творческой деятельности Тудора Аргези и Галы Галактиона. Николае Кочя, сразу же после победы ставший редактором газеты «Победа», был одним из инициаторов празднования этого юбилея. Но на праздник он не смог явиться из-за приковавшей его к постели безжалостной болезни.
«Дорогой мой Аргези, — писал Николае Кочя в тот день, — среди заговорщиков, начавших без твоего ведома и твоего разрешения подготовку к сегодняшнему юбилею, был и я. Думаю, что ты понимаешь, с какой радостью хотелось бы и мне принять участие в прославлении не только дорогого друга, но и любимого поэта, полемиста, участника священной войны нашего «Факела» против социальной посредственности, душившей в этой стране все — искусство, литературу, демократию и революционный порыв. Сегодняшний юбилей венчает не только литературную деятельность, но и старую дружбу, пережившую все тяготы и оставшуюся непоколебимой и незапятнанной на протяжении целых пятидесяти лет.
Хотелось бы, любимый мой Аргези, не в холодных, изложенных на бумаге фразах, а с теплотой произнесенного от сердца слова рассказать сегодняшним слушателям о наших прежних битвах и о том непонимании, а порой и о той ненависти, с которой встречали когда-то определенные литературные круги твои стихи, и о триумфе дружбы, связавшей тебя, меня и Галактиона. Но по нездоровью я в состоянии послать тебе только эти строки. Прими их так, как они написаны, с надеждой, что я возьму реванш через двадцать пять лет, когда будем праздновать семьдесят пять лет литературной деятельности нашего великого Аргези.
Николае Кочя».
В большом зале Атене состоялся вечер. Общественность Бухареста чествовала двух замечательных писателей, двух давних друзей — Тудора Аргези и Галу Галактиона. От имени молодых писателей, прошедших школу «Записок попугая», Эужен Жебеляну писал 4 января 1947 года:
«Аргези, Галактион и Кочя были нашим знаменем. Мы следовали их примеру и шли за ними, высоко неся на крепком древке лоскуток вырванного из сердца кумача, всегда отдавая предпочтение этому кумачу перед ленивым бархатным знаменем, украшенным роскошными розами».
Поздним вечером после торжеств Тудор Аргези пришел домой. Его впервые в жизни так чествовали, и он еще не мог успокоиться от пережитого волнения. Подобное он испытал несколько лет назад. Тогда в этом же зале Атене он читал притихшей аудитории лекцию об Эминеску. Сегодня он испытывал что-то очень странное. Неужели это правда? Неужели он действительно первый после Эминеску поэт? Его одолевают сомнения, голова в каком-то тумане. Нужно все обдумать. Он подымается в свою «лабораторию». Холодно, дров мало, они топят только нижнюю комнату и живут там. Но сейчас ему надо остаться одному. Холодно, пусть. Зажег лампу, сел, провел по привычке карандашом по оселку, потрогал холодную поверхность белого листка бумаги и начал писать.
«Уж полстолетья ты тревожишь неустанно чернила и слова, перо томишь в руках, и все ж, как и тогда, победы нет желанной: они всегда с тобой — сомнения и страх. И для тебя опять, как тягостная мука, страница белая и вид строки твоей, и первого в душе опять боишься звука, и буквы для тебя опять всего страшней. Когда же вновь листки исписаны тобою, они уже летят поверх озерных вод, летят из сада прочь, как листья под грозою, так что и персик сам их проглядел уход. И в каждом слове ты вновь чуешь содроганье, сомненье горькое чернит твои мечты, живешь ты, как во сне, в своих воспоминаниях. Кто диктовал тебе — уже не знаешь ты».
Гала Галактион пришел в Мэрцишор помолодевший.
— Еду в Телеорман! Знаешь, меня выдвинули депутатом!
Депутат в народном парламенте. Он делит все тяготы и беды народа.
— Зима, а я не смог раздобыть для старухи хоть немного дров…
— Возьми у меня, мы сушняк из сада убрали…
— Я не потому сказал тебе об этом, — отвечает Галактион. — Многие делают из этих послевоенных трудностей трагедию, из которой не видно выхода. Послушай, что я написал.
«Какими бы ни были, сегодняшние тяготы, мы должны четко отдавать себе отчет в том, что мы еще вчера с точки зрения моральной были отброшены в континент чернее, чем была сто лет назад черная Африка. Сейчас мы вступили на дорогу равноправных социальных отношений, стоим в преддверии грандиозных преобразований».
Галактион выступал ежедневно в Атене, в Доме дружбы с Советским Союзом, он появлялся всюду, где было необходимо горячее слово борца за мир и социальный прогресс.
Наметил для себя программу работы и Тудор Аргези. В столице создано новое издательство «Русская книга». Сейчас он сможет реализовать задуманное еще до первой мировой войны издание произведений русской прозы и поэзии. В его плане завершение давно начатой книги о восстании крестьян 1907 года и поэмы «Песнь человеку». Пора браться за давно задуманный перевод Крылова. Великий русский баснописец поможет своим острым словом бороться против той плесени и гнилости, от которой нужно избавлять румынское общество. У Аргези есть и серия своих басен, свой опыт, и это облегчит работу над переводами Крылова.
— Русский баснописец гениален, — скажет он издателю. — Я попытаюсь довести это до нашего читателя в той мере, на какую способен. Когда берешься что-либо переводить, надо прикладывать больше старания, чем когда пишешь свое… Это мое правило. И еще одно. Когда берешься перевести кого-нибудь, автор должен не только нравиться тебе, ты должен его любить. Без любви красивые книги не пишутся, так же как и красивые дети не рождаются…
Со страстью, с какой когда-то переводил «Записки из мертвого дома» Достоевского, переводит Тудор Аргези полное собрание басен Крылова, сказки Салтыкова-Щедрина, «Мертвые души» Гоголя, «Недоросль» Фонвизина. Он работает над переводами из Лафонтена, Уолта Уитмена, переводит «Гамлета» Шекспира.
А в калитку Мэрцишора постучалась новая беда.
— Баруцу, сегодня еще нет почты? — спросил отец.
Баруцу не знал, что ответить. Мать ушла в город по делам, сестра в институте. Советоваться было не с кем. Снова раздался голос отца:
— Ты меня не слышал, Баруцу?
— Слышал…
— Ну так что? Принеси… Я уже знаю.
О том, что напечатана большая статья о нем, Аргези уже знал. Звонил Галактион и пытался успокаивать:
— Это недоразумение… Не может быть! — горячился Гала на том конце провода.
— Да ты не волнуйся, Гала, — говорил Аргези. — Я уже давно перестал обращать внимание на то, что обо мне пишут. Знаешь, критики все равно что птички — прочирикают у твоего окна и улетают. Вначале ведь обращаешь внимание на это чириканье, а потом занимаешься делом, птички все время чирикают. Правда, иногда подлетают вороны и каркают…
— Вот в том-то и дело…
Сегодняшнее «чириканье» называлось длинно и грозно: «Перелистывая книги Тудора Аргези. Поэзия гнилости и гнилостность поэзии».
— Не надо вам это читать, — сказал Аргези семье. — Место этому сочинению там! — И он указал пальцем вверх. Это означало, что газету надо отнести на полку ненужных бумаг в архив на чердак.
И все.
— Как мы жили в то время? — вспоминает дочь Аргези Митзура. — Периодов в нашей жизни было много. Этот назывался «период Тома». Это по имени лица, написавшего статью «Гнилостность поэзии». Я была в институте, так что точно не знаю, как узнал об этом отец, но я услышала о статье в институте. Помчалась домой, а отец улыбается мне, как всегда. Он сразу же видел, когда мы взволнованы или напуганы чем-то. Понял и сейчас. Улыбается иронично, как это он умел. Прошло уже столько лет, а читать эту статью обидно: «В эпоху империалистических монополий идеологическое содержание поэзии Аргези представляет собой стандартизированный в международном плане товар буржуазного декадентского искусства… Тудор Аргези мог бы стать большим поэтом. Но Художник в нем, умер прежде, чем достичь этого… Одним словом, Аргези был поэтом состарившейся и агонизирующей румынской буржуазии».
Аргези продолжал работать. Он очень много сумел сделать, пока разбирались с этой статьей. Как раз в это время он создал «Песнь человеку». Параскива старалась вести нехитрое хозяйство, и дети ей помогали как могли: копались в саду, сажали на тычки виноград, сушили фрукты, делали вино. Купили козу Вицу, и она принесла трех козлят. Сфотографировали маму с ними и шутили: «Мама с тремя козлятами», как в сказке Иона Крянгэ «Коза с тремя козлятами». Семья жила, смеялась, радовалась, когда отец находил время прочитать что-нибудь из написанного.
Тяжелейшим ударом для всех и особенно для Аргези была смерть Николае Кочи. Он умер 1 февраля 1949 года. Из «Созвездия Лиры» остались только двое — Аргези да Галактион. Галактион часто приходил в Мэрцишор, приходили и другие настоящие друзья. С продуктами в то время было очень трудно, и все радовались, когда вдруг кто-нибудь привезет пакет с мукой, сахаром или колбасой… Параскива умела выкручиваться из самых трудных положений. «Главное, не тревожить отца, — говорила она, — пусть он работает и не чувствует, что у нас нет то одного, то другого. Наша забота — чтоб было». И дети старались изо всех сил. Собирали фрукты из сада и продавали. «Как это — Аргези продает черешни?!» — удивлялись. А он смеялся. Он всю жизнь учил детей, что любой труд — это поэзия, важно, чтобы видеть эту поэзию во всем. Оптимизм главы семьи, его непреклонная вера и безграничное трудолюбие помогли выйти из этого периода. Наконец-то позвонили из газеты «Универсул» и попросили интервью. Мнение Аргези о войне и мире. Он передал короткий ответ, и «период Тома» закончился…
У дочери с самого раннего детства установились с отцом очень доверительные отношения. Когда она научилась писать, писала ему письма. У них был свой семейный почтовый ящик. На особые вопросы, которые Митзура доверяла только одному ему, он отвечал и не опускал письма в ящик, а подкладывал ответы под подушку дочери… Все свои девичьи тайны почему-то она доверяла лишь отцу. Он был очень-очень добрый и учил детей:
— Не провожайте никогда солнышко на покой с тяжестью на душе, провожайте его с чистой, радостной душой и тогда и встретите его так же, и оно будет вам всегда улыбаться в лицо. И солнцу, и дождю, и радости, и горю — всему улыбайтесь, — учил он.
И так одолевали многие трудности. С улыбкой…
В 1951 году, в разгар освободительной войны корейского народа против американской агрессии, со страниц газеты «Универсул» предостерегающе звучит голос Аргези:
«В канун недавней мировой трагедии, развязанной сумасшедшим Гитлером, люди опасались, чтобы, не дай бог, пророчество бесноватого о том, что после войны останутся лишь человеческие тени, прихрамывающие среди кладбищ, не сбылось. «Пророк» перехватил. Человечество живет. Но после третьей мировой войны, против развязывания которой надо бороться изо всех сил, никому не ведомо, что может остаться. Ненавидящие и не любящие нашу планету преступники хотят превратить ее в опустошенный, слепой шар, блуждающий в холодном мироздании подобно голому черепу.
Нужно предотвратить это!»
Призывом беречь мир и человечество от опасности всеобщего ядерного катаклизма начинается последний период жизни и творчества поэта, публициста и гражданина Тудора Аргези.
За его спиной тяжесть не только прожитых семидесяти лет, но и всего пережитого. И вместе с тем писатель как будто только что вышел на старт. Готовы к изданию переводы басен Крылова, подписан в набор том «Мертвых душ» Гоголя, сдан на машинку сборник избранных произведений Салтыкова-Щедрина, а для Национального театра подготовлен перевод пьесы Брехта «Матушка Кураж и ее дети». Набрана и скоро увидит свет новая книга для детей «Пасека». Подготовлен том памфлетов, рассказов и таблет под общим названием «Страницы былого».
«Страницы былого»…
Но зачем ворошить былое? Кому это нужно? Известно ведь, каким оно было и как оно пыталось смять мужественного памфлетиста.
Сейчас раздавались телефонные звонки. Один настойчивый безымянный читатель звонил непрерывно и просил пригласить Аргези к телефону. Параскива, старавшаяся как можно меньше беспокоить мужа, не смогла устоять — слишком уж приятным, «масленым» был голос, у него очень важное сообщение для маэстро.
По тому, как «безымянный» произносил слова с известным салонным, «интеллигентным» парижским акцентом, Аргези узнал голос целого поколения, многих действующих лиц, которые почувствуют себя очень неудобно на «Страницах былого».
— Я хотел сказать вам, что не надо ворошить снова все, — начал тот.
— Если мои страницы жгут и сегодня как крапива, это очень неплохо, — ответил Аргези, — очень своевременно.
«Не время ворошить прошлое! — гневно пишет Аргези. — Им не нравится, потому что сохранившиеся остатки совести напоминают о вине. Им не нравятся мои страницы, поскольку на них чистая правда. К глупости этих господ прибавляется еще и наивность. Они надеются и думают, что прошлое может быть забыто, как забывали и забывают они о простой и честной человечности. Они ищут убежище, ищут обходные пути, ищут то, что могло бы оправдать их клоаку».
Аргези напоминает господам, что он никогда не шел вместе с владельцами обширных латифундий, жилых кварталов, мельниц, заводов и фабрик.
«Контрастом и обвинительным актом против этой категории с бездонным, ненасытным карманом была невиданная нищета трудящихся. И это давало мне право не примыкать к вашей общей хоре, к вашему ненасытному разгулу на могильной плите в склепе, расположенном между Дунаем и Карпатами… Но настал долгожданный переворот. Румынский народ выиграл войну, в которой потерпел поражение. Без последствий войны могильная плита не только не была бы опрокинута, но и не сдвинулась бы с места… А о том, что такое «чисто национальная» революция, красноречиво говорят уроки 1907 года».
В 1955 году Тудор Аргези избран действительным членом Академии Румынской Народной Республики, Президиум Великого национального собрания награждает его орденом Труда первой степени. Почти шестидесятилетний труд на благо румынской литературы, на благо трудящегося народа Румынии был достойно увенчан.
В 1956 году выходит из печати поэма «Песнь человеку».
Об этой поэме написано очень много. Крупнейший литературный критик академик Тудор Виану характеризовал ее как одно из самых великолепных поэтических созданий, появившихся в условиях развития новой, социалистической культуры.
В поэме Аргези ведет счет времени от предыстории человечества и постепенно, через все исторические эпохи доводит человека до того высокого момента, когда он вступил в единоборство с неведомым, холодным космосом.
«Преследую тебя еще с поры далекой, когда ты, ползая, спины не выпрямлял, был в мире призраков песчинкой одинокой, искал еду и кров, беспомощен и мал. Немая спутница
в движенье и покое, с тобой дрожала я, когда из чащи к нам голодный крался зверь. Прислушивались двое к шуршанию листвы, к несущим смерть шагам. Когда ты прятался или искал поживы, не видел ты меня, не знал, что я с тобой, что нас не разлучить, пока мы будем живы, что разделяет нас лишь воздух голубой. Ты человек, я тень, вовеки мы едины, состарюсь
я, когда ты станешь стариком, по знойному песку, по камням, комьям глины сную вокруг тебя я черным пауком. Мы вместе рождены. Я тьмы ночной частица. Я прихожу к тебе, когда заря светла. В меня, в безбрежный мрак спешишь ты возвратиться, я — растворенная в годах и людях мгла. Твоя судьба во мне начертана незримо, вглядись, грядущее теперь перед тобой. Вмурованная дверь пропустит кольца дыма как знак, который дан тебе твоей судьбой».
Короткие, тематические главы «Песни человека» потрясли силой обобщения, мужественной прочностью стиха, необузданной стихией мысли.
Аргези работает, не зная отдыха. Давно уже нет рядом с ним Василе Деметриуса, ушел из жизни Николае Кочя, умер добившийся большой известности «молочный брат» Жан Стериади. Галактион заходит все реже, он часто болеет, измотался, он полон планов и юношеских порывов, но силы сдают.
— В оставшиеся годы мне одному придется работать на социализм за все наше «Созвездие Лиры», — скажет Тудор Параскиве после того, как уйдет из жизни и Гала Галактион.
«…Уже поколебалось пределов постоянство, исчезли расстоянья, окончилось пространство… Сместились измеренья, перемешались числа, и даже бесконечность на волоске повисла… И стал ты Прометея наследником богатым, когда тебе раскрылся непостижимый атом. Бесчисленные блага ты можешь дать вселенной, и можешь ты ее же дотла спалить мгновенно. Ты был рабом покорным всеобщей злобы дикой, так стань же наконец-то судьбы своей владыкой».
Так этому переходу от периода, когда человек был «рабом покорным всеобщей злобы дикой», ко времени, когда он станет «судьбы своей владыкой», и посвящает Тудор Аргези каждый свой день, а точнее будет сказать, каждое мгновение своей жизни. И, будто предвидя упреки, что он не всегда шел ровно — посещал кружок социалистов, потом стал монахом, из православного монастыря подался к иезуитам, был ремесленником, работал с Кочей в «Факеле», а после тюрьмы «Вэкэрешть» издавал либеральную газету, — Тудор Аргези сказал однажды:
— Я преодолевал гигантское болото, которое тянулось из девятнадцатого в двадцатый век. Преодолевая такое, немудрено и выпачкаться, как бы ты ни старался остаться чистеньким. Главное, по-моему, суметь очиститься от прилипшей грязи. И очищаться не щеткой, а работой… Какой-то мудрец говорил, что на крутых поворотах истории нужно внимательно смотреть, в чью колесницу садишься, чтобы не оказаться выброшенным… По-моему, так… Иным неудобно ездить на одной телеге все время… Надоедает. А мне нет…
2
Колесница, которую выбрал Аргези, — это колесница революционного рабочего класса, революционного крестьянства. Интеллигенция вправе называть себя прогрессивной, если она выражает интересы трудового народа. Выдавать себя за выразителя интересов труда и сидеть верхом на его шее — это лицемерие и предательство.
На середину июня 1958 года объявлен созыв съезда румынских писателей. Как хорошо бы взять под руку Василе Деметриуса, Николае Кочю, Галу Галактиона и идти вместе на это первое собрание писателей Румынии. Но Деметриуса и Кочи нет, Гала тяжело заболел. В последние годы неутомимый Гала с присущей ему энергией включился во всемирную борьбу за мир. Как это ему шло! В новогоднюю ночь он обратился по радио со своим последним словом к своим читателям.
— Всю жизнь, — говорил Гала, — я был преданным проповедником мира… Я не верю, что наследие человечества — Сократа, Канта, Маркса и Ленина — может быть уничтожено вместе со всей землей в огне свирепого атомного урагана! Верю в победу мира и разума! Верю в силу поэзии и искусства! Верю в идеалы великих пророков вчерашнего и сегодняшнего дня! Верю, что наше сообщество найдет в себе энергию и силу идти к верховному ареопагу мудрости и гуманизма!
Как бы ему, Аргези, нужен был бы сейчас совет мудрого и доброго Галактиона… Но с Галой случилось непоправимое — 23 января он лишился речи. Сейчас смотрит на друга, пришедшего проведать, и отвечает одним лишь взглядом. Аргези суждено было видеть еще и это. Сколько лет прошло уже с тех пор, как они не могут жить друг без друга? Они привыкли всем делиться, они любили поговорить, а иногда и просто помолчать вдвоем, как два пахаря соседних полей, остановившиеся в конце борозды, чтобы покурить вместе.
— Я буду один выступать от имени всех нас, — сказал он Гале, — пусть в зените этого собрания светит и созвездие Лиры…
Гала улыбнулся, закрыл глаза, потом открыл — значит, он все понял и одобряет.
…Зал успокоился и смотрел на «маэстро» в ожидании, Тудор Аргези заметил, сколько перед ним молодежи! В первых рядах сидели поседевшие писатели, они ему знакомы, а там, за пятым-шестым рядами, сидит молодежь, молодые люди, которым многое из того, что может рассказать он, неизвестно. И он почувствовал, что поступил правильно, просидев за столом всю прошедшую ночь и написав обращение именно к ним, к молодым. В первых рядах сидят и его противники, он их видит. Наверняка не всем понравится то, что он сейчас скажет. Но он ведь никогда в жизни не думал, понравится или не понравится то, что он напишет, то, что он скажет. Так уж привык. Никто не переучит. Нужно начинать.
— Любимые литературные коллеги!
Белый листок бумаги в руках семидесятишестилетнего Аргези дрожал. Видно было, что он волнуется.
— Любимые литературные коллеги, — повторил он. — Писатели моего возраста остаются жить как
бы для того, чтобы нести эстафету между прошедшим и настоящим. Ковыляя между двумя эпохами, они несут чуть светящийся огонек лампады исчезнувших поколений к наследникам, чтобы они сообщили этому огоньку силу новой искры. Из пространства, отделяющего почти забытые могилы погибших в хождении по мукам от собранной здесь молодежи, пробивается тихий стон обиженной
совести…
И Тудор Аргези напоминает оказавшимся сегодня «в свете прожекторов» о вопрошающем голосе писателей и журналистов, которых давно уже нет.
— Ведомо ли вам, веселым и улыбающимся ребятам, съехавшимся со всех концов страны на это писательское собрание, что шестьдесят лет тому назад считалось позорным признаться в том, что ты писатель? Отцы, узнав, что их сыновья бродят по Бухаресту с тетрадками стихов за пазухой, покрывались густой краской стыда. Для молодого человека было гораздо почетнее быть чиновником или посыльным господина министра, носить букеты роз и записки его любовницам. Знаете ли вы, живущие в тепле и достатке, что ваши предшественники под гнетом издателей-грабителей и под неусыпным надзором властей не могли обеспечить даже самого скромного пропитания для себя и своих детей и жили под постоянной угрозой голодной смерти? В лучшем случае их роль сводилась к роли клоунов, играющих в политическом цирке или прислуживающих грязной копейке меценатствующих толстосумов.
Аргези говорит о том, что народное государство предоставило в распоряжение нынешних писателей дворцы, ранее охранявшиеся часовыми. Прежние власти и близко к ним не допускали даже классиков. Крянгэ, к примеру, писал в сырой и гниющей хате. Караджале стоял у прилавка и продавал пиво, Геря содержал небольшую харчевню, Эминеску бросили в грязь, он подвергался издевательствам и унижениям за решеткой дома умалишенных. Писатели не были способны к коллективным действиям, а когда зарождалась попытка идти вместе, тут же принимались меры к тому, чтобы любое роптание было задушено в зародыше. Аргези рассказывает, как сорок писателей задумали было создать самостоятельный профсоюз. Они подписали коллективное заявление, а ночью каждый из подписавших звонил инициатору затеи и требовал снять его подпись. К утру на заявлении осталось только имя самого инициатора. Но пришел представитель власти и «уговорил» и его отказаться от подписи. За эту ночь каждый успел получить совет от своего хозяина…
Тудор Аргези передохнул, внимательно оглядел зал. То, что он скажет сейчас, кое-кого может задеть. Он видит в зале людей, которые в глубине души таят невысказанную обиду на него за вышедший недавно том «Страницы былого». А может быть, сидит здесь кто-нибудь из тех, которые звонили и говорили в трубку: «Не время»? Нет, он все-таки скажет. Надо,
чтобы молодежь знала об этом не из анекдотов, рассказываемых за стойкой бара, а от него, из уст пережившего все свидетеля. И Аргези продолжал:
— Нельзя забывать, что заслуга происшедшего двадцать третьего августа социального переворота принадлежит не нам, писателям. Индивидуально и спорадически боролись за наступление лучшего будущего и некоторые из нас. Но, как правило, наши писатели являли собой мирок кроткий и пассивный. Ошибся, сказав «мирок». Поправляюсь: ваши писатели не были даже подобием какого-то мирка. Независимый писатель был одинок, действовал обособленно, на собственный страх и риск.
1944 год был для нас годом суда и вынесения приговора изжившему себя обществу. Но приговор 1944 года был вынесен не писателями, это результат творчества не боевых острых перьев. Нет! Это было творчеством людей труда, мастеровых заводов и полей… Перья и пресса находились в состоянии осторожного выжидания, наблюдали со стороны. Я привожу свидетельства очевидца последнего часа агонии. На протяжении трех решающих дней августа 1944 года бухарестские газеты ожидали финальную развязку у телефона, имея наготове в печатной машине две свинцовые формы. На одной из них стояла озаглавленная крупными буквами прокламация «Да здравствует Сталин!», на другой — «Да здравствует Гитлер!». Немецкая авиация разыгрывала над Бухарестом прощальный спектакль: они бомбили столицу, горели Национальный театр, архивы, библиотека. И когда наступавшие гитлеровские воинские части достигали площади Бузегать, печатники получали приказ готовить страницу с Гитлером. Когда же эти части были вынуждены отходить, поступал приказ снять Гитлера и ставить в печатную машину Сталина. Наша интеллигенция повторяла этот же достойный сожаления вечный политический зигзаг между двумя полюсами.
И автор «Барона», бывший узник лагеря Тыргу-Жиу, восклицает:
— Не нужно забывать ничего!
Не нужно забывать ничего ради будущего! Тот, кто не делает уроков из прошедших ошибок, рискует повторить их.
Аргези считает необходимым напомнить о долге писателя, о его ответственности перед народом за качество своего произведения, за качество литературного дела в целом.
— Наш съезд располагает многим. У него нет лишь одного — киоска, где бы распределялись талант и гениальность. Это вопрос сугубо личной ответственности, глубины совести каждого. Порой гений и талант проявляются совершенно незаметно, и никому не ведомо, откуда они берутся. Шумная и высокомерная погоня за гениальностью не приводит ни к чему. Начало таланта — это жестокое, настойчивое, терпеливое, воодушевленное и честное старание, повседневная мука. Ясный зенит достигается только трудом — в волнении, в любви и искренности. Этот зенит хорошо знаком пчеле, отправляющейся за нектаром в ясный майский день. Это полет вдохновения. Только он держит тебя бодрым, молодым и смелым…
К развитию мыслей, высказанных во вступительном слове на I съезде румынских писателей, Тудор Аргези возвращается неоднократно в своей повседневной работе.
К нему обращались за советом, за помощью. Дом в Мэрцишоре, а потом и на бульваре Авиаторов, куда переехал писатель, был всегда открыт для желающих.
— Маэстро Аргези? Могли бы вы принять меня…
Так начинает молодой писатель Тома Джеордже Майореску разговор о поэзии с Тудором Аргези.
На столе, как всегда, крепкий ароматный кофе (Параскива пятьдесят лет сама жарит зерна, промалывает их горячими и варит свой особый кофе).
— Так о чем будем говорить? — спрашивает Аргези гостя.
— Мне бы хотелось о стихах… О модном сейчас белом стихе.
Аргези отвечает неожиданностью:
— К белому стиху прибегаешь тогда, когда чувствуешь, что не в состоянии делать его небелым.
— Можно допустить, что белый стих со временем станет обручем?
— Обруч в творчестве — это размер, одеяние слова… Если попытаешься надеть ботинок сорок первого размера на ногу сорок пятого, не сможешь ходить. Размеры выработаны долгим опытом.
— Простите, мастер, но вы сами взорвали старые формы.
— Правильно. Но я усвоил другие.
— И свободный стих, и белый стих привыкли к своим обручам…
Аргези задумался, отпил кофе:
— Видите ли, от планеты Земля до токарного станка и звезд — все движется в едином ритме. Существуют определенные законы, которые… Проза Флобера, например, рифмована. Вообще любая проза должна быть рифмована, инструментована сообразно идее. Растрепанная проза делает идею дряблой. В стихах это более чувствительно, чем в прозе. Все дело в том, чтобы было хорошо написано. Мысль должна идти как по мостовой, а слова должны быть забиты в текст по-хозяйски. За пером нужен присмотр, иначе оно начнет вести себя по отношению к идее как молоко к кастрюле — выйдет из повиновения. Главное — это не играть в пустословие. Чтобы отработать язык, бедные наши предки пахали землю, перелопачивали ее тысячи лет. Стоит ли нам, писателям, предавать их?
— Чего должны остерегаться молодые поэты?
— Игры в поэзию. Поэзия не игра. Пусть остерегаются самодовольства и тщеславия. Они душат таланты на корню. Существуют вещи, с которыми не имеешь права баловаться. Если у тебя есть призвание, тогда ты должен понять, что поэзия — это тяжелый труд. И еще хотелось посоветовать молодым поэтам поглубже изучить самих себя и не торопиться. Все впечатления, все чувства, абсолютно все должно отстояться как вино, как пласты земли. Это происходит медленно, без суеты.
3
Знойное лето. По Бэрэганской степи мчится к Черному морю машина. На заднем сиденье Тудор и Параскива Аргези. Едут молча. Обширная степь будто витраж из желтых, зеленых, изумрудных квадратов и прямоугольников. Узкие полоски пшеницы кое-где убраны, неторопливые жнецы в подпоясанных белых холщовых рубахах шагают босыми ногами по высокой стерне и складывают снопы в крестцы, похожие на христианские храмы. Кукуруза выставила метелки и по три-четыре початка с томно-коричневыми султанами. Хороший урожай. То и дело мелькают квадратики густой конопли. Она цветет. В машину проникает степной жаркий воздух, напоенный запахом этой цветущей конопли, скошенного хлеба и опаленного горячим солнцем зеленого кукурузного листа. Сквозь ровный шум мотора Тудору Аргези послышалась дальняя мелодия.
— Остановите, — попросил он шофера.
Над еще не убранной полосой плыла песня. Две женщины жали и тихо пели. Пели о бэрэганской пшенице. Каждая строка прерывалась длинным мелодичным припевом: «Бэрэганская пшеничка, бэрэганская пшеничка…»
— Хорошо, когда звучит над полем песня о хлебах. — И Аргези рассказал Параскиве о том далеком времени, когда они шли проселком Бэрэганской степи с Галой и услышали предсмертный жалобный крик убегающих от выстрелов дрофят. Сколько же прошло с тех пор?! Сколько потребовалось времени, сколько перемололось событий, чтобы крики й выстрелы над степью сменились песней о пшенице!..
Митзура отдыхала на море и немало удивилась, увидев появившихся так внезапно родителей.
— Что случилось?
— Раз приехали, значит, не случилось ничего кроме хорошего, — ответил с лукавством отец. По его лицу видно было, что он скажет что-то радостное, необычное. Параскива поспешила:
— Мы уезжаем в Москву…
— И приехали сказать тебе «до свидания», — добавил Аргези.
— Я поеду вас провожать.
И Митзура поехала с родителями в Бухарест. Заехали по пути в Констанцу. Там два памятника двум великим поэтам: в центре города, на главной его площади, — Овидий. По преданию, он похоронен на этом месте. А на высоком берегу Черного моря — памятник Михаилу Эминеску. Он завещал похоронить его на морском берегу, но, когда умер, некому было позаботиться о выполнении его воли. Позднее поставили ему памятник лицом к морю.
Аргези поклонился Овидию и Эминеску и долго стоял, не проронив ни слова. Ни жена, ни дочь не тревожили его молчание. К этому они уже привыкли давно.
Только в Бухаресте он рассказал Митзуре о цели своей поездки в Москву. Он отправляется с делегацией, которая должна принять от Советского правительства художественный фонд и, главное, «золотую наседку с цыплятами». Митзура и Баруцу знали о ней с детства, когда отец рассказывал им сказки. У отца была французская- книга со сказками Шахразады, он переводил их для Митзуры и Баруцу. Но часто отец сочинял сказки сам. «Золотая наседка с цыплятами»… Детям она представлялась настоящей курочкой, такой же, как те, которые ходят по Мэрцишору и ложатся очень рано спать. Утром, когда они просыпаются, начинают хвастать на разные голоса: яички готовы. Мэйкуца приносит целое лукошко белых «драгоценностей». Так окрестил яички Тэтуцу. Когда дети повзрослели, Тэтуцу открыл им смысл любимой сказки, объяснил, что «наседка» — это целый клад, большие нагрудные украшения когда-то проходивших здесь вождей восточных готов. Он найден при раскопках готского захоронения в районе села Пьетроаселе. Тэтуцу видел его, когда учился в лицее, в музее университета. А потом клад исчез. Говорили, что потерялся во время первой мировой войны по дорогам эвакуации, а дальше — одни лишь загадки. Аргези сам задавал вопрос «Где «Наседка»?»
в своих «Записках попугая». Но кто мог ответить? И вот сейчас такое неожиданное известие. И он член правительственной делегации, которую возглавляет академик Михай Раля, литературный критик. Это он в двадцать седьмом году написал, что Аргези прямой наследник Эминеску.
Судьбы, судьбы…
Июль 1956 года. Он уже несколько дней в Москве, в недавно построенной высотной гостинице «Ленинградская». Его номер на пятнадцатом этаже. Хорошо видна Москва. Внизу спешит, шумит Комсомольская площадь. Три вокзала От одного поезда уходят к берегам Балтийского моря, от другого — к морям Ледовитого океана, от третьего — на Урал и в Сибирь… И это все Россия. Почти трое суток ехал он с Параскивой от Бухареста до Москвы. Двое суток по территории Советского Союза. И не раз спрашивал себя за эти сутки: как пришла в голову мысль покорить пространства и народ этой страны?
Поезд мчался по степям Украины, мимо бесчисленных сел и городов, сквозь леса Брянского края, о партизанах которых он столько прочитал, и Аргези все думал, мысли пересекались, скакали из этого века в прошлый, из одного десятилетия в другое, переносились из тесной кельи монастыря Черника к берегам Лемана, на улицу Каруж, в шумный зал женевского кафе «Ландо», в библиотеки Женевского университета, на берег Сарины в Фрибург… Вот бы попросить машиниста остановить поезд где-то на полустанке, выйти посмотреть — какие они, сегодняшние русские, у себя дома? Что они сохранили от тех русских, знакомых ему по Достоевскому, Толстому, Горькому, Чехову и по сохранившимся в памяти образам далеких швейцарских времен…
В Москве он обнаружил русских доброжелательных, улыбающихся. Так они выглядели и пятьдесят лет тому назад за чашкой чая в дешевой столовой для эмигрантов на улице Каруж. Он обнаружил, что десятки и десятки тысяч людей, кажущихся с высоты пятнадцатого этажа «движущимися спичками», при соприкосновении с ними доброжелательны, культурны, вежливы, исключительно приветливы, готовы прийти на помощь в любую минуту. Задаст Аргези вопрос по-румынски, прохожий остановится, постарается понять, не зная языка, обязательно поможет, не отмахнется. И эта поражающая иностранца всеобщая страсть к чтению! Читают в вестибюле гостиницы, в парикмахерской, в троллейбусах и электричках, в гардеробных и, конечно, в метро! Эти подземные дворцы — залы огромнейшей читальни мира! В памяти Аргези воскресают лица русских молодых людей, углубленных в книги в библиотеках Швейцарии 1905 года. Сегодняшние читатели — их потомки, любовь к чтению, к приобретению знаний имеет давние и глубокие корни…
Глядя на Комсомольскую площадь с пятнадцатого этажа высотной гостиницы, стоя на тротуарах, в метро, вглядываясь в лица людей, он пытался понять, как это они, эти люди и их отцы, занятые защитой страны от похода четырнадцати государств и от своих белогвардейцев в годы гражданской, вовлеченные в вихрь строительства невиданного еще в истории человеческого общества, вынужденные защищать это общество в пламени навязанной им самой кровавой из войн, нашли духовные силы, чтобы сохранить сокровища страны, пошедшей с мечом на них?! Три приехавших вместе с Аргези академика — Михай Раля, Мариус Бунеску и выдающийся знаток искусства, коллекционер и художник Джеордже Опреску — не могут ответить на этот вопрос. «Не только три академика, а все академии земли, вместе взятые, не смогут ответить на этот вопрос, — сказал ему по возвращении в Бухарест руководитель румынских коммунистов Георгиу-Деж, — это интернациональная природа русской души, души советского народа».
В дни пребывания в Москве Аргези не раз затрагивал эту тему
в беседах с министром культуры Николаем Александровичем Михайловым, с комендантом Московского Кремля генералом Андреем Яковлевичем Ведениным, с сотрудниками Кремля. Для начала ему показали четыре переплетенных в кожу громадных тома. Каждая строка — описание одной вещи из подготовленного к передаче сокровища. Название, научно установленный год или век происхождения, вес, состояние, инвентарный номер. Всего 39 тысяч 320 наименований! И столько же строк в этих четырех томах. Вначале Аргези не поверил. Перелистал прошнурованные тома, посмотрел. Да, 39 329 наименований. Какой гигантский труд!
В залах Большого Кремлевского дворца выставлены для показа румынской комиссии подготовленные к передаче 1350 живописных полотей Григореску, Сзатмари, Амапа. Лукиана, Андрееску, старинная церковная одежда и церковная утварь, изделия из золота и серебра, украшенные брильянтами и другими драгоценными камнями. К вот она, «Золотая наседка с цыплятами»! Фибула 1, фибула 2, фибула 3… Только это сокровище из чистого золота весит свыше девятнадцати килограммов. Нет, трудно всему этому поверить! Аргези с Параскивой переходят от витрины к витрине, сердце от волнения бьется, никогда они еще не видели столько румынских сокровищ вместе. Десятки лет твердили им, что все это потеряно. И вот! По главное волнение для Аргези впереди. За стеклом небольшой одинокой витрины сверкает вытканный из золотой нити и украшенный мелким жемчужным бисером церковный головной убор. Эта митра многие сотни лет служила румынским митрополитам и патриархам для самых торжественных выходов. И потому хранилась за семью замками в нише маленькой молельни, скрытой за парадными стенами патриарших покоев. Митрополит Иосиф Георгиан показывал ее иеродиакону Иосифу как особую священную реликвию румынской церкви. Два раза иеродиакону Иосифу пришлось дотрагиваться до этой митры, когда он прислуживал в ночь святого воскресения высохшему от старости Иосифу Георгиану. Это было в год отъезда иеродиакона в Швейцарию. В 1905 году. Все реставрировано, все вычищено, все блестит. И скоро все это поедет домой. Не сон ли это?! Нет. Рядом Параскива, шагает мимо витрин осторожно, молча рассматривает. Вчера вечером в гостинице Аргези рассказывал ей, как до первой мировой войны опытнейший взломщик поспорил со своими товарищами, что он украдет из университетского музея «Наседку с золотыми цыплятами». Со второго этажа над залом музея он просверлил дыру точно над шкафом, где было выставлено сокровище, пропустил через нее зонтик и раскрыл. В чашу зонтика падали затем выпиленные куски перекрытия, чтобы не производили шума. Сквозь образовавшуюся дыру взломщик осторожно ступил на шкаф и вынес «Наседку». В это время сторож музея спокойно курил и болтал со знаменитым в то время в Бухаресте стариком лилипутом, продавцом вечерних газет… Вора быстро поймали, но он уже успел распилить наседку на мелкие части… Продать, правда, еще не успел.
Прошла первая мировая война, потом гражданская… Во второй мировой гитлеровцы дошли до двадцать третьего километра от Красной площади. Тудору и Параскиве Аргези показали это место на Ленинградском шоссе. И в этих условиях были люди, которые заботились о «Наседке», о митре румынских митрополитов, о коллекциях старинных монет. Кто они, эти люди? Тудору Аргези обязательно нужно узнать о них. А сейчас по возвращении в гостиницу необходимо срочно передать по телефону в Бухарест первое сообщение из Москвы. В нем бьется сердце оперативного журналиста. Семьдесят шесть лет? Чепуха!
— Барышня! Вызовите, пожалуйста, Бухарест…
«Увидел своими глазами, щупал своими пальцами» — так озаглавлено первое сообщение Тудора Аргези из Москвы.
«Потрясенный и взволнованный, выхожу из Кремля, где я увидел своими глазами и щупал своими пальцами «Наседку с цыплятами» и тысячи золотых, серебряных, вышитых и нарисованных сокровищ, некоторые единственные в своем роде на всем свете. Это наш художественный фонд, который считали потерянным и который советский социализм возвращает сегодня нам в полной сохранности с редчайшим чувством невиданной в истории политической щедрости… Наша делегация от имени наших хлебопашцев, рабочих и интеллигенции от глубины сердца выразила Советскому Союзу слова вечной признательности, безграничную благодарность за этот великий и незабываемый праздник».
Торжество передачи художественного фонда состоялось 6 августа 1956 года в Георгиевском зале Кремля, а 7 августа утром в румынских газетах появилось переданное по телефону из гостиницы «Ленинградская» с Комсомольской площади Москвы это сообщение. Под ним стояла подпись:
Тудор Аргези.
Но как же все-таки сохранились все эти сокровища? Аргези должен найти ответ.
— Вы познакомьтесь поближе с Николаем Никитовичем Захаровым, — посоветовали ему. — Он многое знает.
Тудор Аргези видел Николая Никитовича Захарова не раз. Моложавый, невысокого роста мужчина лет пятидесяти. К нему то и дело подходили сотрудницы Оружейной палаты, о чем-то спрашивали, он им тихо, очень спокойно отвечал, если показывали документ, он его внимательно просматривал, думал, а если надо, медленно выводил на бумаге свою подпись. Аргези понимал, что все, что приносят на подпись этому человеку, все относится к румынскому художественному фонду, к отправке его на родину. Однажды он увидел, как в Оружейную палату молодые ребята вносили большие ящики. Захаров останавливал их, внимательно осматривал ящики, заглядывал внутрь, щупал обивку, проверял надписи. Аргези обратил внимание, что на ящиках имеются и румынские слова. Подошел, посмотрел. «Fondul artistic romtn». И по-русски «Румынский художественный фонд. Москва — Бухарест». Он понял: это для упаковки ценностей. Обработаны и зафанерованы как дорогая мебель, внутри обшиты мягкой тканью, чтобы все доехало до назначения с комфортом. Захаров то и дело советовался со своей главной помощницей Людмилой Васильевной Писарской.
Из гостиницы «Ленинградская» Тудор Аргези передавал в Бухарест ежедневно восторженные корреспонденции о том, как проходит подготовка к отправке на родину сохраненных в СССР ценностей. Он писал о великодушии и душевной щедрости советского народа, о самоотверженном труде людей, спасших сокровища от гибели во время прошедших войн. Из рассказов генерала Веденина, Николая Никитовича Захарова, Людмилы Васильевны Писарской и других сотрудников Оружейной палаты СССР вырисовывалась картина сердечной щедрости советского народа. Аргези приходит к выводу, что трагические взаимоотношения между Румынией и СССР, создавшиеся в не такое уж далекое время по вине правящих, фашиствующих кругов (с 22 июня 1941 года, когда румынская армия совместно с армией гитлеровской Германии напала на СССР, прошло всего 15 лет), уходят в прошлое, советские люди сердечно относятся к трудовому народу Румынии. Одно из ярчайших проявлений — сохранение советскими людьми румынских сокровищ. Тудор Аргези пытался из отрывочных рассказов своих собеседников составить картину сохранения ценностей.
— За несколько лет до начала Отечественной войны, — рассказывал Николай Никитович Захаров, — я был назначен директором Оружейной палаты. Кроме меня, здесь работали еще пять человек… На втором этаже Оружейной палаты имеется круглый зал, вы его видели. Там сейчас образцы дорогой церковной одежды. А тогда за высокими дверьми из кованого железа с гербами всех российских губерний стояли старые ящики с сургучными печатями. «Это ценности королевской Румынии, — сказали мне. — Пусть лежат». Передали мне и документы, из которых видно, что даже в самые трудные годы для нашей страны, когда каждая копейка была на строжайшем учете, выделялись средства, чтобы уберечь ценности румынского народа от порчи и разрушения. От долгого хранения в закрытом виде любые вещи портятся. Трудно установить, где хранились румынские ценности до тех пор, пока их привезли в Кремль. Скорее всего во время
первой мировой войны они попали в Петроград, а оттуда были привезены в Москву, когда перевозили ценности Российского государства из Зимнего и других дворцов. Здесь хранение не всегда было идеально. Во время гражданской войны и много лет спустя помещения не отапливались, было холодно и сыро. Вы, наверное, читали об «огненном кольце», в котором находилось наше молодое государство… Тогда и в кабинете Ленина было холодно, а Большой театр освещался свечами…
Так немудрено было некоторым вещам и особенно живописи и попортиться. Могла появиться плесень и самое страшное — шашель. Для того чтобы сохранить вещи, нужны деньги. И все же из того малого, чем располагало наше государство в то время, выделялись средства прямым назначением на консервацию вашего фонда… — и не только тогда…
Это была забота многих людей… Специалисты Оружейной палаты, реставрационные мастерские под руководством нашего знаменитого Игоря Эммануиловича Грабаря… Он всем этим руководил по прямому указанию Владимира Ильича Ленина…
— А не расскажете ли вы, где все это находилось во время последней войны? Здесь, в Кремле?
Николай Никитович Захаров не любит говорить о себе. К хранению ценностей Оружейной палаты и румынского фонда во время Великой Отечественной войны он имеет непосредственное, прямое отношение.
Экскурсии в Оружейную палату проводились и до войны. Люди собирались, как и сейчас, в Александровском саду, у Боровицких ворот. В выходной день 22 июня 1941 года Николай Никитович пришел на работу вместе со своими сотрудниками как обычно — в восемь тридцать, за час до начала экскурсии. По существовавшему порядку ключи от палаты находились у дежурного офицера, и тот, вручая их Захарову, передал распоряжение коменданта Кремля — экскурсии на 22 июня отменяются. Об этом необходимо объявить собравшимся посетителям. У Боровицких ворот стояло человек четыреста. Услышав сообщение Захарова, они молча разошлись. Ушла домой и группа сотрудников, пришедших продолжать работу над готовившимся тогда научным трудом «Оружейная палата». Остались только его помощники. Захаров ходил в тревожном ожидании по залам среди витрин, посматривал. как установлены леса в вестибюле, — с конца 40-го года он готовил Оружейную к предстоящему ремонту, потолки были уже затянуты марлей, стояла готовая тара для упаковки ценностей… Без четверти двенадцать из «тарелки», установленной в восьмигранном зале первого этажа, прозвучали позывные, а затем неоднократные объявления о предстоящем правительственном сообщении. Захаров позвал всех к радиоточке. В двенадцать часов В. М. Молотов объявил о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз и о том, что вместе с ней советские города и села атакуют румынская и финская армии…
Захарова вызвал к себе комендант Московского Кремля Николай Кириллович Спиридонов.
— Началась война, — сказал он, — нужно сохранить в этих условиях ценности Кремля и Оружейной палаты.
Николай Никитович Захаров составил свой личный план незамедлительно. Он был одобрен комендантом, и коллектив Оружейной палаты приступил к делу. Прежде всего нужно было упаковать вещи и рассредоточить их в защищенных от возможной бомбежки местах.
К вечеру 29 июня 1941 года все экспонаты были упакованы. А еще утром заместитель Спиридонова Косынкин сообщил Захарову новое распоряжение — упакованные ценности необходимо вывезти из Кремля…
Вернувшись, Захаров доложил Косынкину, что состав подан, вагоны годятся.
С вечера 29 июня до четырнадцати часов 30 июня ценности Оружейной палаты были погружены в вагоны. Захаров еще не знал, что же будет дальше. Его снова пригласил Косынкин.
— Вот что, Захаров, вам придется ехать с вещами…
— На сколько?
— Может, дня на три, ну на четыре…
— Брать собой чемоданчик, смену одежды?..
— Да… А вообще зайдите к Спиридонову.
Перед разговором со Спиридоновым Захаров подумал, что раз Косынкин говорит о трех-четырех днях, значит, ему придется сопровождать эшелон до места назначения, а потом — обратно. Но Спиридонов уточнил:
— Будьте там, пока война кончится. Возьмите с собой необходимых сотрудников, подберите кого надо… Дайте мне список… Через полтора часа отправление.
Захаров тут же в приемной составил список. Ну кого взять? Конечно, Баянова, своего единственного заместителя по хозяйственной части, сотрудников Ефимова, Валуева, Гордеева, Владимирову и Кирильцеву. Спиридонов утвердил список. Захаров» пришел в Оружейную палату, собрал всех, объявил:
— Времени на сборы мало. Через полтора часа уезжаем в далекую и длительную командировку.
Самому Захарову не было дано и этих полутора часов. После 22 июня он заехал домой только на двадцать минут. В доме на 1-й Мещанской ждала встревоженная жена, у нее на руках двое девочек: одной три года, а второй три месяца…
«Поезд особого назначения» шел на восток. Навстречу мчались военные эшелоны с войсками и вооружением. Приходилось подолгу стоять на станциях, пропускать составы на фронт. Тяжело было на душе у Захарова, тяжело и тревожно. С одной стороны, такая громадная ответственность — быть доверенным лицом государства за сохранность одного из ценнейших собраний человечества, а с другой — все едут на фронт, а он в противоположную сторону, в глубокий тыл…
Город в глубоком тылу не ожидал прибытия специального груза. Все здесь были заняты заботами об отправке на фронт мобилизованных резервистов, о перестройке промышленности и всего хозяйства на военный лад. У Захарова был документ, который помог найти подходящее для привезенных ценностей помещение и разгрузить все вагоны за одну ночь. В надежное хранилище, под охрану были поставлены и сорок ящиков с румынским фондом. А через три дня по новому адресу Оружейной палаты на имя Захарова стали поступать новые грузы из Москвы. Прибыло собрание редчайших книг из библиотеки Оружейной палаты, предметы, хранившиеся в соборах Кремля, ценные древние иконы, старинные русские одежды, церковная утварь, знамена Российской империи. Отдельным, особым грузом прибыло на имя Захарова на хранение знамя Парижской коммуны.
Небольшой коллектив москвичей приступил к распаковке ящиков, проверял, в каком состоянии находятся вещи. 5 сентября 1941 года комендант Московского Кремля Спиридонов получил подробную докладную записку. Захаров сообщал, как все устроилось на новом месте, писал о том, что необходимо предпринять для обеспечения сохранности вывезенных из Москвы ценностей. «Кроме того, — писал Захаров, — прошу Вашего распоряжения о создании комиссии для вскрытия ящиков с румынскими ценностями. Основанием для вскрытия ящиков является:
1. Необходимость узнать, что хранится в отдельных ящиках.
2. Ветхое состояние ящиков; некоторые из них следует отремонтировать, а некоторые изъять (заражены шашелем).
Примечание:
а) Вскрытие ящиков производить в присутствии не менее трех членов комиссии;
б) вскрытие ящиков с ценностями необходимо фиксировать в актовой книге и скрепить подписями членов комиссии».
Вспомним: все это происходило в те дни, когда немецкие полчища рвались к Москве, а румынские войска на южном фланге огромного фронта осаждали героически обороняющуюся Одессу…
— Вы об этом ведь знали, — сказал Аргези Николаю Никитовичу Захарову. — Ведь вы не могли не знать… С каким чувством работали вы в те дни, избавляя от шашеля румынские картины?
— Мы спасали достояние народа, — ответил Захаров. — Мы, небольшая группа советских людей, воспитанных нашей партией в духе глубокого интернационализма и уважения к труду и духовным ценностям других народов, старались сохранить эти ценности румынского народа… Мы были уверены, что фашисты потерпят крах, а румынский народ будет благодарен нам, не нам лично, конечно, не нашему маленькому коллективу, а нашему народу, мы ведь капелька нашего народа…
— Вот они какие, русские! — воскликнул Аргези, рассказывая Параскиве об этом, и тут же начал писать очередной репортаж из Москвы.
Приближалась победная весна 1945 года. В первых числах февраля Захаров получил разрешение вернуться В Москву. Все это время его группа вела громадную научно-исследовательскую работу. Они не только хранили ценности, но готовили их для будущей экспозиции в Оружейной палате. Был подготовлен расчет вагонов, порядок погрузки и переезда. 20 февраля 1945 года прибыли в Москву. 1 марта стали распаковывать ящики и располагать экспонаты по разработанному в эвакуации плану экспозиции. 17 апреля 1945 года в 17 часов в Оружейную палату пригласили первых посетителей.
Сорок ящиков с румынскими ценностями, спасенными и от второй мировой войны, были поставлены в круглый зал за дверь с гербами губерний России. Они ждали своего часа.
И вот этот час настал. Румынский художественный фонд передавался дружественной Румынской Народной Республике, и для его приема в Москву была приглашена правительственная делегация.
«6 августа 1956 года, — пишет Аргези, — под созвездиями гигантских люстр зала Кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца, усеянного от пола до сводов именами тысяч и тысяч русских воинов, состоялось торжество, венчающее огромную работу советских людей и невиданную еще заботу о сокровищах другого народа. Советское правительство показало свою богатырскую щедрость. В коммюнике Совета Министров отсутствуют пышные парадные, свойственные дипломатии фразы. Этот грандиозный жест называется очень просто — «дружественным актом».
Румыния признательна за это вовек».
Свой репортаж о торжествах передачи Тудор Аргези озаглавил латинскими словами Restitutio in integrum — «возвращено полностью».
Вот имена людей, чьим трудом были сохранены во время прошедшей войны ценности Оружейной палаты и Румынский художественный фонд: комендант Московского Кремля Николай Кириллович Спиридонов, Петр Евдокимович Косынкин, Николай Никитович Захаров, Александр Васильевич Баянов, Николай Васильевич Гордеев, Владимир Сергеевич Валуев, Мария Александровна Кирильцева, Ольга Сергеевна Владимирова, Людмила Васильевна Писарская, Евгений Андреевич Ефимов.
Пройдет несколько лет, и Тудор Аргези скажет:
«То, что произошло в Кремле в те памятные дни лета 1956 года, — доказательство ни с чем не сравнимого великодушия Союза Советских Республик и русских людей. Я видел русских в Швейцарии в далекую пору моих исканий, и я сблизился с ними духовно. Я пытался осмыслить их широту, смелость, способность идти на смерть за народное дело с высоко поднятой головой. Я видел Ленина, окруженного молодыми людьми в кафе «Ландо» и среди книг библиотеки Женевского университета. Мне казалось, что он и его товарищи — люди из другого, незнакомого нам мира. И это было так. До моего приезда в Москву я знал русских по моим женевским впечатлениям, по литературе. Побывав в Москве, я понял, что русские коммунисты унаследовали от русской души все».
4
Сотрудница секретариата дирекции Национального театра имени Караджале, где играла Митзура — она актриса. — позвонила поздно вечером:
— Митзура, завтра в десять часов утра вас просят зайти к председателю Совета Министров товарищу Киву Стойке.
«Не иначе как случилось что-нибудь с родителями», — заволновалась Митзура, но позвонившая сотрудница успокоила ее: с родителями все в порядке, они бодры и здоровы, никаких волнений.
Киву Стойку и находившегося в его кабинете Георге Апостола она видела не раз прогуливающимися вечерами вместе с Георгиу-Дежем и другими румынскими руководителями по аллее Авиаторов. Они часто останавливались у скамейки, на которой любил вечерами отдыхать писатель, разговаривали с ним, приглашали пройтись.
— Мы предупредили, чтобы вы не волновались, — сказал Киву Стойка. — Не соскучились по родителям?
— Соскучилась, конечно.
— Ну тогда поезжайте в Москву. Вот вам паспорт. Билеты на самолет заказаны. Передайте мастеру привет от нас и от товарища Георгиу…
На второй день Митзура была в Москве, в номере гостиницы «Ленинградская» на пятнадцатом этаже. Родители готовились к отъезду в Ленинград. После торжеств передачи художественного фонда и его отправки в Бухарест Аргези попросился в Ленинград — он будет писать об этой поездке и о советских людях специальную книгу…
Дочери показывал Москву он сам. Он сказал Митзуре, что многому из того, что говорилось и писалось о Советском Союзе, верил, многому не верил. Очень хотелось увидеть все своими глазами. Москва поразила его величием. И в сказках трудно было придумать все, что осуществлено здесь всего за тридцать девять лет. Он показывал дочери Москву, рассказывал о ней влюбленно и восторженно. «Посмотрим и Ленинград. Я хочу видеть город Ленина».
В день приезда в Ленинград он запишет для передачи в газету:
«В огромном вокзале на высоком постаменте стоит бронзовый Ленин и напоминает о делах революции, свершенной почти сорок лет назад. Народные массы не забывают его. Они любили его. Слушали. Любят его и сегодня и слушают.
Можно было подумать, что цветы, возложенные к ногам Ленина, приобретены городскими властями. «Кто приносит столько цветов?» — спрашиваю. «Народ», — отвечает сопровождающий».
Аргези заметил только что сошедшую с прибывшего поезда пожилую женщину в грубых кирзовых сапогах. Она несла большой букет полевых цветов. Положив цветы к подножию памятника, она поклонилась.
Сообщая на родину свои впечатления о ленинградцах, Аргези пишет о том, как трудно представить себе, что молчаливые мужчины, строгие пожилые женщины, прогуливающиеся в выходные дни или вечерами по широким аллеям светлых ленинградских парков, — творцы гигантской революции, начавшейся здесь, на громадной площади, посреди которой высится величественная гранитная колонна. «Революция отстоялась, — пишет он, — кровь смыта, жертвы захоронены. Пережитая героическая эпоха не бьет в барабан, последующие победы были одержаны в простом, скромном напряжении. Когда наблюдаешь за участниками былых сражений и битв, будто ни один из них не прошел сквозь пламя и огонь, не имеющих себе равных смертельных схваток… Народ, живущий между Балтикой и Аляской, представляет собой бездонный океан. На поверхности этот океан спокоен и прохладен. Но в глубинах его таятся великие надежды и новая, ничем не измеримая мощь.
Этот народ наш друг».
Они — Аргези, Параскива и Митзура — выходили из Эрмитажа ошеломленные увиденным. Тудор Аргези долго стоял у фонтана, где вода капля за каплей, словно слезы, переходила из одной раковины в другую, ему чудился шепот создателя удивительного фонтана, фантастического символа народного плача…
В Смольном Тудор Аргези увидел своими глазами комнату, откуда Ленин управлял штурмом старого мира. Писатель был в особом душевном настроении. Румынский поэт был счастлив встречей с ленинскими местами, непосредственно связанными с великой революцией, был счастлив, что видел Ленина в те далекие годы, и душевно, хотя и не в рядах партии коммунистов, и не всегда прямым путем, но шел рядом с теми, кто осуществлял ленинские идеи, и никогда не шел против них.
Аргези сел на ступеньку лестницы и прислушался. Ему казалось, что сквозь годы к нему доносятся шаги красногвардейцев и голос Ленина. Он открыл блокнот и записал: «Здесь Николай Второй, помазанник божий, представитель Всевышнего на земле Россия, наследник династии, сотни лет презиравшей чернь и считавшей ниже своего достоинства видеть ее глаза и слышать ее голос, был вынужден встретиться с народом, встретиться лицом к лицу с Ильичем Ульяновым — полпредом трудового народа. Века вступили в смертный бой с секундой. И секунда одолела их. Сколько их было, ленинцев?» — спрашивает Тудор Аргези. И сам же отвечает: — «Целый народ! Миллионы и миллионы смелых и решительных людей… Их повел Ильич своим огромным, как бескрайняя Россия, умом».
По пути в гостиницу Аргези обдумывал, как лучше изложить на бумаге все увиденное, как передать поскорее читателям свои впечатления о Ленинграде. В вестибюле продавали газеты — английские, французские, немецкие. Вот свежие номера «Национал цайтунг». Ну-ка посмотрим, что сообщают миру журналисты этой западногерманской газеты. «Национал цайтунг» на первой странице писала, что суд в Карлсруэ вынес постановление о запрещении Коммунистической партии Германии. Терминология авторов ничем не отличалась от знакомой по предвоенным и военным годам терминологии фашистов. И с той же яростью, с какой он воевал против румынских фашистов, с той же смелостью, с какой он писал «Барона» и свои антифашистские памфлеты и стихи, Аргези пишет в ленинградской гостинице знаменитый репортаж «Между Ленинградом и Карлсруэ».
«Трибунал города Карлсруэ жирными чернилами, простым почерком пера поставил вне закона Коммунистическую партию Западной Германии. В древности архиереи иудейского синедриона изгнали из крепости диакона Штефана и предали его избиению камнями лишь за то, что тот посмел высказать свою, не совпадающую с мнением иудейских архиереев мысль. Всесильные всегда забрасывали совесть камнями, простреливали свинцом, набрасывали ей на шею намыленную петлю, заковывали в кандалы, бросали в казематы. Новое издание древнего булыжника, с которым карлсруэские судьи выходят против трудящегося люда, еще раз доказывает беспомощность и слабость власть имущих перед идеей, которую никогда не удавалось задушить силой. Весь опыт прошедших времен ничему не научил правителей, и Германия, подарившая миру Гёте, Бетховена и Маркса, в 1956 году снова осмеливается подвергать суду идею. Когда говорю «Германия», я имею в виду официальную Германию, а не трудовой народ, против которого принят этот позорный закон… Рейх стоит не перед единственной своей глупостью. От Бисмарка до Гитлера германский орел обжег себе когти, клюв и крылья дважды. По-видимому, боннскому рейху хочется начать новую авантюру. То в Берлине, то в Бергтехсгабене, то в Карлсруэ, на разных сценах разыгрывается та же мрачная комедия, у которой один и тот же эпилог. В 1933 году, запрещая коммунистическую партию, Гитлер готовился к прыжку против всего человечества. Чем это кончилось, известно… Партия, запрещенная на этот раз в Карлсруэ, знает, что будущее за ней, как бы ни бесились в своей агонии нынешние хозяева».
Тудор Аргези обращает внимание на то, что скрыто за строками приговора судей Карлсруэ. Он вспоминает верещагинский «Апофеоз войны» и предупреждает об опасности антикоммунистического похода, начатого в Карлсруэ. Но «все подобные походы как в прошлом, так и в настоящем и в будущем обречены на позорный провал. Свидетельство этому, — подчеркивает Аргези, — великий Ленинград и победоносная Страна Советов, идущая по пути Ленина».
После возвращения в Бухарест не было дня, чтобы имя Аргези не появлялось на страницах центральных органов румынской печати. Он писал злободневные материалы в защиту социализма и мира, волнующие стихотворения и поэмы о человеке, творящем новую жизнь.
Ему было восемьдесят два года, когда по приглашению Георге Георгиу-Дежа в мае 1962 года он поднялся на трибуну Великого национального собрания страны, посвященного окончанию коллективизации румынской деревни. Сессия эта проходила в новом огромном зале только что построенного круглого дворца выставок на площади «Скынтейи». Вместе с депутатами на сессию были приглашены делегаты крестьян всех деревень и
сел страны. Георгиу-Деж еще за несколько дней до сессии сказал Аргези, что приглашается 11 тысяч крестьян, по числу жертв подавленного королевскими войсками восстания 1907 года.
Тудору Аргези было предоставлено на этой сессии первое слово.
Он медленно шел к трибуне, поддерживаемый Параскивой, и смотрел в зал. Яркими красками переливались национальные одежды присутствующих, выделялись загорелые лица и натруженные большие руки.
— Братья Пахари и Рабочие, — начал Аргези. — Любимые товарищи! Смотрю на вас и не могу нарадоваться — вы все отмечены орденами и знаками отличия нашей молодой республики. И думаю я — под сегодняшними наградами республики у самых старых из вас еще ноют раны, полученные от пуль королевских винтовок пятьдесят лет тому назад… Наша плодородная земля, на которой вы трудитесь, напоена кровью и слезами, пролитыми на протяжении столетий во имя обогащения тех, кто платил за крестьянский труд кандалами и плеткой. Вместе с вами страдали и писатели, старавшиеся зажечь в той темноте хоть искорку света и радости.
С этой трибуны Аргези говорит о донге писателя нового, социалистического общества, о необходимости работать без устали ради осуществления чаяний трудового народа. Аргези называет прошлый эксплуататорский порядок страны «бесстыдным и подлым».
— Какую роль в вашей жизни сыграл Ленин? — спросили его в канун 90-летия Владимира Ильича из редакции газеты «Современник». Аргези прислал письменный ответ.
«За восемьдесят прожитых лет я сосуществовал вместе с огромным количеством людей. Среди них были государственные мужи и полководцы, деятели науки и искусства, императоры, короли, декоративные персонажи, канувшие один за другим в Лету. Что же они оставили после себя? Простые, покинутые бабочками скорлупки. Они исчезли из памяти, как ненужные телефонные номера.
Многие десятки лет я следил в библиотеках и на перекрестках истории, притаившись с карандашом в руках, чтобы из толпы философствующих прорицателей, большинство теорий которых стерлись как древние разменные монеты, выбрать близкого мне человека — я чувствовал потребность в моральной опоре.
Сколько лиц прошло перед моими глазами! Сотни пустых или набитых соломой мундиров, бальные костюмы, маски с прорезями вместо глаз, сюртуки, кафтаны, движущиеся самостоятельно или управляемые искусными кукловодами.
Я не могу с точностью определить секунду, когда я выбрал сразу же его, единственного. Меня тянуло к нему с неодолимой силой. Было это пятьдесят пять лет назад в Швейцарии. Молодые русские парни и девушки, с которыми я обедал в женевских народных столовых, знали его и робели перед ним…
В то время когда фабриковались или сшивались из лоскутков текущие знаменитости, на горизонте появилась и обретала гигантские размеры новая, выдающаяся личность Ленина. Он шел издалека, будто из глубин человеческой истории, преодолевая границы идей и обычных демагогических концепций. Это единственный человек, Сумевший за одну жизнь, за очень короткую жизнь, осуществить свои идеи с такой полнотой и грандиозностью. Кажется, что для этого не хватило бы и десятка жизней. Ум и ни с чем не сравнимая гениальность Ленина преодолели и перемололи само время.
Кто сказал, что Ленин умер?
Он жив и будет вечно жить среди народов. Его дело на полном развернутом марше. Ленин единственный перед тысячелетиями, прожитыми человечеством в бесправии».
Когда Аргези получил городскую квартиру, то он оказался по соседству с Георге Георгиу-Дежем. Деж часто останавливался у скамейки, где обычно сидели вечерами Тудор Аргези с Параскивой. Георгиу-Деж садился около старого писателя, и они каждый раз находили новые темы для разговора.
— Прочитал в «Современнике», что вы узнали о Ленине в 1905 году, — сказал Деж и добавил: — Мне было тогда четыре года…
— Да, значит, вы родились через тридцать лет после Ленина… Но я думаю, что и те, которые родятся через триста лет. через три тысячи лет, будут продолжать его дело… — Тудор Аргези стал говорить Дежу о намерении написать о настоящих ленинцах, о людях, родившихся намного позже Ленина, но продолжающих его дело в Советском Союзе, в других странах.
— О вас бы написать, о Киву Стойке, о других ваших соратниках, — поделился Аргези намерениями.
— Особо писать обо мне, о Киву не надо… Мы, руководители, находимся и так как бы в свете всех прожекторов, мы и так на виду… А простых людей, действительных творцов и всех благ и всей истории, не всегда видно… Вы не сердитесь, мастер, но мне думается, что о них следует больше писать, их следует прославлять…оставлять их образы для будущего.
В августе 1956 года после возвращения из Москвы Аргези заговорил о своих впечатлениях от поездки в Советский Союз. В залах Дворца республики был выставлен спасенный художественный фонд, со всех концов страны приезжали люди, чтобы посмотреть «Наседку», другие сокровища. Аргези говорил Дежу, что он долго рылся в памяти, в книгах в надежде найти в истории народов и войн пример, когда одно государство возвращает другому оказавшиеся в его руках сокровища, и не нашел. Правда, есть один, но он связан тоже с советскими людьми, — они спасли Дрезденскую галерею. И вернули ее немецкому народу за год до того, как были переданы румынские фонды…
— Я изучал, — сказал Аргези, — как пополнялись в свое время Британский музей, Лувр. Сколько там привезенного во времена прошедших войн! Сколько сокровищ других народов! И никто и не. подумал что-то возвращать грекам, например, или арабам.
— Социализм утверждает новый вид гуманизма… Начало этому положила Октябрьская революция. И главными носителями этого гуманизма стали русские… Они очень многое сделали для человечества.
Аргези рассказывает Дежу о том, что хочет написать о том потрясении, которое он и Параскива пережили в Большом театре, когда увидели там зрителей — тысячи людей самых различных национальностей, из самых отдаленных уголков Советского Союза. Они были хорошо одеты, с достоинством носили медали, ордена, депутатские значки… Этим людям помогли подняться к высокой культуре Советская власть и прежде всего русские… Это признают все.
— С тех пор когда я впервые увидел русских в Швейцарии, прошло так много времени, но их душа так же мягка и добра. Мы с Параскивой все время восторгались этой добротой…
— И подумайте, какой парадокс, — сказал Деж. — Народ, поднявший к свету столько других наций, — вы знаете, в Советском Союзе одних языков свыше ста! — народ, столько сделавший для других, сам живет не очень-то роскошно. А с нами делится последним. — Деж заметно волновался. — Когда нам что-нибудь нужно для нашей экономики, для промышленности и для села тоже, советские товарищи отдают нам лучшее… Иногда первые проектные разработки самых современных предприятий идут к нам… Советский Союз для нас не только сосед, не только брат. Ведь брат не всегда отдаст тебе лучшее.
— Хороший сосед лучше брата, — подхватил Аргези. — Из своей долгой жизни и из своего опыта я прекрасно знаю, что такое хороший сосед. Знаете, как в хозяйстве, то одного нет, то другого, и если у тебя добрые отношения с соседями, у тебя будет все. Иногда сущий пустяк — нет щепотки соли, сломалось топорище или спичек нет — бывает ведь и такое! А у соседей находится… Значит, и у тебя есть. Мне кажется, что в государственных делах тоже так… Дружба с соседями — это великое дело…
Обычно редко вмешивавшаяся в разговор Параскива сейчас вставила мудрую крестьянскую фразу:
— Но, чтобы у тебя были хорошие соседи, ты сам должен быть хорошим для них. Чтобы они тоже могли хвастаться тобой…
Собеседники одобрительно засмеялись…
Приближалось восьмидесятилетие Тудора Аргези. Он был по-прежнему бодрым, душа была такой же молодой и беспокойной. Хвори иногда пытались схватить его в пути, и он говорил близким: «Невидимые силы ведут атаку на мое постаревшее тело, но душу они не заденут…» Ослабло зрение, один глаз уже совсем не видит, но Аргези шаг за шагом исследует с каждым днем изменяющийся облик любимого города. Нужно сдать издательству дополненную новыми материалами книгу «С тросточкой по Бухаресту». Его видят то у реставрированного здания Атенеума, то отдыхающим на ступеньках «алмаза румынской архитектуры» — церкви Крецулеску. Здесь он в начале века служил диаконом. Строятся новые дома, обновляются старые, обретают мощь заводы столицы, новую продукцию дают цехи знаменитой Гривицы. Сейчас завод называется «Красная Гривица», и Аргези пишет для «Скынтейи» современный репортаж о коллективе, поднявшем знамя борьбы против эксплуататоров.
Воскресным днем Георгиу-Деж позвонил и поблагодарил Аргези за труд, за исключительной важности материал. Пригласил на обед с семьей. После обеда вышли на обычную прогулку по бульвару Авиаторов. Шли медленно, время от времени останавливались. Деж рассказывал о том. что этот район Бухареста и весь его исторически сложившийся центр останется таким, как есть, а для нужд увеличивающегося населения столицы будут построены новые кварталы на свободных площадях, на нынешних окраинах города. Предстоит реконструкция и района бывшей тюрьмы «Вэкэрешть», там будет создан музей. Неподалеку от памятника погибшим в первую мировую войну летчикам они обратили внимание на светлый особняк.
У входа надпись: «Institulul de istorie Nicolae lorga».
— Академия решила назвать институт истории именем Йорги. Все его наследие еще не собрано, не изучено. Это крупный ученый… У вас с ним был очень большой спор. Мы даже в «Дофтане» слышали об этом.
— Не с ним, товарищ Георгиу, а с его отношением к истории. Когда пришла весть, что Йоргу убили легионеры, я заплакал… Ведь он на самом деле был большим человеком, но буржуазный национализм заслонил ему весь мир. Порой ему казалось, что он пуп земли и только от него зависит, в какую сторону будет вертеться планета. Он ввязывался в любую драку, давал советы всем, причем глубоко верил, что только его советы верны…
— А на вас-то за что нападал?
— За все… Ему не нравилось, что я не вижу в лице румынской нации спасителя всего человечества…
Георгиу-Деж засмеялся.
— Да, да, — продолжал Аргези. — Это на самом деле. Мне приходилось не раз слышать Йоргу и читать его сочинения о мессианизме румынского народа, о его особой роли в истории человечества… И самое смешное — Йорга видел самого себя в роли этого мессии. Он в это искренне верил… Да, да… И с наивностью ребенка не понимал — точно не понимал! — что рассуждения об исключительной роли румынской нации будут использованы ему же во вред и приведут к его гибели. И что еще более страшно — это приведет к немыслимым страданиям целый народ, к пожару, и в огне сгорят сотни тысяч ни в чем не повинных румын, которых он так искренне и преданно любил. Легионеры сами «претендовали на роль мессии и убрали Йоргу со своего пути… Трагично.
Некоторое время спустя после этого разговора вышла книга с выступлением Георгиу-Дежа перед коллективом «Красной Гривицы». Аргези с интересом прочел: «Традиции дружбы и солидарности с родиной Октября, со славной партией Ленина красной нитью проходят через всю историю рабочего революционного движения Румынии, через всю историю нашей партии. С первых дней Октябрьской революции наш рабочий класс явился знаменосцем борьбы за дружбу с Советским Союзом».
Георгиу-Деж рассказывал об одном манифесте того времени. Аргези помнит этот документ. Кочя передал его узникам тюрьмы «Вэкэрешть»: «Протянем русским братьям нашу могучую мозолистую руку солидарности и братства. Они ведут самую ожесточенную героическую борьбу за освобождение всех народов», — призывали румынские рабочие.
А далее Деж говорил о чувстве долга, о совести перед памятью. «Никогда не забудет наш народ, что в своей борьбе за освобождение родины от фашистского ига он получил мощную братскую интернациональную поддержку советского народа. Никогда не вытравится из сердца румынского народа горячая признательность к героическим солдатам и офицерам победоносной Советской Армии, пролившим кровь за освобождение нашей страны. В годы народной власти между Румынией и Советским Союзом установились отношения искренней дружбы и братства».
Об этих отношениях искренности и братства писал и Аргези после возвращения из СССР. И он очень был рад тому, что его чувства совпадают с чувствами, выраженными руководителем компартии и Румынского государства.
«В СССР я встретился со многими выдающимися представителями советского народа и вынес твердое убеждение, что Советский Союз относится к Румынии как к настоящему другу. Все, что я там увидел и услышал, можно выразить одним словом: ДРУЖБА. Живопись наших мастеров пользуется у советских людей большим уважением: ДРУЖБА. Румынская народная музыка и музыка Энеску встречена в театральных и концертных залах бурными овациями: ДРУЖБА. Советские издательства готовят к печати в переводе на русский произведения наших авторов: ДРУЖБА.
Можем ли мы ответить Советскому Союзу чем-либо иным, кроме как этим святым чувством дружбы?»
Для того чтобы подвести черту под длившимся многие десятилетия спором между двумя выдающимися деятелями румынской культуры — Тудором Аргези и Николае Йоргой, автор считает полезным познакомить читателя с признанием Аргези, обнародованным недавно румынской газетой «Luceafarul».
Литературный критик Василе Нетя приводит неизвестный рассказ великого поэта о его взаимоотношениях с Йоргой. Когда Аргези находился в тюрьме «Вэкэрешть», Йорга принес ему декрет об амнистии, сказав при этомз «Жду вас в редакции. Я хочу превратить «Румынский род» в первую газету страны. С вами я этого непременно добьюсь».
«В редакцию «Румынского рода» я не пошел ни тог-да, ни позже, — рассказывал Аргези. — Йорга злоупотреблял понятием «патриотизм», полемизировал неистово, считаясь только со своим пониманием… Я понимал патриотизм, а заодно и публицистику иначе и поэтому не мог идти к Йорге. Через год или два мы встретились случайно на улице. И он, подняв палец, сказал со значительностью:
— Ваш стул до сих пор свободен. Приходите!
Но я не пошел и на этот раз. Что за этим последовало, известно. Моя литература не нравилась ему совсем. И долгие годы «Румынский род» нападал на меня непрерывно, стремясь изгнать меня из румынской литературы как нечистую силу. Мне преграждали путь к любым премиям, к любому официальному признанию. Некоторое время мне это казалось забавным, но потом все надоело, и я решил отвечать. Сначала в «Записках попугая», затем и в других изданиях. Полемика между нами была резкой, ожесточенной. Я не подозревал, что к Йорге подкрадывался черный смертельный час… Это был ужасный, жестокий час, заставший меня врасплох. Он лишил меня возможности признаться Йорге в чувстве уважения, которое я испытывал к нему всегда. Я мало кого уважал так, как Йоргу, и, можно сказать, даже любил. Это был исключительный человек, пламя страстей бушевало в нем до самого последнего мгновения. Он — настоящая глыба человеческой культуры. Когда узнал о его гибели, я заплакал и всегда буду сожалеть о том, что этот большой ученый так и не узнал о моих настоящих чувствах к нему. И сегодня мне больно, что я принес ему столько огорчений, как досадно и то, что этот ученый из ученых не мог преодолеть те разногласия, которые разделяли нас с такой неизбежностью» («Лучафэрул», 12 мая 1979 г.).
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1
Десять последних лет жизни Тудора Аргези пронеслись как вихрь. Каждый день в центральной румынской печати появлялись стихотворения и публицистические выступления писателя-гражданина, он откликался на все проблемы развивающегося социалистического мира. За эти годы он издал десять новых поэтических книг, несколько томов новой прозы. По решению правительства начинается выпуск его собрания сочинений в шестидесяти томах. Директор государственного издательства художественной литературы Румынии, давний друг и поклонник Аргези поэт Ион Бэнуцэ не раз обсуждал с писателем проспект и содержание будущего самого крупного из когда-либо издававшихся в Румынии собрания сочинений. Заказывается специально для этого издания предназначенная бумага, особое шелковое переплетное полотно. Первые же тома, увидевшие свет при жизни Аргези, сразу показали, насколько ошибочным было мнение тех, кто считал Тудора Аргези только поэтом! Лишь пять первых томов содержат его поэтическое творчество. Остальные — прозу, публицистику, драматургию, литературные портреты, театральную критику, искусствоведение, один том — это книга литературных кроссвордов… Не было области культуры и общественно-политической жизни, которых бы не коснулось перо Аргези. Особый интерес вызвал сборник его публицистики «С тросточкой по Бухаресту».
30 апреля 1965 года Венский университет присуждает Тудору Аргези премию имени Готфрида фон Гердера «За плодотворную деятельность на поприще мирного взаимопонимания между народами». В решении жюри отмечается, что Аргези «в своей поэзии и прозе запечатлел образ человека и окружающий его мир с удивительной пластичностью и огромной глубиной, с поразительными по богатству языковыми средствами, создав тем самым подлинное зеркало жизни. Смелость, с которой Тудор Аргези вскрывает жизненные противоречия и конфликты, художественное мастерство, целеустремленность его сатиры, свежесть образов, многоцветное богатство содержания придают творчеству Аргези значение, далеко выходящее за пределы его страны».
В 1965 году, в день восьмидесятипятилетия, Тудору Аргези присваивается звание Героя Социалистического Труда, его день рождения становится всеобщим праздником. Но писатель не успокаивается. В одной из его последних песен говорится: «Я как кафтан воеводы, что теплыми пальцами толпы соткали; наряд, сотворенный страдальцами неисчислимыми; целым народом подавленным. Я так бездонно богат! Так блестящи и новы складки в шелку моем, в шуме и шорохе явленном! Лишь уцелевшие нити старинной основы все еще ропот свой замерший помнить готовы».
Нити старой основы ропщут, поэт не находит успокоения, его тревожит собственная слава…
На полку над рабочим столом Аргези ставил томик за томиком ленинские работы на французском, немецком и русском языках. С начала издания Полного собрания сочинений Ленина на румынском языке он снова «брал уроки у Ленина», как часто говорил он друзьям. Очередной том, очередной урок. Вот ленинская статья «О национальной гордости великороссов». Он знает ее с 1915 года. Тогда русскую газету «Социал-демократ» принес Николае Кочя. Они пытались перевести ее на румынский. Потом Кочя, вернувшись из Советской России, напомнил об этой статье. Он с восторгом рассказывал о том, как Ленин и его партия ведут ожесточенную борьбу за создание невиданного в истории человечества братства народов России.
Строки работы Ильича. Сколько раз находил Аргези опору в этих словах:
«Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! Либеральные и радикальные министры Англии, бездна «передовых» публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма казенных, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и «марксистских») писак России — все на тысячи ладов воспевают свободу и независимость «родины», величие принципа национальной самостоятельности… Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов… Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть… Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы
особенно ненавидим
свое рабское прошлое…»
[44]
Аргези подчеркнул эти строки и подумал, что вот бы поехать еще раз в Советский Союз, познакомиться со всеми республиками, с малыми, поднятыми Советской властью к свету народами и начать ту давно задуманную книгу под названием «Дружба».
Аргези продолжает работать над образом Ленина. Он пишет, что «рукою Ленина водил по страницам истории рабочий класс, все человечество». С именем Ленина он связывает полет Юрия Гагарина. «Ленин проложил на земле проспект Октябрьской революции, Гагарин рукою советского народа проложил проспект Ленина во Вселенной». Крепость социализма, напоминал все время Аргези, в верности пролетариату, Ленину и ленинизму. «Ленин постоянно присутствует во всех проявлениях разума и таланта. В литературе, в живописи, в песнях мы, служители новой эпохи, чувствуем добрым взгляд своего старшего брата Ильича». Тудор Аргезипишет восторженные строки о представителях русской и советской культуры, публикует
в печати свои эссе о МХАТе, об искусстве народного артиста Грибова, о волшебной скрипке Давида Ойстраха. Советский народ он образно сравнивает с гигантом, прислонившим после трудового дня молот к Кавказским горам. Вечером гигант берет скрипку, касается смычком струн, и над миром льются волшебные мелодии.
Тудора Аргези глубоко заботит качество переводов на румынский язык русской и советской литературы. Ознакомившись с переводами Маяковского, он замечает; «Маяковский столь велик, что его необходимо переводить с заботой и осторожностью, с которой смелые альпинисты пытаются преодолевать Эверест».
Они с Параскивой часто вспоминают поездку в Советский Союз, и когда он пишет что-либо для своей будущей книги, читает ей.
— Знаешь, Параскива, — сказал он однажды, — я написал письмо Чехову Антону Павловичу. Сядь, послушай.
Параскива незаметно поставила чашечку с кофе на угол стола. Аргези начал читать:
— «После пьесы «Три сестры», поставленной в Бухаресте с участием Грибова, я еще не писал Вам. Позвольте обратиться.
До сих пор я знал Вас чисто внешне, точнее, печатно. Но и того, что я успел прочесть из написанного Вашей рукой, признаюсь, это не очень много, вполне достаточно для того, чтобы поместить ваш образ в алтарь, среди дорогих мне божеств. Каждый словоискатель, будь он незаметным или великим (степени эти весьма условны, сочинители ведь не состязаются в скромности и застенчивости), располагает своим собственным вдохновением, скитом, своим крошечным храмом и иконостасом. За ними он прячет своих литературных мучеников, к которым питает наибольшую слабость. Не знаю, по душе ли Вам это слово, но в моем языке
слабость означает еще душевность и любовь. Мы, погонщики слова, пребываем в семье древнего хора, который поет без устали с того самого дня, когда зазвучал впервые его голос. Иные голоса уже умолкли, но они не затерялись бесследно. Остается навечно гениальное эхо, прелесть и волшебство его никогда не погаснет. В общей мелодии поющих алтарей угадываются мотивы песен всех священнослужителей поэзии от Гомера до Вас и дальше, до сегодняшнего дня.
Я был в Вашем доме, в Москве, и Вы приняли меня как принимают друзей. Этот дом такой же, каким Вы его оставили, окрашен в те же цвета, правда, поблекшие немного от времени, вход такой же узкий, как в начале века. Я постучался своим перстнем и вздрогнул: на дощатой двери не тронутая временем небольшая металлическая полоска и надпись: «Доктор Чехов». В эту же дверь стучался когда-то и был впущен нищий больной, приехавший издалека, чтобы его выслушал своим ухом всезнающий доктор. Больной этот не ведал, что доктор страдает той же болезнью, он слаб и немощен и сам не находит способа избавления от безжалостной болезни.
Но исцеление для души приносила Вам ручка. Я видел эту ручку на рабочем столе между двумя подсвечниками, положенную пером на край чернильницы с высохшими чернилами. Я взял ее и подержал тремя пальцами, как держали ее Вы, когда писали, и не могу не признаться: мои пальцы вздрогнули. Вы любили писать при свечах. И я понимаю — то, что рождалось при свете лучины и свечи, получалось лучше, чем то, что пишется сейчас при электричестве и выходит под стук пишущей машинки.
Сестре Вашей исполнилось девяносто лет и она ведает музеем Чехова в Ялте: Вы знаете об этом? Вашей жене Книппер-Чеховой восемьдесят четыре, она — народная артистка Художественного театра, того театра, который побывал и у нас в Бухаресте. Сейчас в Лондоне находится Большой театр. Вы, наверное, не знаете, что английские зрители — консерваторы, лорды и лейбористы — раскупили все билеты задолго до премьеры. Любимый мой, перед русским искусством преклоняются все народы земли.
Я могу еще поведать, что посетил всех ваших современников, может быть, современников не по календарю, а по занятиям й идеалам: каждый из них носил в своем портфеле рукопись, предвидевшую наступление ленинской эпохи. Толстой, Гоголь, Достоевский, Пушкин, Горький приняли меня как брата. Они соблаговолили беседовать со мной. Толстой подарил мне букет незабудок из своего сада, жена моя хранит его в шкатулке, этот цветок и в Румынии называется «не забывай меня».
Могу ли я забыть стольких друзей и не признаться в том, как я люблю их? В доме Горького ко мне на колени прыгнула кошка и ласкалась. Может быть, бабушка этой кошки сидела на коленях
у Горького?
Разрешите ли Вы мне, доктор Чехов, считать себя, в меру способностей, Вашим другом и другом всех Ваших друзей и учеников?
Вас обрадует, наверное, весть о том, что поток советских людей, идущих к Вашему дому, все увеличивается. Они приносят Вам цветы и любовь. Вокруг стола, за которым работал Антоша Чехонте, рабочие и интеллигенция, осуществившие революцию и продолжающие ее величественное дело, читают вслух то, что выходило из-под вашего пера».
Аргези подписался.
— Поставь и мою подпись, — сказала Параскива.
В их доме впервые за долгие годы появилась хорошая мебель, два кресла и диван в гостиной — мягкие сиденья, удобные подлокотники, плюшевая обивка. Аргези подолгу сидел в кресле и однажды сказал Митзуре совсем неожиданно:
— Как здорово, дочка, сидеть в таком кресле, как приятно отдыхать с непривычки!
— Так отдыхай, Тэтуцуле, отдыхай, если тебе хорошо! — воскликнула Митзура.
— Мягкая мебель располагает к лени, дочь моя… Если бы все это появилось у меня давно, я бы, наверное, стал лентяем… — И засмеялся.
Но он никогда не был лентяем и не стал им и после приобретения мягкой мебели. День и ночь он перечитывал, перепечатывал, сравнивал с давними первоисточниками каждую строчку томов своего собрания сочинений. А было этих страниц, разбросанных по сотням изданий почти за семьдесят лет непрерывного литературного труда, десятки тысяч. Вот жаль только, что по нелепой случайности погибла огромная переписка с выдающимися литераторами, художниками, музыкантами, артистами и политическими деятелями Румынии и многих стран. Несколько недель трудились Митзура и Баруцу над сортированием переписки, хранившейся в архиве. Потом каждое письмо просматривал сам Аргези. В одну сторону откладывал ненужные, малозначительные письма, в другую — те, которые должны были составить два-три тома интереснейшей переписки. Когда все было отобрано, подозвал помогавшую им по дому женщину и сказал:
— Вот бумага. Та, что справа, пусть лежит, слева — сожгите…
И случилось непоправимое: женщина сожгла письма, находившиеся слева от нее. Писатель уже привык, что огонь преследует его всю жизнь, — сгорели вместе с Национальным театром рукописи переводов сочинений Мольера, чуть не сгорел весь Мэрцишор весной сорок четвертого, когда англо-американская авиация бомбила Бухарест… И вот эти письма. Но делать нечего. И он успокаивает себя работой.
«Весна! Ты с моею родимой страною встречаешься, будто с сестрицей-весною… В преддверье надежды, в канун возрожденья встречаетесь вы — две весны, два цветенья».
Была весна 1964 года. И расцветали сады.
Земля в весеннем цветении воодушевляла писателя, придавала ему молодость и силу. Вот как откликнулся он в ту весну на просьбу написать для «Правды» небольшую заметку о Первомае.
«Ты проснулся?
Рассказать тебе сказку?
Бывало, раз в год приходила к воротам сада Мэрци-шора девушка несказанной красоты.
Все девушки Мэрцишора были красивы, но эта превосходила красотою своей всех девушек Бухареста. Не раз пытался я передать на полотне образ ее и сожалел горько, что не родился живописцем. И не было у меня ни кистей, ни подходящих красок. Не было ни заколок с брильянтами для ее вьющихся локонов, что рассыпались водопадом, прикрывая младые, готовые горлинками взлететь груди. Ни голубого цветка цикория для синевы ее глаз не было, ни лепестков роз для алых губ… Я бы развел эти краски на утренней росе. Но красок не было. И тогда я подумал, что, будь у меня звездные капли,
я бы сегодня ночью нарисовал ее образ на белой стене нашего дома, появившегося тоже как из сказки.
— Я День Первого мая, — сказала она. — Ты назови меня как хочешь — Кэтэлиной, Миорицей, Девой мечты. Как ни назовешь, я та же — День Первого мая.
За девушкой кружились хороводы птиц и белых бабочек. Птицы пели и щебетали, украшали собою деревья сада. И оттуда, от белых цветов, перекатывались волны всех ароматов цветов, лесов и лугов мира. И над ними шла девушка. Но не одна. Она никогда не приходила в наш сад одна, а со своим отцом, огненных дел мастером.
И девушка сказала:
— Назови его как считаешь и как хочешь. Он Человек Труда. Пока я пела, он творил чудеса своими руками, своим умом, сердцем, терпением и вдохновением. Он разумно созидает, рушит старые времена и творит новые, придает жизнь тому, кто в агонии, воскрешает жар молодости, любовь к людям и добрую волю, приносит спокойствие, изобилие, радость и мир.
Ты услышал, сын, сказку мою?
Это явь.
Сон твой был глубоким.
Но ты проснулся.
Ты пойдешь вперед, дальше, потому что это только начало сказки.
Сегодня день Девы, день Труда, ее Праздник.
Это твой праздник, Человек, Победитель, Созидатель, брат мой».
2
Параскива вошла к нему сильно встревоженная и опечаленная. Он чувствовал, что произошло что-то страшное. Нечасто на лице Параскивы такая печаль.
— Умер Деж, — сказала и села рядом с мужем. Она знала, как горячо любил Аргези Георгиу-Дежа, как восхищался простой, прирожденной рабочей мудростью, спокойствием, глубиной мысли и доступностью этого человека. В разговорах с ней он называл Дежа «наш Георгицэ», ласковым именем, которым называют только близких и родных. На смерть Георгиу-Дежа (19 марта 1965 года) Тудор Аргези написал выдержанный в глубоком народном стиле проникновенный плач, назвав его «Георгицэ, сынок». Показывая жене, сказал:
— Видно, мне суждено проводить
туда всех своих друзей. Тебя же я прошу, Пуйкэ, не уходи раньше меня, не оставляй меня одного.
Это была единственная просьба Тудора Аргези, которую Параскива не выполнила.
В том, как вела себя жена, как разговаривала, шагала, в привычных движениях, с которыми подавала она ему кофе, в ее взгляде он впервые за эти пятьдесят шесть лет совместной жизни заметил еле уловимые изменения:
— Что с тобой, родная?
— Да ничего, немного устала, годы, наверное…
— Какие годы? Ты у меня молодая. Вот я уже совсем старый, на десять лет старше тебя… — И шутит: — Почему ты взяла меня такого старого, а?
— Ну ладно, я уже об этом говорила тебе… Звонил сегодня Бэнуцэ. Сказал, что одиннадцатый том скоро выйдет… — Параскива тихо ушла. Он заметил, что она прихрамывает.
— Что происходит с мамой? — спросил встревоженный Аргези Митзуру.
Дочь решила сказать ему все:
— Маму нужно показать серьезным врачам, Тэтуцуле. Обязательно.
И Аргези написал своему давнишнему швейцарскому другу, знаменитому профессору Францискетти.
После 1956 года семья Аргези приезжала в Швейцарию почти ежегодно. Тудор Аргези терял зрение. В 1958-м один глаз совсем перестал видеть, и швейцарские профессора Францискетти и Манн держали его под особым наблюдением. На этот раз, в 1966 году, они выехали в Швейцарию всей семьей. Францискетти ничего утешительного сказать не мог:
— Положение вашей жены безнадежно. Перед этой болезнью медицина беспомощна.
Из Женевы они вылетели самолетом. Аргези впервые поднялся в воздух над страной Вильгельма Телля.
— Посмотри, Параскива, как выглядят горы!
Параскива медленно повернула голову к иллюминатору. Швейцарские горы показались ей стадом гигантских животных, замерших по пути к океану. Спины животных темно-зеленые — это леса, а на их боках мелкие квадратики посевов, садов и виноградников, между гор речки, голубые глаза озер, белые, тесно прижатые друг к другу кубики.
— Смотри, мне кажется, что шел по этим горам гигант, брал пригоршнями из огромного мешка эти кубики и разбрасывал их. Видишь?
— Да, вижу. Это дома?
— Да, дома… — Аргези хотел, чтобы она посмотрела еще на эти горы, на разбросанные кубики, но Параскива уронила голову, закрыла глаза и попросила у Митзуры воды…
Тудору Аргези не хотелось верить швейцарским профессорам. Был ведь и он приговорен когда-то врачами. Прошло с тех пор двадцать шесть лет. Может быть, может быть…
Параскива скончалась в пятницу 29 июля 1966 года в пять часов вечера. И тогда Тудор Аргези сказал Баруцу и Митзуре: «Это самая большая несправедливость природы ко мне. За что?» По его настоянию Параскиву похоронили в Мэрцишоре, в нескольких шагах от дома, под разросшимся орехом, посаженным ими в 1926 году.
— Тут же похороните и меня, — сказал он детям, — под простой плитой. Вот надписи для мамы и для меня. На моей осталось приписать только дату…
Он не мог себе представить, что останется когда-нибудь один, без нее. Они никогда не говорили друг другу о смерти, о том, что настанет такое время, когда их не будет. Естественный ход жизни сам собой разумеется, а говорить о том, что само собой разумеется, в семье Аргези не было принято. И все же он тайно надеялся, что они уйдут из этого мира одновременно, хотя из опыта долгой жизни знал, что так случается чрезвычайно редко. И вместе с тем… Вместе с тем он не понимал, как сможет жить без Параскивы. За пятьдесят шесть лет совместной жизни он привык к тому, что она есть, так же как знаешь, что у тебя есть глаза, руки, что существуешь ты сам… Параскива не была какой-то его частью, Параскива была для него то же самое, что он сам, и уход Параскивы из жизни он считал своим собственным уходом. Ни его близкие друзья, ни его дети не понимали этого, ему чаще всего казалось, что они не в состоянии этого понять. В час смерти жены Аргези написал: «Сотрите мое имя — оно уже никому не нужно… У меня было с кем и было для кого писать. Сейчас слова мои осиротели. Подруга моей жизни медленно погасла и растворилась в тумане. Нет уже вечера и утра тоже нет».
Тудор Аргези ищет свою Параскиву, ему хочется верить, что она не ушла, что она где-то есть. Он пишет прекрасную поэму о ее трудовой жизни, о ее не знавших устали руках. Поэма называется «Параскива Бурда из буковинского села Бунешть».
Стихотворение «Тебе, которая…».
«Чуть приоткрываю дверь пустой комнаты. Подушка сохраняет глубокий след твоей головы. Около кровати — осиротевшие плюшевые тапочки. А в доме твоя неясная тень. С тех пор как ты ушла, она впервые показалась. Хоть тенью оставайся, умоляю тебя».
Дети стали замечать, что по пятницам он ложится на кровать, закрывает глаза и подолгу не встает. «Хочу умереть тоже в пятницу, как
она», — признался он Митзуре. Мысль о том. что он не может больше жить без Параскивы, преследует Аргези ежеминутно.
— Тэтуцуле, я принесла тебе поесть.
— Я же говорил тебе, Мицу, что не буду есть, я не хочу… — Потом сказал: — Видишь, все забыли о ней, никто ее не вспоминает…
— Неправда, Тэтуцуле. Не говорят, чтобы не тревожить твою боль, ты что, не понимаешь это?
— Я все понимаю. Сядь, давай поговорим о ней.
И они часами вспоминали Параскиву.
— Как хорошо, что мы обо всем договорились при ней, что она была согласна с
этим, — сказал он, когда специальный курьер принес благодарственное письмо Совета Министров. Правительство Румынии благодарило Аргези за безвозмездную передачу Мэрцишора государству.
Это было общее решение семьи Аргези.
…Когда-то до войны в надежде на получение больших гонораров Аргези планировал построить на территории Мэрцишора клуб, библиотеку
и поликлинику для бедноты. Потом, после войны, задумал поставить здесь несколько домиков для талантливых, материально плохо обеспеченных литераторов. Но и этому не дано было осуществиться.
Сейчас у него не оставалось больше никаких дел. И он позвал Митзуру и Баруцу.
— Я все закончил, — сказал он спокойно. — После ухода матери мне оставалось еще прочитать для издательства десять тысяч страниц. Все сделано. Я всегда учил вас быть твердыми и не проявлять слабости даже в самых трудных обстоятельствах. За эти одиннадцать месяцев после ухода матери я сам проявлял эту слабость. Вы простите меня за это… А сейчас, прошу, принесите лист бумаги и карандаш.
Он пытался написать твердой рукой, чтобы буквы получились ровными и аккуратными, как всегда. Вывел четко:
Я слушаю твой зов издалека,
Ты не томись, родная, я догоню тебя…
Это было 12 июля 1967 года.
В пятницу вечером 14 июля 1967 года Тудор Аргези скончался. Врачи установили, что он не страдал никакой болезнью. Причина смерти — тоска.
Ему были устроены национальные похороны. В здании Атене перед его гробом проходил весь Бухарест, делегации со всей страны. Отдать последний долг великому поэту и гражданину приходили люди с разных концов земли, оказавшиеся тем жарким летом в Румынии. В воскресенье в десять часов утра в почетном карауле стояли руководители коммунистической партии и Румынского государства. Генеральный секретарь коммунистической партии Николае Чаушеску, председатель Государственного Совета страны Киву Стойка подошли к осиротевшим Митзуре и Баруцу… 18 июля Тудора Аргези опустили в могилу рядом с Параскивой под ветвистым орехом и общим крестом, который они несли вместе всю жизнь.
1964–1979 гг.
*
Эта книга — первая попытка познакомить советского читателя с жизненным путем великого сына румынского народа, столетие со дня рождения которого по решению ЮНЕСКО отмечается во всем мире 21 мая 1980 года.
Автор приносит свою благодарность всем лицам и организациям в СССР, Румынии. Швейцарии, Франции и Италии, оказавшим ему помощь материалами, советами, воспоминаниями, советским журналистам Алексею Гребневу, Льву Володину, Георгию Зубкову, Матусу Розенфельду, а также вице-президенту Женевской ассоциации писателей Жан-Пьеру Лобшеру, швейцарской художнице-фотографу Мишели Депре и директору Библиотеки Организации Объединенных Наций Теодору Димитрову, библиотекам Лондонского и Женевского университетов, библиотеке Академии Социалистической Республики Румынии.
Фотографии и графический материал представлены Митзурой и Баруцу Аргези, писателями Ионом Бэнуцэ, Паулом Ангелом, Ионом Иля, Даном Замфиреску, академиком Шербапом Чокулеску, сыном Скарлата Каллимаки журналистом Дмитрием Каллимаки. библиотеками Академии Социалистической Республики Румынии, Женевского и Лозаннского университетов, библиотекой Ватикана, ректоратом Венского университета, бывшей сотрудницей Оружейной палаты Кремля Л. В. Писарской.
В книге использованы рисунки Тудора и Митзуры Аргези, выполненные ими в разные годы, иллюстрации из «Записок попугая».
Переводы многих вошедших в эту книгу стихотворений осуществлены Новеллой Матвеевой. Включены также стихи в переводе Анны Ахматовой, Эм. Александровой, Андрея Вознесенского, II. Гуровой, И. Кнуру, К. Ковальджи, В. Корчагина, В. Левика, Н. Павлович, Н. Подгоричани, Д. Самойлова, А. Седыка, Н. Стефановича, А. Штейнберга, Эллиса, Н. Энтелиса.
Переводы стихотворений, написанных Аргези белым стихом, отрывков из его романов, памфлетов и таблет, а также других материалов из румынских источников осуществлены автором.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ТУДОРА АРГЕЗИ
1880, 21 мая — В Бухаресте родился Ион Теодореску.
1887–1891 — Ион Теодореску учится в городской начальной школе «Петраке Поенару».
1891 — Ион Теодореску покидает родной дом, сам зарабатывает себе на жизнь.
1891–1896 — Ион Теодореску учится в бухарестском лицее «Святой Савва».
1891 — Создается дружеское творческое объединение «Созвездие Лиры».
1897–1899 — Работает лаборантом, а затем заведующим лабораторией сахарного завода «Китила» близ Бухареста. Печатает стихи в «Современном журнале» и в журнале «Новая жизнь» за подписью «Тудор Аргези».
1899, зима — Уходит в монастырь Черника.
1904, 15 апреля — Вместе с Галой Галактионом и Василе Деметриусом выпускает первый номер двухнедельного литературного журнала «Правильная линия»
1904, конец ноября — Уезжает в Швейцарию в Фрибургский монастырь иезуитов. По пути останавливается в Париже.
1905, лето — Покидает монастырь иезуитов и переезжает в Женеву.
1910, 10 февраля — В бухарестской газете «Социальная жизнь» публикуется стихотворение Тудора Аргези «Вечерняя молитва».
1910 — Тудор Аргези приезжает из Швейцарии в Бухарест. Женится на Параскиве Бурда.
1911, январь. Начинает сотрудничество в издаваемом Николае Кочей журнале «Факел»
1912 — Издает в своем переводе «Записки из мертвого дома» Достоевского.
1913, 21 марта — 18 октября 1914 — Редактирует общеполитическую ежедневную газету «Вечер».
1915, 12 февраля — 3 июля 1916 — Издает вместе с Галой Галактионом литературный еженедельник «Хроника».
1918–1921 — За антивоенные выступления арестован и посажен в тюрьму «Вэкэрешть».
1922 —
Редактирует газету «Румынская мысль».
1923 — Начинают выходить главы из книги «Воспоминания иеродиакона Иосифа».
1927, апрель — Первая книга стихотворений Тудора Аргези «Подогнанные слова».
1928, 2 февраля — Выходит первый номер «Записок попугая».
1930 — Выходят книги «Черные ворота» и «Деревянные иконы».
1931 — «Книга игрушек». Аргези начинает перевод полного собрания сочинений Мольера.
1933–1936 — Книги «Таблеты из страны Кути», «Глаза божьей матери», сборник стихов «Вечерняя книжка», том избранных стихотворений «Стихи» и роман «Благовещенье».
1937 — Аргези получает разрешение на выпуск второй серии «Записок попугая». Появляется книга «Что тебе надобно от меня, ветер?».
1939–1941 — Болезнь Тудора Аргези.
1943, 1 октября — Выход памфлета «Эх ты, барон!».
1943, 1 октября — 1944, январь — Арестованный Аргези содержится в лагере для политических заключенных Тыргу-Жиу.
1944, декабрь — 1945, февраль — Выход новой серии «Записок попугая».
1946 — Выход «Учебника практической морали» и сборника «Избранные стихотворения».
1946, январь — Тудору Аргези присуждается первая Национальная премия за поэзию.
4 апреля — На сцене Национального театра состоялась премьера пьесы Тудора Аргези «Шприц».
1948–1951 — Тудор Аргези издает в своем переводе «Недоросль» Фонвизина, «Басни» Крылова, «Молох» Куприна, «Мертвые души» Гоголя, «Матушка Кураж и ее дети» Брехта, произведения Анатоля Франса, Франсуа Рабле, работает над поэмами «1907» и «Песнь человеку».
1951, 10 апреля — Газета «Универсул» публикует призыв Тудора Аргези ко всем миролюбивым силам защитить завоеванный в трудной борьбе мир.
1955 — Появляется книга «Страницы былого», поэма «1907». Тудор Аргези избран членом Румынской академии наук, Президиум Великого национального собрания страны награждает его орденом Труда первой степени.
1956 — Выходит «Песнь человеку».
Июль — Тудор Аргези в составе правительственной делегации выезжает в Москву для участия в торжествах по случаю передачи правительству Румынии художественного фонда, сохраненного в СССР.
1957 — Выходят книга «С дороги» о поездке в Москву и Ленинград и сборник «Пестрых стихов». Тудору Аргези присуждается Государственная премия Румынии за поэзию, он избирается депутатом Великого национального собрания.
1960, 21 мая — Восьмидесятилетие писателя отмечает вся страна. Награжден орденом «Звезда республики» первой степени.
1965, 30 апреля — Венский университет присуждает Тудору Аргези Гердеровскую премию.
1965, 21 мая — Государственный Совет СРР присваивает Тудору Аргези звание Героя Социалистического Труда.
4 ноября — Тудор Аргези избран членом Сербской академии.
1966, 29 июля, пятница — Умирает Параскива Аргези.
1967, 14 июля, пятница — Умирает Тудор Аргези.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Отец писателя Нае Теодореску.

Александру Мачедонски.

Ион Лука Караджале.

Гарабет Ибрэиляну.
«СОЗВЕЗДИЕ ЛИРЫ»

Ион Н. Теодореску.

Гала Галактион.

Василе Деметриус.

Николае Кочя.

Иеромонах Иосиф, автопортрет.

Общий вид монастыря Черника.

Обложка первого номера журнала «Правильная линия».

Лозаннская газета «Голос народа» от 17 июля 1909 года, в которой опубликовано свидетельство об установлении за Аргези политической слежки.

Часовых дел мастер Ион Теодореску. Женева, 1907 г.

Параскива, жена Аргези. 1913 г.

Тудор Аргези с Параскивой и сыном Элиазаром. Август 1915 г.

Обложка журнала «Хроника» от 24 мая 1915 года.

Список осужденных журналистов. Среди них директор «Хроники» Тудор Аргези.

Тудор Аргези, 1925 г.

Семья Аргези во время строительства Мэрцишора.

Семья Аргези — Тудор, Параскива, Митзура и Баруцу.
Ноябрь 1930 г.

«Красный принц» Скарлат Каллимаки и Николае Кочя.
КРУГ АВТОРОВ «ЗАПИСОК ПОПУГАЯ»

Заголовок 101-го номера «Записок попугая».

Феликс Адерка.

Отилия Казимир.

Михай Раля.

Михаил Садовяну.

Эуджен Жебеляну.

Лауренциу Фулга.

Георге Топырчану.

Михай Бенюк.

Джеордже Лесня.

Джео Богза.

Тудор Аргези, директор «Записок попугая».

Александру Сахия.

Константин Нисипяну.

Мария Бануш.

Чичероне Теодореску.

Тудор Аргези. Автопортрет, 23 марта 1931 г.

Гала Галактиону 50 лет. Рисунок Тудора Аргези.

Лев Толстой. Рисунок из номера «Записок попугая», выпущенного к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Рисунки Аргези на полях рукописей.

Обложка первого издания книги Тудора Аргези «Подогнанные слова».

Композитор Джеордже Энеску.

Художник Штефан Лукиан.

Тудор Аргези в саду Мэрцишора.
Рисунок художника Пилиуцэ.

Обложка «Книги игрушек».
Рисунок Митзуры Аргези.

Тудор Аргези и Гала Галактион.

Тудор и Параскива Аргези в саду, Мэрцишора.

Тудор Аргези перед арестом.
Сентябрь 1943 г.

Памфлет «Эх ты, барон!» в газете «Информация дня».
1 октября 1943 года.

Параскива Аргези «мама с козлятами» в Мэрцишоре.

Квитанция из лагеря Тыргу-Жиу об уплате 8100 лей за содержание заключенного Теодореску.

Тудор Аргези. 1950 г.

Тудор Аргези, Джеордже Ивашку и Александру Балам на встрече со студентами и преподавателями Бухарестского университета. 1960 г.

Обложка книги «Песнь человеку».

Николай Никитович Захаров.

Страница газеты «Контемпоранул» № 25 (507) от 22 июля 1956 года с репортажем Тудора Аргези о передаче спасенного Румынского художественного фонда.

Прием в Кремле в честь завершения передачи Румынского художественного фонда, 6 августа 1956 г.

Осмотр выставки румынских ценностей.

Семья Аргези в Ленинграде. 1956 г.

Тудоо Аргези у подъезда дома № 14 на Павильонной улице в Женеве, где он жил с 1905 по 1910 год.

Тудор, Параскива и Элиазар Аргези в Мэрцишоре. 1958 г.

Один из лучших портретов Тудора Аргези.
Художник Иосиф Штейрер. 1962 г.

Семья Аргези.
Май 1960 г.

Георгиу-Деж и другие румынские руководители, Тудор и Параскива Аргези среди крестьян Олтении. Апрель 1962 г.

Тудор и Параскива Аргези и Джео Богза.

Интересные собеседники: поэт Ион Бенуцэ, драматург Паул Ангел, академик Шербан Чокулеску.

Тудор Аргези, 1963 г.

Книги Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Куприна, Крылова, переведенные Тудором Аргези.

21 мая 1965 года Тудору Аргези присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его поздравляют Николае Чаушеску и Эмиль Боднэраш.

После вручения награды.

Ректор Венского университета профессор Карл Феллингер вручает Тудору Аргези Гердеровскую премию 1965 г.

Диплом о присуждении Тудору Аргези Гердерозской премии.

Рабочий стол Тудора Аргези.

Параскива и Тудор Аргези.

«Уж сколько лет перо томлю в руках…»
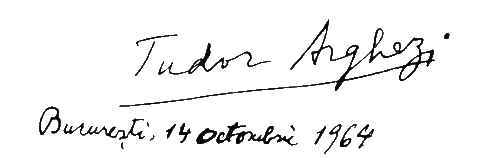
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
В. И. Ленин. Поли. собр. соч, т. 13, 23, 24, 26.
Л. Н. Толстой. Что такое искусство? — Л. Н. Толстой о литературе. М., 1960.
Тудор Аргези. Избранные стихи. М., 1960.
Тудор Аргези, Михай Бенюк. Избранное, М., 1976.
Кирилл Ковальджи. Путь поэта. — «Вопросы литературы», 1977, № 12.
Андрей Лупан. Маржиналий аргезиене. — «Нистру», 1967.
Sub semnul unitatii si prieteniei, Buc. 1962.
Tudor Arghezi. Scrieri, v. 1—30, Buc.
Barutu T. Arghezi. Pasi prin lume, Buc. 1967.
Tudor Arghezi. Versuri, Buc. 1936.
Tudor Arghezi. Poeme noi, Craiova, 1972.
Tudor Arghezi. Pagini din trecut, Buc., 1956.
Tudor Arghezi. Teatru, Buc., 1968.
Gala Galactiоn. Jurnal v. 1–2, Buc., 1976–1977.
Gala Galaction. О lume noua, Buc., 1970.
Nicolae Cocea. Pamflete si articole, Buc., 1960.
Teodor Vargolici. Prietenia literara, Buc., 1975.
Emil Manu. Prolegomene argheziene, Buc., 1968.
Ion Spalatelu. Printre foarfecele cenzurii, Buc., 1974.
Alexandru Bojin. Fenomenul arghezian, Buc., 1976.
Al. Rosetti. Calatorii si portrete, Buc., 1977.
Alexandru George. Marele Alpha, Buc., 1970.
Vladimir Streinu. Eminescu — Arghezi, Buc., 1976.
Ov. S. Crohmalniceanu. Literatura romana intre cele doua razboae mondiale, v. 11, Buc. 1974.
Serban Cioculescu. Introducere in poezia lui Tudor Arghezi.
Serban Cioculescu. Amintiri, Buc., 1975.
Serban Cioculescu. Proza politica a lui Tudor Arghezi, Buc. 1979.
Paul Anghel. Noua arhiva sentimentala, Buc., 1975.
Ion Th. Ilea. Marturisirile unui anonim, Buc., 1974.
Petru Mihai Goreea. Nesomnul capodoperelor, Buc., 1977.
M. Petroveanu. Tudor Arghezi, Buc., 1961.
Scarlat Calimachi. Caderea Babilonului, Buc., 1956.
Nicolae lorga. Istoria literaturii romane, Buc., 1934.
Nicolae lorga. О viata de om, Buc., 1976.
Nicolae lorga. Sfaturi pe intunerec, Buc., 1977.
Vasile Netea. In amintiri si destainuiri, Buc. 1979.
INFO
В 42
Видрашку Ф. К.
Тудор Аргези. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 304 с., ил. — /Жизнь замечат. людей. Серия биогр. Вып. 6 (602)).
1 р. 40 к. 100 000 экз.
В 70302-025 /078(02)—80 263-80
4702010200
ББК 83.34Р
8И(Рум)
ИВ № 2252
Феодосий Константинович Видрашку
ТУДОР АРГЕЗИ.
Редактор Е. Любушкина
Серийная обложка Ю. Арндта
Художественный редактор А. Степанова
Технические редакторы Е. Брауде, В. Савельева
Корректоры Г. Василёва, Г. Трибунская
Сдано в набор 13.11.79. Подписано в печать 07.01.80. А01111.
Формат 84х108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96+17 вкл. Учетно-изд. л. 18,1. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 40 к. Заказ 2014.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.
Примечания
1
Альвица — восточная сладость, напоминающая нугу.
(Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)
2
Румынский род лаптей.
(обратно)
3
Бре — простонародное обращение, прилагаемое к мужскому или женскому имени.
(обратно)
4
Мититеи — маленькие мясные колбаски, поджариваемые на углях.
(обратно)
5
Норок — краткое приветствие, пожелание счастья.
(обратно)
6
Цуйка — сливовая водна.
(обратно)
7
Социал-демократическая рабочая партия Румынии была создана в апреле 1893 года.
(обратно)
8
«Адевэрул» — «Истина»
(рум.).
(обратно)
9
Дромадеры — одногорбые верблюды.
(обратно)
10
«Лумя ноуэ» — «Новый мир»
(рум.).
(обратно)
11
Румынское идиоматическое выражение: не теряй надежды, авось что-нибудь получится.
(обратно)
12
Десаги — перекидные домотканые сумы.
(обратно)
13
Сараилие — пирог на меду
(рум.).
(обратно)
14
Стына — загон для содержания овец.
(обратно)
15
Плоскуца — походный плоский деревянный или металлический сосуд.
(обратно)
16
Таланка — колокольчик из медной жести на шее животных.
(обратно)
17
Сэрмэлуце — небольшие голубцы в виноградном, кленовом или капустном листе.
(обратно)
18
Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами заменено курсивом. (не считая стихотворений). — Примечание оцифровщика.
(обратно)
19
Хиротония — рукоположение, обряд посвящения в одну из степеней священства.
(обратно)
20
«Линия дряптэ», 1904, 15 мая, № 3, с. 48.
(обратно)
21
«Национальная идея, по Йорге, — пишет советский ученый В. Н. Виноградов, — пронизывает всю историю. Нацию Йорга считал, полностью отказываясь от исторического подхода, вечной и незыблемой категорией. Здесь его националистическая доктрина вступила в противоборство со множеством накопленных фактов, наблюдений и частных обобщений, мешая объединить их в единую стройную систему, — написав тысячи работ, Йорга так и не создал цельной исторической концепции, оставшись эклектиком… В идеалистическую схему… никогда не существовавшей единой, неповторимой и неизменной Румынии вгонялись все многообразие и противоречивость отечественной истории.
Классовой борьбе в ней не оставалось места». (Курсив мой. —
Ф. В.) Дунайские княжества появлялись не как феодальные образования, а, как подчеркивал Йорга в своей «Националистической доктрине», «создание всего народа, не знавшего классовых различий» (В. Н. Виноградов. Очерки политической мысли в Румынии. М., «Наука», 1975, с. 395–397).
(обратно)
22
Румынская шутка.
(обратно)
23
Олтения — румынская провинция.
(обратно)
24
У многих может возникнуть вопрос: почему православный митрополит посылает своего человека в католический монастырь? Во втором томе «Истории румынской литературы между двумя мировыми войнами» Ов. С. Крохмэльничану дает следующее пояснение:
«Молодой православный монах был принят в католический монастырь благодаря рекомендации настоятеля бухарестского католического собора святого Иосифа Йозефа Боде, близкого друга митрополита Георгиана. Под скромной мантией настоятеля скрывался генерал ордена иезуитов. После смерти Иосифа Георгиана стало известно, что он в большой тайне принял католичество».
(обратно)
25
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 337–338.
(обратно)
26
Аргези говорил: «Чем больше поэт, тем труднее его перевести. Любой поэт может поднять на своем языке поэта другого народа лишь до своего уровня, Великий Крылов, к примеру, получился по-румынски на уровне моих скромных возможностей».
(обратно)
27
Попоравизм — литературное течение, требовавшее правдивого изображения бедственного положения крестьян.
(обратно)
28
Сэмэнэторизм — литературное течение, получившее название по имени журнала, издававшегося Йоргой. Для течения, как
и для журнала, характерны националистические тенденции. Просветительская деятельность среди крестьян выдвигалась в качестве способа разрешения социальных противоречий.
(обратно)
29
Сигуранца — буржуазная тайная полиция.
(обратно)
30
В мае 1921 года на съезде Социалистической партии Румынии было вынесено решение о создании компартии и присоединении ее к Коминтерну. Этот съезд вошел в историю РКП как ее I (учредительный) съезд. Съезд выразил солидарность с русский! пролетариатом, осудил империалистическую политику развязывания войны против Советской России, призвал к установлению мирных отношений с соседними странами. В апреле 1924 года компартия была объявлена вне закона, со основные кадры были брошены в тюрьмы. Коммунисты Румынии, подвергаясь жестоким репрессиям и террору, работали в условиях подполья до 23 августа 1944 года.
(обратно)
31
В румынском языке слово potrivit имеет множество синонимов: прилаженный, подходящий, ладный, соответствующий, приспособленный, подогнанный и т. д. Аргези использует это слово для названия своей книги, потому что он подгонял, прилаживал слова друг к другу, крепко сбивал их.
(обратно)
32
Тэтуцу — ласкательное от «тата» (отец). В дальнейшем дети обращались к отцу только этим словом. К матери они обращались словом «Мэйкуца».
(обратно)
33
Мэрцишор — мартовский хоровод, подарок детям, любимым.
(обратно)
34
Коммуна — административная единица в сельской местности Румынии.
(обратно)
35
Джинта — племя, люди одного корня, например латинская Джинта.
(обратно)
36
Костяке — упрощенное от Константин.
(обратно)
37
Памятник Жан-Жаку Руссо в Женеве стоит на маленьком острове у самого берега озера Леман.
(обратно)
38
Istoria României. Compendia, Вис., 1970, р. 481.
(обратно)
39
«Dictionar politic», Вис., 1975, р. 263.
(обратно)
40
Istoria Româmei. Compendia, Вис., 1970, р. 528.
(обратно)
41
Istoria Româmei. Compendia, Вис., 1970, р. 528.
(обратно)
42
Эта главка с разрешения Митзуры Аргези написана в «лаборатории» Мэрцишора. С ее помощью воспроизводится обстановка 30 сентября 1943 года, когда был написан памфлет «Эх ты, барон!».
(обратно)
43
Элиазар, завершив образование, женился и остался жить во Франции, стал известным кинодокументалистом, участвовал в Сопротивлении, после войны создал выдающийся фильм о парижском рабочем предместье Обервиль. После 1945 года встречался с родителями неоднократно. Умер в 1969 году, похоронен в Париже.
(обратно)
44
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 106, 107–108.
(обратно)
Оглавление
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ИЗ «ЗАПИСОК ПОПУГАЯ КОКО»
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
*
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ТУДОРА АРГЕЗИ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
INFO
*** Примечания ***