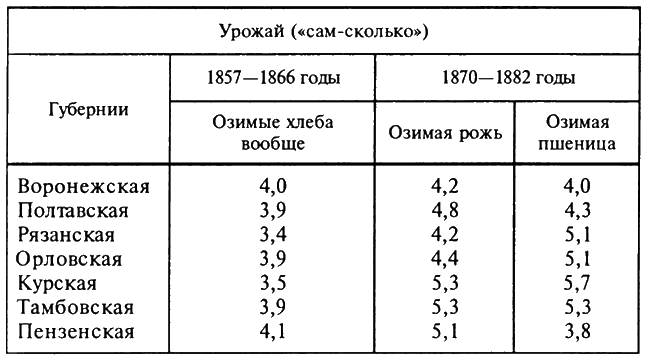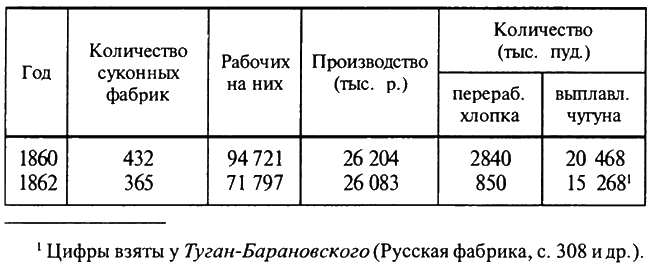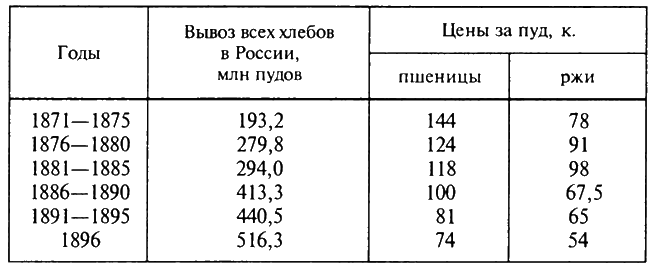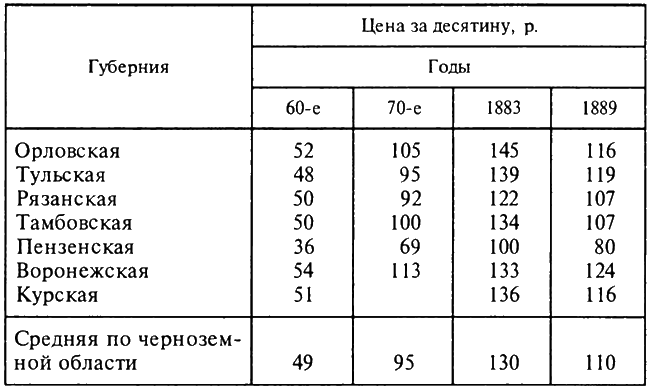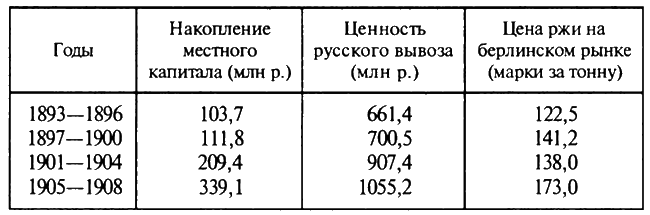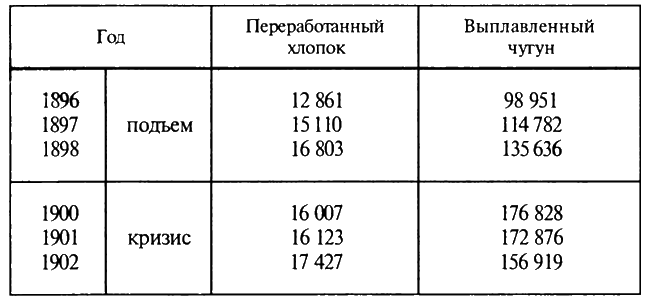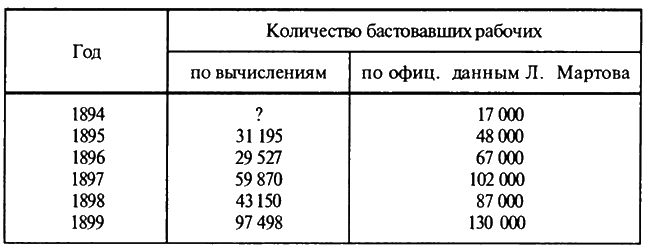Михаил ПОКРОВСКИЙ
РУССКАЯ ИСТОРИЯ
Том 3

*
Серия «Историческая библиотека» основана в 2001 году
Серийное оформление С. Е. Власова
© Художественное оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2002
Глава XIII
Декабристы

Тайные общества
Двенадцатый год: поведение знати; личная роль Александра I ♦ Война и дворянская оппозиция; Ростопчин и мартинисты; «Русские рыцари»; проект республиканской конституции ♦ Отражение войны на декабристах: национализм декабристов ♦ Профессиональные черты движения: офицерство и военные поселения ♦ Оппозиционное настроение широких дворянских кругов; двусмысленность положения русского помещика начала XIX века: денежное хозяйство и крепостное право. Декабристы и крестьянский вопрос: опыт Якушкина ♦ Буржуазные черты движения: конституционные проекты декабристов: отношение к движению современной русской буржуазии; идеология буржуазии 20-х годов ♦ Идеолог буржуазной демократии Пестель и его «Русская правда» ♦ Республиканизм декабристов; его небуржуазное происхождение; заграничные примеры; влияние дворянской традиции
Падение Сперанского означало, казалось, крушение всех «либеральных» проектов Александра Павловича. А так как проекты шли сверху, общество, исключая придворные круги, о них почти не знало, и уже поэтому должно было относиться к ним безразлично, то, казалось, бы, и «общественному движению» должен был наступить конец. На самом деле именно 1812 год явился исходным моментом настоящего общественного движения, отнюдь не вызванного поощрением сверху, и даже по отношению к этому верху все более и более враждебного. Масса среднего дворянства, которую Строганов так презирал, а Сперанский собирался использовать в качестве политических статистов, вдруг выступила на сцену с явной претензией — играть на этой сцене одну из первых ролей.
Явившаяся непосредственным результатом разрыва франко-русского союза война 1812 года нам теперь представляется стройной пьесой, действие которой логически развертывалось по известному плану, где чуть ли не все было заранее предусмотрено: и «скифская» тактика заманивания Наполеона в глубь России, и пожертвование, в случае надобности, даже Москвой, чтобы расстроить «несметные полчища нового Аттилы», и чуть ли даже не взятие Парижа в 1814 году. Но человека, который за два года раньше стал бы предсказывать это последнее событие, в наиболее патриотически настроенных кругах сочли бы слегка тронувшимся, «несметные полчища» были немногим сильнее русской армии, какой она могла бы быть при немного большей предусмотрительности Александра и его министров
[1] — «скифская» же тактика была горькой необходимостью, на которую жаловались все, сверху донизу, тщетно отыскивая виноватого, который «ведет Наполеона в Москву», а о сдаче этой последней не думали серьезно даже накануне Бородина, за две недели до вступления в нее французских войск. А с небольшим за месяц до этого события Александр Павлович считал ошибкой даже отступление к Смоленску и писал Барклаю-де-Толли (от 30 июля): «Я не могу умолчать, что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий нужно было оставить пределы нашей земли, однако же, не иначе как с прискорбностью должен был видеть, что сии отступательные движения продолжались до самого Смоленска… Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми». Барклай сколько угодно мог возражать, что, имея одного солдата против двух французских (таково было соотношение сил перед смоленскими боями), идти вперед — значит идти на верный разгром. Среди высших чинов армии сейчас же нашлись бы люди, гораздо более, чем Барклай, авторитетные в глазах «знати», и которые не задумались бы ни на минуту объявить подобные рассуждения явным доказательством Барклаевой измены. «Без хвастовства скажу вам, что я дрался лихо и славно, господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал, — писал Багратион Ростопчину через неделю после Смоленска, где русским удалось два дня продержаться против «великой армии». — Но подлец, мерзавец, трус Барклай отдал даром преславную позицию. Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь пошел к Дорогобужу, как и он за мною тащится. Посылаю для собственного вашего сведения копию, что я министру (т. е. Барклаю) писал; клянусь вам, что Наполеон был в мешке, но он (Барклай) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю… Ежели бы я один командовал обеими армиями, пусть меня расстреляют, если я его в пух не расчешу. Все пленные говорят, что он (Наполеон) только и говорит: мне побить Багратиона, тогда Барклая руками заберу… Я просил министра, чтобы дал мне один корпус, тогда бы без него я пошел наступать, но не дает; смекнул, что я их разобью и прежде буду фельдмаршалом». Для того чтобы правильно оценить эти заявления «хвастливого воина», на которого в петербургских и московских салонах чуть ли не молились, надо иметь в виду, что только своевременное отступление от Смоленска и спасло русскую армию: промедли Барклай на «преславной позиции» несколько дней, он, без всякого сомнения, был бы «в мешке», а под Бородиным некому было бы сражаться. Но в данном общественном кругу «шапками закидаем» казалось единственной достойнвй России политикой во все времена и на всех театрах войны: под Смоленском и под Аустерлицем, под Севастополем и на реке Ялу. Багратион потерял бы всю репутацию в глазах людей своего круга, если бы не уверял их и не верил сам, что «неприятель дрянь: сами пленные и беглые божатся, что, если мы пойдем на них, они все разбегутся», — как писал он тому же Ростопчину в другом письме. Это писалось о тех самых наполеоновских гренадерах, от которых даже гораздо позже, когда они голодные и обмороженные, отступали из России, кутузовская армия предпочитала держаться подальше. Кутузов был достаточно хитер, чтобы обманывать не Наполеона, как он обещал, а хвастливых воинов и их поклонников: усердно повторяя «патриотические» фразы, он делал то, что было единственно возможно, терпеливо дожидался, пока обстоятельства выведут Россию из тупика, куда ее завели люди, уверенные, что «неприятель дрянь». Как известно, он даже перехитрил, продолжая бояться Наполеона долго после того, как тот перестал быть страшен. Но у всякой добродетели есть своя оборотная сторона.
Для себя лично Александр Павлович усвоил выжидательную тактику гораздо раньше Кутузова. Приехав к армии под впечатлением все того же «шапками закидаем» (в возможность наступательной войны против французов верили еще весною 1812 года, когда, по-видимому, была сделана новая попытка соблазнить поляков, вторично неудачная) и очень скоро убедившись, что предстоит тяжелая оборонительная кампания, Александр сначала отправился в Москву «ободрять население», а затем прочно уселся в каменноостровском дворце, коротая время прогулками в его великолепном парке и чтением Библии. Описание его времяпрепровождения летом 1812 года
[2] служит великолепной иллюстрацией к знаменитым словам Канта о том, как легко достается государям война, столь тяжелая для простых смертных. Возможность повторения 11 марта была страшнее всех успехов Наполеона, но от этой возможности теперь, когда он послушно шел на поводу у «знати», Александр Павлович чувствовал себя прочно гарантированным. Ворота каменноостровского парка никогда не запирались во время царских прогулок и никаких специальных мер не принималось для охраны царского жилища от каких-либо «злоумышленников». Побаивались теперь немного «черни»: рядом с почти преступной небрежностью в подготовке внешней войны довольно тщательно приготовлялись к обороне от «домашнего врага». Императору приходилось специальным письмом успокаивать своих близких, вынужденных оставаться в менее надежных местах, нежели Петербург, доказывая им, что в случае какого-либо волнения» полубатальоны внутренней стражи (по 300 человек на губернию) легко с этим «волнением» справятся. При этом мы узнаем, что ранее по губернским городам для этой цели существовали лишь «штатные роты», не более чем по 50 штыков в каждой: так уже успели позабыться уроки пугачевщины
[3]. При соприкосновении с «чернью» кое-какие меры принимались, впрочем, и в Петербурге: в собор 15 сентября, в годовщину коронации, Александр ехал не верхом, как обычно, а в карете вместе с императрицами. Но «чернь» манифестировала необычайно скромно: не было только слышно обычных «ура», и этого жуткого безмолвия было достаточно, чтоб у придворных Александра затряслись поджилки
[4]. Более смелая, великая княгиня Екатерина Павловна писала в эти дни своему брату: «Не бойтесь катастрофы в революционном роде, нет! но я предоставляю вам судить о положении вещей в стране, главу которой презирают». Она добавляет при этом, что такие чувства не составляют особенности какого-нибудь одного класса: «все единодушно вас осуждают». «Величественное самоотречение» императора, прогуливавшегося в своем парке, когда его солдаты десятками тысяч ложились под неприятельскими ядрами, так же мало входило в предусмотренную публикой программу войны, как и пожар Москвы. В стройную картину все это сложилось гораздо позже.
Представители крупного землевладения, моральные виновники всех бедствий, могли без труда подражать тактике своего государя и его главнокомандующего. У каждого из «знати» были имения в разных углах России — каждый легко мог найти свой каменноостровский дворец достаточно далеко от места военных действий, чтобы шум их не мешал предаваться «самоотречению». В ином положении было среднее дворянство захваченных войной губерний. Уже в московском дворянском собрании Ростопчину пришлось принять кое-какие меры он сам цинически рассказывает об этом, — чтобы обеспечить «восторженный прием» Александра Павловича и правительственных предложений насчет ополчения и иных «пожертвований». Нашлись, по его словам, дерзкие люди, собиравшиеся, со своей стороны, предложить императору вопросы: каковы силы нашей армии, как сильна армия неприятельская, какие имеются средства для зашиты? и т. п. Ростопчин приказал поставить около здания благородного собрания две фельдъегерские повозки (на каких обыкновенно отправляли в ссылку), и этой демонстрации оказалось достаточно, чтобы замкнуть уста дерзким людям. Он их называет
мартинистами Мы не можем судить, действительно ли это были остатки новиковского кружка (несомненно уцелевшие до 1812 года в Москве), или же он просто употребил название, прилагавшееся в те дни ко всяким крамольникам — как в конце XIX века «нигилисты». Ростопчин приписывает своим «мартинистам» планы, шедшие и гораздо дальше: ни более ни менее как низвержение Александра и возведение на его место Константина Павловича. Это, на первый взгляд, кажется уже совершенным бредом: и тем не менее, несомненно, что из небольшой группы, очень близкой к настоящим мартинистам, вышел первый проект
республиканской конституции для России. Самым неожиданным образом этот проект связан с именами двух екатерининских фаворитов; его автором был граф Дмитриев-Мамонов, сын одного из мелких заместителей Потемкина, а главным деятелем ордена «Русских рыцарей», из которого проект вышел, был Михаил Орлов — родной племянник Григория Орлова, младший брат будущего николаевского шефа жандармов и председателя главного комитета по крестьянскому делу в 50-х годах. Если прибавить, что третьим из известных нам членов этого крайне малолюдного «ордена» был князь Меншиков, и что Орлов, сам флигель-адъютант Александра I, был очень близок с будущим декабристом князем Волконским, тогда тоже флигель-адъютантом, то мы окажемся в самом центре «знати», по крайней мере, ее младшего поколения. Совершенно естественно, что проект, вышедший из такой среды, отличался крайним аристократизмом: «народная веча» (sic) мамоновской конституции должна была состоять из двух палат — «палаты вельмож» из 221
наследственного члена, «владеющих
уделами неприкосновенными в тех областях, от коих они
наследственными представителями и депутатами», и 442 «простых дворян, не наследственных», но выбранных от одного дворянства («шляхетства», как с выразительным архаизмом говорит проект), и «палаты мещан» из депутатов от городов, причем избирателями могли быть не только купцы, но также «мастеровые и поселяне». Последняя палата должна была отличаться особенным многолюдством — в ней могло быть до 3 тысячи членов. Взаимоотношения палат и их прав проект детально не выясняет, но что первая должна была иметь перевес, видно уже из того, что два «имперских посадника», из которых один командовал войсками, а другой стоял во главе гражданской администрации, выбирались из числа членов верхней палаты, притом наиболее аристократической ее части — из числа «вельмож». О том, что императора не будет, Мамонов прямо не говорит. Но ему, во-первых, и места нет в схеме, а затем, из сопутствующих замечаний автора видно, что монархическому принципу он решительно не сочувствовал. «Конституция гишпанских кортесов, — говорит он по поводу испанской конституции 1812 года, — весьма мудро писана, — но не вся годится для нас» именно потому, что в ней сохранена королевская власть. «Щадить тиранов (les Т, как осторожно обозначает Мамонов, для вящей предосторожности всю фразу составивший по-французски), это значит — готовить, ковать для себя оковы более тяжкие, нежели те, которые хотят сбросить. Что же кортесы? Разосланы, распытаны, к смерти приговариваемы, и кем же? скотиной, которому они сохранили корону…» Этот энергичны конец написан уже опять по-русски.
Орден Русских рыцарей ничего не сделал и, по-видимому, даже не собирался делать, в нем только разговаривали, писали проекты, и его идеалом было написать такую книгу, которая сразу завоевала бы умы всех в пользу «преподаваемого в ордене учения». По теперешнему говоря, это была чисто пропагандистская организация, притом, в силу особенностей «учения», ограничивавшая свою пропаганду очень тесным кругом. И тем не менее идейное влияние его на последующие «тайные общества» было гораздо сильнее, нежели кажется с первого взгляда.
Республиканизм как раз был тем новым, что внесли декабристы в общественное движение начала XIX века, наличность же в этом движении, вплоть до декабристов, сильной аристократической струи теперь не отрицают даже исследователи, всегда относившиеся очень враждебно к «классовой точке зрения». «Предположения о политических преобразованиях Л. Ф. Орлова и Л. А. Дмитриева-Мамонова, — говорит В. Семевский, — отличающиеся при всем политическом радикализме Мамонова аристократическим характером, примыкают к целому ряду других предположений, в которых, в той или иной форме, возлагают надежды на аристократию как на охранительницу политической свободы, таковы: записка Сперанского в 1802 году, беседа гр. П. А. Строганова с гр. С. Р. Воронцовым в 1802 году, проект гр. Мордвинова. Даже Н. И. Тургенев предлагал учреждение пэров, сначала в смысле исключительного совещательного учреждения, из богатых помещиков, освободивших крестьян. Приняв во внимание все это течение, станет понятнее и высокий ценз, установленный для участия в прямых выборах в нижнюю палату веча, и еще более высокий пассивный ценз для избрания в верхнюю его палату в проекте конституции H. М. Муравьева, и аристократическая тенденция в конституционном проекте декабриста Батенькова»
[5]. Мы увидим, что перечисленными примерами «аристократизм» декабристов не ограничивался, но прежде нам нужно выяснить два вопроса, как читатель сейчас увидит, тесно между собой связанных: во-первых, что же толкнуло аристократическую молодежь на этот, совершенно для нее неприличный, казалось бы, путь? И во-вторых — почему эти отщепенцы от своей социальной группы нашли такой живой отклик в массе рядового дворянства, которое к «владельцам уделов неприкосновенных» никогда раньше не обнаруживало больших симпатий? Рассматривая декабристов, с одной стороны, и «русских рыцарей» — с другой, мы замечаем у них два общих признака. Первым из них является — общий тем и другим — резкий
национализм. «Вельможи» мамоновской конституции «должны быть греко-российского исповедания, равно как и депутаты рыцарства, в
коем кроме русских и православных никого быть не может». Одним из «пунктов преподаваемого в ордене учения» является «лишение иноземцев всякого влияния на дела государственные»; другой гласит еще решительнее: «конечное падение, а
если возможно, смерть иноземцев, государственные посты занимающих». Пробуя почву для организации «Союза спасения», Александр Муравьев предлагал, по словам Якушкина, составить тайное общество «для противодействия немцам, находящимся на русской службе». Как он сам тотчас же объяснил, это был лишь пробный шар, но как нельзя более характерный: кому теперь пришло бы в голову пускать такие пробные шары? Но всего лучше рисует настроение декабристов в этом вопросе известный эпизод записок того же Якушкина, повествующий, как в тайном обществе впервые возникла мысль о цареубийстве. «Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах, во-первых, что царь влюблен в Польшу, и это было всем известно…
[6], во-вторых, что он ненавидит Россию, и это было, вероятно, после всех его действий в России с 15-го года; в-третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше; и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию»… Якушкина, когда он услыхал это, «проникла дрожь», а затем он вызвался убить Александра. Между тем «отторжение» от России Литвы, о которой шла речь, казалось бы, было ничуть не страшнее «отторжения» от империи Выборгской губернии, присоединенной за несколько лет перед тем к Финляндии: факт, которым в XX веке никто не возмущался, кроме черносотенцев, заставлял клокотать всю кровь в жилах русских либералов 1817 года. Можно вполне допустить, что Якушкин приукрасил картину, желая в возможно более лояльном свете представить свой слишком нелояльный замысел: но тут любопытно, какие именно краски он счел нужным усилить. Было бы можно привести множество аналогичных черточек из проектов и воспоминаний целого ряда товарищей Якушкина, притом политически гораздо более сознательных, нежели он: достаточно сказать, что Пестель не соглашался не только на самостоятельность, но даже на простую автономию Финляндии, и что ни один из декабристских проектов, не исключая и «Русской правды» Пестеля, не признавал равноправия евреев. Новейший исследователь, склонный делить рассматриваемые им явления на «симпатичные» и «несимпатичные», имел добросовестность не скрыть этой черты декабристов, безусловно относящейся к последнему разряду: он только старается сузить ее район
[7], да оправдать ее более или менее случайными обстою ятельствами. «Крайняя ненависть к иностранцам» Мамонова и его друзей «вызывалась, — говорит г. Семевский, — столь же крайнею и неразумною приверженностью к ним (иностранцам) Александра I, которая сопровождалась пренебрежительным отношением к русским». На самом деле, явление объясняется, конечно, гораздо более общими причинами: наука не имеет никаких оснований проводить резкую черту между «несимпатичным» национализмом и «симпатичным» патриотизмом. Оба растут на одном корню. И мы не могли бы ожидать ничего другого от людей, для которых двенадцатый год стал исходной точкой всей их сознательной жизни. Якушкин с этой даты начинает свои записки. «Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава Богу, вся Россия в поход пошла!» В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле». Дело, конечно, не в объективной верности этой характеристики двенадцатого года. Более детальные рассказы о войне, идущие даже от самих декабристов, совершенно разрушают романтическую картину народа, как один человек поднявшегося на защиту своей родины. Когда Александр Павлович спросил вернувшегося из-под сожженной Москвы Волконского, как ведет себя дворянство — тот класс, из рядов которого вышли и Якушкин, и Волконский, и все их товарищи, будущий декабрист должен был ответить: «Государь, стыжусь, что я принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего». Он пробовал утешить Александра настроением крестьян, но даже из такого архишовинистического источника, как растопчинские афишки, можно узнать, что крестьяне занятых неприятелем уездов вместо французов сводили нередко счеты со своими господами, пользуясь тем, что ни полиции, ни войск для «усмирения» у последних не было теперь под руками. Что Москва была сожжена не жителями, действовавшими в припадке патриотического усердия, а полицией, исполнявшей приказание того же Растопчина, что французская армия пала жертвой не народного восстания, а недостатков собственной организации, и поскольку она не была дезорганизована (так именно было с императорской гвардией), к ней до конца не смели подойти не только партизаны, но и регулярные русские войска: все это факты слишком элементарные и слишком хорошо известные, чтобы о них стоило здесь распространяться. Но, повторяем, для нас важна не объективная, а субъективная сторона дела: так именно
чувствовали будущие декабристы, и если мы хотим понять их настроение, мы не можем обойти двенадцатого года. Якушкин вовсе не какое-нибудь исключение. Ал. Бестужев (Марлинский) писал императору Николаю из крепости:
«Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной.
Вот начало свободомыслия в России. Правительство само произнесло слова: свобода, освобождение! Само рассевало сочинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона»
[8]. Нужно прибавить, что декабристы не принадлежали к людям, которые задним числом говорят патриотические фразы: они
делали то, о чем говорили. Редкий из них не был сам одним из участников похода. Никита Муравьев, будущий автор конституции, которому мать не позволяла поступить в военную службу, тайком бежал из родительского дома и пешком отправился отыскивать армию; его арестовали и едва не расстреляли как шпиона — его спасло вмешательство Растопчина, знавшего семью. Муравьеву было тогда 16 лет. Декабрист Штейнгель уже совсем не юношей, с семьей, приехал в Петербург искать места, и очутился офицером петербургского ополчения, с которым и сделал заграничный поход, вместо того чтобы служить по Министерству внутренних дел, как собирался сначала. В этом отношении учредители ордена Русских рыцарей не отличались от декабристов: Мамонов, один из богатейших людей в России, на свой счет сформировал целый кавалерийский полк, которым и командовал. Полк, правда, больше прославился разными безобразиями и в России, и за границей, нежели военными подвигами, но это опять была суровая объективная действительность, в субъективной же искренности мамоновского патриотизма мы не имеем никаких поводов сомневаться. А что касается Орлова, то его имя, как известно, прочно связано с капитуляцией Парижа (19/31 марта 1814 года), им подписанной с русской стороны; в его лице мы имеем, таким образом, даже не рядового участника «освободительной войны» 1812–1814 годов.
Национализм не в одной России явился первичной, зачаточной формой политического сознания: почти всюду в Европе, исключая Францию и Англию, дело начиналось с того же. В Германии, особенно в Италии и Испании, носителями либеральных идей являлись бывшие участники «освободительной» войны, и первые революционные движения 20-х годов почти всюду принимали форму военного восстания, как наше 14 декабря. На этой
профессиональной стороне движения (вторая общая черта декабристов и Русских рыцарей, которые все были из военной среды) стоит немного остановиться — она мало, обыкновенно, обращала на себя внимание, а между тем политическое значение ее было большое. Прежде всего, ею объясняются организационные особенности русских тайных обществ. Современному читателю, представляющему себе военное восстание как часть демократической революции, оно рисуется, прежде всего, в образе восстания солдат без офицеров и даже, в случае надобности, против офицеров. Это точка зрения демократически совершенно правильная и понятная, но не военная: для военного армия есть, прежде всего, командный состав; солдаты без него — толпа, а не армия, — скажет вам всякий военный. «Общество имело желание как можно больше начальников в войсках обратить к своей цели и принять в свой союз, особенно полковых командиров, — говорит в своих показаниях Пестель, — предоставляя каждому из них действовать в своем полку, как сам наилучше найдет; желало также и прочих начальников в общество приобрести: генералов, штаб-офицеров, ротных командиров». Неудачу дела на Сенатской площади многие участники приписывали тому, что там не было «густых эполет», и неспособный князь Трубецкой сделался «диктатором», между прочим, потому, что он был в военной иерархии старшим из наличных в Петербурге членов общества. Затем на программе декабристов влияние профессиональных интересов тоже сказалось достаточно сильно. Из пятнадцати пунктов, намеченных Трубецким для манифеста 14 декабря, (записку Трубецкого приходится считать как бы за равнодействующую всех отдельных мнений, за тот minimum, на котором все сходились), три прямо касаются армии и
два косвенно. В воспоминаниях отдельных участников заговора военные преобразования еще более выступают на передний план. В программе «Союза благоденствия», как ее запомнил Александр Муравьев (брат Никиты, автора конституции)
[9], из 10 пунктов армии посвящена почти половина; сравнивая эти пункты с запиской Трубецкого, можно заметить, как эволюционировали в этом вопросе взгляды декабристов: в проекте «манифеста» имеется уже уничтожение рекрутчины и всеобщая воинская повинность, — муравьевские пункты не идут дальше сокращения срока военной службы и неопределенного «улучшения участи защитников отечества». Но обе программы твердо стоят на одной подробности: уничтожении
военных поселений. И это как раз вопрос, где, с одной стороны, профессиональная сторона тайных обществ выступает особенно ярко, а с другой — дело чисто военное приобретает крупное политическое значение. Военные поселения, как известно, официально были попыткой заменить рекрутчину натуральной воинской повинностью известного разряда населения: часть государственных крестьян должна была отбывать военную службу совершенно на тех же началах, на каких господские крестьяне отбывали барщину. При этом «военные поселяне» не переставали быть крестьянами: оставались в своих деревнях и обрабатывали землю совершенно, опять-таки, так же, как прокармливали себя своим трудом барщинные мужики. Это перенесение в военную область модного среди тогдашних помещиков увлечения барщиной само по себе чрезвычайно характерно, тем более, что оно сопровождалось попытками «организовать» хозяйство военных поселян с тою точностью регламентации, какою проникнуты проекты Удолова, Швиткова и других прожектеров конца XVIII и начала XIX веков, труды которых печатались в записках Вольного экономического общества. Но у дела была и другая сторона, еще более характерная, но уже политически. Военные поселения возникают в очень любопытный момент александровского царствования: в 1810 году, когда, с одной стороны, война с Наполеоном была почти решена, с другой — Александр Павлович искал путей сближения со своим дворянством. Уничтожение рекрутчины было бы как нельзя более приятно этому последнему; как ни старались помещики сбывать в солдаты наименее ценную часть своей живой собственности, все же рекрутчина, особенно усиленная перед войной, отнимала много рабочих рук, так ценных теперь в барщинном имении. Военные поселения, напротив, падали всею своей тяжестью на казенных крестьян, почти не затрагивая помещичьих
[10]. В то же время, при ужасающем падении курса ассигнаций, перевод армии на довольствие натурой, притом трудами самих солдат, сулил самые радужные финансовые перспективы. Война двенадцатого года разразилась слишком быстро, не дав времени развернуть эксперимент достаточно широко: но за него взялись с удвоенной энергией тотчас по заключении мира, который казался, а отчасти и действительно был до начала революционного движения 20-х годов весьма непрочным. Варварская прямолинейность, с которой из мирного казенного мужика выбивали исправного фронтового солдата, давала достаточный повод для общественного негодования против «гуманного» нововведения императора Александра (он очень им гордился именно с этой стороны!)
[11]. Но, вчитываясь в отзывы декабристов, вы чувствуете, что к этому одному поводу дело далеко не сводилось. Жестоко было барщинное хозяйство вообще и всюду — штатское или военное, безразлично, но мы напрасно стали бы искать у членов тайных обществ такого
личного отношения к барщине, какое слишком явственно звучит, когда дело касается военных поселений. Трубецкой и Якушкин почти одними и теми же словами характеризуют политические последствия военной барщины: по мнению первого, поселения составят в государстве «особую касту, которая, не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения». «Известно, что военные поселения со временем должны были составить посередь России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиру всех конных и пеших полков, — пишет второй, — при окончательном устройстве военных поселений они неминуемо должны были образоваться в
военную касту с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России». В военных поселениях декабристы провидели зародыш опричнины, и, кажется, они не были совсем не правы. Развитие политического радикализма именно в военной среде должно было настраивать верхи очень подозрительно по отношению к прежней армии. «Солдат доволен, но нельзя того же сказать об офицерах, которые раздражены походом против неаполитанцев, — писал в начале 20-х годов князь Васильчиков, командир гвардейского корпуса, когда предполагалось двинуть русские войска для усмирения революции, вспыхнувшей на Апеннинском полуострове. — Вы можете поэтому судить, как распространились у нас либеральные идеи. Не отвечайте мне на это избитой фразой: «Заставьте их молчать». Число говорунов слишком велико… Если Провидению угодно, чтобы война вспыхнула, мне кажется, нужно пустить в дело гвардию, а не держать ее в резерве. Несколько хороших битв успокоят молодые головы и приучат их к строгой дисциплине, а когда кончится война, государь может
уменьшить численность гвардии и сохранить ее лишь в самом необходимом количестве, что было бы большим благом…
Мы слишком многочисленны — вот в чем большое зло, и вот почему войска производят революции».
Как видим, русскому офицерству было чего опасаться от Александра Павловича — прежде всего как офицерству. Но мы, конечно, очень ошиблись бы, если бы свели его программу к отстаиванию профессиональных интересов: тогда дело не пошло бы дальше тех мелких гвардейских вспышек, с которыми приходилось бороться Екатерине II. Армия была только
более оппозиционно настроена, чем другие общественные круги, но оппозиционное настроение было очень широко распространено во всех кругах, не считая самый верхний слой — «знать», где Мамоновы, Орловы и Волконские являлись резким исключением, и самый нижний — крепостное крестьянство, где ни на минуту не прекращалось брожение, но не имевшее ничего общего с конституционными или республиканскими проектами. Выразителем взглядов дворянской интеллигенции второго десятилетия XIX века был «Дух журналов» или «обрание всего, что есть лучшего и любопытнейшего во всех других журналах по части истории, политики, государственного хозяйства, литературы, разных искусств, сельского домоводства и проч.». Этот талантливейший журнал того времени дает самую типичную амальгаму национализма, либерализма и крепостничества, какую только можно себе представить. В нем помещались переводы заграничных конституций и статьи «о пользе представительного правления», написанные со смелостью, которую русской периодической печати пришлось потом забыть чуть не на сто лет. Разъяснялись чрезвычайно убедительно выгоды, какие англичане получают от своего парламента, и в то же время доказывалось, что «англичанин едва может пропитать свою душу, евши вполсыта печеный картофель, а русский сытно и ест, и пьет, и веселится иногда… У нас нет изящных, чудных рукоделий, но почти нет нищих; народ живет в довольстве вообще, а не частно». С большим жаром развивалась мысль о вреде «батрачества», т. е. пролетариата, и в то же время давался совет: «мужиков своих, даже самых богатых, не пускать в оброк», а вести исключительно барщинное хозяйство. То внутренне противоречивое существо, которое представлял собою русский помещик до 70-х почти годов XIX столетия — европейский буржуа, с одной стороны, азиатский феодал — с другой, уже народилось на свет ко второму десятилетию александровского царствования. Противоречия не получалось, если взять этот тип в его экономической основе: новое крепостное хозяйство уже нельзя было вести без капитала и не приспособляясь к условиям рынка. «Капиталы, капиталы, капиталы — вот те волшебные силы, которые и самую дикую пустыню превращают в рай», — восклицал «Дух журналов», отстаивая в то же время свободу торговли всей силой авторитета тогдашней экономической науки, с которою он же и знакомил своих читателей, помещая у себя переводы Сэ, Бентама, Сисмонди и других. А свобода торговли, недаром сказано, была корнем всех буржуазных свобод, и, ведя борьбу с «игом Наполеона», русское дворянство вело, в сущности, борьбу именно за этот корень всех свобод, ибо экономическим воплощением «ига» была континентальная блокада. Но
свобода торговли была нужна русскому помещику затем, чтобы сбывать при наиболее выгодных условиях продукты
крепостного хозяйства — последовательное же развитие буржуазного принципа уничтожало самую основу этого хозяйства, подневольный труд. Правда, у отдельных помещиков даже того времени мелькала уже мысль о возможности, даже желательности замены внеэкономического принуждения экономическим: образчиком их был декабрист Якушкин. Приехав в свою деревню Смоленской губернии, он нашел, что его крестьяне «трудились и на себя, и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться». Способ этот, по мнению Якушкина, заключался в том, чтобы поставить крестьян «в совершенно независимое положение от помещика». Эту «совершенную независимость» он понимал так: крестьяне получали в «совершенное и полное владение» свою движимость, дома, усадьбу и выгон. «Остальную же всю землю», т. е.
всю пахоту, Якушкин оставлял себе, «предполагая половину обрабатывать наемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам». Крепостного мужика предполагалось, таким образом, разложить на «вольного» батрака, в одну сторону, и подневольного арендатора помещичьей земли — в другую: комбинация, столь хорошо знакомая русской деревне позже, что для современного читателя нет надобности распространяться о ней подробно. Якушкину принадлежит несомненная честь предусмотреть новейшие формы эксплуатации крестьянства почти за поколение вперед. Как все новаторы, он должен был терпеть от тупости и непонимания окружающих. От министра внутренних дел Кочубея (одного из «молодых друзей» в свое время) он должен был выслушать колкость: «Я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений, — сказал Якушкину министр, — но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян». Но всего больше огорчили его сами крестьяне. Желая узнать, «ценят» ли они оказываемое им благодеяние, Якушкин «собрал их и долго с ними толковал». «Они, — рассказывает он, — слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: «Земля, которой мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?» Я им ответил, что земля будет принадлежать мне, но что они властны будут ее нанимать у меня. — «Ну, так, батюшка, оставайся все по-старому; мы ваши, а земля наша». Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобождение». Впоследствии Якушкин сам понял, что его проект совершенной экспроприации крестьян является слишком европейским, чтобы его можно было осуществить в условиях грубой русской действительности, и, опять опережая свой век на целое поколение, своим умом додумался до истинно русской формы ликвидации крепостного права — той самой формы, которая была осуществлена реформой 19 февраля: продажи крестьянам их собственной земли за деньги. Перед 1825 годом он «пристально занялся сельским хозяйством и часть своих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян они скоро найдут возможность платить мне оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались…» Ссылка Якушкина прервала этот эксперимент — не менее интересный, чем все конституционные проекты декабристов
[12].
При сколько-нибудь объективном отношении литературы к предмету одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы положить конец всяким разговорам о «внеклассовых» добродетелях декабристов, из одной чистой любви к человечеству стремившихся освободить несчастного, задавленного крепостным правом мужика. Александровские радикальные офицеры были, прежде всего, помещики и классовых интересов не забывали, даже мечтая о русской республике. Идеалом Никиты Муравьева были Соединенные Штаты — императора он оставлял только, можно сказать, для одного приличия, лишая его всякой реальной власти; но в первоначальном проекте своей конституции он не забывает оговорить, что при освобождении крестьян «земли помещиков остаются за ними». В окончательной редакции этот пункт звучал уже иначе: «Крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия, в оных находящиеся и по
две десятины земли на каждый двор для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заключают с владелицами оных». Если Якушкин придумал и даже, насколько это было в средствах частного лица, начал осуществлять проект выкупной операции, то Никите Муравьеву принадлежит честь такого же изобретения
дарственного (иначе
нищенского) надела. Этот факт, нужно сказать, несколько смутил даже В. Семевского, при всем его желании видеть в отрицательных сторонах декабристов черты, вообще свойственные их времени, а отнюдь не эгоистические поползновения какого-нибудь общественного класса. Он должен был признать, что даже такой современник декабристов, как Аракчеев, оказался щедрее их: «Даже минимальный размер надела, даваемого крестьянам в собственность, по проекту Аракчеева, все же более, чем по проекту Муравьева»
[13].
Если мы примем в расчет, что и Якушкин, и Н. Муравьев представляли собою крайнюю левую часть дворянского оппозиционного движения, нас не удивит, что в окончательно резюмирующем пожелания тайных обществ, проекте манифеста, набросанном Трубецким, крестьянский вопрос упомянут лишь очень глухо, причем намеренно взят только с юридической стороны: манифест говорит об «уничтожении права собственности на людей». Мы увидим скоро, что перед такой формулой не останавливались и более передовые министры Николая I. Напротив, мы будем удивлены, что в общем этот манифест должен был носить весьма «буржуазный» характер: мы в нем находим и свободу печати (п. 3), и «предоставление лицам всех вероисповеданий свободного отправления богослужения (п. 4: не свободу совести, однако!), и равенство всех сословий перед законом (п. 6: но все же не уничтожение сословного строя), и отмену подушной подати (п. 8), и уничтожение соляной и винной монополии (п. 9), и, наконец, гласный суд с присяжными (п. 14 и 15). Эта программа — вероятно, уже напомнившая читателю схему реформы 60-х годов, — логически дополняется тем, что мы знаем о проектировавшейся декабристами организации народного представительства. В «манифесте» и этот вопрос формулирован в самых общих чертах (п. 2: «Учреждение временного правления до
установления постоянного выборного»). Но в конституции Н. Муравьева, с которой никто не соглашался, но которая одна представляла собою нечто законченное, было последовательно проведено начало
имущественного ценза. Правда сословное начало в замаскированном виде имелось и здесь; земельный ценз был
вдвое ниже ценза для движимого имущества, крестьяне вообще имели в 500 раз меньше избирательных прав, чем не крестьяне (один «избиратель» на 500 душ!), в частности же бывшие крепостные вовсе не получали политических прав, но если мы примем в соображение, что в тогдашней Европе, не исключая и Англии, классы населения, соответствовавшие нашему крестьянству, не
входили в состав цензовых граждан, мы должны будем признать, что
конституция декабристов была менее резко помещичьей, чем можно было бы ожидать. Вместе с проектом Сперанского ее приходится поставить в разряд
буржуазных конституций. Ближайшим образом и там, и здесь это объясняется литературными влияниями — сочинениями западных публицистов, по которым учились теоретики тайных обществ, как и Сперанский, и образчиками европейских конституций, которыми они пользовались (на декабристах особенно отразилась испанская конституция 1812 года). Но мы видели, что для объяснения проектов Сперанского этого мало: они отразили в себе тенденции известных
русских общественных групп — тенденции, в их первоисточнике, быть может, менее осознанные, нежели под пером государственного секретаря Александра I, но дававшие, тем не менее, для «творчества» этого секретаря реальную основу. Насколько можно сказать то же о декабристах? В составе тайных обществ не было ни одного купца. Значит ли это, что буржуазия была совершенно чужда движению? Ряд фактов, каждый из которых в отдельности может показаться мелким, но которые в целом даже теперь, при очень несовершенном знакомстве с социальной стороной движения 20-х годов, представляют значительную массу, убеждает, что это не так. В одном доносе, поданном императору Александру в 1821 году, сообщалось об опасном настроении среди купцов петербургского Гостиного двора. Купцы собирались группами, человек по 8, с газетами в руках, и толковали о конституции. «Они говорят, что если в стране есть конституция, то государь не может постоянно покидать свое государство, так как для этого нужно дозволение нации… Если ему не нравится Россия, зачем он не поищет себе короны где-либо в другом месте… На что нужен государь, который совершенно не любит своего народа, который только путешествует и на это тратит огромные суммы. Когда же он дома, то постоянно тешит себя парадами. Все знают, что уже давно в судах совершаются вопиющие несправедливости, дела выигрывают те, кто больше заплатит, а государь не обращает на это внимания. Нужно, чтобы он лучше оплачивал труд состоящих на государственной службе и поменее разъезжал. Только конституция может исправить все это, и нужно надеяться, что Бог скоро дарует нам ее»… Что рассказы эти не были простым сочинительством александровских шпионов, доказывает интерес, какой проявляли к купцам декабристы, по крайней мере, некоторые. Рылеев спрашивал Штейнгеля, имевшего большие связи среди сибирского и московского купечества: нельзя ли там приобрести членов для общества? Штейнгель, уже тогда заботливо отгораживавший себя от заговора, на следствии он формально отрекся от участия в нем, отнесся к мысли Рылеева отрицательно под тем предлогом, что «наши купцы невежды». Он, однако, поддерживал с этими «невеждами» близкие отношения, когда дело шло о легальных проектах, да и в разговоре с Рылеевым должен был назвать одно имя, под данную им характеристику купечества не подходившее: то был содержатель типографии Селивановский, в то время как раз подготовлявший издание русской энциклопедии — очень солидного, по своему времени, предприятия, на которое Селиванов-ским было затрачено до 30 тысяч рублей. Энциклопедия, отчасти уже отпечатанная и одобренная цензурой, была конфискована тотчас же, как только выяснились связи ее издателя с декабристами. Среди петербургской буржуазии у Рылеева, секретаря Российско-Американской торговой компании, были самостоятельные связи, и, быть может, не совсем случайно в последние дни перед 14-м мы встречаем декабристов то на банкете у директора компании, где говорились либеральные речи даже такими малолиберальными людьми, как Булгарин, то на ужине у купца Сапожникова, который, угощая своих гостей шампанским, приговаривал: «Выпьем! неизвестно, будем ли завтра живы!» Это было как раз 15-го числа. Любопытны некоторые тенденции и самого Рылеева, позволяющие его вместе с некоторыми другими, кроме Штейнгеля, — тут приходится в особенности назвать Батенькова, выразившего как-то желание быть «петербургским лордом-майором», — причислить к тем, кого теперь назвали бы «буржуазной интеллигенцией». «Во второй половине 1822 г., — рассказывает в своих воспоминаниях кн. Оболенский, — родилась у Рылеева мксль издания альманаха, с целью обратить предприятие литературное в коммерческое. Цель Рылеева и его товарища в предприятии, Александра Бестужева, состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному, более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов. Предприятие удалось. Все литераторы того времени согласились получать вознаграждение за статьи, отданные в альманах: в том числе находился и А. С. Пушкин. «Полярная звезда» имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но доставила им чистой прибыли от 1500 до 2000 рублей»
[14].
Количественно очень слабые, буржуазные элементы тайных обществ могли, однако, иметь очень большое влияние на их политическую программу благодаря своему качественному перевесу: Рылеев, А. Бестужев, Батеньков, даже Штейнгель были крупнейшими интеллектуальными силами так называемого Северного общества. Для того чтобы написать манифест, основные принципы которого сохранились в наброске Трубецкого, обращались именно к Рылееву, а тот привлекал к участию в этом деле Штейнгеля. Батеньков намечался даже в состав временного правительства — единственный из заговорщиков, так как остальные члены временного правительства должны были быть взяты из числа популярных в обществе государственных людей (называли Сперанского, Мордвинова и некоторых сенаторов). Этот качественный перевес дал такое значение и представителю течения еще более радикального, чем «буржуазная интеллигенция». Пестель, не занимавшийся, сколько известно, никакими предприятиями и вовсе не имевший крестьян, был столь же чистой воды «идеологом», как позднейшие утопические социалисты 70—80-х годов. Придавать его «Русской правде» значение такого же практического проекта, как конституция Н. Муравьева, например, было бы, конечно, неосторожно: это было чисто литературное произведение и, как таковое, нечто очень индивидуальное, личное. В случае победы декабристов Пестель, вероятно, имел бы удовольствие видеть свою работу в печати, но едва ли дело пошло бы дальше этого. Чрезвычайно характерно, тем не менее, что человек, предлагавший полное уничтожение всяких сословных и цензовых перегородок, в политической области последовательный демократ, а в социально-экономической доходивший почти до национализации земли, мог не только быть терпим в дворянско-буржуазном кругу, но даже стать вождем самой, в сущности, влиятельной группы заговорщиков, так называемого Южного общества. Правда, у Пестеля нельзя отрицать большого таланта приспособления: при первом свидании с Рылеевым, автор «Русской правды» в течение двух часов ухитрился быть попеременно «и гражданином Северо-Американской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской». На буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагоприятное впечатление и у него, видимо, сохранилось воспоминание о Пестеле как о беспринципном демагоге, которому доверяться не следует. Что Южное общество не чуждо было демагогии, примером тому был не один Пестель, как мы сейчас увидим, но едва ли можно на счет этой демагогии отнести и «Русскую правду», которую ведь предполагалось опубликовать
после переворота. Притом же пропаганда, как мы знаем со слов самого Пестеля, велась почти исключительно среди офицерства, а по отношению к офицерам из помещичьей среды едва ли была бы удачным демагогическим приемом проповедь национализации земли. Она, в сущности, не была бы удачной демагогией и по отношению к крестьянам, ибо Пестель не всю землю отдавал своим «волостям», а лишь половину — другая же половина должна была служить полем частной предприимчивости, будучи отдаваема государством в аренду без ограничения, притом количество земли, которое могло скопиться в одних руках. На этой «казенной» земле вполне могла возникнуть, таким образом, крупная земельная собственность — только не феодальная, а буржуазная: половина же земли, обыкновенно, была в распоряжении крестьян и при крепостном праве. Для оброчных и казенных крестьян проект Пестеля не создавал ровно никакой фактической перемены, что признавал он и сам: между тем, с демагогической точки зрения, наиболее возбудимым элементом как раз были бы военные поселяне из бывших государственных крестьян. Идеолог в Пестеле решительно преобладал над демагогом.
Но при всем своем идеологизме из-под влияния наличных общественных классов с их интересами не мог, разумеется, уйти и Пестель. Его программа, как и программа большинства лидеров тайных обществ, оставалась буржуазной — ничего социалистического, даже утопически социалистического, мы в ней не найдем. Его аграрный проект ставил своей задачей исключительно
раздробление земельной собственности, а отнюдь не
уничтожение ее. «Вся Россия, — говорит он сам о результатах предлагаемой им меры, — будет состоять из одних обладателей земли,
и не будет у нее ни
одного гражданина, который бы не был обладателем земли». Это уважение к частной земельной собственности, даже стремление ее сохранить, и привели к тому, что его аграрную реформу приходится называть
полунационализацией. Один вариант «Русской правды», касающийся «вольных земледельцев», к которым Пестель причислял казаков, однодворцев, колонистов и т. п., хорошо освещает эту сторону дела. «Ежели необходимым окажется включить в состав общественной собственности частную землю какого-нибудь вольного земледельца, то сей вольный земледелец имеет быть в полной мере за сию землю вознагражден или денежною платою, или выдачею ему в
собственность из казенных земель такового участка, который бы в ценности своей равнялся участку земли, у него отнятому, все же земли, принадлежащие ныне в частную собственность вольных земледельцев, кои ненужным окажется включить в общественную волостную собственность, имеют оставаться в вечном потомственном владении нынешних своих владельцев на основании общих правил»
[15]. Таким образом, острие аграрной революции было направлено исключительно против крупной феодальной собственности (для возникновения крупного буржуазного землевладения, как мы видели, никаких препятствий не ставилось), но «знать» как раз и была главным противником всяких «буржуазных» проектов. Кажущаяся, на первый взгляд, чистой утопией программа Пестеля с этой точки зрения получает глубокий
политический смысл: Пестель едва ли не один из всех декабристов отчетливо сознавал, что, не вырвав почвы из-под ног своего социального противника, смешно мечтать о победе над ним. Но бессознательно другие шли по тому же пути. Н. Муравьева Пестель обвинял в том, что тот условиями своего ценза создает «ужасную аристокрацию богатств». Но присмотритесь к его цензу: какая же тут «аристокрация», когда для того, чтобы быть избирателем или присяжным, достаточно было иметь недвижимое имущество ценностью в 5000 рублей серебром (по тогдашнему курсу около 20 тысяч рублей ассигнациями), а для того, чтобы иметь доступ ко всем должностям, до самых высших, нужно было владеть недвижимостью не менее, как на 30 тысяч рублей серебром (120 тысяч ассигнациями). В более ранней редакции первый ценз был еще ниже — всего 500 рублей серебром. Его повысили, по-видимому, с главной целью — оставить за пределами полноправного гражданства пестелевских «вольных земледельцев» — однодворцев, колонистов и им подобных. Но помещики все, до очень мелких, оставались внутри правящего класса: принимая (как это делает Семевский) ценность «души» в 100 рублей серебром, мы получим для первого ценза 50 душ, для второго — 300. Коробочки или их мужья и братья могли выбирать Со-бакевичей — какая же тут «аристократия»
[16]?
Программа Никиты Муравьева, взятая с ее социальной стороны, была типичной программой
среднего землевладения, того класса, который дал большинство членов тайных обществ. И это тем характернее, что первое из этих обществ было, как мы видели, очень аристократического состава. Оппозиция начала складываться в рядах социальной группы, ближайшей к верховной власти, но здесь она нашла себе мало сторонников. Не найди она себе сочувствия в ближайшем к низу общественном слое, она бы так и замерла, подобно конституционным проектам екатерининской поры. Но теперь средний помещик был не тот, что в 1760-х годах. То, что тогда было кабинетной мыслью, стало теперь лозунгом широкого общественного движения.
Наиболее кабинетным кажется
республиканизм декабристов. Несмотря на формальный монархизм муравьевской конституции (император которой, с его очень условным правом veto и весьма укороченными административными полномочиями — он не мог, например, «употреблять войска в случае возмущения» без согласия народного веча — отличался от президента республики лишь наследственностью своих функций, «для удобства, а не потому, чтобы оно — императорское звание — было в самом деле семейственным достоянием», пояснял автор), в сущности все лидеры обоих обществ, Северного и Южного, были на стороне республики. Не знаменитом заседании «Коренной думы Союза благоденствия», в начале 1820 года, только один полковник Глинка «говорил в пользу монархического правления», все же остальные «приняли единогласно республиканское правление». Да и Муравьев объяснял появление своего императора единственно желанием — не пугать чересчур вновь вступающих членов. Но дворянская республика может показаться странной нам, а весьма незадолго до начала декабристского движения она была живой действительностью очень недалеко от России — в Польше. Декабристы — тот же Никита Муравьев — очень увлекались североамериканской конституцией, но она тогда признавала даже рабство, и строй южных штатов федерации на практике был чисто аристократическим. Если первый пример мог вызвать возражения со стороны прочности такого строя, то второй должен был замкнуть уста всем возражателям: конституция Соединенных Штатов в те дни, до июльской революции и парламентской реформы в Англии, шла так же далеко впереди всех остальных существующих, как позднее конституция австралийских колоний, например. Если уж она фактически оставляла власть в руках помещиков (чему номинальный демократизм нисколько не мешал), чего же было стыдиться России? Заграничная действительность не давала аргументов против
аристократической республики: русская действительность XVIII века делала очень легким переход к
республике вообще. Начиная с Екатерины I и кончая самим Александром Павловичем, русский престол фактически был избирательным; можно было указать лишь на два исключения — государей, восшедших на престол исключительно в силу наследственного права: то были Петр III и Павел I, — нельзя было найти исключений, лучше подтверждавших правило. Зато было не меньше государей, которые не имели никаких прав, как обе Екатерины и Анна, и которые получили эти права из рук «народа», одетого в преображенские и семеновские мундиры. Роль гвардии как «избирательного корпуса» настолько вошла в нравы, что участие гвардейцев в вопросе о престолонаследии сделалось для них, по меткому выражению Шильдера, «своего рода инстинктом»
[17]. «Я боюсь за успех, — говорил принцу Евгению Виртембергскому петербургский генерал-губернатор Милорадович накануне присяги Николаю Павловичу, — гвардейцы не любят Николая». «О каком успехе вы говорите, — удивился принц, — и при чем тут гвардейцы?» «Совершенно справедливо, — ответил Милорадович, — они должны бы были быть здесь ни при чем. Но разве они не подавали своего голоса при восшествии на престол Екатерины II и Александра?» (Более старых примеров Милорадович, очевидно, не помнил.) «Охота к тому у этих преторианцев всегда найдется!». Достаточно было небольшой европеизации этого «бытового явления», чтобы прийти к мысли об избирательности главы государства вообще: идеи Детю де Траси и других республиканских публицистов Западной Европы падали на хорошо подготовленную почву. Но когда люди начинали говорить «по душе», старые термины и старые образы невольно всплывали в их сознании. «Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия, — писал Ал. Бестужев в своем письме из крепости, исповедуясь перед Николаем Павловичем, — и вот почему соглашался я с мнением Ба-тенкова, что хорошо было бы возвести на престол Александра Николаевича. Льстя мне, Батенков говорил, что как исторический дворянин и человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правительную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России…
я считал себя, конечно, не хуже Орловых времен Екатерины».
Практика дворцовых переворотов сделала то, что люди становились республиканцами, сами того не замечая. Целый ряд более мелких фактов, теснее связанных с эпохой возникновения тайных обществ
[18], толкал в том же направлении. Среди них на первое место нужно поставить позорное поведение европейских монархов во время и непосредственно после «освободительной войны». В это время монархический принцип чрезвычайно низко стоял во всей Европе, не исключая и Англии, где представитель этого принципа, принц-регент, не решался иногда показаться на улицах Лондона, боясь, что его забросают грязью. Когда Александр Павлович ездил с визитом в Англию, пришлось, как ни было английским придворным совестно, объяснить это деликатное обстоятельство русскому императору; тот засмеялся и поехал к принцу-регенту первый, не дожидаясь его встречи. Но «величественное самоотречение» самого Александра в дни Отечественной войны и его хронический абсентеизм позднее, в эпоху конгрессов, не могли не содействовать развитию такого же настроения и в среде русской интеллигенции и даже полуинтеллигенции: осуждать императора, который Россию «знать не хочет», как мы видели, решались даже торговцы Гостиного двора. Памятником этого настроения в русской литературе остался знаменитый Noël Пушкина («Ура! в Россию скачет кочующий деспот…»), который знала наизусть вся читающая Россия, хотя напечатан он был впервые только в 1859 году, и то за границей. Наконец, на последовательное проведение избирательного принципа во всей схеме государственного устройства должен был наталкивать такой будничный факт, как дворянские выборы. Уездный предводитель был выборный, губернский — тоже: почему же всероссийскому предводителю не быть также выборным? Между тем с сословной организацией тогдашнего общества политические проекты 20-х годов были связаны гораздо теснее, чем может показаться с первого взгляда. Декабристская конституция носила буржуазный характер: но «великий собор», созыв которого предполагался, как первое последствие удачного переворота, должен был состоять из депутатов по два от
каждого сословия каждой губернии, т. е., надобно думать, два от дворянства и два от городского населения, ибо крестьяне не получали равного с другими представительства даже и после, по проектам окончательной конституции. «Возможным полагалось многое уступить, — показывал на следствии Трубецкой, — исключая, однако же, собрания депутатов из губерний по сословиям». Насколько эта необходимость считаться с существующей дворянской организацией была
общим мнением, показывает любопытный факт: правительственный проект конституции, составленный Новосильцевым около 1820 года, «государственная уставная грамота Российской империи», дает состав нижней палаты «государственного сейма», очень схожий с составом декабристского «великого собора»; в ней мы также находим представителей от дворянских и городских обществ — только эти последние выбирают не прямо депутатов, а лишь кацдидатов в депутаты, известная часть которых утверждается императором. И здесь, помимо слишком явной тенденции, нельзя не видеть влияния той же установившейся практики дворянских выборов: дворянское собрание выбирало, собственно, двух кандидатов в предводители, но из них, по традиции, утверждался тот, кто получал больше голосов.
При всем влиянии буржуазного мировоззрения на декабристов, республика не была в их проектах отражением этого влияния. Республиканские взгляды были подготовлены прошлым дворянской России и могли сложиться в дворянском кругу совершенно самостоятельно. Республиканизм ультрааристократических Русских рыцарей является ярким тому доказательством. Когда русская буржуазия, три четверти столетия спустя, выступила со своей собственной политической программой, в этой программе не было республики.
14 декабря
Тайные общества и Александр I; влияние западноевропейских революций; семеновская история, проекты переворота ♦ Смерть Александра; вопрос о престолонаследии ♦ Николай Павлович ♦ Николай и либеральное офицерство; влияние гвардии на решение вопроса о престолонаследии; роль Константина ♦ Подготовка к coup d’écat, с одной стороны, вооруженного восстания — с другой: тактика обеих сторон: Ростовцев; социальная подоплека конфликта ♦ Народное движение 14 декабря: отношение к нему декабристов; причина их неудачи
Существование «тайных» обществ было таким же общедоступным секретом, как в свое время заговор против Павла. По рассказу Н. Тургенева, принятие новых членов происходило до необычайности просто: с предложениями обращались к полузнакомым людям, которых раз-два встретили в гостиных, совершенно так, как предлагают записаться в члены какого-нибудь просветительного или благотворительного кружка. Устав Союза благоденствия в своей организационной части скопирован был с прусского черносотенного «Тугендбунда», который ставил своей задачей быть «среди народа оплотом трона нынешнего властелина Пруссии и дома Гогенцоллернов против безнравственного духа времени», а равно «создавать общественное мнение в низших классах народа, благоприятное для государя и правительства». Возможность такого заимствования в обществе, которое с самого начала задавалось конституционными стремлениями, хотя и «весьма неопределенными», по отзыву Пестеля, показывает, насколько сильна была среди тогдашней русской оппозиции националистическая струя: прусский Союз добродетели мог привлекать только своим патриотизмом. Сравнивая два устава, образец и подражание, нельзя не отметить еще одной любопытной черты: «Тугендбунд» ставил непременным условием для своих членов-помещиков освобождение ими своих крестьян, притом с землею. Декабристы в своих мемуарах впоследствии, и даже уже раньше, в своих показаниях на допросах очень выдвигали крестьянское дело, но этого обязательства в устав своего Союза благоденствия они, однако, не перенесли
[19]. Немудрено, что откровенный характер «заговора» сделал все его секреты легкодоступными правительственным шпионам, и что эти шпионы в то же время не могли сообщить своему начальству ничего действительно тревожного. Уже летом 1821 года в руках Александра была обстоятельная записка Бенкендорфа, будущего шефа жандармов Николая Павловича, о тайных обществах. Обыкновенно отмечают сходство этой записки с «донесением следственной комиссии» 1826 года: еще разительнее то, что она некоторые факты передает вполне согласно с воспоминаниями самих декабристов, притом это относится к фактам, имевшим очень ограниченное число свидетелей. Очевидно, что когда члены-учредители мотивировали формальное закрытие союза в начале того же 1821 года желанием «удалить «ненадежных членов», — это не была пустая фраза. Но ни записка Бенкендорфа, ни еще более раннее, по-видимому, знакомство императора с уставом Союза благоденствия, так называемой Зеленой книгой, не произвели на него никакого действия. Александр Павлович слишком много слышал вокруг себя либеральных разговоров со времени своего вступления на престол, чтобы придавать им какое-нибудь значение. Создавая тем временем медленно, но неуклонно, опричнину военных поселений, он чувствовал себя с каждым годом ближе к цели, к тому моменту, когда он, опираясь на «преданного» мужика в военном мундире, сможет игнорировать не только дворянских говорунов, но и любое более серьезное движение. Но не боясь, он не хотел и раздражать без надобности: члены тайных обществ, большею частью известные Александру по именам, не только не подверглись никаким карам, но сохранили даже свое служебное положение, как ни казалось это странным; император только позволял себе изредка подшучивать над теми из них, кто, увлекаясь сочинением проектов конституции, забывал о фронте (так было еще в 1823 году с князем Волконским). Но уже с 1820 года квиетизму Александра Павловича пришлось выдерживать жестокие испытания: в январе этого года вспыхнуло восстание Риэго в Испании, в июле разразилась революция в Неаполе, и не успели подавить последнюю, как пришлось иметь дело с новой итальянской революцией, в Пьемонте. Какое значение имела испанская революция для русского движения, видно из того, что для декабристов расстрелянный впоследствии Риэго был «святой мученик»; повышенное настроение в Петербурге перед 14 декабря выразилось, между прочим, тем, что в книжных магазинах были выставлены портреты Риэго и его товарища Квироги. А как реагировал на эти известия Александр, видно из указа от 1 сентября 1820 года об экстренном рекрутском наборе по 4 человека с 500 душ. Не нужно забывать, что все эти движения носили чисто военный характер: их предводителями были офицеры, а революционной массой являлись солдаты. Пока Александр мог быть уверен, что «нас это не касается», что русские офицеры и солдаты сделаны совсем из иного теста, чем испанские или итальянские, он мог еще быть относительно спокоен: русские войска предполагалось даже использовать на службе «порядка» в Италии, и соответствующий корпус был уже сформирован. Но осенью того же 1820 года, на конгрессе в Троппау, куда собралась реакционная Европа, чтобы решить, что же ей делать с неумиравшей «гидрой революции», Александр получил известие, разрушавшее последние иллюзии. В ночь с 16 на 17 октября вспыхнули беспорядки в Семеновском полку — том самом, который больше всех содействовал вступлению Александра на престол и был всегда любимым его полком. Все значение «семеновской истории» — в хронологической дате: в спокойное время, когда не было ни тайных обществ, ни военных революций в Европе, история в семеновских казармах дала бы материал для разговора в соответствующих кругах на две недели — не больше. Как известно, движение было чисто солдатским. Офицеры, хотя среди них было несколько членов Союза благоденствия, между прочими один из самых замечательных впоследствии декабристов С. И. Муравьев-Апостол, никакого участия в деле не принимали. Причины солдатского недовольства были профессиональные, бросающие очень любопытный свет на хозяйственную организацию русской гвардии того времени: в полку было много ремесленников, башмачников, султанщиков и т. д.; их заработки шли в ротную кассу на улучшение солдатского быта — стола, обстановки и т. п. Семеновцы, например, спали на кроватях, а не на нарах, как обычно было в тогдашних казармах. Вновь назначенный, чтобы подтянуть полк, командир, полковник Шварц, стал употреблять эти деньги на улучшение обмундировки, в то же время отнимая у солдат такую массу времени шагистикой, что их ремесленная деятельность была этим крайне стеснена. На такой чисто экономической почве возник конфликт, обострившийся благодаря грубости Шварца в личных отношениях: жестоким, по тогдашним, аракчеевским нравам, его назвать, собственно, было нельзя. Правда, он снова ввел в Семеновском полку исчезнувшие было там телесные наказания, но их применял, например, и Пестель в своем полку: между тем Пестеля солдаты любили, ибо он наказывал только «за дело», Шварц же дрался без всякого толку. Самый «бунт» вылился в чрезвычайно мирную форму, внушившую Александру Павловичу мысль, что все это дело «штатских» рук. «Внушение, кажется, было не военное, — писал он Аракчееву, — ибо военный сумел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял». На самом деле смирное поведение солдат объяснялось именно тем, что они ни о какой революции ни мечтали: их протест казался им вполне легальным, ибо они знали, что полковой обычай на их стороне, и были убеждены, что Шварца начальство накажет за нарушение этого обычая, как скоро узнает, в чем дело. Тот же принцип, что в столкновении начальника с подчиненными ради «престижа власти» первый всегда должен быть прав, был, очевидно, их простому уму недоступен. Предполагать, что движение было
вызвано петербургскими «радикалами», как, по-видимому, склонен был представлять себе дело Александр, судя по его разговору на эту тему с Меттернихом, не было ни малейшего основания, но что «радикалы» могли и хотели бы им
воспользоваться, это обнаружилось очень скоро. Через несколько дней после семеновского «бунта» на дворе преображенских казарм была найдена чрезвычайно любопытная прокламация, в форме обращения от семеновцев к преображенцам, но написанная, вне сомнения, не солдатом, хотя и для солдат
[20]. По-видимому, нечаянно, из соображений демагогических, автор прокламации стал на единственно правильную, хотя в те дни едва ли кому, кроме Пестеля, сознательно доступную точку зрения:
политический деспотизм он изображает как орудие
дворянского господства и, возбуждая солдат к восстанию против самодержавия, выступает против ужасов нового крепостного права. «Хлебопашцы угнетены податьми, — пишет он, — многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна, семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно». В связи с этой прокламацией, довольно длинной, имевшей целью, по-видимому, только создать известное настроение, стоит другая, коротенькая, где указывались и практические способы переворота: арест всех теперешних начальников и избрание новых «из своего брата солдата». Воззвания вызвали толки среди солдат, и в этих толках поминалась уже «Гишпания». По этому опыту будущие декабристы могли бы судить, какое громадное оружие в их руках, но, по-видимому, никто из них, кроме С. Муравьева-Апостола (по догадке Семевского, автора и наших прокламаций), никто из них не умел или не хотел этим оружием воспользоваться. Они продолжали по-прежнему рассчитывать на «густые эполеты». Из 121 человека, перечисленных в «донесении следственной комиссии», было 3 генерала, 8 полковников и 17 штаб-офицеров: унтер же офицер в рядах заговорщиков был только один — знаменитый Шервуд-Верный, долгое время считавшийся первым доносчиком на декабристов, хотя в его доносе едва ли было что-нибудь, вовсе неизвестное высшему правительству. Но
это последнее считало руководителей тайных обществ хитрее и смелее, чем они были на самом деле. После семеновской истории Александр стал обращать большое внимание на здоровье и настроение гвардейских солдат, затрагивая в этих заботах даже «святая святых» фронтовой дисциплины — телесные наказания
[21]. Одновременно с этим он впервые начинает относиться к тайным обществам, как к делу серьезному. Характерный анекдот по этому поводу рассказывает Якушкин. «В 22-м году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском Селе и всякий день видался с императором. Неаполитанцы были уничтожены австрийцами, прежде нежели наш вспомогательный отряд двинулся с места, и Ермолов возвратился на Кавказ. В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: «Поди сюда, величайший карбонарий!» Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что
он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся». В это время у Александра еще хватало духу шутить над теми, кого увлекали проекты конституции: но очень знаменательно, что он как раз теперь сам перестает играть в подобные проекты. С безобидным словесным либерализмом он не прочь был заигрывать, и «государственная уставная грамота» была уже готова перед самым семеновским делом. Семеновский бунт убил ее, как и вообще остатки всякого, даже словесного, либерализма в самом императоре. Сближение Александра с такими представителями ортодоксального православия, как Фотий, несомненно, относится к этой же группе явлений: не теперь было ссориться из-за каких-нибудь квакеров или г-жи Крюднер с крупнейшей полицейской силой, которая могла оказаться так полезна именно в случае
народного восстания. Масонские ложи были окончательно запрещены в то же время: тут также компромиссы были признаны долее невозможными. Но тщетность этих формальных запрещений Александр, конечно, первый сознавал лучше кого бы то ни было другого. Все принятые им меры нисколько не уменьшали его тревоги. От 1824 года сохранилась такая собственноручная его заметка, приводимая Шильдером: «Есть слухи, что пагубный дух
вольномыслия или
либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх сего большая часть разных штаб и обер-офицеров»».
За год до смерти Александр Павлович перестал доверять своей армии. И, нужно сказать, его подозрения скорее отставали от действительности, нежели преувеличивали ее. Из опубликованных теперь показаний Пестеля мы знаем, что в тайных обществах конкурировали между собою два плана переворота. По одному из них моментом для революции избиралась смерть Александра, естественная — ее находили возможным дожидаться, потому что этот план «требовал еще много времени» — но в случае, если бы Александр не торопился умирать, «и насильственная смерть покойного государя могла оказаться надобной, местом восстания должен был быть Петербург, а главной его силой — гвардия и флот: как видим, программа 14 декабря была готова заранее, но история не дала необходимой для ее осуществления отсрочки. По другому плану, который Пестель излагает гораздо конкретнее, так что сразу видно, к чему больше лежало у него сердце, все должно было свершиться несравненно скорее. «Другое предположение было следующее: начать революцию во время ожидаемого высочайшего смотра войск 3-го корпуса в 1826 году. Первое действие должно было состоять в насильственной смерти государя императора Александра Павловича, потом издание двух прокламаций: одну войску, другую народу. Затем следование 5-го корпуса на Киев и Москву с надеждой, что к нему присоединятся прочие на пути его расположенные войска без предварительных даже с ними сношений полагаясь на общий дух неудовольствия. В Москве требовать от сената преобразования государства. Между всеми сими действиями 3-го корпуса надлежало всем остальным членам союза содействовать революции. Остальной части Южного округа занять Киев и в оном оставаться. Северному округу поднять гвардию и флот, препроводить в чужие края всех особ императорской фамилии и то же сделать требование сенату, как и 3-й корпус». На следствии Пестель называл это предположение «неосновательным» и ставил себе в заслугу, что он его оспаривал, но, кажется, в действительности споры относились только к
сроку, назначавшемуся для начатия дела; поведение же на допросе Пестеля достаточно понятно, если мы примем в расчет, что первым пунктом плана было цареубийство. На самом деле, как нельзя более естественно, что Южное общество, во главе которого стоял Пестель, отдавало инициативу «своим» войскам, а Северное — гвардии и флоту, но вооруженное восстание, и притом в близком будущем готовили оба общества
[22].
Неожиданная смерть Александра, раньше всех даже намечавшихся самыми торопливыми сроков, спутала все карты. Надо было или выступить немедленно, или отложить выступление на долгие годы, может быть — совсем. Рылеев и то жалел, что было упущено восстание Семеновского полка, но теперь ситуация была несравненно благоприятнее. Смерть Александра была полной неожиданностью не только для заговорщиков, но для всех вообще, начиная с членов его собственного семейства
[23]. Императору не было пятидесяти лет, и хотя он прихварывал последнее время, как казалось, от случайных причин, в общем его здоровье, закаленное годами походной жизни, не внушало никаких серьезных опасений. Страх перед надвигавшейся революцией, по-видимому, подтачивал его сильнее, нежели могли это сделать военные передряги. И только этим страхом, доведшим Александра до своего рода политического паралича, можно объяснить ту странную непредусмотрительность, которую с недоумением отмечают все его историки: он как будто совершенно не интересовался вопросом, что же будет с престолом Российской империи в случае его кончины. За отсутствием детей у самого Александра, наследником по закону был второй сын Павла, цесаревич Константин. Но последний пользовался такой репутацией, что никто, начиная с него самого, не мог представить себе его императором. В кондуите этого великого князя был ряд инцидентов совершенно уголовного характера, которые всякого частного человека неминуемо привели бы на каторгу, и все это было известно в очень широких кругах
[24]. Уже в конце первого десятилетия XIX века Константина в семье не считали возможным наследником, и видели такового в следующем брате, Николае Павловиче. Но тот был так мал еще (родился в 1796 году), что и о нем как императоре серьезно пока не приходилось думать — Александр Павлович являлся, таким образом, из всей семьи единственным мыслимым носителем короны, что, как мы видели, Коленкур считал лучшей страховкой против повторения 11 марта. В 1823 году положение было оформлено. Удобным поводом являлась женитьба Константина на графине Грудзинской: девушка не из царствующего дома не могла быть русской императрицей — отсюда, не без натяжки, был сделан вывод, что и муж ее не может быть императором. Юридическая почва под этой концепцией была, нужно сказать, очень шаткая: «Учреждение об императорской фамилии» (изданное Павлом 5 апреля 1797 года и долгое время являвшееся единственным «основным законом» Российской империи) не предусматривало казуса. Жаннета Грудзинская, конечно, в нормальном порядке вещей не могла стать императрицей, но ее детям ничто не мешало, юридически, наследовать престол, а тем более ее мужу царствовать. Константин, если бы захотел, мог бы спорить, но он сам шел навстречу сомнительным юридическим доводам своего старшего брата, прекрасно понимая, что нельзя же в манифесте говорить о действительных мотивах его устранения. Но тут-то и начинается странность, изумляющая всех историков, Александра начатый юридический шаг до конца доведен не был: об устранении Константина Павловича и замене его Николаем опубликовано во всеобщее сведение не было не только в народе, но и вообще дальше интимного, домашнего круга о перемене никто не знал. В глазах публики наследником оставался Константин Павлович. Когда близкие люди указывали Александру на путаницу, которая почти неизбежно должна возникнуть отсюда в критический момент, Александр воздевал очи к небу и начинал говорить о божественном промысле. С индивидуалистической точки зрения для объяснения такого образа действий не остается другой гипотезы, кроме религиозного умопомешательства, но если мы взглянем на поведение Александра Павловича не как на результат свободного самоопределения, а как на продукт сложившейся к данному моменту обстановки, нам и тут, быть может, удастся обойтись без помощи психопатологии. Александр смутно чувствовал, хотя всеми словами он не сказал бы этого даже самому себе, что русское престолонаследие зависело не от актов, которые читаются в церквах и печатаются в официальных журналах, а от соотношения тех неофициальных сил, одну из которых он назвал в цитированной нами записке духом «вольномыслия или либерализма». Назначить прямо и открыто наследником Николая Павловича — значило нанести этому духу такую пощечину, которой он мог и не стерпеть, это значило, весьма возможно, ускорить ту революцию, которой Александр так боялся. Ибо великий князь Николай, несмотря на свою молодость, был в 1823 году личностью вполне сложившейся и определенной.
Сохранилась история детства, отрочества и юности императора Николая Павловича, написанная современником на основании подлинных документов и прошедшая через высокоавторитетную цензуру. Автором этого очерка был статс-секретарь Николая, барон Корф, а цензором не кто другой, как император Александр И. Чрезвычайно трудно заподозрить такую работу в пристрастии против изображаемого в ней лица, тем более, что автор, скромно называющий себя лишь «собирателем материалов», действительно часто ограничивается дословным пересказом своих источников. И вот что, например, узнаем мы от Корфа насчет детских игр Николая, игр, носивших, конечно военный характер: это было более чем естественно в сыне Павла и брате Александра Павловича. «Игры эти обыкновенно бывали весьма шумны, о чем постоянно писали все кавалеры в журналах всех годов этого периода, от 1802 и до 1809 года. Поминутно встречаются в них жалобы на то, что великий князь Николай Павлович «слишком груб во всех своих движениях, и его игры почти всегда кончаются тем, что он ранит себя или других»…, говорят про его страсть кривляться и гримасничать; наконец, в одном месте, при описании его игр читаем: «Его характер столь мало общителен, что он предпочел оставаться один, в совершенном бездействии, чем участвовать в игре. Эта
странность могла происходить только от того, что игры его сестры и его брата (Анны Павловны и Михаила Павловича, младших детей Павла, с которыми он воспитывался вместе) ему не нравились, а он не был способен уступить хотя бы в мелочах»… Кроме того, игры эти редко были миролюбивы. Почти всякий день случалась или ссора, или даже драка, Николай Павлович был до крайности вспыльчив и неугомонен, когда что-нибудь или кто-нибудь его сердили; что бы с ним ни случалось, падал ли он или ушибался, или считал свои желания неисполненными, он тотчас же произносил бранные слова, рубил своим топориком барабан, игрушки, ломал их,
бил палкой или чем попало товарищей игр своих, несмотря на то, что очень любил их, а к младшему брату был страстно привязан»…
[25] Таков был ребенок, в подростке все эти качества получили дальнейшее развитие. «В продолжение последних лет своего воспитания, — говорит наш автор, — Николай Павлович сохранил всю ту строптивость и стремительность характера, всю ту же настойчивость и желание следования одной собственной своей воле, которые уже и в предыдущий период давали столько забот его воспитателям, и с возрастом эти качества даже еще более усиливались». Его баловство по-прежнему носило крайне грубый характер: в 1810 году, уже четырнадцатилетним мальчиком, он, ласкаясь к одному из своих преподавателей, «вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступать ему на ноги и повторял это много раз». Выучившись играть во «взрослые» игры, на бильярде и в карты, он играл «с прежнею заносчивостью и стремительностью, с прежним же слишком большим желанием выиграть, говорят журналы». Из одного письма его матери, императрицы Марии Федоровны, к двадцатилетнему уже Николаю Павловичу мы узнаем и еще о двух его особенностях: привычке кстати и некстати возвышать голос и грубом тоне; и того и другого императрица советовала «безусловно избегать»; не видно, однако, чтобы совету последовали. Если прибавить к тому привычку не слушать других, безапелляционно заявляя свои мнения о чем угодно («какой дурак!», — было сказано об одном греческом философе, взгляды которого преподаватель великого князя охарактеризовал как ошибочные), и наклонность удивлять этих других остротами и каламбурами, которым говоривший смеялся первый (и часто, надо думать, в полном одиночестве), —
моральный портрет получится довольно полный. Последние черты дают уже переход и к интеллектуальной стороне. О ней нетрудно догадаться; один из цитированных журналов в двух словах резюмирует дело: великий князь, говорится здесь, «мало размышляет и забывает самые простые вещи». Между тем механизм памяти у Николая был великолепный: что входило в эту голову, сидело в ней прочно; задача была в том, как туда что-нибудь ввести. О трудностях задачи дают представление подлинные уже слова Николая Павловича. Рассказав Корфу, как его, Николая, в юности мучили «мнимым естественным правом» и «усыпительной политической экономией» (ее читал ни более ни менее как знаменитый Шторх), император продолжал: «И что же выходило? На уроках этих господ мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбяшку, без плода и пользы для будущего». Что ни «плода, ни пользы» не было, этого не могли скрыть самые лояльные люди: «Суди сам, — ответил Жуковский на вопрос одного своего приятеля, чего можно ждать от Николая, — я никогда не видал книги в его руках; единственное занятие — фрунт и солдаты». Зато «необыкновенные знания великого князя по фрунтовой части нас изумили», — рассказывает Михайловский-Данилевский (известный впоследствии «сочинитель» истории Отечественной войны) — рассказ относится как раз к 1823 году. «Иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и делал ружейные приемы так хорошо, что вряд ли лучший ефрейтор мог с ним сравняться, и показывал также барабанщикам, как им надлежало бить. При всем том его высочество говорил, что он в сравнении с великим князем Михаилом Павловичем ничего не знает: каков же должен быть сей? — спрашивали мы друг друга».
До 1818 года Николай, по собственному заявлению, «не был занят ничем». В этом году, двадцати двух лет от роду, он начал свою деловую жизнь, будучи назначен командиром одной из гвардейских бригад. Что произошло при первом его соприкосновении с житейской практикой; как принял он открывшуюся перед ним действительность, и как эта последняя должна была встретить его — пусть расскажет он сам. Извиняемся перед читателем за длинную выписку, но здесь весь Николай. Страницы не жалко, чтобы показать во весь рост эту, во всяком случае, крупную фигуру. «Я начал знакомиться со своей командой и не замедлил убедиться, что служба везде шла совершенно иначе, чем слышал волю государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать — один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде, даже моими начальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сам я ставил и начальников, и подчиненных против себя, тем более, что меня не знали и многие или не понимали, или не хотели понимать. Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был, как начальнику, матушкою; часто изъявлял ему свое затруднение; он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия. Но сего недоставало, чтобы поправить дело; даже решительно сказать можно, не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 года, когда по возвращении из Франции гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие-то время и без того уже расстроенный трехгодовым походом порядок совершенно расстроился, и, к довершению всего, дозволено было офицерам носить фраки. Было время (поверит ли кто сему?), что офицеры езжали на учение во фраках, накинув на себя шинель и надев форменную шляпу! Подчиненность исчезла и сохранялась только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была — одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день. В сем-то положении застал я мою бригаду, хотя с малыми оттенками, ибо сие зависело от большей или меньшей строгости начальников. По мере того как начал я знакомиться с своими подчиненными и видеть происходившее в других полках, я возымел мысль, что под сим, то есть военным распутством, крылось что-то важнее, и мысль сия постоянно у меня оставалась источником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих, на добрых малых, но запущенных, и на решительно дурных, то есть говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; сих-то последних гнал я без милосердия и всячески старался от оных избавиться; что мне и удавалось. Но дело сие было не легкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки, и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние сказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось»
[26].
Итак, пока между либеральным офицерством шли споры о том, быть ли будущей России цензовой монархией
или демократической республикой, нашелся человек, сумевший стать на совершенно оригинальную точку зрения: он заметил, что все спорившие «говоруны», без различия оттенков, были во фраках. Вот где если не корень, то наиболее очевидный симптом зла: вы чувствуете, как близки мы к павловской униформе, обязательной для всех «жителей» без изъятия. Нет только павловского безумия, но тем положение было опаснее; именно безумие делало Павла столь уязвимым, — будь он в здравом уме и твердой памяти, он мог бы процарствовать те же тридцать лет, что и его третий сын. И вы чувствуете также непримиримость конфликта. Офицер-заговорщик мог знать службу не хуже Николая Павловича (вероятно, даже лучше иногда: декабристу Фонвизину отдавали на поправку «запущенные» полки), но требовать от него, чтобы он все свои помыслы обратил на то, как бы побить рекорд «лучшего ефрейтора» по части ружейных приемов, было напрасным трудом; вне фронта он всегда оставался бы «человеком во фраке» — интеллигентом, по-теперешнему. Но интеллигенция и Николай — это были огонь и вода, чтобы один мог жить, другая должна была умереть или, по крайней мере, замереть на время. Мы видим, как был прав император Александр, если он, как можно догадываться,
боялся провозгласить Николая своим наследником, боялся, что это одно вызовет немедленный взрыв революции. На развалинах расстрелянного картечью бунта можно было сказать всей передовой части общества: оставьте всякую надежду; но и то Николай решился на это не сразу, и у него был период чего-то вроде компромисса, как мы увидим. Сказать же это
перед бунтом — значило прямо произвести пробу, кто будет стрелять лучше. У Александра Павловича не хватило на это духа. Не хватило на это духа и у «русского Баярда», весьма плохо исполнявшего тогда обязанности петербургского генерал-губернатора, генерала Милорадовича. Подозревать этого, немного театрального, «героя» Отечественной войны в нелояльности у нас нет оснований. К «людям во фраке» он, конечно, не принадлежал, но настроение войск он знал хорошо, и когда Николай Павлович, по получении известия о смерти старшего брата, заговорил, по-видимому, о своих правах, Милорадович решительно отказался ему содействовать. «Сами изволите знать, вас не любят», — категорически заявил он будущему императору.
Великий князь Николай должен был весьма живо почувствовать, что значит «фактическое соотношение сил». Он, как и вся царская семья, прекрасно знал, что существует, хотя и неопубликованный, но как нельзя более подлинный, подписанный Александром I, манифест, назначающий наследником его, Николая
[27]. Но император Александр был теперь мертв, и с телом его бальзамировщики обращались, «как с куском дерева», по выражению одного очевидца. Воля живого генерала, самодовольно объяснявшего всем, желавшим слушать, что у него «шестьдесят тысяч штыков в кармане», была сильнее воли мертвого императора. Это, молчаливо и косвенно, признал даже Государственный совет, в первую минуту пытавшийся проявить что-то вроде самостоятельности. Когда Милорадович объявил свою «волю», и здесь с ним не стали спорить, как не стал с ним спорить Николай Павлович. Твердым военным шагом он первый отправился присягать императору Константину, а за ним пошли члены Государственного совета. На следующее утро в окнах книжных и эстампных магазинов Петербурга красовались уже портреты Константина I. Теснившаяся перед портретами публика, успевшая позабыть физиономию цесаревича, избегавшего столицы, дивилась разительному сходству нового государя с Павлом, на ухо рассказывала друг другу скандальные анекдоты о Константине, но в общем считала все происходившее вполне нормальным и сама относилась к нему нормально: дальше тесного придворного круга никто не знал ни об отречении Константина, ни о происходившей во дворце глухой борьбе. Не иначе отнеслись к делу в первую минуту и члены Северного общества. «Накануне присяги все наличные члены общества собрались у Рылеева, — рассказывает Оболенский. — Все единогласно решили, что ни противиться восшествию на престол, ни предпринять что-либо решительное в столь короткое время было невозможно. Сверх того, положено было, вместе с появлением нового императора, действия общества на время прекратить. Грустно мы разошлись по своим домам, чувствуя, что надолго, а может быть, и навсегда, отдалилось осуществление лучшей мечты нашей жизни!»
Положение Константина Павловича было необыкновенно сложно. С одной стороны, он был осведомлен о существовании планов тайных обществ, во всяком случае, не хуже Александра, но, само собою разумеется, отношение к ним его, в силу объективных условий «оппозиционного» великого князя, было иное, нежели царствующего императора; тот боялся — этот, напротив, мог надеяться… Декабрист Завалишин передает со слов другого члена тайного общества, Лунина, что цесаревич имел с последним продолжительные беседы, в которых титуловал, между прочим, Пестеля по имени-отчеству: Павел Иванович. Из этих бесед Лунин вынес впечатление, что на Константина, в известном смысле, можно до некоторой степени рассчитывать. Записки Завалишина — довольно мутный источник, но что Константин после 14 декабря долгое время не выдавал Николаю Лунина под разными предлогами (по словам Завалишина, давая ему тем временем полную возможность скрыться за границу), это вполне подтверждается опубликованной в недавнее время перепиской братьев
[28]. Натура глубоко деспотическая, Константин Павлович, товарищ по воспитанию Александра, не чувствовал, однако же, принципиального отвращения к внешним формам свободной жизни, как Николай. В Польше, где он стоял с войсками с 1814 года, он мог привыкнуть к конституционной обстановке, и уже самый факт женитьбы на простой польской дворянке указывал на некоторую эмансипацию цесаревича от традиций Зимнего дворца. Если кого из царской фамилии можно было представить себе в роли «императора» муравьевской конституции, то скорее его, чем Николая или даже Михаила Павловичей. Декабристам, по крайней мере некоторым, кажется, не чужда была мысль английских вигов XVII века насчет того, что «дурное право делает короля хорошим». Ради этого, быть может, стоило перешагнуть через прошлое Константина. Но в этом прошлом было нечто такое, через что ему самому перешагнуть было морально невозможно: как-никак, в 1825 году он формально отрекся от престола в пользу младшего брата. Существовало его письмо на этот счет, хранившееся вместе с таинственным манифестом. В семье все об отречении знали: с какими глазами явился бы он к матери императрице Марии Фёдоровне? Какое впечатление получилось бы, если бы противная сторона опубликовала этот документ? Константин мог стать царем только «волею народа» в гвардейских мундирах, эта воля могла стушевать и худшие правонарушения. Константин понимал, что присяга, данная людьми, не знавшими ничего о его отречении, не могла равняться такому волеизъявлению: ему нужно было нечто вроде переизбрания. К этому, в сущности, он и вел: не отрицая фактов, имевших место в 1823 году, даже подтверждая их, он, при всех настояниях Николая, отказывался дать одно — свое отречение
уже как императора. Великий князь Константин, под давлением со стороны старшего брата, подписал в 1823 году отречение — это верно; но подтверждает ли его император Константин I теперь, когда никакого давления нет, — на этот счет из Варшавы не было никакого ответа. Письма обоих братьев переполнены изъявлениями верноподданнической преданности их друг другу, но никакого документа, который уполномочил бы Николая действовать, он в руках не имел. Перед семьей Константин был совершенно чист; он не позволял называть себя «величеством», не принимал донесений, адресуемых ему как государю, и ждал, что будет дальше. Для товарищей Лунина создавалась ситуация, благоприятнее которой трудно себе что-нибудь представить, и они тотчас же это поняли. «На другой же день весть пришла о возможном отречении от престола нового императора, — продолжает Оболенский. — Тогда же сделалось известным и завещание покойного и вероятное вступление на престол великого князя Николая Павловича. Тут все пришло в движение, и вновь надежда на успех блеснула во всех сердцах. Не стану рассказывать о ежедневных наших совещаниях, о деятельности Рылеева, который, вопреки болезненному состоянию (у него открылась в это время жаба), употреблял всю силу духа на исполнение предначертанного намерения — воспользоваться переменою царствования для государственного переворота».
Но «междуцарствием» воспользовались не одни заговорщики. «Между тем как занимали внимание публики новым императором (Константином), — рассказывает другой близкий к Рылееву человек, Штейнгель, — экстра-почта, приходившая ежедневно из Варшавы в контору Мраморного дворца, принадлежавшего цесаревичу, была от заставы препровождаема в Зимний дворец и тут вскрываема. Хотели из частных писем знать, что там делается. — Приказано было солдат не выпускать из казарм, даже в баню, и наблюдать строго, чтобы не было никаких разговоров между ними. Полковым и батальонным командирам лично было сказано, чтобы на случай отказа цесаревича приготовили людей к перемене присяги. Обещано генерал-адъютантство и флигель-адъютантство»
[29]. Тактика Николая Павловича была та же, что и его противников: старались привлечь на свою сторону «густые эполеты». Но у Николая средств привлечения было больше. Даже иные члены тайного общества, как Шипов, командир Семеновского полка, не устояли перед соблазном; чего же было ждать от дюжинных карьеристов? Нам неизвестно, какие приемы были пущены в ход по отношению к Милорадовичу, но уже очень скоро хозяин «шестидесяти тысяч штыков» стал говорить о восшествии на престол Николая как о деле возможном, хотя и не ручался за его успех. Окончательно закрепил перевес Николая случай, который всегда холопски служит более сильному. Нашелся предатель, если не среди самих участников заговора, то очень близко к ним: Ростовцев, которого считали своим, который все видел и знал, отправился накануне решительного дня к Николаю и рассказал ему, — не так много, чтобы это можно было назвать формальным доносом, но достаточно, чтобы Николай был предупрежден. Будущий председатель редакционных комиссий объяснял свой поступок самыми возвышенными мотивами, — но нельзя все же совсем забывать (как это не прочь была сделать либеральная историография), что с этого возвышенного поступка началась карьера Ростовцева. Николай был уже настороже, днем раньше на его письменном столе уже лежали свежие и подробные сведения о деятельности тайных обществ, присланные из Таганрога: результат совместной работы целых трех провокаторов, один из которых, Майборода, был весьма близок к Пестелю. Николай хорошо знал уже, что делается в армии — Ростовцев дал понять, что и в Петербурге то же, и, что было еще важнее, предупредил,
когда можно ждать удара. Рылеев и его товарищи выбрали как момент выступления вторичную присягу, уже Николаю Павловичу; Николай считал теперь почву достаточно подготовленной и решился 14 декабря закрепить свое право, использовав как мог лучше семейную лояльность цесаревича Константина. Что он идет на coup d’état, Николай понимал прекрасно, но ему приходилось выбирать между государственным переворотом сверху и революцией снизу; в смысле личной опасности это было одно и то же: и то, и другое одинаково могло стоить головы. «Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания», — этой знаменитой фразой Николай, в сущности, поставил себя на одну доску со своими противниками: те шли завоевывать республику, этот шел на приступ императорской короны. Дело решилось тем, чья сабля острее, но это была лишь его военная сторона, а в основе тут, как и всюду, лежала сторона
социальная. При тактике заговорщиков и Николая — одинаковой, как мы видели — вопрос решали гвардейские верхи. Но они не только из-за генерал- и флигель-адъютантства были на стороне «порядка», т. е. на стороне coup d’état; то была кость от кости и плоть от плоти той самой «знати», которая прочно держала власть в своих руках все время, особенно прочно с того момента, как Александр капитулировал перед нею в 1810 году. Когда вы просматриваете списки бойцов за «правое дело» против «бунта» декабристов, вас поражает изобилие остзейских фамилий: Бенкендорфы, Грюнвальды, Фредериксы, Каульбарсы мелькают на каждой странице. Самая феодальная часть российского дворянства оказалась наиболее преданной Николаю. А на противоположной стороне из блестящих рядов «знати» 14 декабря, сиротливо и конфузливо, стоял один князь Трубецкой, видимо, чрезвычайно смущенный прежде всего тем, что он попал не в свое общество. Ибо нельзя же объяснить невозможное поведение этого «диктатора» только его трусостью: все же он был солдат, и в нормальной для него обстановке сумел бы, по крайней мере, не спрятаться. Но его участие в заговоре именно было ненормальностью, поразившею, прежде всего, другого — его врагов. «Гвардии полковник! князь Трубецкой! как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью?» — были первые слова Николая, когда к нему привели пленного «диктатора». Что нужды, что среди этой «дряни» были носители исторических фамилий, как Бестужевы: они давно выпали из рядов «правительной аристократии», у них были не тысячи, а только сотни душ, и в глазах императора Николая или даже какого-нибудь графа Чернышева эти «обломки игрою счастия низверженных родов» были не выше, чем в их собственных глазах их унтер-офицеры.
С точки зрения Зимнего дворца, восстание 14 декабря было чуть ли не демократической революцией, а оно менее всего желало ею быть, и в этом была его ахиллесова пята. Чтобы понять, что в этот день в Петербурге действительно начиналась первая русская революция, нет надобности обращаться к воспоминаниям самих декабристов: пусть они будут пристрастны. Возьмите записки лояльнейшего из немцев, родного племянника императрицы Марии Федоровны, принца Евгения Виртембергского, когда-то кандидата на российский престол по капризу Павла, а под конец рядового русского генерала. Он ничего не понимал в происходившем движении, он только добросовестно рассказывает то, что видел своими глазами. Утром в день восстания он «усердно предавался» добродетельнейшему занятию — писал письмо своей матери, когда в его комнату вбежал встревоженный его адъютант. «Встав (из-за письменного стола), я взглянул на Дворцовую площадь, по которой проходили группы солдат со знаменами, я принял их за возвращающихся после присяги. А вокруг них теснилась необозримая толпа народа, из которой доносился дикий рев — нельзя было понять, был ли это знак радости или выражение неудовольствия». Сбежав вниз, принц нашел на площади Николая, окруженного густой толпой «черни», которой новый император пытался объяснить «обстоятельства своего восшествия на престол». Принцу картина показалась чрезвычайно дикой и неприличной, он поспешил уговорить своего кузена сесть на лошадь и, отдав необходимые распоряжения (между прочим, забаррикадировать все входы и выходы из дворца), сам последовал за ним на Сенатскую площадь. Выполняя известный нам план, заговорщики решили захватить сенат, чтобы сделать из него юридический центр переворота: называли и двух-трех сенаторов, на которых они могли бы рассчитывать. То, что Николай был предупрежден, испортило, в числе прочего, и этот шаг — сенат в полном составе с раннего утра был собран во дворец. Перед зданием сената принц Евгений увидал «кучку солдат, человек в 500; около нее было несколько озабоченных и, по-видимому, вооруженных людей в статском платье
[30],
и волнующаяся густая толпа народа разных классов покрывала всю Исаакиевскую площадь и все прилегающие к ней улицы». Относительно настроения этой толпы не могло быть сомнений: командира гвардейского корпуса Воинова она было стащила с лошади; в самого принца Евгения бросали снежками, а когда, конная гвардия вздумала атаковать каре инсургентов, в нее полетели камни и поленья, гораздо больше способствовавшие отражению атаки, нежели слабый ружейный огонь декабристов, стрелявших (и по признанию принца Евгения, между прочим) больше в воздух: в конной гвардии, как и во всех полках, были члены тайного общества, и последнее не теряло еще надежды иметь полк на своей стороне. Вообще, принц был поражен незначительностью сил, какими мог располагать новый император: кроме батальона преображенцев, не было видно никакой пехоты; артиллерия была в пяти верстах, а когда, наконец, привезли пушки, то не оказалось снарядов; конногвардейцы и кавалергарды производили какие-то неопределенные движения, для которых один из официальных историков события должен был придумать термин «атакообразные» — попросту говоря, они избегали серьезного столкновения, как избегали ввязываться в него и их противники. И так дело продолжалось с рассвета до сумерек короткого декабрьского дня. К этому времени артиллерия Николая получила, наконец, порох и картечь, а остзейское офицерство решилось проявить инициативу: по совету остзейца Толя картечь была пущена в ход
[31]; от нее пострадала прежде всего восставшая толпа: первый выстрел был дан по крыше сената, откуда бомбардировали поленьями конную гвардию; лишь второй и следующие были направлены в каре, но и в окружавший его народ также: «штатских» полегло не меньше, нежели солдат восставших полков. Толпа на «предметном уроке» увидела, кто сильнее: на другой день о революции напоминали только усиленные караулы вокруг Зимнего дворца и на его лестницах и в коридорах; в городе было мертвое спокойствие.
Можно ли объяснить случайностью тот факт, что декабристы «простояли» революцию? Ее шансы были очень велики — одного маленького факта достаточно, чтобы видеть, что можно было бы сделать, если бы не бояться народного движения. Н. Бестужев рассказывает, что после первой присяги (Константину) он с братом Александром (Марлинским) и Рылеевым «положили было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько исписанных уже листов и решились все трое идти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором
дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба… Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты; нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам: на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом». Но это был единственный и, как читатель видит, довольно неуклюже поставленный опыт. Систематически пропагандой среди солдат занимался только С. И. Муравьев-Апостол, действовавший на юге, но в его «православном катехизисе» как раз отсутствуют социальные мотивы; если он же был автором знакомой нам прокламации к преображенцам, остается удивляться, как скоро он забыл то, что ему так ясно представлялось в 1820 году. И эта забывчивость тоже могла быть не случайной. Одно место из записок Штейнгеля лучше длинных рассуждений покажет нам, как смотрел на вопрос
средний декабрист. «Один из непринадлежащих к обществу, но знавший о нем с 1824 года, хотя и неопределенно, по одной дружеской доверенности Рылеева (такой густой вуалью Штейнгель прикрывает… самого себя), представлял ему, что в
России революция в республиканском. духе еще невозможна: она повлекла бы за собою ужасы. В одной Москве из 250 тысяч тогдашних жителей 90 тысяч было крепостных, готовых взяться за ножи и пуститься на все неистовства. Поэтому он советовал, если хотят сделать что-нибудь в пользу политической свободы… то
уж лучше всего прибегнуть к революции дворцовой»… Дворяне 1825 года очень не прочь были бы идти по стопам своих предков 1762 и 1801 годов. Но та часть дворянства, которая твердой ногой стояла во дворце и
могла сделать переворот,
не хотела той свободы, о которой мечтали декабристы. А к тем, кто мог им помочь, они
не смели обратиться. В этом роковом кругу и задохнулся заговор, недостаточно аристократический для дворцового переворота и слишком дворянский для народной революции.

Глава XIV
Крестьянская реформа

Социальная политика Николая I
Деспотизм российского императора ♦ Сходство первых деяний Павла и Николая ♦ О низких цепах на хлеб ♦ Успехи купеческого предпринимательства ♦ Преимущества наемного труда ♦ Закавказский транзит ♦ Коммерция в период персидской и турецкой войн 4 Подготовка к войне с Англией
«В России деспотизм работает всегда с математической правильностью, и результатом этой крайней последовательности является крайнее угнетение. Приходишь в негодование, видя суровость этой непреклонной политики, и с ужасом спрашиваешь себя: отчего в делах человека так мало человечности? Но дрожать не значит презирать: не презирают того, чего боятся. Созерцая Петербург и размышляя об ужасной жизни обитателей этого гранитного лагеря, можно усомниться в милосердии Божием, можно рыдать, проклинать, но нельзя соскучиться. Здесь есть непроницаемая тайна; но в то же время чудовищное величие… Эта колоссальная империя, явившаяся моим глазам на востоке Европы — той Европы, где общества так страдают от недостатка общепризнанного авторитета, производит впечатление чего-то, воскресшего из мертвых. Мне кажется, что предо мною какой-то ветхозаветный народ, и с ужасом и любопытством, в одно и то же время, я стою у ног этого допотопного чудовища».
На самом деле, тот, кому принадлежат эти строки, смотрел на чудовище сверху и видел не его ноги, а его спину. Живая сценка, которою Кюстин иллюстрирует свои размышления о всепоглощающем деспотизме русского императора, показывает нам петербургский «большой свет», собравшийся в чудный летний вечер на острова не для того, чтобы насладиться прогулкой, — это удовольствие «показалось бы слишком пресным придворным, которые составляют здесь толпу», — а для того, чтобы видеть пароход императрицы: «удовольствие, которое никогда здесь не надоедает». Французский путешественник легко принимал за «народ» тот общественный круг, к какому принадлежал он сам. Но к этому кругу вполне приложима его характеристика: «здесь всякий государь — бог, всякая принцесса — Армида, Клеопатра. Кортеж этих меняющихся божеств всегда один и тот же; его образует народ, всегда одинаково верный, стекающийся их смотреть пешком, верхом, в каретах; царствующий государь всегда в моде и всемогущ у этого народа»
[32]. Настоящий народ трудно было рассмотреть из окон комфортабельной кареты, в которой объезжал Россию на курьерских французский маркиз: еще труднее было с ним сблизиться, не зная его языка. Теоретически Кюстин сознавал, что положение русских крепостных должно быть ужасно; и немудрено, что его шаблонные рассуждения об «ужасах рабства» удовлетворяли современных русских читателей (даже таких, как Герцен): их повседневные наблюдения давали им сколько угодно наглядных иллюстраций к этому шаблону. Живые впечатления самого Кюстина относились к Николаю, его двору, отчасти к чиновничеству — к тем, с кем он сталкивался, кого он понимал и кто мог понять его. Как нельзя более ярко рисует он этот непрерывный спектакль, недаром напомнивший ему Версаль, — и где тот, кто казался господином всего, играл роль первого актера, достававшуюся ему недешево даже физически, несмотря на его железный организм; когда Николай снимал с себя тесную униформу, в которую он был затянут весь день, с ним делалось нечто вроде обморока. «Раболепную толпу» нужно было занять, как ни мало доставляло это удовольствия самому «живому богу». Когда Николай с кем-нибудь разговаривает, замечает Кюстин, поодаль тотчас образуется целый круг придворных: слов они слышать не могли, конечно, но видели мимику императора, — с них было довольно и этого…
Верхний слой дворянства был окончательно приручен, очевидно. По старой памяти Кюстин еще говорит об «ужасных антрактах», какими прерывался иногда этот сплошной спектакль; ему принадлежит знаменитое определение русского образа правления, как «абсолютной монархии, умеряемой убийством»: определение было верно вплоть до эпохи Александра I. При Николае не только не было намека на дворцовый заговор, — никто, кажется, не думал о возможности чего-нибудь подобного. При его дворе «человек жил взглядами государя, как растение лучами солнца; самый воздух принадлежит императору: им дышат постольку, поскольку император его уделяет не в одинаковом размере для каждого: у настоящего придворного легкие так же послушны, как и спина».
Кюстину отчасти объяснили причину этой удивительной дисциплины: он узнал, что большая часть имений дворянства заложена в государственном банке, — что Николай (при
таком самодержавии очень трудно было отделить личность государя от государства) является кредитором чуть не всего своего «народа». В разных местах он упоминает о той системе шпионажа, которая была создана тотчас после 14 декабря и достигла того, что люди боялись говорить даже о будничных происшествиях, если эти последние могли быть неприятны императору. Так, о крушении одного из пароходов, на которых ехала публика смотреть петергофский праздник, по случаю именин императрицы, передавали друг другу по секрету: несчастие в день именин могло огорчить именинницу — и его не должно было быть; из почтительности утопленники должны были смирно сидеть в глубине морской, а их семьи — не плакать слишком громко. Эта система шпионажа, с большой любовью оборудованная слегка знакомым нам по 14 декабря Бенкендорфом
[33], была, однако же, едва ли не излишней. В ней любопытны черты, напоминавшие «желтый ящик» блаженной памяти Павла Петровича — рядом с чертами, предвосхищавшими далекое будущее. Жандармские офицеры должны были наблюдать, чтобы «спокойствие и права граждан» не могли быть нарушены не только «пагубным направлением людей злоумышленных», но и «чьей-либо властью или
преобладанием сильных лиц». «Свойственные вам благородные чувства и правила несомненно должны вам приобресть уважение всех сословий, — наставлял Бенкендорф своих агентов, — и тогда звание ваше, подкрепленное общим доверием, достигнет истинной своей цели и принесет очевидную пользу государству; в вас всякий увидит чиновника, который через мое посредство может довести глас страждущего человечества до престола царского, и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту государя императора». В то же время глава этих ангелов-хранителей беззащитных граждан должен был, по проекту Бенкендорфа, «ежегодно путешествовать, бывать время от времени на больших ярмарках, где он легче может завязать полезные связи и
соблазнять людей, жадных к деньгам». Последствия показали, что найти таких людей можно было, и не ездя по ярмаркам — и что, в то же время», это наиболее легкий способ действия, что «приобрести моральную силу», как дальше рекомендует тот же Бенкендорф, гораздо труднее. Но как раз при Николае, до 40-х годов, всякие способы казались излишней роскошью. Подвиги николаевских жандармов относятся больше к истории литературы: в книге и газете можно было найти отблески если не самой революции, то чего-то, напоминавшего о ней; отблески отблесков — нечто вроде зарниц без грома. Серая пелена того, что при Николае заменяло «общественную жизнь», не освещалась даже этими зарницами — до 40-х годов, по крайней мере; а когда первые зарницы показались и здесь, дело оказалось настолько непохоже на дворянский заговор, с каким призваны были бороться первые жандармы, что и они, и сам Николай остановились в недоумении перед новой для них картиной. Понадобилось поколение, чтобы ученики Бенкендорфа выработали приемы борьбы с новым врагом — с демократической революцией.
Но вернемся к 20-м годам. Одним «желтым ящиком» отнюдь не ограничивалось сходство между первыми шагами Павла и Николая Павловича. Очень характерно сопоставление нескольких дат: высочайшим указом от 3 июля 1826 года учреждено
Третье отделение собственной его величества канцелярии (позднейший департамент полиции). За неделю до этого, 25 июня, создана была должность
шефа жандарма, сразу же и занятая Бенкендорфом; а еще неделею раньше, рескриптом от 19 июня предписано было дворянству
христианское и
сообразное законам обращение с крестьянами. «К истинному моему сожалению, — говорил царь в этом рескрипте, — доходят до моего сведения несогласные с сим примеры; а потому и повелеваем вам (министру внутренних дел) поставить на вид означенную волю мою, кроме всех начальников губерний, в особенности всем предводителям и маршалам дворянства… Вы им предпишете, что неуспешное исполнение сей достойной уважения их обязанности подвергнет их неизбежному взысканию по законам вместе с теми, кои дозволят себе удалиться от изъявляемой мною здесь воли моей, так как
порядок в отношениях между крестьянами и помещиками, их заботливостью и предварениями соблюденный,
всегда будет предметом моего особого внимания…». Следующий рескрипт, от 6 сентября, конкретизировал злоупотребления помещичьей власти, глухо упомянутые в рескрипте от 19 июня: здесь уже прямо говорилось о «непомерном распорядке работ и повинностей» и о «непомерных наказаниях». Организация слежки за неблагонадежными помещиками и заботы о доказавшем 14 декабря свою благонадежность крестьянстве шли рука об руку. Причем и тут, как при Павле, крестьянству пришлось напомнить о своем существовании очередными беспорядками, вызвавшими, опять как при Павле, ряд полицейских мер и высочайший манифест (от 12 мая 1826 года), гласивший, «что всякие толки о свободе казенных поселян от платежа податей, а
помещичьих крестьян и дворовых людей от повиновения их господам суть слухи ложные, выдуманные и разглашаемые злонамеренными людьми из одного корыстолюбия…».
Мы напрасно стали бы искать в этом манифесте отражение действительных взглядов и намерений нового императора. Видя в себе, — как и Павел Петрович, опять-таки, — прежде всего другого верховного обер-полицеймейстера, Николай прежде всего спешил исполнить свою обязанность по «охранению порядка». Но, как и Павел, как и Александр Павлович, как вся послепугачевская русская администрация, он понимал, что «злоупотребления помещичьей властью» — новое крепостное право, иначе говоря — являются постоянной и длительной причиной всех возможных волнений в общественных низах. Демагогические тенденции — в их существовании едва ли может быть сомнение
[34] — вели туда же, куда вело и сознание своих обер-полицеймейстерских обязанностей. Что в конечном счете наклонности демагога и полицеймейстерские обязанности должны были нейтрализовать друг друга и привести к тому топтанию на одном месте, которое носит название «попыток крестьянской реформы при Николае I», — это можно было предвидеть заранее. Но мыслительный аппарат Николая Павловича был не так устроен, чтобы видеть на большое расстояние вперед, и в субъективных его намерениях «вести процесс против рабства», как он однажды красиво выразился в одном частном разговоре, не может быть сомнения. В бумагах комитета, учрежденного им 6 декабря 1826 года и имевшего всеобъемлющую задачу: «Обозреть настоящее положение всех частей управления, дабы из сих соображений вывести правила к лучшему их устройству и исправлению», — сохранилась собственноручная записка Николая, на этот счет достаточно показательная. В ней предлагается: «1) запретить продавать имения, называя число душ, но оговаривая число десятин и угодий; 2) в банки принимать имения в заклад не душами, а тоже десятинами и прочими угодиями, вовсе не говоря про души; 3) сделать особую ревизию одним дворовым людям; 4) после сей ревизии выдать указ, запрещающий брать из крестьян в дворовые; 5) с дворовых людей платить тройные подушные». Комитет 6 декабря должен был подготовить почву для
изъятия людей из числа возможных объектов собственности: таков был весьма ясный смысл этой записки. Ставя так задачу, Николай не выходил из заколдованного круга, в котором вращались все
аристократические проекты эмансипации, начиная с «молодых друзей» и даже еще раньше — с Вольного экономического общества 1760-х годов. Личное усмотрение на практике оказывалось отражением взглядов определенной
общественной группы — той самой, которая помогла Николаю сесть на престол 14 декабря 1825 года. Ее тенденция всего виднее в крестьянской политике Николая, — с этой последней и приходится начать.
Секретарем знати по крестьянскому вопросу явился тот самый человек, который при Александре I служил последнему своим пером против этой самой «знати»: автор «плана государственного образования» 1809 года, Сперанский, представил в комитет 6 декабря первый в нашей официальной литературе систематически выработанный план освобождения крестьян. Сперанский стоял на исторической точке зрения: он видел в развитии крепостного права смешение крестьянства с холопством и предлагал начать с разделения этих двух элементов. Древнейшее крепостное право, по взгляду Сперанского, состояло в том, что крестьянин был прикреплен не к лицу владельца, а к земле, и не мог быть от нее отделен — продан отдельно от земли или взят во двор. Впоследствии владельцы стали постепенно смешивать крестьян со своими холопами — употреблять их для дворовой службы и продавать их в розницу, подобно холопам. Это злоупотребление было узаконено в XVIII веке, когда крестьяне были признаны движимым имуществом землевладельца: так сложилась новая, более тяжелая форма крепостного права. Раскрепощение должно было идти по тому же пути, как и закрепощение, только в обратном порядке: сначала должно быть запрещено продавать крестьян без земли и брать их во двор; потом безусловная зависимость крестьянина от владельца должна быть заменена условною, основанною на договоре, поставленном под охрану общих судов. Последнее возвращало крестьянину его гражданские права: его экономическое положение обеспечивалось участком земли, который уступал ему помещик в пользование за определенные повинности. Сперанскому казалось, что таким путем уравновешиваются интересы обеих сторон: крестьянин получает «свободу», а помещик не лишается рабочей силы, которую ему давало в руки крепостное право. Нет надобности объяснять читателю, что здесь
юридической форме приписывалась магическая сила, какой в действительности она, эта форма, разумеется, не имела; но проекты «молодых друзей» были не лучше — и, став из молодых друзей старыми чиновниками
[35], они ничего не имели возразить против плана Сперанского. Ни в комитете, ни в Государственном совете проект не встретил сопротивления. Решено было сделать первый шаг — запретить продажу людей без земли. Но Николай Павлович не взял на свою личную ответственность даже и этой элементарной меры: он счел долгом прежде снестись с великим князем Константином и получил
от него ответ, что «сильнейшая ограда коренных законов и уставов государственных есть их древность. Посему его императорское высочество полагает, что касательно существенных перемен, содержащихся в тех проектах, лучше было бы отдать их еще на суд времени». Дело было положено в долгий ящик.
Судьба комитета 6 декабря 1826 года дает очень удобный случай остановиться на легенде о «железной воле» императора Николая — легенде, пользующейся большой популярностью в известной части нашей литературы. Легенда сложилась еще при жизни Николая. Казарменное общество и привычка командовать на разводах выработали у него известный «командирский» тон, который наивными людьми принимался за выражение сильного характера
[36]. На самом деле как раз этим качеством Николай вовсе не отличался: некоторые, малорыцарские черты своего отца он унаследовал в гораздо большей степени, нежели Александр Павлович, которого не раз видали под ядрами. В детстве Николая долго не могли приучить к стрельбе: он так боялся пушек, что при одном посещении Гатчины он не решился подойти к крепости, увидав страшные для него орудия, торчавшие из амбразур. И эта черта не прошла с детством. Если бы 14 декабря около Зимнего дворца нашелся хладнокровный наблюдатель, его поразило бы поведение государя, судьба которого решалась в эту минуту: с беспомощным видом расхаживал он по площади и вместо того, чтобы распоряжаться, растерянно обнимал и целовал подходивших к нему офицеров. Только настояния его приближенных заставили его выехать на Сенатскую площадь, где, бледный, как мертвец, он оставался опять-таки пассивным зрителем происходящего, пока, машинально повинуясь совету Толя (или Васильчикова), он не пустил в ход картечь. Декабристов приводили к нему на допрос со связанными руками — хотя предварительно они бывали тщательно обысканы, разумеется. В его дальнейшей деятельности мы найдем не одну резкую выходку: в немецкой литературе до сих пор повторяется рассказ, как Николай до того будто бы испугал своим приемом одного прусского министра, что тот от страху заболел и умер. Но мы напрасно стали бы искать у этого страшного человека хотя одного до конца продуманного и твердо выполненного плана, — всего менее в крестьянском вопросе. Как все слабохарактерные люди, он жаловался в этом случае окружающим на своих министров, которые будто бы не желают понять его намерений и не хотят им содействовать. Но когда ему приходилось формулировать эти свои намерения, он на каждом шагу путался и противоречил самому себе: то он уверял, что «никогда не решится колебать того, что временем или обычаем обращено в право помещиков»; то говорил, что «главная цель его — изменить крепостное у нас состояние», т. е. отнять у помещиков их главное право. То соглашался на коренную реформу и говорил, что нужно «вместе издать все»; то требовал, чтобы отмена крепостного состояния совершилась постепенно и «нечувствительно» ни для крестьян, ни для помещиков. Собираясь вести «процесс против рабства», он, по-видимому, больше всего на свете боялся, как бы не узнали о его намерении те, кому «процесс» больше всего угрожал. Все комитеты по крестьянскому делу при Николае были
секретные, и члены их обязывались чуть не присягой никому и ни под каким видом не сообщать о том, что там говорилось. Совершенно естественным последствием этой таинственности было то, что в обществе ходили самые нелепые слухи о намерениях Николая
[37]: когда слухи доходили до него, он сердился на членов комитета за несоблюдение «тайны» и грозил предать их суду за «государственное преступление». Ни разу у него не хватило духу открыто высказаться перед обществом насчет своих намерений. Только раз в жизни он решился высказаться «келейно» — и приемы, к каким он прибегнул в этом случае, в высокой степени характерны и для него самого, и для положения крестьянского вопроса в его царствование.
Записка Сперанского отразились на всех правительственных проектах эмансипации при Николае I. Автор ее был уже в могиле, а его аргументация продолжала повторяться в секретных комитетах 40-х годов. Ее главная мысль: уничтожить крепостное
право как юридический институт, сохранив за помещиками экономические выгоды существующего положения, — легла в основу единственной крупной меры Николая по крестьянскому вопросу, указа от 2 апреля 1842 года
об обязанных крестьянах. Указ был проектирован бывшим другом и покровителем декабристов, который при Николае стал министром государственных имуществ и «начальником штаба Его Величества по крестьянской части», как шутил любивший все военное император, — Киселевым. По первоначальному проекту, помещик уступал крестьянам личную свободу; право
собственности на всю землю оставалось за помещиком: но крестьянам уступались их наделы в
вечное пользование, за определенные повинности. Административная власть помещика сохранялась во всей силе, — в этом пункте киселевский проект отставал от записки Сперанского, соединявшего крестьянскую реформу с «пересмотром земского управления: ибо какой закон может произвести полезное действие при настоящем образе исполнения»? В сущности, проект 1840 года вполне отвечал интересам крупного землевладения, интересовавшегося не личностью крестьянина, — почти все крупные имения были на оброке, — а получавшимся от него доходом. Но неприкосновенность дохода достаточно гарантировалась проектом Киселева, который даже нашел нужным особенно подчеркнуть, что «крестьяне не могут оставлять имения, пока население не превзойдет определенной нормы»: значит, обязательные арендаторы были обеспечены землевладельцу. Но за пятнадцать лет спокойного николаевского царствования знать успела поправеть: проект, который в наши дни назвали бы крепостническим, члены секретного комитета, учрежденного Николаем в 1840 году, нашли страшно либеральным. «Всем казалось, — писал Корф, — что возвышенность цели и благотворность отдаленных последствий увлекли Киселева за пределы близкой возможности и скрыли от него трудность исполнения». Решено было в указе совсем не поминать
свободы крестьян, представить публике все дело лишь как дополнение указа о «вольных хлебопашцах» (20 февраля 1803 года) и предоставить помещикам заключать подобные сделки с крестьянами
лишь по их, помещиков, доброй воле. При таких условиях указ являлся шагом назад сравнительно с законом 1803 года: тот разрешал уступать крестьянам землю в собственность, этот — лишь в постоянное пользование, право же собственности помещика на землю категорически подтверждалось. Даже великий князь Михаил Павлович находил меру «вполне консервативной» и был ею доволен.
Но доверенные люди императора Николая, кн. Васильчиков и бар. Корф, «не скрывали друг от друга своих опасений» и утешали друг друга тем, «что при разнесшихся в публике слухах о замышляемом будто бы освобождении крепостных людей, необходимо для пресечения сего сделать, по крайней мере,
что-нибудь в доказательство, что
этим одним и ограничиваются намерения правительства, а потом уже решительно прекратить всякое занятие сим делом». Для вящего успокоения помещиков вместе с указом был издан циркуляр губернаторам, где очень наивно объяснялось, что указ только то и имеет в виду, что в нем написано:
добровольные договоры помещиков с крестьянами. Что это вовсе не замаскированная попытка освободить крестьян, как говорят люди злонамеренные… Общество успокоилось, — и указ остался мертвой буквой: нашелся лишь
один помещик, который отнесся к нему серьезно, — гр. Воронцов, на собственном горьком опыте немедленно же убедившийся в искренности, по крайней мере, циркуляра. Для начала он выбрал свое имение под Петербургом, Мурино; с крестьянами он сговорился «скоро и хорошо» (ведь положение их почти не менялось ни в ту, ни в другую сторону); но «ни один нотариус не хотел засвидетельствовать акта, говоря, что это совершенная новость»; канцелярия предводителя дворянства не могла принять прошения, потому, опять-таки, что это «новость»: только личное вмешательство губернского предводителя дворянства подвинуло дело в этой инстанции Но оно должно было идти еще в комитет министров… Прошел месяц; дело не двигалось. Воронцов начал уже опасаться, как бы оно не погибло в руках «филистимлян», — и поручил его заботам самого творца указа, Киселева. Но бороться с «осторожностью» своих товарищей оказался бессилен и Киселев. Прошло полгода, — и Воронцов меланхолически писал тому же Киселеву: «Что касается муринского дела, то я терпеливо буду ждать, что из него выйдет, но способ, каким Министерство внутренних дел действует в настоящем случае, не может поощрять другие заявления такого же рода…». И только еще через полгода сделка была, наконец, разрешена гр. Воронцову: трудно сказать, кто был этим более доволен, Воронцов или крестьяне села Мурина. Во всяком случае, теперь нельзя было сомневаться в правдивости слов циркуляра: указ от 2 апреля не только не помогал освобождать крестьян, но ставил на пути этого дела такие препятствия, что только огромные связи и английская выдержка Воронцова могли их преодолеть.
Самому императору указ, по-видимому, очень нравился, — особенно ему приятно было, что обходилось название «свободных хлебопашцев», которого он терпеть не мог, так как считал его «в некотором смысле несообразным с нашим государственным устройством и вообще внушающим ложные понятия». Он не мог постичь, почему дворяне так мало пользуются этим указом, и решил подвигнуть их на это дело личными объяснениями. Случай представился, когда к нему явилась в 1847 году депутация от смоленского дворянства. Государь, вообще отклонявший подобные депутации, принял эту необыкновенно ласково. Он начал с похвал смоленскому дворянству за его «чувства и рыцарские правила». Потом заговорил о своем намерении провести шоссе, которое для губернии будет очень полезно, и усовершенствовать водные сообщения, которыми Смоленская губерния соединялась с Ригой. После этих приятных для смолян вещей перешли к неприятной: Николай, со всеми возможными оговорками, поставил вопрос о переходе крестьян в обязанные. Он назвал при этом помещичью землю
«нашей», дворянской землей: «Заметьте, что я говорю с вами как первый дворянин в государстве»; но прибавлял, что крестьянин не может считаться «собственностью, а тем более вещью»: в переводе крестьян на «обязанное» положение император видел единственную возможность предотвратить «крутой перелом». Все это говорилось
келейно; Николай несколько раз повторил это слово и посоветовал самим дворянам поговорить между собою таким же способом. Такие приемы могли только ободрить тех из помещиков, которые не хотели никакой перемены: и результатом «келейного» совещания смоленских дворян была записка смоленского предводителя кн. Друцкого-Соколинского, который рисовал самую мрачную картину того переворота, какой произведет в помещичьем хозяйстве переход крестьян в обязанные: «…количество произведений с помещичьих полей, главнейших источников хлебных запасов, уменьшится до того, что их недостанет не только для отпуска за границу, но и для внутреннего потребления в государстве. Скотоводство и коннозаводство уничтожатся, леса от недосмотра подвергнутся истреблению… Фабрики и заводы лишатся в обедневших помещиках своих потребителей. Сколько погибнет капиталов, какое сделается замешательство во всей государственной экономии»! В другой записке, поданной вслед за первой, Друцкой-Соколинский старался доказать, что в России рабства и нет вовсе, что его придумали «витии европейские… вследствие зависти к могуществу и благосостоянию России».
Как ни дико покажется нам теперь последнее мнение, оно отнюдь не было индивидуальным. Дурасов, автор доклада, читавшегося в 1842 году в Вольном экономическом обществе, изобразив положение русских крепостных, — необыкновенно будто бы привлекательное по сравнению с английскими батраками, — восклицает: «При таком положении крестьян одно неведение иностранцев может приписывать им невольничество!» Барщинное хозяйство и в 40-х годах, казалось, по-прежнему было идеалом, как и во дни Швиткова. Одно примечание русского переводчика к сочинению Тэера «Основания рационального сельского хозяйства» (вышло на русском языке в 1830 году) вскрывает перед нами причину этого консерватизма, а кстати и объективные условия, стоявшие поперек дороги всяким попыткам Николая «изменить крепостное состояние». «Работа наемными людьми в России, — говорится здесь, — будет самым неосновательным и разорительным предприятием,
доколе цена хлеба не возвысится, цена наемных работников не уменьшится и число их не увеличится… В России нет другого средства производить полевые работы, как оседлыми крестьянами»
[38].
Социальную историю николаевского царствования нельзя понять, если мы упустим из виду этот прозаический, но необычайно важный по своим последствиям факт:
20-е и 30-е годы XIX столетия были периодом исключительно низких цен на хлеб. Их падение носило почти катастрофический характер: еще в 1821 году центнер пшеницы на берлинской бирже расценивали в 6,63 марки (переводя на теперешнюю
[39] монету), а центнер ржи в 4,15 марки. А в 1825 году пшеница стоила в Берлине 4,14 марки за центнер, а рожь — 2,65 марки. Во Франции гектолитр пшеницы стоил: в 1817 году — 36,16 франка, в 1821-м — 17,79 франка, а в 1825-м — 15,74 франка. Но, раз упав, цены долго держались на низком уровне: если принять берлинские цены двадцатых годов за 100, цены пшеницы в 30-х годах будут выражаться цифрой 113,84, а ржи — 115,70
[40]. Как видим, резкий упадок цен на хлеб в России в 20-х годах, вызвавший даже назначение Академией наук особой премии за исследование на эту тему, отнюдь не был
местным явлением: во всей Европе было то же. «В России цены на хлеб до 1819 года позвышались, а
с 1820-го стали понижаться, — говорил Кеппен в своем известном исследовании «О потреблении хлеба в России». — В наше время (в 1840 году) положение земледельца в сем отношении не изменялось; за исключением неурожайных 1833 и 1834 годов, цены на хлеб вообще оставались низкими, особенно в тех странах, где к вывозу оного еще не все препятствия устранены». Опираясь на авторитет того же Кеппена, в литературе обыкновенно отрицают какое-либо влияние международного хлебного рынка на цены внутри России: «Вывоз хлеба за границу менее у нас значителен, чем полагают многие, не исследовавшие сего предмета», — говорил Кеппен и доказывал, что этот вывоз «не составляет и сотой части количества, нужного для потребления в самой империи». Нетрудно, однако, догадаться, почему этот вывоз, так быстро росший в первых годы XIX столетия, замер почти на одном уровне в два первых десятилетия царствования Николая, а с ним замерло и развитие помещичьего хозяйства, сулившего такие радужные перспективы агрономам александровской эпохи. Для характеристики этого застоя достаточно привести один пример. Мы видели в своем месте
[41], что еще в 1760-х годах Тверская губерния быстро шла вперед в деле развития капиталистических отношений в деревне. Еще в 30-х годах на эту губернию возлагались особенные надежды. Мордвинов, тогда председатель Вольного экономического общества, указывал, что «эта часть империи по положению своему, по качеству много различных почв земли и по расположению помещиков к принятию лучших систем хозяйства могла бы послужить рассадником усовершенствованного земледелия вообще для всей России, — могла бы сделаться тем, чем в Англии была область Норфолькская». Теоретически рассуждения Мордвинова были совершенно правильны, — роль тверичей в реформе 19 февраля блестяще оправдала его надежды на «эту часть империи». Но вот что представляла собою та же Тверская губерния в 1838 году: «Трехпольная система в самом простом, первобытном виде; скотоводство скудно; в навозе для удобрения полей такой недостаток, что пашни почти нигде не удобряются, как бы следовало. Особенно у самих поселян-хлебопашцев везде одинаковое нерадение, о котором достаточно можно судить из того, что в Тверской губернии, в Осташковском уезде, доселе еще существует непростительный обычай: жечь лес, чтобы на выжженных местах сеять хлеб. Если бы, по крайней мере, наблюдался при этом какой-нибудь расчет и перемена в посевах, с надлежащим удобрением полей, тогда можно было бы допустить, что в сем случае уничтожение леса вознаграждается обильными жатвами и умножением хорошей пахотной земли. Напротив того, сии поля без всякого удобрения засевают разными хлебами до тех пор, пока земля в состоянии что-либо родить, когда же она истощится, то ее вовсе покидают и взамен точно так же расчищают новые места. Урожай ржи сам-пят, а овса сам-третей считается счастливым; между тем как в той же губернии на хорошо возделанных землях родится сам-8 и сам-9»
[42].
Архаической технике соответствовала и архаическая организация хозяйства. Это хозяйство, при данном уровне хлебных цен, давало слишком мало
денег, чтобы помещик имел какое-нибудь побуждение перейти от
барщины к найму — от дарового труда к покупному. Как мы увидим в следующей главе, помещики 40-х годов, по крайней мере — более образованная их часть, отлично сознавали малую продуктивность барщинного труда, но он имел ту огромную выгоду, что не заставлял вынимать деньги из кармана, где их и так было немного. Низкие хлебные цены были лучшим оплотом крепостного права, нежели всяческие «крепостнические вожделения» людей, власть имеющих. Быстрый рост хлебных цен — и с ним вместе быстрый рост русского хлебного вывоза — в 50-х годах был совершенно необходимым антецедентом реформы 19 февраля.
Но из того же основного факта — застойности русского сельского хозяйства в силу неотвратимых объективных условий — вытекал и ряд других заключений, которые столь отчетливо формулировал один современник, что мы предпочитаем говорить его словами. «…Россия до сего времени почиталась государством единственно земледельческим, — писал один сотрудник «Журнала мануфактур и торговли» в 1827 году. — Мнение сие укоренилось веками; да и впредь Россия надолго еще ограничивалась бы сим тесным уделом, если бы неожиданное событие не расстроило совершенно существовавшей до сего времени теории и не изменило всего вида вещей открытием для нашего государства обширнейшего и блистательнейшего поприща… Все иностранные государства, кои прежде по большей части от нас получали земные произведения, ныне уже с примерным успехом занимаются собственным земледелием, употребляя все старания к усилению оного; ибо которое государство не пожелает сбросить с себя иго монопольной зависимости?.. На столь богатой естественными произведениями земле, какова есть в обширной России, прц столь многих благоприятствующих местных положениях и климатах
, мануфактуры и промышленность должны избрать в ней свою вековечную столицу»[43].
Те же 20-е годы, которые были свидетелями такой катастрофы на хлебном рынке, видели не менее катастрофический по своему темпу подъем прядильной и ткацкой промышленности в России. Тот же автор приводит данные (см. ниже табличку) привоза в Россию сырья, с одной стороны, фабрикатов — с другой.
«В 1820 году выделано: тонких сукон 261 965, солдатского же и прочих 3 683 881 аршин; а в 1825 году выделано: тонких сукон 895 559 аршин, а солдатских и разных других 15 499 666 аршин. Следственно, в течение 5 лет количество тонких, на фабриках наших выработанных, сукон увеличилось более нежели втрое, а солдатских и других сортов почти впятеро».

В 1812 году в России считалось 2332 фабрики — в 1814-м уже 3253 (а в промежутке лежало разорение от «нашествия галлов и с ними двадесяти язык»!). В 1828 году мануфактурный совет насчитал уже «фабричных разного рода заведений» 5244. Количество рабочих возросло с 119 093 человек (1812 год) до 225 414 человек (в 1828 году). За 15 лет, таким образом, и количество фабрик, и количество рабочих увеличилось, примерно,
вдвое. «Не далее как в 1823 году введена была в Москве первая жакардова машина и приобретена за 10 000 рублей, — говорит отчет «О состоянии российских мануфактур», читавшийся при открытии мануфактурного совета в 1828 году. — Ныне таковых станков считается в Московской губернии до 2500, и оные обходятся уже и с установкою не более 75 или 85 рублей. Ленты, газовые и узорчатые материи ткутся ныне у нас столь превосходно, что равняются во всех отношениях с лучшими иностранными, и изяществу наших шелковых изделий отдана справедливость на самой даже Лейпцигской ярмонке, куда оные в истекающем году посланы были»
[44].
Мечта петровского меркантилизма о заграничном рынке начинала становиться действительностью к столетней годовщине смерти «Преобразователя». Место не позволяет нам коснуться одной из любопытнейших сторон этого «расширения» русского капитализма за пределы России: основанный Канкриным «Журнал мануфактур и торговли» полон бесчисленными обстоятельными и толковыми статьями и заметками о торговле с Персией, Средней Азией и Китаем. Пути, по которым твердой стопой пошел российский капитализм, начиная с 60-х годов, — и которых он не бросил до XX века, несмотря на все доставленные ими разочарования, — намечались уже при Николае Павловиче. Мы вообще не собираемся писать истории русского промышленного капитализма в это царствование: интересующиеся найдут ее обзор, гораздо более обстоятельный, чем то, что могло бы быть дано здесь, в известной книге Туган-Барановского о русской фабрике. Для нас важны
социальные результаты сказочных успехов предпринимательства купеческого в 1820-х годах рядом со столь же внезапным крахом предпринимательства дворянского. Соотношение общественных сил не могло не подвергнуться известной перетасовке. Дворянство продолжало господствовать, сильное своей массой и исторической традицией: но историю двигало уже не оно, по крайней мере, не оно одно. Пришлось уступить часть места под солнцем тем, кто с Петровской эпохи выбыл из строя как политическая сила. Буржуазия была еще очень далека от тех притязаний, которые услужливо формулировали за нее ее литературные глашатаи. Самое главное из этих притязаний — ограничение или даже полное упразднение императорской власти — даже и не отвечало ближайшим интересам класса, только что выдвинувшегося на историческую сцену: купечество рисковало потонуть в дворянско-крестьянском море без помощи сильной руки, не очень деликатно, — за шиворот, — но все же помогавшей ему держаться на поверхности. Союз буржуазии с правящей группой начался, собственно, еще до 14 декабря: покровительственный тариф 1822 года, сменивший фритредерский тариф 1819-го (мы видели, каким общественным бедствием был этот последний в глазах российских капиталистов), всеми современниками рассматривался как одно из главных условий промышленного расцвета 20-х годов. Николаю оставалось идти дальше по тому же пути — и он это сделал. Комитет 6 декабря 1826 года занялся не только крестьянами: в своем проекте «закона о состояниях» он сделал замечательную попытку создать из крупного купечества нечто вроде промежуточного сословия между дворянством и податными классами, притом ближе к первому, чем к последним. «Именитые граждане» этого проекта получали почти все дворянские права — кроме права владеть крепостными и, разумеется, участвовать в дворянской корпоративной организации. Чтобы еще больше сгладить разницу, в состав «именитых граждан» предполагалось включить и чиновничество, кроме самого высшего: длиннополый сюртук, до тех пор почтительно стоявший навытяжку перед всяким фраком со светлыми пуговицами, вдруг становился ему ровней и мог с ним обращаться запанибрата… Тенденции комитета нашли себе очень рельефное выражение в замечаниях его на проект кн. Куракина, предлагавшего вовсе отнять у купечества его
сословный характер, предоставив право торговли всем сословиям под условием уплаты известных пошлин. «Для лучшей, прочнейшей связи в составе политического общества нужна правильная, по возможности, близкая постепенность между классами принадлежащих к оному граждан, — рассуждал комитет; — а в сем порядке наравне с другими началами
необходимо и знатное купечество, отличающееся от простых ремесленников и мелких торгашей не только богатством и родом занятий, но и особыми, законом определенными преимуществами и самим наименованием, с коим у многих сливаются понятия о должностях и чести». В целом виде «Закон о состояниях» не прошел, — как остался мертвой буквой и другой, еще более радикальный, проект комитета от 6 декабря, об уничтожении чинов. Но в русской сословной иерархии он оставил свой след — в званиях потомственных и личных
почетных граждан. Во всяком случае, тому унизительному положению купечества, на какое жаловался «благонамеренный и опытный российский коммерсант» в известной нам записке, был положен конец. Высочайшие награды стали изливаться и на купцов — правда, награды, так сказать, второго сорта: не ордена, а больше медали, если же чины, то не из крупных, но для тех, кого вчера еще в глаза самое мелкое начальство величало «аршинниками» и «надувалами морскими», это был уже большой шаг на пути к почестям. Еще гораздо важнее было то, что николаевское законодательство на первых же порах поспешило осуществить другое пожелание той же записки, организовав
мануфактурный совет с участием представителей от фабрикантов и заводчиков — «представителей», правда, назначенных сверху, а не выборных; но важно было уже то, что буржуазия
как класс получила голос при решении, по крайней мере, ближайшим образом касающихся ее дел. Ряд «покровительственных» мер в тесном смысле этого слова: организация мануфактурных выставок (первая была в 1829 году в Петербурге), учреждение Технологического института для подготовки высшего служебного персонала фабрик, а позже — реальных гимназий, предназначавшихся, прежде всего, для образования купеческих детей, — дорисовывает эту «буржуазную политику» Николая I, вообще интересовавшегося этой областью больше, нежели можно было от него ожидать. Недаром он явился одним из пионеров железнодорожного строительства в России (правда, больше, кажется, из военных соображений — соблазненный быстротою мобилизации при железных дорогах) и был изобретателем столь популярного в русской истории кредитного билета: как бы не ассигнации, но в то же время и не настоящей металлической монеты; этого промежуточного знака хватило с лишком на пятьдесят лет….
[45].
Кюстин, бывший в Петербурге в 1839 году, отмечает в своих записках, что «теперь Петр Великий в большой моде в России». Помня эту моду, он, разговаривая с Николаем, не позабыл ввернуть и Петра, которому Николай являлся будто бы преемником: упоминание было принято благосклонно. Параллели николаевского и петровского царствований недавно можно было встретить и в современной нам литературе — правда, не специально-исторической. Параллель, как видим, оправдывается не одними придворными или эстетическими соображениями. Николаевская эпоха, как и петровская, представляет собою крупный этап в развитии русского капитализма: в первом случае промышленного, тогда как во втором это был капитализм торговый. Как при Петре влияние торгового капитала, так при Николае рост капитала промышленного привели к своеобразному и довольно сходному сочетанию сил: правившее и в том, и в другом случае страною крупное землевладение нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией, — союз, направленный, по крайней мере, отчасти, против землевладения среднего. Отдав российское дворянство под надзор полиции, Николай ласкал купечество и — кажется, первый из русских царей — посетил нижегородскую ярмарку, причем посещение было обставлено такою официальной помпой и так усердно комментировалось официальной публицистикой, что в демонстративном его характере сомневаться нельзя. Это, конечно, была одна из самых невинных «петровских» черт, какую только можно себе вообразить. Но «купеческая» политика угрожала дворянству в более или менее отдаленном будущем, правда, и последствиями весьма серьезными. Мы видели, как носился Николай с освобождением крестьян — и как мало у него из этого вышло. Но развитие промышленного капитализма подводило к этой же самой проблеме с другой стороны — давая аргументы в пользу
экономической необходимости реформы, если хотят, чтобы промышленность «избрала свою вековечную столицу в России». Вопрос о преимуществах «вольного», т. е.
наемного труда перед крепостным, как мы видели, был окончательно погребен в нашей дворянской, помещичьей публицистике с первых лет XIX столетия: доводы против барщины можно было услыхать только из академических кругов, — все хозяева-практики были за нее. Только с 40-х годов мнения на этот счет начинают колебаться — параллельно с повышением цен на хлеб. Орган промышленников, официальный «Журнал мануфактур и торговли», начинает разрабатывать ту же тему гораздо раньше — уже с начала 30-х годов. «Всякая работа, в которой
принуждение есть единственная пружина, никогда не будет производиться успешно», — читаем мы в статье «О соотношении мастеровых к их хозяевам», напечатанной в 6-й книжке этого журнала за 1832 год. Автор берет несколько воображаемых примеров фабричной организации, — останавливаясь больше всего на положении
крепостных мастеровых. Сначала он рисует — и не без живости — вотчинную фабрику, классический образчик помещичьей индустрии XVIII века. На ней «изделия вырабатывались грубо, количество оных по числу рук слишком мало, содержание и ремонт год от году дороже, доходу меньше». Владелец сам поселился на фабрике и взял заведование ею непосредственно в свои руки: «Он ввел лучший распорядок в работах, бережливость в хозяйстве и самую верную отчетность. Со всем тем и это мало помогло: работа производилась так же худо, небрежно, множество траты, изделья мало. Наконец, по совету добрых своих знакомых, решился он назначить мастеровым
задельную плату: в первый же год и больше изделий, и лучшего качества! Мастеровые одни перед другими старались выработать больше и лучше, чтоб заслужить больше задельной платы. Помещик, несмотря на то, что производил жалованье своим рабочим — крепостным своим людям, чего прежде никогда не было, — увеличил свои доходы втрое и более, а вместе с тем и состояние рабочих приметно улучшилось. Теперь он открыл настоящую пружину деятельности человеческой —
собственную пользу каждого». Затем берется случай, по-видимому, более новый: помещик часть крестьян — в данном примере половину — заставляет отбывать барщину на устроенной им фабрике вместо работы в поле, причем фабричная и земледельческая барщина отбывается всеми крестьянами по очереди, так что каждый из них бывает попеременно то фабричным рабочим, то землепашцем. В результате разоряется как фабрикант-помещик, так и его крестьяне. Третий барин — якобы сосед второго — тоже утилизирует на фабрике труд своих крепостных, но только шесть месяцев в году и притом зимою, когда нет полевых работ, — а главное, работники получают плату, хотя лишь вполовину против вольнонаемных. «Надобно быть свидетелем, как охотно крестьяне идут на фабрику, как прилежно работают, и как успешно идет фабричное дело. Фабрика действует только шесть зимних месяцев, в прочее время действие останавливается, но помещик получает от нее более прибыли, нежели его нерасчетливый сосед, а вместе с тем и крестьяне живут в довольственном состоянии, — и все это единственно от
задельной платы»!
Нам кажется крайне наивным этот панегирик буржуазному способу эксплуатации сравнительно с феодальным: но без такого опоэтизирования «вольного» труда нельзя себе представить крестьянской реформы. Если верить автору заметки «О состоянии рабочих в России», напечатанной в том же «Журнале мануфактур и торговли» за 1837 год, фабричная барщина к этому времени была признана невыгодной большинством помещиков: «Благодаря Богу, владельцы сами оставляют эту систему, обоюдно невыгодную, и постановляют плату более или менее высокую за труды всякого рода». Так ли это было на всех фабриках, пользовавшихся крепостным трудом, не принял ли автор своего горячего желания за действительность, — ручаться нельзя. Но по отношению, по крайней мере, к одному разряду крепостных рабочих мы имеем не одни статьи и заметки, а совершенно объективный факт: очень значительное число, вероятно, даже большинство, этих рабочих сделались свободными задолго до 19 февраля 1861 года — с разрешения правительства, но по почину самих фабрикантов. Такова была участь рабочих
посессионных. Владение фабриками на «посессионном» праве было компромиссом между радикальным законом Петра I, разрешавшим купцам прямо покупать крепостных к фабрикам, без всяких дальнейших ограничений, и не менее радикальным указом Петра III, категорически признававшим право владеть крепостными только за дворянами. Посессионные фабрики с приписанными к ним мастеровыми могли принадлежать и дворянам, и купцам — безразлично: но владение крепостными рабочими было в этом случае обставлено целым рядом ограничительных условий. Рабочие были неотделимы от фабрики — их нельзя было продавать отдельно, как крестьян можно было продавать без земли; эксплуатировать их можно было только на фабрике, — никакую другую барщину они не обязаны были делать, и по оброку их отпустить было нельзя; наконец, владелец обязан был платить им денежную плату, размеры которой, впрочем, всецело определялись его, владельца, усмотрением. Все эти стеснения нужно, конечно, принимать во внимание, встречаясь с поразительным, на первый взгляд, фактом настойчивого желания фабрикантов отделаться от своих крепостных рабочих. Но условия владения посессионными фабриками были те же и в первые годы века, — и тогда поссессионное право ценилось,
его добивались не только купцы, но, как это ни странно, иногда и дворяне. Переворот в положении русской промышленности к 30—40-м годам в том и выразился, что
право обратилось в
бремя, в тяжелую и скучную обязанность. Поссессионные фабриканты прямо заявляли, что присутствие «дешевых» крепостных рабочих страшно удорожает производство и мешает его расширению, препятствует им исполнять священный долг всякого капиталиста — увеличивать свою прибыль. В 1833 году казанский суконный фабрикант Осокин уверял присланного к нему на фабрику чиновника Министерства финансов, что «введение прядильных и трепальных машин чрезвычайно удешевило бы производство; тем не менее, хотя у него имеются 33 машины, готовые к употреблению, он может пускать из них в действие не более 7, так как, если бы употреблялось для работы большее число машин, то многие мастеровые остались бы совсем без дела, а плату они продолжали бы получать прежнюю». Купцы Ефимовы, владельцы шелковой фабрики, домогавшиеся своего освобождения от посессионных рабочих в 1846 году, мотивировали это «совершенной невыгодностью производить работы посредством посессионных фабричных, коих содержание сравнительно с вольнонаемным обходится слишком дорого и падает на цену изделий». Всего обстоятельнее разъясняли дело купцы Хлебниковы, владельцы парусино-полотняной фабрики (парусинные фабрики когда-то все возникли на крепостном труде). «Как духом времени изменилось фабричное производство, введен на оных (фабриках) механизм, заменяющий ручные работы, — писали они министру финансов в 1846 году, — то и производство на фабриках работ посессионными людьми не только неудобно, но и наносит постоянно важные убытки, да и самые при них посессионные люди сделались уже излишними и обременительными для владельца. А потому мы, предполагая парусино-полотняную нашу фабрику устроить более на коммерческих правах и выделывать изделия машинами и вольнонаемными людьми, положили приписанных к фабрике крестьян предоставить в казну»
[46]. Слишком понятно при таких условиях, почему закон от 18 июня 1840 года о посессионных фабриках имел совершенно иную участь, нежели его близнец, закон от 8 апреля 1842 года об обязанных крестьянах: и тот, и другой только
предоставляли владельцам отпускать своих крепостных, отнюдь не принуждая их к этому. Но тогда как последним воспользовались только отдельные лица, при явном сопротивлении того класса, к которому они принадлежали, по закону 1840 года было освобождено около 15 000 душ посессионных фабричных, т. е. большая их половина (их всех считалось в 1826 году несколько менее 30 тысяч).
Но уже раньше, в 1835 году, вольнонаемные рабочие составляли столь видный разряд фабричного населения, что юридическое положение их нашли нужным урегулировать особым законом (высочайше утвержденное 24 мая 1835 года мнение Государственного совета). «Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», изданное сначала для столиц и столичных губерний, но понемногу распространенное и на другие промышленные губернии (в 1840 году, например, его ввели в Тверской губернии), на долгие годы легло в основу русского фабричного законодательства. Кое-что из него сохранилось до наших дней, — например, требование, чтобы при расчете рабочие предупреждались за две недели, или чтобы правила внутреннего распорядка фабрики были вывешены на стенах фабричных помещений. При отсутствии фабричной инспекции как эти, так и другие старания положения оградить рабочего от хозяйского произвола имели больше, как говорится, «принципиальный» характер. Но с этой «принципиальной» точки зрения закон очень любопытен. Какой-нибудь неопытный в русских делах иностранец, читая его, ни за что не догадался бы, что большая часть фабричных рабочих того времени не перестала еще быть частной собственностью или самих фабрикантов, или помещиков, отпустивших их на фабрику по оброку. Только однажды в тексте положения упоминается, что «рабочие люди», так свободно, совсем по-европейски, заключающие контракты с предпринимателями, имеют своих «владельцев»: но упоминание это направлено, характерным образом, именно к ограничению прав этих владельцев — в пользу, правда, не рабочих, а фабрикантов. Согласно § 2 положения владельцы теряли право «отзывать обратно или требовать с фабрики или заведения подрядившегося работника до истечения назначенного в паспорте срока, или до окончания договорного срока, если оный истекает прежде паспортного». Предприниматель, нанявший оброчного крестьянина, был, таким образом, гарантирован от произвола со стороны барина этого последнего: при столкновении феодального права с буржуазным контрактом уступать должно было первое. Так далеко по направлению к «буржуазной монархии» шла уже империя Николая Павловича… Но чтобы читатель не впал в заблуждение, представляя себе эту империю чересчур буржуазной страной, надо от юридического положения «свободного рабочего» николаевской России обратиться к фактическому. У нас есть великолепный случай для этого: подробное изображение распорядков одной из очень известных фабрик того времени, «начертанное» с неподражаемым самодовольством самим фабрикантом и апробованное высшим начальством всех фабрикантов, департаментом мануфактур и торговли. Напечатанное в журнале этого последнего «донесение» табачного фабриканта Жукова рисует нам российского пролетария тридцатых годов до такой степени опутанным «отеческим попечением» владельца фабрики, что ничего лучшего не могла бы дать не только самая благоустроенная крепостная вотчина, но даже, пожалуй, арестантские роты. Каждый шаг рабочего был обставлен бдительнейшим надзором со стороны как всевозможных наблюдателей, начиная с «украшенного крестами и медалями отставного Унтер-Офицера» (так, с большой буквы, пишет это высокое звание фабрикант Жуков) и кончая простыми сторожами, так и со стороны его товарищей; взаимное шпионство возведено было в систему и поощрялось всеми способами. «Означенные меры надзора дополняются окончательно безусловным убеждением рабочего: 1) что за сокрытие в товарище своем буйства, непотребства и похищения сокрыватель непременно увольняется вместе с сокрываемым, и 2) что открытие одного из подобных проступков непременно награждается или единовременною выдачею суммы, соразмерной важности открытия, или прибавкою жалованья. О сказанных преступлениях как старший, так часовые и всякой рабочий имеют обязанность доносить мне немедленно: о прочих же менее важных проступках старший и часовые представляют мне письменные замечания свои, в присутствии провинившихся, ежемесячно при выдаче жалованья. При сем нужным считаю дополнить, что
для поддержания взаимного согласия между рабочими доносители, кроме старшего, часовых и дневальных,
остаются неизвестными». «При увольнении рабочих по праздникам с фабрики все они обязаны: 1) быть у обедни; 2) после обедни, отлучаясь со двора, им не позволено ходить ни поодиночке, ни большими толпами, для того, чтобы в первом случае всякой из них имел свидетеля своему вне фабрики поведению, а в последнем большинство партии не могло внушать им ни малейшей мысли о превосходстве перед кем бы то ни было в силе физической. Если же, по приказанию моему, и отправляют куда-либо рабочих в значительном числе, то всегда сопровождает их или старший, или прикащик, ответствующий за соблюдение рабочими всевозможного благочиния». Нет надобности говорить, что на самой фабрике, во время работы, надзор был еще более пристальным. Во время производства работы старший (упомянутый «Унтер-Офицер»), прохаживаясь по всей фабрике, находится в ней безотлучно, наблюдая, чтобы, с одной стороны, работы не останавливались без основательной причины, а с другой — чтобы не происходило между рабочими никакого крику, празднословия и препирательства. Все эти предупредительные меры приводили, по словам Жукова, к тому, что ему — как он с гордостью заявляет — никогда не приходилось прибегать к мерам карательным, на его фабрике не было даже тюрьмы, по его убеждению, составляющей необходимую принадлежность большинства заграничных фабрик. Но зачем было устраивать тюрьму отдельно, когда во всем подлунном мире нельзя было найти фабрики, которая вся, в целом, более походила бы на тюрьму?
Эта фабрично-тюремная идиллия заканчивается описанием рабочего дня на предприятии Жукова — описанием, которое интересно уже не только для характеристики положения рабочих, но — и еще более — для характеристики политического настроения их хозяев. «Работы вообще начинаются всеобщею в
6 часов утра молитвою и продолжаются до 8 часов; 9-й час употребляется для завтрака; 10, 11 и 12 продолжается работа; для обеда и отдыха назначено 2 часа; с 2 до 8 вечера работы опять продолжаются, оканчиваясь молитвою и пением какого-либо церковного песнопения или народного гимна о здравии и долгоденствии государя императора. Таким образом, сохраняя молчание и изредка прерывая его, по желанию хозяина или почтенного посетителя, какою-нибудь благопристойною русской песнею, рабочие состоят на работе 11 часов в сутки, исключая воскресных, праздничных и торжественных дней, соблюдаемых с назидательным для рабочих рачением, которое и приучает их вместе к благочестию и к тому благоговению, которым они обязаны монарху, как верные подданные, располагаемые к сердечной преданности своему государю за те отдыхи, которыми пользуются по случаю дней тезоименитства и рождения высоких особ императорской фамилии».
Если император Николай читал «донесение» Жукова, он должен был почувствовать себя вполне удовлетворенным. Буржуазные владельцы промышленных заведений обещали стать не худшими даровыми полицеймейстерами, нежели феодальные владельцы крепостных деревень. Развитие капитализма в России, очевидно, пока еще отнюдь не угрожало потрясением основ. Но помещики имели разумное основание поддерживать сильную центральную власть: эта власть обеспечивала порядок внутри страны, т. е. беспрекословное подчинение крепостного крестьянина своему барину. Только с превращением крестьянина в вольнонаемного работника на барской пашне открывалась возможность внести перемены в политический строй: оттого освобождение крестьян и сделалось интегральной частью русской либеральной программы первой половины XIX века. И поскольку экономически неосуществима была хозяйственная перемена, постольку оставалась чистой теорией и эта программа. Но наши фабриканты и заводчики сами, по собственному почину, перешли к вольнонаемному труду; в обрабатывающей промышленности это было возможно экономически. Мало того, — здесь это был единственный возможный выход, как это отлично сознавалось даже тогдашней высшей администрацией. «Везде и во все времена земледельческие и другие несложные работы, часто с пользою, производились в больших размерах людьми несвободными и по наряду, — писал еще в 1835 году знакомый нам гр. Воронцов в одной официальной записке, — но нигде и никогда не было еще примера, чтобы таким способом получен был большой успех на фабриках». Экономическое основание буржуазно-либеральной программы здесь, таким образом, давалось само собой. Почему же, однако, здесь самой программы не было? Почему буржуазные фабриканты оказывались политически столь же консервативными, как и крепостническое (отчасти поневоле) дворянство? Мы никогда этого не поймем, если не бросим взгляда на
внешнюю политику императора Николая I; лишь она даст нам ответ на вопрос, почему сильная власть была одинаково дорога в те дни и дворянину, и купцу — хотя по различным основаниям.
В официальной переписке кавказских властей с центральным правительством в 30-х годах много места занимает вопрос о закавказском транзите. С целью развития торговли в Закавказье правительство Александра I в свое время разрешило ввоз в эту часть России иностранных товаров с уплатою незначительной только пошлины: протекционный тариф 1822 года Закавказья не коснулся. Это был подарок местной, преимущественно армянской буржуазии. Русские фабриканты смотрели на эту привилегию закавказских купцов очень косо: по их мнению, в Закавказье пропадал отличный рынок
для русских товаров, а главное, через Закавказье шли пути в Персию и азиатскую Турцию. Аргументируя в пользу включения Закавказья в общерусскую таможенную черту, одна докладная записка 30-х годов приводит такой пример: «Впрочем, выгоды сбыта и ценность наших изделий на Востоке могут быть доказаны оборотами тифлисского купца Посыльного, который в продолжение пяти лет приобрел огромные капиталы, доставляя в Персию ситцы, нанки и другие произведения наших фабрик».
Перевранная южно-русским чиновником фамилия хорошо знакома истории города Шуи. «Мануфактур-советник А. П. Посылин, — писал по поводу шуйских фабрик известный статистик К. Арсеньев в 40-х годах, — один из всех мануфактуристов русских в этом роде, в течение многих лет отправлял непосредственную обширную торговлю с краем Закавказским и с Персиею и имел свои фактории в Реште, Гилане и Тавризе; за честное отправление торговли он почтен самим правительством персидским и украшен орденом Льва и Солнца». Один фабрикант, специализировавшийся на торговле с Персией, — это еще не много, конечно. Но есть целый ряд указаний на то, что одним Посылиным дело ни в каком случае не ограничивалось. Английский торговый агент, бывший в Персии в первой половине 30-х годов, нашел там всю торговлю в русских руках. Не только русские изделия, но и заграничные, немецкие товары с Лейпцигской ярмарки, например, проникали туда через Россию; русский червонец был единственной ходячей золотой монетой. Обычаи, установившиеся в торговле с русскими купцами, являлись нормой, и англичан заставляли им подчиняться. «Так русские делают, так принято в торговле с Россией»— слышали они на каждом шагу. Надо прибавить, что Россия была наиболее благоприятствуемой державой: с русских брали минимальные пошлины. Англичане оценивали ежегодные обороты русско-персидской торговли в полтора миллиона фунтов стерлингов, русская официальная статистика 40-х годов дает около 4 миллионов рублей серебром. Но официальная таможенная статистика на Закавказской границе едва ли была особенно точной, — притом 40-е годы были уже временем упадка русско-персидской торговли. То дело, пионером которого был цитировавшийся нами английский агент, налаживание не зависимой от России торговой дороги в Персию через Черное море и Трапезунд, к 40-м годам было поставлено уже пр’очно и дало свои плоды. «К сожалению, — продолжает писавший в 1844 году Арсеньев свою справку о Посылине, — его торговые отправления в Персию прекратились по их безвыгодности: английские торговцы, водворившиеся в М. Азии и занявшие все торговые посты от Трапезунда до столицы персидской, овладели всею торговлею с Персией и своими фабриками наводнили и наш Закавказский край». «Вообще, все шуйские фабриканты жалуются на разные обстоятельства, вследствие которых наши фабрики, не имея возможности достаточно укрепиться и усовершенствоваться без совместничества, не могут выдерживать соперничеств на иностранных рынках и должны по необходимости ограничиться сбытом своих изделий только на рынках отечественных»
[47].
То, что нам теперь кажется естественным назначением русских мануфактур, — обслуживание внутреннего рынка, было результатом своего рода самоотречения. В 30-х годах русское правительство еще очень хлопотало о завоевании для русской промышленности внешнего, азиатского, турецкого и персидского рынка. Еще в 1835 году Трапезунд пытались «отбить» у англичан. «Что касается до возможности выгодного сбыта русских мануфактурных произведений в Трапезунде, то в сем случае, я полагаю, не предстоит ни малейшего сомнения, — писал русский чиновник, ссылавшийся на карьеру Посылина. — Вообще товары, назначенные для восточной торговли и привозимые европейцами, принадлежат к самому низкому разряду; достоинство их обыкновенно оценяется по наружному виду, не принимая в соображение настоящей доброты, и Германия и Англия сбывают в сих странах все то, что не может служить к потреблению Европы. А потому трудно было бы думать, что изделия наших фабрик не могут стать наряду с самыми посредственными их произведениями». Эту точку зрения вполне разделял и Государственный совет. «Нет сомнения, — написано в журнале Государственного совета от 11 мая 1836 года, — что при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур, изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга, как в доброте, так и в цене». Воронцов, отрицательно относившийся к домогательствам мануфактуристов, насчет значения трапезундской торговли совершенно сходился со своими оппонентами, только он надеялся перевести этот выгодный торг в русские руки путем не ограничительных мер, а, наоборот, свободы торговли. Нельзя не заметить, как под именами русских администраторов — министров, генерал-губернаторов и наместников — здесь сражались в сущности интересы различных групп капиталистов. Отстаивавшие свободу торговли одесский генерал-губернатор Воронцов и кавказский главнокомандующий бар. Розен представляли собою торговый капитал, которому был важен торговый барыш и все равно было, чем торговать: русским ситцем или немецким сукном; а за спиной Министерства финансов, во главе которого тогда стоял Канкрин, нетрудно разглядеть русский промышленный капитал, всего больше хлопотавший об устранении «совместничества»; пусть меньше покупают, да зато русское. В межведомственной борьбе победа осталась за капиталом промышленным, — тариф 1822 года, вопреки Розену, был распространен и на Закавказье. В борьбе международной результат получился иной. Но прежде, чем с этим результатом примирились, интересы русской промышленности были не всегда сознаваемой действующими лицами, но всегда ясной для сколько-нибудь внимательного постороннего наблюдателя исходной точкой целого ряда дипломатических шагов, постепенно складывавшихся в определенную политическую линию. А на конце этой линии был Севастополь.
Царствование Николая Павловича открылось, как известно, двумя войнами: персидской (1826–1828) и турецкой (1828–1829). Обе дали известные результаты и в коммерческой области. Туркманчайский договор привел к учреждению в Персии целого ряда русских консульств и закрепил за русскими то положение наиболее благоприятствуемой нации, с котором мы уже знакомы. Адрианопольский трактат освободил русские товары в Турции от всяких внутренних пошлин, более всего стеснявших торговлю в империи султана: уплатив 5 % с цены товара при ввозе на границе, русский купец далее не был уже обязан ничего платить. И в Турции, и в Персии оба трактата были не заключением, а началом: не подводили итог, а открывали новые перспективы. В Персии эти перспективы оказались довольно близкой реальностью. Народные массы в Персии отнеслись к туркманчайскому миру очень остро, — памятником их отношения осталось убийство Грибоедова. Персидская династия, наоборот, разочарованная в англичанах, поддерживавших ее во время русско-персидской войны, не видела теперь себе другого прибежища против внутренних врагов, кроме русского императора. Россия гарантировала шаху и его наследникам неприкосновенность их положения, и русский посланник в Тегеране сделался всемогущим; параллельно с этим персидские купцы опять стали ездить за европейскими товарами на Нижегородскую ярмарку, и мы видели уже отчасти, каких хлопот стоило англичанам вернуть себе потерянную в 1828 году позицию. В Турции дело обещало сначала пойти тем же путем. «Вполне можно сказать, что Россия на европейском Востоке извлекла из адрианопольского мира всю пользу, какую только могла, — говорил историк царствования Николая I, — дружественные отношения к Турции, политический компас которой определялся петербургским магнитом, исключающее почти всякую конкуренцию влияние в Румынии, Сербии, Черногории, Греции, благодарная роль защитника всех угнетенных христианских подданных Турции, — таковы были плоды политики императора»
[48]. Но этого было мало: судьба, казалось, отдавала султана в такое же полное и бесконтрольное обладание России, в каком был персидский шах. У турецкого государя были внутренние враги, не менее страшные, чем у персидского. Самым страшным был египетский паша, Мегемет-Али, при помощи французских офицеров создавший себе армию и флот по европейскому образцу. После поражения турок в войне 1828–1829 годов все надежды мусульман на реванш сосредоточивались около этого военного возрождения Египта. Насколько султан Махмуд был ненавидим собственными подданными, настолько Мегемет-Али среди них был популярен. Опираясь на эту популярность и на свои военные силы, египетский паша, когда-то верный вассал своего константинопольского сюзерена (в 1827 году египетские корабли дрались бок о бок с турецкими против англичан, французов и русских при Наварине), стал все далее и далее расширять сферу своего влияния ив 1832 году заявил притязания на Сирию. Султан имел неосторожность применить крутые меры: объявил Мегемета-Али мятежником и послал против него войско. Через несколько месяцев от султанской армии не осталось и следа, а египетская стояла почти в виду Константинополя. Порта чувствовала себя в безвыходном положении: но русское правительство внимательно следило за тем, что происходило на ближнем Востоке. При первых известиях об успехах египетского паши русский представитель в Александрии дал ему понять, что Россия не потерпит не только разгрома Турции, но и вообще серьезного нарушения status quo в этих краях. А затем, сначала в Константинополе, а потом и в Александрии появился специальный уполномоченный императора Николая, генерал Муравьев, с представлениями еще более энергичного характера. Мегемет-Али воевать с Россией не собирался, его практические притязания, в сущности, не шли дальше Сирии (относительно которой русское правительство дало понять, что ею оно мало интересуется: ему важно было только, чтобы в Константинополе на месте слабого султана Махмуда не появился новый, смелый и предприимчивый государь): словом, в принципе он уступил довольно быстро. Но сношения в то бестелеграфное время были медленные, — пока шла дипломатическая переписка, египетские войска тоже шли вперед, паника в Константинополе усиливалась, и Россия получила повод для внушительной военной демонстрации, сильно подействовавшей на воображение не одних турок, а и Западной Европы. Черноморский флот пришел в Босфор, и русский вспомогательный корпус высадился в окрестностях Константинополя. Злые языки поговаривали, что русские не прочь были и остаться на этих выгодных позициях. Так это было или не так, но Порта настолько была перепугана необычайной энергией своего союзника, что поспешила уступить египетскому паше все, чего он только требовал: после разговоров с генералом Муравьевым паша, мы знаем, был склонен к умеренности. А чтобы окончательно избавиться от неудобного присутствия на Босфоре русских кораблей и солдат, турецкое правительство поспешило подписать новый договор с Россией (так называемый Ункиар-Искелесский, 26 июня 1833 года). Согласно с этим договором Россия и Турция обязывались взаимно охранять территориальную неприкосновенность обоих государств; фактически, конечно, это значило, что Россия гарантирует территориальную неприкосновенность Турции — ибо трудно было себе представить случай, при котором Турция могла бы оказать России подобную услугу. Но гораздо важнее была дополнительная секретная статья: в силу этой статьи султан обязан был, по требованию России, закрывать доступ в Дарданеллы и Босфор (и, стало быть, в Черное море) военным судам других держав. Черное море окончательно становилось русско-турецким озером, т. е. при данном соотношении сил, русским озером, ибо Турция, как морская держава, не могла идти в счет. А султан становился сторожем на русской службе при единственной калитке из этого озера, причем, если, по требованию России, эта калитка всегда могла захлопнуться снаружи, то, по тому же требованию — этого не было в трактате, но это разумелось само собою, — она могла легко открыться изнутри. Ни французская, ни английская эскадры не могли войти теперь в Черное море без разрешения русского императора: но ничто не мешало кораблям этого последнего появиться на море Средиземном.
Ункиар-Искелесский договор наметил собою первую трещину в отношениях России и Англии, казавшихся столь прочными всего за 10 лет до этого. Уже на следующий год после его заключения английская средиземноморская эскадра явилась «производить маневры» у самого входа в Дарданеллы; маневры были очень продолжительные и обстоятельные, произведен был и примерный десант, для чего был привезен с о. Мальты специальный отряд сухопутных войск. Ряд следующих лет наполнен сплошь различными дипломатическими неприятностями, доведшими в 1836 году русского представителя в Лондоне до заявления, что война между Россией и Англией, хотя и невероятна, но, тем не менее, возможна. А наиболее горячие из английских публицистов уверяли, что война не только возможна, но совершенно неизбежна, и что Англия покроет себя позором, если согласится терпеть долее то положение, в которое ставит ее Россия.
Маленький случай, подавший повод к наиболее громким и неприятным для России разговорам, дает возможность заглянуть глубже в причины этого странного, на первый взгляд, явления: неожиданной ссоры двух держав, дружба которых казалась неразрывно скрепленной не только Отечественной войной и низложением Наполеона, но и гораздо более свежим братством по оружию — совместным выступлением в Греции в 1827 году, когда при Наварине русская эскадра под командой английского адмирала жгла турецкий флот. В конце 1835 года несколько английских негоциантов снарядили судно, которое должно было отвезти товары к берегам Западного Кавказа: номинально русским владениям со времен Адрианопольского мира, фактически же занятым черкесскими племенами, упорно не желавшими считать себя подданными России, войскам которой они пока удачно, в общем, сопротивлялись (Западный Кавказ был окончательно покорен, как известно, в 1864 году). На английском судне официально была, главным образом, соль, неофициально было известно, что на нем отправляется груз пороху для черкесов, воевавших с русскими. Русский крейсер, посланный ловить английского контрабандиста, однако же, опоздал: порох был уже выгружен, когда он пришел. Но и не имея поличного, русские власти не затруднились конфисковать судно со всем его остальным, уже легальным, грузом и выставляли, как особую милость русского правительства, что экипаж судна не был арестован и отдан под суд за контрабанду, а отвезен даже на русский казенный счет в Константинополь. Русское правительство стало, таким образом, на ту точку зрения, что не только Закавказье, но и непокоренные еще русскими области Западного Кавказа входят в русскую таможенную черту. Сами по себе черкесы были неинтересны — с ними много не наторгуешь: но, постепенно растягиваясь, русская таможенная линия обнаруживала явную тенденцию охватить все Черное море, превратив его, не только в военном, но и в коммерческом отношении, в «русское озеро». Вот отчего горячившиеся английские публицисты и получали основание говорить, что «вопрос интереса обнимает собою всю область наших коммерческих отношений с Турцией, Персией и Левантом. Три с половиною миллиона фунтов стерлингов вкладываются ежегодно в эту торговлю, и дело идет о 25 тысячах тонн нашего торгового флота»
[49]. Под именем «русского варварства», о защите против которого английские публицисты взывали к общественному мнению и своей страны, и всей Европы, речь шла, в сущности, о борьбе с
русским промышленным протекционизмом.
Тот же, сейчас цитированный нами, английский публицист ставит вопрос, во всей его широте, в другой своей статье: цитата из этой последней дает больше для понимания русско-английских отношений 30—40-х годов, чем длинные рассуждения. «В то время как британская торговля с другими европейскими государствами более или менее быстро росла, торговля с Россией оставалась на одном уровне или даже становилась менее значительной… Двадцать пять лет тому назад (т. е., хочет сказать автор, до континентальной блокады) наш ввоз в Россию состоял всецело из английских шерстяных и хлопчатобумажных материй и из металлических изделий; в настоящее время Россия берет вместо этого только краски и другие сырые продукты или же колониальные товары, которые выписывают только из-за низкого фрахта, каким довольствуются корабли, приходящие из Англии. В предыдущую эпоху, о которой идет речь, Россия потребляла по 2 или 3 миллиона (фунтов стерлингов) наших товаров. В 1831 году она ввезла их только на 1 906 099 ф. ст., в том числе на 1 251 887 ф. ст. пряжи для фабрикации материй, предназначенных отчасти для того, чтобы вытеснить наши материи с азиатских рынков; наши же мануфактурные изделия привозят теперь в Россию в количестве, впятеро меньшем, чем прежде; и однако же население России увеличилось за этот период на десять или двенадцать миллионов душ да столько же новых подданных было включено в русскую таможенную черту». «Своими новейшими тарифами Россия почти исключила возможность ввоза английских товаров в ее пределы; она распространила эту систему на Польшу, куда шла прежде значительная часть нашего ввоза через Германию и ганзейские города. Бессарабия присоединена к русским владениям и перестала, таким образом, для нас существовать как рынок; княжества Молдавия и Валахия (теперешняя Румыния) окружены русским санитарным кордоном, который в значительной степени упраздняет их прежнюю свободу торговли. Берега Кавказа («Черкесии» в подлиннике) получали иногда английский товар через Германию, теперь они в постоянной блокаде. Грузия была для наших продуктов, шедших с германских рынков, большой дорогой в Персию и Центральную Азию; Россия нам отрезала этот путь, она не могла только лишить нас той обходной дороги, которая открылась для нас недавно через Турцию (автор имеет в виду упоминавшийся выше путь через Трапезунд, — он еще не знал, что Россия и его собирается прибрать к рукам). Каспийское море, издавна принадлежавшее государству, где торговля была свободна, теперь, с тех пор, как оно перешло во власть России, потеряно для английских товаров. И Россия только что отняла у Турции территорию всего в нескольких милях расстояния от нашей дороги в Персию, а ее влияние в Турции было и есть направлено, и с успехом, к тому, чтобы сделать ресурсы этой страны почти бесполезными для нас и помешать нам получать всякого рода сырье из этой страны дешевле, чем из России»
[50].
Как нарочно, в это самое время главное сырье, какого искала Англия на русском рынке — хлеб, — было дешево в Западной Европе. Уже благодаря одному этому Россия была Англии более не нужна; благодаря расцвету русской промышленности после 1812 года она была или, по крайней мере, казалась вредна и опасна. И вот, эта вредная и опасная страна обнаруживала явную наклонность расширять свое влияние в таком направлении, где лежали тогда жизненные центры колониальной Англии. К этим центрам не принадлежал еще тогда Дальний Восток: предвосхищая будущее, русские появились уже и там. Русская миссия работала в Пекине, и у Воронцова уже был готов проект — опиумом из Малой Азии через Россию вытеснить с китайского рынка английский опиум, в начале 40-х годов в буквальном смысле слова «завоевавший» себе этот рынок. Но это была почва для конфликтов, скорее, в будущем. В настоящем для англичан крайне неудобна была уже позиция, занятая русской дипломатией в Александрии. Египетский паша был таким же сторожем при воротах на англо-индийской торговой дороге, как султан на дороге из Средиземного моря в Черное. Уже то, что Мегемет-Али легко поддавался французскому влиянию, было неприятно: но Франция не была прямой соперницей, — мы сейчас увидим, что скорее она готовилась стать союзницей Англии в этих краях. Что Мегемет-Али начинал слушаться и русских — это был симптом гораздо более тревожный. Но когда в 1836 году русские появились в Афганистане, на самой границе Индии, а в 1839 году гр. Перовский своим неудачным на первый раз походом на Хиву начал завоевание Средней Азии, англо-русские отношения должны были натянуться до крайних пределов
[51]. С этой поры и до самого Севастополя война носится в воздухе. Причем — характерный факт, который стоит отметить, — в роли наступающей стороны являлась Россия, англичане лишь отстаивали позиции, которые еще недавно казались им совершенно неприкосновенными и недоступными никакому неприятелю.
В русской исторической литературе стало общим местом, что Россия была к этой войне не готова, что война свалилась ей, как снег на голову. После всех перечисленных фактов это свидетельствовало бы о крайней непредусмотрительности русского правительства тех дней: в этой непредусмотрительности обвинять его было бы несправедливо. Тотчас после Ункиар-Искелесского договора в 1833 году Николай Павлович писал Паскевичу о войне с Англией, как о возможном деле. И он не только говорил об этом, а и принимал ввиду этой возможности определенные практические меры. К тому же 1833 году относится новая русская судостроительная программа, согласно которой ежегодно должны были закладываться 2 линейных корабля и 1 фрегат на петербургских верфях, и 1 линейный корабль с 1 фрегатом в Архангельске. Между тем уже в 1830 году русский Балтийский флот состоял из 28 кораблей и 11 фрегатов; правда, некоторые из них были очень старой постройки, но в те дни военные суда старели далеко не так быстро, как в наше время. Программа 1833 года учитывала, однако же, и те усовершенствования, какие со времени Трафальгара успели появиться в военно-морском деле. Был усилен калибр морских орудий — рядом с 36-фунтовыми были введены 48-фунтовые и даже 2-пудовые (для береговых батарей) — и число их: раньше типом линейного корабля был 74-пушечный, теперь стали строить 126-пушечные и не ниже 84-пушечных. Уже на маневрах 1836 года были военные колесные пароходы (винт тогда не был еще изобретен). Характерно, что уже в то время, и именно в России, начали, по крайней мере, говорить о желательности панцирных судов (в связи с усилением действия артиллерии). Но, не касаясь области разговоров и предположений, и то, что было в действительности, казалось достаточно внушительным. Вот что писал по поводу тех же маневров 1836 года присутствовавший на них английский морской агент: «Когда я сравниваю состояние русского флота теперь и раньше и вспоминаю, как мало мы сделали в тот же промежуток времени, чтобы поддержать наше превосходство на море, я чувствую, что русские опередили нас, и что мы не можем игнорировать этот факт. Есть ли у нас флот для защиты наших берегов, который был бы в состоянии отразить такую морскую силу? И какая отличная возможность представляется для России покрыть издержки на постройку своего флота, захватив наши купеческие суда еще раньше, чем наш военный флот в состоянии будет их защищать! Я утверждаю со всей определенностью, что в настоящее время мы не обладаем сказанным превосходством, и что нам нужно огромное напряжение, чтобы достигнуть этого превосходства по отношению к соседу, чувства которого к нам далеко не всегда дружественные, который три месяца в году сильнее нас и живет всего в 8 днях пути от наших берегов»
[52]. Если прибавить сюда не менее грандиозные оборонительные меры, радикальную перестройку кронштадтской крепости и постройку, заново севастопольской (с моря обе оказались неприступными и в 1854–1855 годах), перед нами развернется широкая картина военной подготовки. Считали, что ее хватит надолго — ив этом ошибались. Техническое нововведение, значение которого едва ли понимали русские морские авторитеты того времени (его не сразу поняли даже и англичане) уже к 40-м годам обессмыслило всю флотскую программу 1833 года. Этим нововведением был пароходный винт. Когда пароходы двигались исключительно при помощи колес, они, каково бы ни было их коммерческое значение, на войне не могли конкурировать с парусными судами. У колесного парохода машина помещается выше ватерлинии: достаточно одного удачно попавшего ядра, чтобы ее испортить и сделать пароход беспомощнее любого парусного судна, тогда как последнее, даже получив десятки пробоин, могло держаться на воде и продолжать бой. Оттого военные пароходы 30-х годов и предназначались не для сражений, а для посылок, разведок и т. д., их роль была вспомогательная. Машины винтового корабля расположены ниже ватерлинии и в нормальных условиях были неуязвимы для артиллерии противника (тогдашние морские пушки навесным огнем стрелять не могли). Линейный корабль с винтовым двигателем мог оперировать, не считаясь с направлением ветра, и с такою же уверенностью, как его парусный противник: умело выбрав позицию, он мог уничтожить последнего раньше, чем тот успеет воспользоваться своей артиллерией. Выходить на парусниках против винтовых кораблей — значило идти на верную гибель: вот что иммобилизировало в гаванях огромный флот Николая Павловича в 1854–1855 годах. Не хватало не энергии и предусмотрительности — не хватало
техники. Но техника данной страны всегда определяется ее экономическим развитием; ключ к катастрофе русской внешней политики первой половины XIX века приходится искать, как и к самой этой политике, в экономической области.
Остается выяснить один вопрос. Достаточные экономические основания для русско-английского конфликта наметились уже в 30-х годах. Слово «война» уже тогда было произнесено; а фактически война началась только в 50-х. Что отсрочило так развязку кризиса? Дело в том, что Англии никогда, ни в то время, ни после, не могла улыбаться перспектива единоборства с Россией. При ничтожности русского коммерческого флота и громадности английского последний всегда мог в десятки раз больше пострадать от русских крейсеров, если бы только таковые оказались налицо; а мы знаем, что у Николая I корабли были. Пусть бы их не хватило для нападений на Англию, как мерещилось цитированному нами выше английскому капитану, все же на море схватка могла гораздо дороже обойтись Англии, чем России: в то же время никаких существенных результатов эта схватка не дала бы. Достать Николая, как некогда Наполеона, Англия могла только на сухом пути: как и в дни наполеоновских войн, ей нужны были континентальные союзники. В поисках союзника на материке Европы против России заключалась основная задача, стоявшая перед английской дипломатией в 30-х и 40-х годах. Один, по крайней мере, союзник, кажется, навертывался сам собою: это была Франция. Дурные отношения Николая Павловича к Людовику Филиппу слишком хорошо известны, чтобы стоило о них распространяться здесь. К тому же знакомый нам Мегемет-Али был почти клиентом Франции, тогда как Россия поддерживала его противника, султана Махмуда. И однако же, при Людовике Филиппе дурные отношения между Россией и Францией никогда не доходили до открытого разрыва; а при Наполеоне III, когда личные отношения стали несравненно лучше, дело дошло до войны
[53].
Решающим моментом была не отрицательная сторона — враждебность к России, а положительная — дружба с Англией. Не только в 30-х, но даже и в 60-х годах Франция еще не отказывалась от мануфактурного соперничества с Англией, и именно на Востоке; прорытие Суэцкого канала (1869) даже оживило надежды на экономическое завоевание Индии французами. Пока интересы мануфактуристов господствовали над французской внешней политикой, как они господствовали над русской, солидарности между Англией и Францией было не более, чем между Англией и Россией. Еще в 1840 году отношения из-за Египта обострились чуть не до войны. Но в 40-х годах французский капитализм находит себе новое поприще. Пока существовал исключительно парусный флот, английская морская торговля была вне конкуренции; к пароходам английские моряки, на первых порах, приспособлялись гораздо медленнее — ив этой новой области морского транспорта Франция в середине XIX столетия оказалась впереди Англии. В то время как в Англии количество пароходов с 1840 по 1860 год, увеличилось на 417 %, во Франции это увеличение составляло 613 %. Открытие парового двигателя создало новую эру во французской морской торговле.

Все царствование Людовика Филиппа было в этой области периодом застоя. С конца 40-х годов картина резко меняется. За 10 лет Франция уходит вперед гораздо дальше, чем за предшествующие 20
[54].
Вместе с тем интересы французского капитализма перемещаются: вместо того, чтобы соперничать с англичанами своими товарами, для Франции становится выгоднее возить английские товары на своих пароходах. В 20-х годах участие французского флота в морской торговле Франции выражалось цифрою 29 %, тогда как 80 % английских товаров перевозилось на английских же кораблях. В 50-х годах первая цифра поднялась до 44, а вторая упала до 57 %. И, параллельно с этим, Восток с его портами и торговыми путями вдруг стал особенно интересен для французского правительства. Почти в одно и то же время французский инженер Лессепс ставит на очередь прорытие Суэцкого перешейка на французские капиталы, а Наполеон III вспоминает о традиционном праве французских государей покровительствовать проживающим в Турции католикам. Как известно, на почве вмешательства Франции в палестинские дела по поводу этого покровительства и произошло формальное столкновение между новым французским императором и Николаем I: ключи вифлеемского храма отперли сорок лет запертый храм бога войны. Но едва ли эти ключи имели бы такое магическое действие, если бы Средиземное море не бороздили в то время французские пароходы. А в то же время в Австрии французские инженеры на французские капиталы строили железную дорогу, и Франция оказывалась втянутой в игру с другого конца: ибо на Дунае русские были такими же антагонистами в торговле австрийцев, как в Персии и Турции — англичан. И Австрия, только что спасенная от гибели русскими штыками, покончившими с венгерской революцией, готовилась изумить мир неблагодарностью, отняв у своей избавительницы устья Дуная, сжатые мертвой петлей русского таможенного кордона. Тройственный союз Англии, Франции и Австрии подготовила промышленная политика России в первой половине XIX века: и недаром, в числе прочего, Севастопольская война принесла с собою фритредерский тариф 1857 года. А в то же время французские инженеры явились и в Россию, строили и там железные дороги, по уполномочию парижского торгового дома Перейра и К°. Французский капитализм нового типа завоевал себе под стенами Севастополя новую область расширения. «Ключи» к этому времени были основательно позабыты…
Кризис барщинного хозяйства
Помещичье хозяйство 20—40-х годов ♦ Выход России из аграрного тупика ♦ «Антиевропейское» настроение Николая I
Тридцатилетняя пауза, отделяющая дворянское движение 50-х годов от эпохи тайных обществ, была политическим эквивалентом тех
экономических условий, в какие было поставлено помещичье хозяйство с 20-х по 40-е годы. Зажатому в тиски аграрным кризисом помещику было не до политики. Восставать против власти, являвшейся единственным кредитором всего дворянского сословия, было бы безумием в такую минуту, когда только кредит, и, возможно, более дешевый кредит, мог спасти помещичье хозяйство от гибели. Тот же кризис заставлял дорожить старыми социальными формами. Даровой крестьянский труд, как бы ни был он плох, казался единственным возможным базисом крупного сельского хозяйства: и в экономике, как в политике, приходилось жить по пословице «Не до жиру, быть бы живу». Аграрный кризис сразу делал николаевского дворянина и верноподданным, и крепостником.
Под этой совершенно застывшей, на первый взгляд, поверхностью уже давно, однако, происходило движение. Живая струя пробивалась в крепостное хозяйство с той именно стороны, где сосредоточивалась вся экономическая жизнь России в первую половину николаевского царствования: из обрабатывающей промышленности. «Постоянное уменьшение требований заграничными государствами главнейших продуктов нашего земледелия, — говорит автор цитированной уже нами заметки «О состоянии рабочих в России»
[55], —так же, как более близкое изучение средств промышленных собственной страны, были главными причинами того, что помещики старались обратить часть своих людей в предприятия промышленные разного рода.
Это почти общее направление нынешнего времени; многие из подобных учреждений со стороны дворянства теперь украшают значительную уже промышленность России в важнейших ее частях». Но владелец крепостной фабрики давно уже, как мы видели на предыдущих страницах, пришел к манчестерской идее — о преимуществах вольного труда перед крепостным. Через посредство дворян-предпринимателей манчестерские идеи должны были постоянно проникать в дворянскую массу: и нет факта, лучше обоснованного и более общеизвестного, чем
дворянское манчестерство 40—50-х годов.
Барщинное хозяйство — одна из невыгоднейших форм сельскохозяйственного производства, в один голос твердили едва ли не все «сознательные» помещики конца николаевского царствования — твердили с таким же единодушием и упорством, с каким современники Михайлы Швиткова пели панегирик этому самому барщинному труду. «Взглянем на барщинную работу, — писал трезвый и расчетливый Кошелев в «Земледельческой газете» 1847 года, — придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и оглядывается сколь возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше, — ему не дело делать, а день убить. На господина работает он три дня и на себя также три дня. В свои дни он обрабатывает земли больше, справляет все домашние дела и еще имеет много свободного времени. Господские работы, особенно те, которые не могут быть урочными, приводят усердного надсмотрщика или в отчаяние, или в ярость. Наказываешь нехотя, но прибегаешь к этому средству, как к единственно возможному, чтобы дело вперед подвинуть. С этой работой сравните теперь работу артельную, даже работу у хорошего подрядчика. Здесь все горит; материалов не наготовишься; времени проработают они менее барщинского крестьянина; отдохнут они более его; но наделают они вдвое, втрое. Отчего? — Охота пуще неволи». «Смело можно сказать, — писал в 1852 году псковский помещик Воинов, — что
в хорошо управляемых барщинах три четверти барщинников отвечают и за себя, и за других, т. е. что
работы утягиваются, по крайней мере, на четвертую долю времени». К концу 50-х годов подобные рассуждения становятся общим местом. Редакционные комиссии исходят, как из аксиомы, из положения, что вольнонаемный труд несравненно производительнее обязательного. Полемизируя с редакционными комиссиями, Унковс-кий в основу своих расчетов кладет тот, по его мнению, неоспоримый факт, что наемных работников помещику после эмансипации понадобится лишь
две трети, сравнительно с числом барщинных крестьян. Многие утверждают, что помещики при этом обойдутся только половиной, говорит Унковский: лишь во избежание ошибки он принимает две трети. Во времена редакционных комиссий доказывать подобного рода вещи значило ломиться в открытую дверь: двадцатью годами раньше такие доказательства казались небесполезными, и стоит привести несколько статистических примеров из известной записки Заблоцкого-Десятовского, относящейся к 1840 году. «В Тульской губернии у помещика А-ва дается на каждое тягло по 2 дес. в каждом поле, 1 десят. покосу и 1 десят. под усадьбу; всего 8 десят. В том же имении свободная земля отдается в наем по 19, 20 и даже 22 руб. за десятину. Положив еще менее, 18 руб. за десятину,
каждое тягло стоит помещику 144 руб. Следовательно, годовой работник с работницей будут стоить 288 руб. (так как тягло дает в этом имении три рабочих дня в неделю). В тех же местах хорошего работника и работницу можно нанять за 60 руб.
Пища им — 40 р.
Процент издержки на лошадь, сбрую, орудия, наконец, на помещения сих людей могут быть оценены не свыше — 70 р.
Итого — 170 р.
Следовательно, менее против крестьянского тягла на 118 руб.» В Московском уезде один благоразумный и проницательный владелец обрабатывал одну часть своей земли крепостными, а другую — наемными работниками. По его расчислению, переведенному на рожь, оказалось:
тягло крепостное стоило помещику — 21 четв. ржи.
вольнонаемные мужчина и женщина — 0 1/2 четв. ржи.
Доход помещик получал:
от крепостного тягла — 15 1/2 четв. ржи.
от вольнонаемных работника и р-цы — 43 четв. ржи[56]
Тут же рядом приводятся примеры буржуазных (купеческих) хозяйств, дающих 15–20, а одно так даже 57 % на оборотный капитал. В этом последнем имении — для него даются подробные расчеты — на каждого работника пахалось более 9 десятин, тогда как в соседнем имении кн. К-в «при самой усиленной барщине (на помещика обрабатывается вдвое больше, нежели на крестьян), ежегодная запашка на одного работника простирается не свыше 5 десятин».
Мы не будем входить в обсуждение того, насколько были правильны все эти расчеты: для нас важно, что так
думали все помещики тех лет, которые вообще думали о своем хозяйстве, а не вели его по рутине. Критиковать Заблоцкого-Десятовского мы собираемся так же мало, как мало мы критиковали Швиткова. Один факт неоспорим: буржуазная идеология сделала за время кризиса обширные завоевания в умах владельцев крепостных имений. Когда же кризис, к концу 40-х годов, начал слабеть, русское помещичье хозяйство оказалось лицом к лицу с условиями конкуренции, совершенно не похожими на то, что было в дни Александра I. Место России на европейском хлебном рынке оспаривалось целым рядом
буржуазных стран, — европейских и внеевропейских, — и соперничество с ними вело неизбежно к тому же выводу: необходимости перехода к буржуазным отношениям и в самой России. «С уничтожением в Англии переменных пошлин с иностранного хлеба, — говорит один современный автор, — соперничество для русских портов вообще, и в особенности для южных, неимоверно усилилось, потому что даже страны, не принимавшие никакого участия в хлебной торговле или мало занимавшиеся земледелием, с усилием принялись за этот промысел. Египет восстановил плодородие своей почвы и начал стремиться к сбыту хлебных продуктов; отпуск хлебов из дунайских княжеств еще более усилился; в Румелии жители принялись за земледелие для сбыта продуктов за границу; даже Северо-Американские Соединенные Штаты (очень хорошо звучит это «даже» для читателя начала XX века…) стали с большою пользою сбывать свою муку и кукурузу в Западной Европе. При таких обстоятельствах сердце русского человека невольно сжималось от опасений насчет будущей участи как здешних портов, так, вместе с тем, и самого благосостояния Южной и Западной России,
преимущественно земледельческих»
[57].
Сердце русского человека сжималось напрасно; на вновь открывшемся с конца 40-х годов хлебном рынке всем нашлось место, и конец аграрного кризиса открыл самые блестящие перспективы именно перед Южной и Юго-Западной Россией. Горизонт действительно омрачился — только гораздо позже, лет тридцать спустя, когда случайно забредший на европейскую хлебную биржу чужестранец, янки, начал на этой бирже самодержавно царствовать, диктуя цены русскому помещику, как и прусскому юнкеру. Пока за ближайшую будущую участь русского сельского хозяйства опасаться не приходилось. Некоторое ослабление кризиса чувствовалось уже с конца 30-х годов:
Средняя ценность русского хлебного вывоза за
1824–1838 годы (по Кеппену)……30 171 000 руб. ассигн.
Вывоз:
1836 год…………………………………..25 498 000 руб. ассигн.
1837 год…………………………………..38 929 000 руб. ассигн.
1838 год…………………………………..53 048 000 руб. ассигн.
Вывоз за 1838 год был с лишком вдвое выше по ценности вывоза 1836 года и почти вдвое выше среднего за 15 лет. Хлебные цены тоже окрепли: «Цена на пшеницу в С.-Петербурге возвысилась от 22 до 31 рубля за четверть, в Риге от 22 р. 50 к. до 36 р., а в Одессе от 18 до 26 р. за четверть. Возвышение цен на рожь в С.-Петербурге и Риге также было значительно»
[58]. Но настоящую революцию на хлебном рынке произвели отмена хлебных законов в Англии и знаменитый неурожай в Западной Европе в 1846 и 1847 годах. С первого из этих фактов цитированный уже нами автор статьи о хлебной торговле в портах Южной России начинает новый период своей истории. «Последний период, — говорит он, — начинается уничтожением или изменением в Англии, а после в Бельгии, Голландии и других государствах переменных хлебных пошлин.
Торговля этим продуктом становится прочною и может быть вернее рассчитанною, чем другими статьями ввоза. Закон этот обеспечивает не только самих торговцев хлебом, тех, у кого они покупают его, и тех, кому продают, но даже развивает обмен в таких размерах, какие до тех пор были неизвестны». О катастрофическом положении в 1846–1850 годах свидетельствуют следующие цифры:

Мы видим, до какой степени малообоснованным является утверждение, заимствованное некоторыми исследователями у Кеп-пена, будто отпуск хлеба за границу не играл никакой или играл очень незначительную роль в хлебной торговле дореформенной России. Сам Кеппен прекрасно опроверг наиболее эффектный из своих аргументов — относительно ничтожную цифру вывозимого хлеба (менее «сотой части количества, нужного для потребления самой империи»). По его расчетам, вообще на рынок могло поступать в России не более 10 миллионов четвертей всякого хлеба, при общем среднем урожае около 180 миллионов. И, однако же, «сей-то остаток (немногим более 5 %!), большим или меньшим на него требованием, имеет в обыкновенные годы такое сильное влияние на цены хлебов». Катастрофически быстро вздувшийся в конце 40-х годов спрос на хлеб за границей произвел настоящий ураган на внутреннем хлебном рынке. Потрясение испытал даже такой национальный хлеб, как
рожь, в один год поднявшаяся в Тамбове (мы нарочно выбрали этот медвежий угол) в
два с половиною раза, — принимая цену 1846 года за 100, мы для 1847-го имеем 228, — и лишь постепенно дошедшая снова до нормального уровня. Но по отношению ко ржи, несомненно, действовали «возмущающие факторы»: местный урожай или неурожай и внутреннее потребление. Скрещение этих «возмущающих факторов» с влиянием заграничного спроса приводило к тому, что, например, в Петербурге цены на рожь за весь конец 40-х годов только «держались твердо», не показывая больших колебаний ни в ту, ни в другую сторону: около 6 рублей серебром за четверть (тогда как средняя цена за пятнадцатилетие, 1824–1838, была 4 р. 25 к.)
[59]. Что касается
пшеницы, хлеба вывозного по преимуществу, колебания ее цены, в зависимости от заграницы, поражают своею правильностью: стоило Одессе поднять отметку, как Тамбов, с опозданием ровно на год (читатель не забудет, что железными дорогами между Тамбовом и Одессою тогда и не пахло), реагировал на это отметками, повышенными, от полноты черноземного чувства, еще сильнее. Как ни убедительна статья Кеппена своею массой точных, превосходно подобранных цифр, она все же является чисто публицистическим этюдом — отражением той агитации в пользу постройки железных дорог, которая с такою энергией велась в конце 30-х годов и так жалко разбилась о каменный лоб окружавшей Николая знати.
Влияние катастрофы 1847 года могло бы быть преходящим — если бы она не была лишь обострением конъюнктуры, создавшейся более длительными и устойчивыми причинами. Хотя цены и упали несколько после первой горячки, данный толчок продолжал действовать и после того, как горячка миновала. Считая цены 20-х годов за 100, мы получаем для последующих десятилетий следующие прогрессивные повышения:
Годы — Пшеница — Рожь
1831–1840 — 113,84 — 115,70
1841–1850 — 138,06 — 141,26
1851–1860 — 174,14 — 190,13[60]

Автор цитируемой здесь статьи «(Цены на хлеб в С.-Петербурге и в низовых губерниях» (Журнал Министерства внутренних дел, ч. 18) сетует, что черноземные губернии совсем не воспользовались благами новой конъюнктуры, — и приводит низкие хлебные цены низовых поволжских губерний, как доказательство этого. Но доброе русское сердце и в этом случае слишком поторопилось сжаться: год спустя благодать западноевропейского неурожая дошла и сюда.

Это колебания цен на берлинской бирже: но как и в 1847 году, заграница продолжала революционизировать нашу хлебную торговлю, а за нею и наше сельское хозяйство. Русский хлебный вывоз рос со сказочной быстротой. 1838 год, как мы знаем, был исключительно хорошим годом по вывозу: однако же в этом году было вывезено только 20 с небольшим миллионов пудов пшеницы. Тогда как в 1851 году было вывезено более 22 миллионов пудов, в 1852-м — с лишним 40 миллионов и, наконец, в 1853-м — 64 1/2 миллиона! И, как это было и в области цен, движение масс хлеба заграницу сдвигало с места еще больше массы внутри России. По данным главного управления путей сообщения, было отправлено по водным путям России:

Этим цифрам нельзя, конечно, придавать абсолютного характера: одна и та же четверть ржи или пшеницы отмечена здесь по нескольку раз — однажды в Саратове, например, другой раз в Рыбинске, третий — на Вышневолоцком канале. Но
отношение они иллюстрируют отлично: за три года
обороты с хлебом увеличились в
два с половиной раза.
Из аграрного тупика Россия, наконец, вышла. Ее провиденциальное назначение — быть «житницей Европы», — наметившееся в первой четверти столетия и столь скомпрометированное потом, к началу третьей четверти, не оставляло, по-видимому, более никаких сомнений. Крепостное имение вновь заработало для рынка, энергичнее, чем когда бы то ни было: странно было бы, если бы это не отразилось на
внутреннем строе этого имения, — притом не отразилось в совершенно определенном смысле.
Крупное сельское хозяйство на крепостном труде становится все более буржуазным: в нем все большую и большую роль начинает играть капитал. Задолженность дворянского землевладения достигла уже очень значительных размеров во время кризиса: к 1833 году было заложено в различных кредитных учреждениях того времени (государственный заемный банк, опекунские советы и приказы общественного призрения) около 4 миллионов душ крепостных крестьян: под эти души было выдано казною до 950 миллионов рублей ассигнациями — около 270 млн. р. серебром. Этим путем дворянство добывало деньги, ставшие уже для него необходимостью, за невозможностью добыть их путем нормальным посредством сбыта своего хлеба на рынке. Кто читал переписку Пушкина, тот помнит, как часто в ней говорится о деньгах. По ней мы можем составить себе довольно наглядное представление о размерах денежного запроса у тогдашнего высшего дворянства, к которому не принадлежал, но за которым вынужден был тянуться Пушкин. В одном месте он определяет свой минимальный годичный расход в 30 000 рублей; в другом говорит о 80 000, как о пределе своих желаний, — имей он их, он был бы удовлетворен вполне; упоминаются и 125 000, но это уже как мечта, по поводу доходов одного приятеля — вовсе не из самых богатых помещиков, однако имевшего столько. Чтобы эти цифры были для нас понятнее, надо перевести ассигнационные рубли 30-х годов в довоенные: т. е. помножить их на 3/4, — потому что таково приблизительно отношение тогдашнего ассигнационного и металлического XX века рублей. Выйдет, что девяносто лет назад 60 000 рублей считались только-только приличной рентой для большого петербургского барина. Само собою разумеется, что имения как самого Пушкина, так и всех его родных, о которых упоминается в письмах, были в залоге, — и мы застаем иногда поэта за весьма прозаическими хлопотами об уплате процентов в ломбард. Но не одни важные петербургские господа были в долгу, как в шелку: тот провинциальный сосед, по поводу которого Пушкин трунил над женой, — «Человек лет 36, отставной военный или служащий по выборам, с пузом и в картузе», словом, совсем не аристократ, — «имеет 300 душ и едет их перезакладывать по случаю неурожая». С возвышением цен на хлеб, в конце 40-х годов, помещичьи денежные затруднения, казалось, должны были бы кончиться: и если бы дворяне занимали исключительно с потребительными целями, как обыкновенно думают, это должно было бы отразиться понижением их задолженности. Не тут-то было — она росла еще быстрее. С 270 миллионов рублей (уже серебряных на этот раз) в 1833 году она поднялась до 398 миллионов к 1855 году и до 425 миллионов — к 1859-му. К этому году уже 65 % всех душ, принадлежавших помещикам, были в залоге, и были губернии, где незаложенное имение являлось редкостью. И это как раз были губернии
черноземные, где в силу требований международного рынка имение все больше и больше превращалось в «хлебную фабрику». На первом месте в списке стоят губернии: Казанская (84 % заложенных душ), Орловская, Пензенская и Саратовская (80 %), Тульская, Калужская, Рязанская, Тамбовская (все более 70 %). Их ряд нарушается только одним исключением — но оно стоит правила: выше, трех последних губерний, по задолженности, стоит Пермская — старинное гнездо горных заводов, работавших исключительно на крепостном труде. На черноземе и на Урале кредит был почти исчерпан — а потребность в капиталах не только не уменьшилась, а с каждым годом оказывалась более жгучею. Вопрос:
откуда достать денег на дальнейшее ведение хозяйства? — стал вопросом классового самосохранения русского дворянства. На такой почве возник первый
практический план крестьянской реформы, исходившей не от юридических или моральных соображений, а от чисто экономического расчета. Этот план принадлежал крупнейшему, без сомнения, представителю старого крепостнического капитализма — богатому рязанскому помещику и откупщику Кошелеву. Мы видели далекого предтечу этого плана в декабристе Якушкине, но что тот делал или собирался делать по мелочам и кустарным способом, теперь проектировалось в грандиозном масштабе и должно было осуществиться силою государственной власти.
Продать крестьянам их свободу и вместе те наделы, которыми они пользовались при крепостном праве — и, этим путем расквитавшись со старым долгом, получить новый такой же капитал, уже не в долг, а без возврата — такова была основная идея этого гениального плана, под пером дворянских и буржуазных публицистов получившего красивое название — «освобождения крестьян с землей». По расчетам Кошелева, несколько даже преувеличивавшего задолженность помещичьего землевладения, это последнее, переведя весь свой долг на освобожденных крестьян, могло приобрести еще до 450 миллионов рублей серебром, сохранив при этом в неприкосновенности совершенно очищенную от всяких долгов барскую запашку. Мы увидим, что проекты Кошелева немногим отличались от того, что действительно реализовало 19 февраля, — притом отличались в сторону большей скромности, помещикам удалось получить больше, нежели надеялся самый расчетливый и предприимчивый из их представителей. Правда, при этом помещики теряли право и на подневольный, барщинный труд крестьян, но этот труд ценили настолько низко, преимущества буржуазного способа ведения хозяйства настолько били в глаза, что — факт, неоспоримо засвидетельствованный с разных сторон, —
в черноземных губерниях имение без крестьян ценилось не дешевле, а иногда и дороже имения с крестьянами. Быть может, не ценя вовсе этих последних, дворяне манчестерского направления и ошибались: в этом желали бы нас уверить некоторые исследователи — хотя, нужно сказать, такая массовая ошибка явилась бы событием, в истории совершенно исключительным. Но для интересующегося историей, а не теорией хозяйства, важен самый факт:
все так думали, и сообразно со своим убеждением поступали. Поперек дороги освобождению крестьян стояла теперь только
косность наиболее отсталых слоев дворянства: сила их инерции была настолько велика, что вынудила ввести в реформу ряд оговорок, позволявших местами свести «освобождение» на нет, — но все же не настолько, чтобы остановить реформу в принципе. Последняя была бы мыслима в 1854 году совершенно так же, как и в 1861-м: если понадобилось семь лет отсрочки и четыре года борьбы для того, чтобы прогрессивная часть дворянства могла осуществить свой план, в этом виновато было не
общество, а
правительство, — употребляя ходячую терминологию. Правильнее выражаясь — та социальная группа, которая стояла у власти с 1825 года и, не обнаружив больших политических талантов в предшествующее время, к 50-м годам кончила как политическая сила совершенным банкротством.
Между тем, кошелевский план предполагал непременное участие правительства во всей операции. Читатель, вероятно, давно уже задался вопросом, почему, если помещики находили вольный труд выгоднее барщинного, не освободили они попросту крестьян собственными средствами, пользуясь законом 1803 года? Юридически никто им не мешал это сделать, но экономически предприятие было совершенно неосуществимо. Для ведения хозяйства на вольном труде помещику нужны были деньги: не менее 50 рублей на душу старого счета, по вычислениям того же Кошелева. Откуда бы достал эти деньги помещик? Владелец оброчного имения, где крестьяне, привыкшие ходить в отхожие промыслы, ценили свою индивидуальную свободу, мог заставить их путем всяческого законного и внезаконного давления эту свободу выкупить. Но кризис как раз был в барщинных, а не в оброчных имениях, владельцы оброчных имений относились весьма безразлично к реформе, ничего не менявшей в их хозяйстве. Откуда бы достали денег барщинные, не ходившие в отхожие промыслы мужики — даже предположив, что у них явилось бы массовое стремление
купить себе свободу — в чем можно сомневаться: как увидим ниже, они, по-видимому, предпочитали другие способы освобождения. Далее, как было их уверить, что земля, на которой они и их отцы сидели испокон веку, не их, крестьянская, а помещичья — и ее еще нужно купить у помещика? Как было перевести на крестьян долги землевладельцев — долги
государственным учреждениям, — не получив согласия государственной власти? С какой точки зрения ни подойти к вопросу — решить его можно было только при содействии правящего центра, совершенно независимо даже от
размеров операции, далеко превышавшей средства не только частного лица, но даже, по тогдашним временам, любой частной компании или общества. Как ни отрицательно относились к «чиновникам» помещики кошелевского типа, без «чиновников» нельзя было двинуться с места. Но в начале 50-х годов оказалось, что николаевские чиновники, после двадцатилетней возни с проектами освобождения крестьян, никуда двигаться не желают: что пока власть остается в тех руках, в чьих она была до сих пор, никакого содействия от нее прогрессивные дворяне ждать не должны.
Мы видели, что николаевское правительство отнюдь не было антибуржуазным по своим тенденциям: что оно, напротив, опиралось на буржуазию и служило ее интересам, насколько умело. Но оно делало это недаром: оно требовало, чтобы и буржуазия служила ему — отказалась от либеральных тенденций, которые не были ей чужды в 20-х годах, и сделалась «опорой порядка». Что касается русской торговой и промышленной буржуазии, она выполнила это условие: облагодетельствованные запретительным тарифом, награждаемые медалями и чинами, наши буржуазные заводчики и фабриканты 30-х и 40-х годов не рассуждали более о конституции и ревностно насаждали благонамеренность в среде эксплуатируемых ими рабочих, — мы это видели на примере Жукова. Но буржуазия как
европейская сила все более и более оказывалась в противоположном Николаю лагере, он мог в этом убедиться и во время польского восстания 1831 года, когда так ярко сказались симпатии французской буржуазии к полякам, и бесчисленное количество раз после. Даже небуржуазные европейцы, как Кюстин, несмотря на все попытки их «приласкать», не поддавались очарованию и, вернувшись домой, писали и печатали о Николае вещи, которых не в силах были опровергнуть тогдашние официозные публицисты: и тот колоссальный успех, каким пользовались их книжки (книга Кюстина «Россия в 1839 году» выдержала в три года три издания, не считая контрафакций), еще резче подчеркивал отношение европейского общественного мнения к Николаю. Вот отчего тень мысли о зависимости от западной буржуазии была для Николая и его окружающих совершенно невыносима. К каким последствиям вел этот социальный антагонизм в экономической области, показывает известный эпизод
с железными дорогами. Вопрос об их постройке возник у нас в то же время, как и в других континентальных странах: русские расстояния слишком на это наталкивали. Тогдашняя публицистика видела в паровом транспорте единственный выход из аграрного кризиса. «В наше время главным средством к усовершенствованию гражданского быта можно считать облегчение сношений, — писал Кеппен в 1840 году. — Расстояния чрез то уменьшаются, тяжести удобно перевозятся с одного места на другое, фабрики отдаляются от городов, путешествия делаются прогулками, и человеческая жизнь становится соразмерно продолжительнее… Россия, в своем юношеском могуществе, поспешает вслед за прочею Европою. Необходимость облегчения сообщений и у нас давно уже признана, и с какою деятельностью стараются об улучшении больших дорог!
Теперь наступило время пароходства и дорог железных, в непродолжительном времени и по России устроится сеть новых дорог сего рода, что ныне кажется еще мечтою, скоро может сделаться истиною и необходимостью… Когда мы будем иметь средства с удобностью перевозить наши произведения, тогда сбыт их облегчится, и цены произведений лучше будут держаться на степени, выгодной для поселянина». Николай Павлович лично на себе испытал ужасы тогдашнего бездорожья: один раз, в начале 30-х годов, он ехал из Рязани в Москву (200 верст) двое суток! Другой раз его коляска опрокинулась на ухабе, и он несколько недель должен был пролежать в уездном городе Чембарах со сломанными ребром и ключицей. Лично ему очень улыбалась постройка железных дорог, между прочим, с военной точки зрения быстроты мобилизации. Тешила его и перспектива: съездить пообедать в Москву и к ночи вернуться домой (перспектива, слишком, конечно, смелая и для теперешних русских железных дорог). Но все это моментально затуманилось, как только возник вопрос: на какие деньги будет строиться русская железнодорожная сеть? Оказывалось, что без проклятой буржуазной Европы не обойдешься: окружающие, с министром финансов Канкриным во главе, немедленно указали на это Николаю. Тому так нравились железные дороги, что он пробовал спорить, — но по существу, видимо, убедился доводами своих министров, потому что план постройки целой сети канул в Лету. Решились строить пока одну дорогу, экономически наименее важную, между прочим, — из Петербурга в Москву, — которую можно было соорудить средствами казны. Канкрин, правда, был и против нее: по его мнению, Николаевская железная дорога «не составляла предмета естественной необходимости, а только искусственную надобность и роскошь», усиливавшую «наклонность к ненужному передвижению с места на место, выманивая притом излишние со стороны публики издержки». Но Николай настоял.
Страх перед вторжением в Россию европейских капиталов, с точки зрения тех, кто правил страною при Николае, имел хорошие основания: вся «система» Николая Павловича могла держаться, как консерв, только в герметически закупоренной коробке. Стоило снять крышку — и разложение началось бы с молниеносной быстротой: эра буржуазных реформ 60-х годов доказала это на опыте. Но в такой грандиозной финансовой операции, какой рисовалась выкупная, немыслимо казалось обойтись без заграничного кредита. А затем переход к капиталистическому сельскому хозяйству вел немедленно же, опять-таки, к постройке железнодорожной сети, где снова без европейских капиталов было не обойтись. Как видим, реформы 60-х годов представляли собою органическое целое, и это целое было сплошным отрицанием николаевской системы, основным положением которой являлась изоляция России от внешнего мира. Не Николаю было разрушать то, что он тридцать лет создавал. Европейская буржуазия — ас нею буржуазный строй вообще — могла проникнуть в Россию только через его труп.
Было бы интересной задачей проследить, как это «антиевропейское» настроение, постепенно развиваясь в Николае, поглотило его под конец всецело — так, что кроме мятежной Европы он не в состоянии был видеть и понимать что бы то ни было. Мы оставляем эту задачу биографам Николая Павловича: для нашей цели достаточно отметить, что кульминационный пункт этой европофобии совпал как раз с тем моментом, когда крестьянская реформа сделалась вопросом насущным для
правящего класса России — для дворянства. Как ни странно это может показаться, но революция 1848 года заставила Николая позабыть о дворянстве. По случаю этой революции был издан известный манифест, кончавшийся чрезвычайно странной для подобного документа цитатой: «С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог»! Уже одна эта фраза свидетельствовала о совершенном нарушении душевного равновесия у писавшего: манифест от первой до последней строки был написан самим императором и лишь подвергся некоторой, чисто стилистической, обработке со стороны статс-секретаря бар. Корфа. Современники рассказывали чрезвычайно выразительный анекдот о том, как в Зимнем дворце узнали о падении июльской монархии. При дворе был бал — последний бал сезона, когда придворная молодежь спешила навеселиться и натанцеваться на весь Великий пост. В разгаре танцев в залу вдруг вошел император с какой-то бумагой в руках и громовым голосом обратился к наполнявшему залу гвардейскому офицерству: «Седлайте лошадей, господа! Во Франции провозглашена республика». Действительность всегда не так эффектна, как легенда, — очевидцы удостоверяют, что император, войдя в залу, произнес несколько отрывистых слов,
которых никто не понял, и лишь из разъяснений приближенных к государю присутствовавшие узнали, в чем дело. Весть о новой республике так подействовала на Николая, что он потерял способность к членораздельной речи! В таком состоянии он сел писать свой манифест, — и тут случилось то, о чем мы начали рассказывать со слов того же Корфа: о дворянстве, вернейшей опоре престола, не было в манифесте ни звука — хотя к кому же, казалось бы, было воззвать против дерзко поднявшей свою голову демократии? Корф почтительно осмелился указать своему государю на пробел: о дворянстве всегда говорилось в подобных случаях, и полное умолчание о нем теперь могло быть истолковано в дурную сторону. Когда Николай настолько проникся содержанием составленного им документа (когда Корф перечитывал манифест, царь плакал), что не в силах был изменить ни единой строчки. Споря с Корфом, он — как это ни удивительно еще более! — сам впал в некоторого рода демократизм. «Нет, право, и так очень хорошо, — говорил он; —
если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие состояния могут огорчиться, а ведь это еще не последний манифест, — вероятно, что за ним скоро будет и второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться к дворянству»… Он и действительно потом обратился с нарочитой речью к петербургскому дворянству, — и отмеченный Корфом досадный пробел свидетельствовал, конечно, не о демократизме Николая, а о том, насколько он мог позабыть все на свете, увидав перед собой красное знамя революции. И вот, в довершение всего, дворянство оказалось наиболее задетым результатами
внешней политики Николая. Мы видели, какое значение имел для русского помещика хлебный вывоз, особенно вывоз пшеницы. Так вот, этот вывоз, благодаря войне, упал с 42 995 000 бушелей в 1853 году до 7 662 279 бушелей в 1854 году и 2 005 136 бушелей в 1855 году
[61]. Цены на пшеницу в черноземных губерниях упали до уровня начала 40-х годов и даже ниже (в Саратове, например, до 2 р. 36 к. за четверть — а в 1846 году четверть пшеницы там стоила 2 р. 87 к.; в Тамбове до 3 р. 64 к. — против 4 р. 37 к. 1846 года). «Едва уменьшилась наша вывозная торговля, — писал в апреле 1855 года Кошелев в записке, представленной им Александру II, — и она, составляющая менее, чем двадцатую часть наших денежных оборотов, так подавила всю внутреннюю торговлю, что чувствуется тяжкий застой везде и во всем. При неурожае, почти повсеместном, цены на хлеб во всех хлебородных губерниях низки, крестьяне и помещики едва в состоянии уплатить подать и внести проценты в кредитные установления. Мануфактуристы уменьшили свои производства, а торговцы не могут сбыть на деньги свои товары». Все это никак невозможно объяснить непредвиденными последствиями начатой войны: что война с Англией приведет именно к этим последствиям, легко было предвидеть по всем предыдущим примерам. Но дворянство должно было принести эту жертву на алтарь
промышленного империализма. Жертва осталась бесплодной: разорив помещика, не обогатила купца, и у того же Кошелева мы встречаем истинно «пораженческие» строки.
Но объяснение наше было бы далеко не полным, если бы, оценивая позицию Николая в ставшем практически с конца 40-х годов вопросе об освобождении крестьян, мы позабыли исходную точку всей его социальной политики вообще: поддержание «порядка» во что бы то ни стало. Мы видели, что полицейская точка зрения — желание вырвать почву из-под ног у революции — с самого начала доминировала над крестьянским вопросом, как понимал его Николай Павлович. Еще в 1844 году, настаивая на освобождении дворовых, он на первый план выдвигал особую зловредность того развращенного и своевольного разряда населения, который представляют собою дворовые, ходящие по оброку. Революция 1848 года оживила эту полицейскую точку зрения почти до той силы, какую она имела на другой день после 14 декабря. В бумагах Погодина сохранилось чрезвычайно характерное освещение крестьянского вопроса именно с этой стороны — принадлежащее одному из самых верных слуг николаевской системы, министру народного просвещения гр. Уварову. Вот что записал, со слов Уварова, Погодин:
«Вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии (!). Это две параллельные силы, кои развивались вместе. У
того и другого одно историческое начало; законность их одинакова… Крепостное право существует, каково бы ни было, а нарушение его повлечет за собою неудовольствие дворянского сословия, которое будет искать себе вознаграждения где-нибудь, а искать негде,
кроме области самодержавия. Кто поручится, что тотчас не возникнет какой-нибудь тамбовский Мирабо или костромской Лафайет, хотя и в своих костюмах. Оглянутся тогда на соседей — и начнутся толки, что и как гам устроено. Наши революционеры или реформаторы произойдут не из низшего класса, а в красных и голубых лентах. Уже слышатся их желания даже и без этого повода… Правительство не приобретет ничего посредством этого действия. Низший класс и теперь ему предан, а бояться его ни в каком случае нечего: крестьяне могут поджечь дом, поколотить исправника, но не более. Правительство не приобретет ничего, а потерять может много.
Другая оппозиция опаснее ему…»[62].
Это была, как видит читатель, целая программа — и не лишенная дальновидности с точки зрения той общественной группы, которая се выработала. В этом можно было убедиться весьма скоро, — в той записке 1855 года, которую мы цитировали выше, Кошелев говорил Александру II:
«Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земли Русской, пусть он прикажет изложить действительные нужды отечества, — и мы все готовы пожертвовать собою и всем своим достоянием для спасения отечества». Видите, мог бы сказать Уваров: не прав ли я был? По-своему, повторяем, Николай и окружавшие его уваровы были дальновидны: к их несчастью, только поле их зрения было необычайно узко. «Вопрос о крестьянах лопнул», — сказал Киселев своему племяннику Милютину летом 1848 года; а как раз в эти именно годы для помещичьего хозяйства вопрос о крестьянах только что народился.
19 февраля
Крестьянский вопрос накануне Крымской войны ♦ Экономические интересы крестьян и помещиков ♦ Буржуазная программа освобождения крестьян ♦ Бюрократический способ решения крестьянского дела ♦ Дворянское брожение 1858–1860 годов ♦ Манифест от 19 февраля — крупная уступка феодальной стороне
Накануне Крымской войны крестьянский вопрос находился в тупике: экономические интересы массы дворян требовали ликвидации крепостного права, политический интерес верхнего их слоя требовал совершенной неподвижности и сохранения «основ» во всей неприкосновенности — в том числе и крепостного права. Налицо был в высшей степени социологически любопытный конфликт между экономикой и политикой: как всегда, торжество осталось за первой. Социолог мог бы удовлетвориться этим: так должно было быть, так и было. Историк не может ограничиться констатированием правильности общего итога, — ему приходится иметь дело не только с общим, а и с индивидуальным: он не может не подвергнуть некоторому анализу тех слагаемых, которые в этот итог вошли. Современное реформе общественное мнение — голос самих помещиков, иными словами, — без колебаний приписывало выход из тупика именно войне. «В 1853 году началась война с Турцией, и предчувствовалась борьба с Европою. Уничтожение турецкого флота под Синопом всех русских несколько оживило. Правительство, занятое военными приготовлениями и действиями, менее обращало внимания на дела внутреннего управления. Казалось, это из томительной, мрачной темницы мы как будто выходим если и не на свет божий, то по крайней мере в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух. Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти и бессознательное, было в том же роде»
[63]. Так чувствовали и так смотрели на дела снизу: наверху должно было быть как раз обратное, здесь настроение поднималось, там оно должно было упасть. Неудача войны, так самонадеянно начатой, — Николай рассчитывал вначале через месяц быть в Константинополе и, даже после вмешательства Англии и Франции, накануне высадки союзников в Крыму, был еще уверен, что Севастополь в совершенной безопасности, — должна была сильно обескуражить правящую группу, к концу войны оставшуюся и без своего вождя, трагически погибшего именно вследствие военной неудачи
[64]. Всю глубину растерянности этой группы можно оценить, читая рассказ об известном совещании министров Александра II, доставшихся ему в наследство от Николая Павловича, перед началом мирных переговоров, после получения ультиматума из Вены: не решились даже спасти себя от формального унижения, обратившись непосредственно к Франции, — соглашение с нею решало все дело, — и безропотно подчинились ультиматуму державы, которая сама в данный момент боялась войны не меньше, чем Россия. Вызвать на бой всю Европу и в страхе убежать от картонного пугала, — оба эти психологические полюса пережили, на протяжении двух лет, одни и те же люди. Невероятно наглые еще вчера, сегодня они готовы были за полверсты уступать дорогу самому безобидному прохожему. Само собою разумеется, что такой упадок духа не мог ограничиться географически — пределами заграничной политики. В политике внутренней должно было повториться то же: чем раньше бравировали, в том теперь готовы были видеть опасность, гораздо большую действительной. Благодаря этой психологической перемене, то, что раньше задерживало реформу,
политический момент, теперь должно было оказаться плюсом на ее стороне. Мы видели, с каким высокомерным пренебрежением относилась знать к крестьянским волнениям: побьют исправника, сожгут усадьбу — экая беда, рассуждал Уваров около 1848 года. Десять лет спустя для нового императора и его окружающих, сверстников того же Уварова, не было страха страшнее крестьянских волнений. «
Главное опасение» Александра Николаевича, по его собственноручному признанию, состояло в том, чтобы освобождение крестьян «не началось само собою снизу». Эта записка императора
[65] совершенно устраняет предположение, будто, говоря па ту же тему перед московскими дворянами 30 марта 1856 года, он только хотел попугать этих последних: прежде всех и больше всех боялся он сам. Отсюда его нетерпеливое отношение к медленности секретного комитета по крестьянскому вопросу — комитета, составленного из николаевских деятелей и работавшего темпом, усвоенным для крестьянского вопроса при Николае I. «Желаю и требую от вашего комитета общего заключения, как к сему делу приступить,
не откладывая дела под разными предлогами в долгий ящик»; «буду ожидать с нетерпением, что комитет по делу этому решит. Повторяю еще раз, что
положение наше таково, что медлить нельзя»; «надеюсь, что после этого дело будет подвигаться, и прошу, чтобы возложенная работа на мин. вн. дел и государств, имуществ была ими представлена без излишнего замедления». Такими высочайшими отметками усеяны журналы комитета, — причем в подлиннике они имеют вид еще более нетерпеливый, ибо Александр Николаевич подчеркивал почти каждое слово
[66]. Очень он боялся, как бы «дело не началось снизу»! Но в основе медленности комитета лежало то же самое психологическое состояние. Когда комитет, по настоянию императора, выработал известный рескрипт 20 ноября 1857 года, чем стяжал первое одобрение Александра II («благодарю гг. членов за
первый решительный приступ к сему важному делу»), — председателем комитета, кн. Орловым, овладел панический ужас: он, — рассказывали тогда в Петербурге, — явился во дворец и, добившись аудиенции, стал «самым сильным и настойчивым образом» говорить против опубликования документа, в составлении которого только что принимал участие. «Почти на коленях» он умолял государя «не открывать эры революции, которая поведет к резне, к тому, что дворянство лишится всякого значения и, быть может, и самой жизни, а Его Величество утратит престол»
[67]. Александр Николаевич и здесь, как в знаменитом совещании после австрийского ультиматума, оказался все же храбрее слуг его покойного отца: тогда он настаивал на продолжении войны, теперь он настоял на опубликовании рескрипта. Но и долго после он был убежден, что рискнуть на освобождение крестьян можно только, введя во всей стране нечто вроде осадного положения. Он горячо сочувствовал составленному его любимцем, Ростовцевым, проекту создания на время реформы генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями и очень обижался, когда Министерство внутренних дел, ревнивое к своей полицейской монополии, начало этот проект оспаривать. Отчасти перспектива распыления его власти, отчасти влияние более трезвых буржуазных элементов, имевших на тогдашнее Министерство внутренних дел влияние через Н. А. Милютина, сделали министра Ланского, тоже старого николаевского служаку, храбрее его коллег: «Народ не только не сопротивляется, но вполне сочувствует распоряжениям правительства», — писал по поводу ростовцевского проекта Ланской. На этом месте его доклада Александр II и положил свою знаменитую резолюцию: «Все это так, пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение и
народ увидит, что ожидания его, т. е. свобода по его разумению, не сбылись, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они были уже на местах.
Если Бог помилует и все останется спокойно, тогда можно будет отозвать всех временных генерал-губернаторов, и все войдет опять в законную колею». Положение получалось прямо-таки отчаянное: не освобождать крестьян — они взбунтуются, и дело «начнется снизу»; освободить — они опять же взбунтуются, ибо нельзя их освободить «по их разумению», т. е. так, как самим крестьянам нужно.
Это драгоценное признание самого верховного руководителя реформы в том, что «освобождение» крестьян всегда придется писать в кавычках, стоит заметить: оно снимает тяжелое обвинение с бедных «крепостников», якобы испортивших «великую реформу». Александр Николаевич писал это в 1858 году — тремя годами раньше, нежели появилось то, что можно было портить.
Освобождение без кавычек было немыслимо в обстановке николаевского режима, — а в первые годы царствования Александра II этот режим стоял еще во всем цвете и во всей силе. Но если бы даже чья-нибудь смелая фантазия и могла представить себе такое чудо — создания миллионов свободных людей в стране, где государственный строй принципиально отрицал свободу кого бы то ни было, — этому чуду не дали бы осуществиться классовые интересы дворянства, которому нужна была замена барщинного труда наемным, крепостного крестьянина — батраком, а вовсе не создание свободного и экономически самостоятельного крестьянства. Что этот элементарный факт
заранее предвидел Александр Николаевич, которого даже самые рьяные его панегиристы не решаются признать гениальным государем, показывает лишь, насколько ясно было дело уже для современников: читатель оценит, какая масса усилий потребовалась, чтобы затуманить его перед потомством. Но в тот момент, когда писалась цитированная нами высочайшая отметка, ответ крестьянства на «свободу не по его разумению» был довольно отдаленным будущим. Было ли в настоящем конца 50-х годов что-нибудь, оправдывавшее панику Александра II и его министров? Главным условием — повторим еще раз — был толчок, данный Крымской войной. Одна записка, возникшая тогда в высших сферах Петербурга, прямо ставит необходимость крупных реформ как средства загладить тот конфуз, который только что испытала Россия под Севастополем. Но в связи с этим же Севастополем современники отмечали факты реально тревожные и напоминавшие начало только что неблагополучно окончившегося царствования. «Недовольство всех классов растет, — писал Кавелин Герцену в августе 1857 года, —
в особенности озлоблена масса офицеров, высылаемых из гвардии и армии, по случаю усиленного сокращения войск, на голодную смерть. Какое-то тревожное ожидание тяготит над всеми, но ожидание бессильное: словом, все признаки указывают в будущем, по-видимому, недалеком, на страшный катаклизм, хотя и невозможно предсказать, какую он примет форму и куда нас поведет». Так оценивала положение петербургская интеллигенция; а вот как смотрели на дело в глухой провинции. «Неизвестно, что нас ожидает в будущем, — писал министру внутренних дел рязанский предводитель дворянства Селиванов, — тем более, что в Рязанской губернии войск, кроме двух батальонов, во всей губернии нет.
Все распущенные из полков солдаты рассыпаны по деревням и при первом случае станут во главе всякого беспорядка. На земскую полицию положиться невозможно». После Севастополя нельзя было рассчитывать на вернейшую, с дней Петра I, опору абсолютизма —
армию. В 1848 году можно было пренебрегать крестьянскими волнениями — послать роту- две солдат, и все придет в порядок. Теперь приходилось спрашивать себя: не будет ли от солдат еще большего беспорядка, да и офицеры — можно ли и на них вполне рассчитывать? Вот почему не бог весть какие серьезные крестьянские беспорядки 1854–1855 годов (по случаю сначала «морского», а потом государственного ополчения) имели такое капитальное значение в истории крестьянской реформы. «Бунт», кажется, происходил, как нарочно, по плану, гипотетически начертанному гр. Уваровым: поколачивали исправников, сожгли пару усадеб. В сравнении с крестьянским движением 1905–1906 годов, например, это были сущие пустяки: нескольких батальонов было достаточно для полного усмирения даже наиболее волновавшихся губерний. Если бы речь шла о судьбе поместного дворянства, как это было в недавние годы, «бунты» такого размера только обострили бы реакцию; но дело шло не о крушении, а о возрождении феодального землевладения, тупо упиравшегося перед пустячной, но неизбежной операцией. Надо было
напугать его ровно настолько, чтобы оно на операцию согласилось, — и, прежде всего, напугать ту знать, от которой зависело пустить дело в ход. Волнения времен Крымской войны как раз достигли этой цели.
Подготовка акта 19 февраля 1861 года происходила, как известно, почти параллельно в
губернских комитетах и редакционных комиссиях в течение 1858–1860 годов. Но было бы ошибкой думать, что выработка основных принципов реформы началась только в это время, и что боровшиеся стороны — комитеты и комиссии — приступили к своему делу с пустыми руками. В значительной степени самый конфликт между комитетами и комиссиями был раздутым: не то, чтобы поводов для конфликта вовсе не было, но они, эти поводы, лежали в чисто
политической области;
неэкономической почве боролись не «чиновники» комиссий и «помещики» комитетов (первые сами были, по большей части, помещиками, а вторые, по большей части, были люди государственной службы), а две
группы дворянства, интересы которых получили формулировку и обоснование еще в период действий
секретного комитета, и отчасти даже до него — в 1855–1857 годах. В этот период два течения, возникшие среди самого землевладельческого класса, нашли себе выражение в
записках частного характера, но составлявших материал для суждения правительственного комитета. Одно из этих течений можно назвать
феодальным, другое
буржуазным. Первое заботилось главным образом о сохранении за помещиками
земли — в максимальном количестве и во что бы то ни стало; второе ставило на первое место обеспечение землевладельцев
капиталом и рабочими руками — хотя бы и ценою некоторых уступок в пользу крестьянства в земельном вопросе. Была и третья точка зрения, компромиссная между двумя первыми, надеявшаяся обеспечить помещиков нужными капиталами без уступки земли крестьянам — или с уступкою чисто фиктивною. Наиболее обнаженно, а потому наиболее ярко, выступает
феодальная точка зрения в представленной секретному комитету записке кн. Гагарина. «Помещики как поземельные собственники составляют собою твердую опору престола и государства, следовательно, всякое стеснение их интересов и владельческих прав не может оставаться без влияния на быт империи», — писал Гагарин: дотронуться до дворянской земли — значит потрясать основы. «Дарование помещикам права освобождать крестьян
без условий и без земли есть мера самая благодетельная, так как она
упрочивает за помещиками право земельной собственности и оставляет крестьян под тем влиянием, с которым они свыклись и которое охраняло общий интерес в государстве…». Избежать пролетаризации крестьянства при безземельном освобождении было очень легко, по мнению Гагарина: стоило оставить им в пользование их усадьбы и дома. Впрочем, к вопросу о пролетариате князь вообще относился легко: «Сельского пролетариата нигде не было и быть не могло, — думал он, — а в России количество земли так значительно, что землепахарь не может опасаться не иметь работы». Под «пролетарием» князь Гагарин, в простоте души, понимал «безработного»…
Простота души кн. Гагарина отнюдь не является только комическим дивертисментом: она чрезвычайно характерна, давая нам возможность оценить ту
подготовку, с какой приступали к сложнейшей русской реформе XIX столетия николаевские сановники. Из министров Николая I, остававшихся в живых к 1857 году, кое-что понимал в крестьянском вопросе только гр. Киселев, в это время удаленный — по утверждению некоторых современников, удаленный намеренно — весьма далеко от театра действия: он был тогда послом в Париже. Но и он, нужно сказать, понимал именно только «кое-что». «Я полагаю, — писал он тому же секретному комитету, — что
даровать полную свободу 22 миллионам крепостных людей обоего пола не должно и невозможно. Не должно потому, что эта огромная масса людей не подготовлена к законной полной свободе; невозможно потому, что хлебопашцы без земли перешли бы в тягостнейшую зависимость от землевладельцев и были бы их полными рабами или составили пролетариат, не выгодный для них самих и опасный для государства. Надел крестьян землею или сохранение за ними той, которую они имеют от помещиков, невозможно без вознаграждения, а вознаграждение едва ли доступно в финансовом отношении. Посему я полагаю, что вопрос о полной свободе подымать не следует»
[68]. И Киселев, и Гагарин, оба одинаково являлись представителями того разряда землевладельцев, которые, живя постоянно в Петербурге,
сами хозяйства не вели, будучи по отношению к своим крепостным имениям простыми получателями оброка. Этот оброк они и стремились увековечить. При крепостном праве платеж им ренты был
юридической обязанностью сидевших на их земле крестьян; при безземельном освобождении арендовать барскую землю становилось для этих крестьян
экономической необходимостью. Так как хозяйственные условия имения при этом не изменялись ни на йоту, то гагаринский способ освобождения был, не только субъективно, наиболее консервативным: вот почему есть все основания назвать этот тип реформы
феодальным. Тем более что и Гагарин, как Киселев в своем проекте николаевских времен, оставлял во всей неприкосновенности
полицейскую власть помещика, предоставляя «освобожденному» крестьянину лишь право жалобы на него, но и то — главе всех помещиков, уездному предводителю дворянства, превращавшемуся проектом Гагарина в мирового судью.
Критика феодальной программы освобождения, с точки зрения
экономических интересов самих помещиков, была дана уже одновременно с ее возникновением в записках Кавелина (1855 года) и Кошелева (1857 года). «Некоторые предлагают выкупить помещичьих крепостных с тем лишь количеством земли, какое нужно для удержания их оседлыми на теперешнем их месте жительства, но которого было бы совершенно недостаточно для прокормления их с семейством, — писал первый. — Цель та, чтобы, воспользовавшись привязанностью крестьян к их родине, земле и двору,
побудить их поневоле нанимать землю у соседних землевладельцев… Последствием этого было бы одно из двух: или бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей — нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, — или они
стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи…». Экономическая истина у Кавелина, по его обыкновению, затушевана морально-политическими соображениями: он называет феодальный проект «коварной мерой», говорит о том, что, благодаря ему, правительство было бы «вовлечено в несравненно большие издержки, чем выкупив их (крестьян) с самого начала со всею землею», и тому подобное. С кристальной экономической ясностью ставит дело Кошелев. «Эта мера, — говорит он, —
разоряла бы в край
половину помещиков, т. е.
почти всех, имеющих свои земли в промышленных губерниях, ибо крестьяне, лишенные своей вековой оседлости,
ушли бы в страны более хлебородные, и мы, в девятнадцатом веке, увидели бы повторение тех народопереселений, которые изумляют нас в истории средних веков»
[69]. Метче нельзя было указать точку разрыва, угрожавшего самой дворянской массе. И Кавелин уже отчетливо сознавал, что феодальная программа найдет себе сторонников среди не одних феодалов гагаринского типа. «Такая система выкупа, — говорит он о замаскированном безземельном освобождении, — в губерниях почти исключительно земледельческих могла бы, может быть (мы видим, как неприятно признаваться в этом Кавелину!), действительно принести пользу владельцам…». В представленном секретному комитету проекте
полтавского помещика — бывшего статс-секретаря Николая I — Позена мы находим уже очень удачный образчик амальгамирования феодальной и буржуазной точек зрения. Позен индивидуально представлял весьма благодарную в этом отношении фигуру, совмещая в себе крупного землевладельца, талантливого финансиста и человека, тысячью нитей связанного со знатью. Большая часть последней — мы видели это на примере Киселева — считала
выкуп финансовой утопией. Лучше знакомый с биржевым миром Позен ни на секунду не убоялся этой утопии: выкуп, т. е. снабжение помещика капиталом при помощи крестьянской эмансипации, он считал делом вполне возможным и даже нетрудным. Но он надеялся получить этот капитал в обмен не за весь крестьянский надел, а только за одну
усадьбу. Пролетаризации крестьянства, как и Гагарин, он вовсе не боялся: и чего было бояться ее черноземному помещику, когда он, еще при крепостном праве, успел пролетаризировать добрую долю — а иногда и большинство — своих крестьян? По сведениям, доставленным от местного начальства,
в Полтавской губернии 83 193 хозяев, наделенных землею полевою и усадебною, 47 674 имевших только усадьбу и 24 940 не имевших даже усадьбы. Число крестьян, наделенных землею, относится к числу ненаделенных, как 1,9:1. В
Черниговской губернии наделены полевой землей 100 059 хозяев, только усадьбой — 5456 и не имеющих и усадеб — 33 447; число крестьян наделенных относится к числу ненаделенных, как 2,5:1. Умножение ненаделенных вовсе не зависело от многоземельности имений; напротив того,
в многоземельных уездах гораздо более ненаделенных… Почти нет ни одного имения в Малороссии, в «котором бы все крестьяне были наделены землею…». В соседней
Харьковской губернии была иная система, но приводившая к весьма сходным результатам. «Здесь почти все крестьяне наделены землею, а потому класс безземельных очень малочислен», — писали редакционные комиссии. Но вот что отвечали им представители харьковских помещиков, депутаты от харьковского губернского комитета: «В Харьковской губернии помещичьих крестьян 189 495 душ;
из этого числа тягот, имеющих волов или лошадей, только 49 909; это достаточно обнаруживает, как мало крестьяне имеют скота. Может быть, здесь последует вопрос: каким образом помещики могли обрабатывать остальное количество земли? —
Почти все помещики имели свой рабочий скот, которым работали крестьяне, не имеющие скота. Другой вопрос: чем будут освобожденные крестьяне, не имеющие скота, обрабатывать свою землю?» — Вывод отсюда был ясен: «Не объем земли, данной крестьянину, делает его богатым, а условия, на которых она ему предоставлена, и
свободный труд; дайте сколько угодно земли крестьянину в пользование, он все-таки не будет чувствовать свой быт улучшенным, потому что желание иметь собственность не будет удовлетворено… Это можно доказать тысячами примеров и тем неоспоримым фактом, что
чем имение менее земельно, тем благосостояние крестьян выше, ибо помещик, имея мало земли, довольствуется малым количеством крестьянского труда; крестьяне же, за недостатком земли, занимаются промыслами, приносящими им постоянный доход, не зависимый от случайностей (!). Кто знает быт харьковских крестьян в натуре, тот в этом не усомнится»
[70].
Само собою разумеется, что на основании всех этих соображений харьковские представители, Хрущев и Шретер, «предоставление крестьянам большого количества земли находили вредным». На их примере особенно ярко видно, как наивно обычное разделение помещиков конца 50-х годов на «крепостников» и «либералов». Хрущев и Шретер были самыми ярко-красными либералами, каких только можно было найти среди тогдашнего дворянства. Их подписи стоят под наиболее «левым» из адресов, поданных губернскими депутатами Александру II: под адресом, который был охарактеризован императором как «ни с чем несообразный и дерзкий до крайности». Там требовалось ни более ни менее как местное самоуправление, суд присяжных, свобода печати и прочее — что в 1859 году Александр Николаевич искренно считал «западными дурачествами». Доказывая, что мужику тем лучше, чем земли у него меньше, они, попутно, не преминули воздать должное почтение
буржуазной крестьянской собственности, — а подводя итог своей экспроприаторской аргументации, они заключали, что «от всей души сочувствуют полному освобождению крепостных, но в то же время пламенно желают, чтобы возведение их в полноправных граждан произошло правомерно и на почве законности». Совсем англичане! А подпись их под «ни с чем несообразным» адресом стоит рядом с подписью наиболее рельефного представителя
буржуазного типа эмансипации — тверского делегата Унковского. Интересы нарождавшейся аграрной буржуазии на юге и на севере были неодинаковы, — на этом и сыграли феодалы, в конечном счете не одержавшие полной победы, но избегнувшие и полного поражения.
Но мы довольно далеко ушли от того хронологического пункта, к которому относится наша характеристика. Унковский высказался вполне только в губернском комитете и в редакционных комиссиях — в следующую фазу реформы. Уже раньше появления тверичей на сцену
буржуазная точка зрения была отчетливо формулирована в двух упоминавшихся нами выше записках — Кавелина и Кошелева. Вторая — экономически солиднее, но первая больше имела практического значения по близким связям ее автора с Николаем Милютиным, тогда — фактически — товарищем министра внутренних дел и, как выяснилось очень скоро, главным деятелем реформы со стороны правительства. В то же время и лично Кавелин является более разносторонним выразителем тогдашней аграрно-буржуазной идеологии, чем Кошелев. Помещик, публицист, профессор, друг Герцена — и в то же время друг Николая Милютина и учитель наследника русского престола, Кавелин имел страшно широкий район наблюдений, и редко можно было встретить человека, который бы так живо воспринимал все, что он видел и слышал, и быстрее делал из виденного и слышанного выводы, которые далеко шли за пределы понятного большинству его современников. Благодаря исключительной обстановке того края, где ему пришлось хозяйничать как помещику, он очень рано натолкнулся на тот подводный камень, о который должно было сокрушиться русское буржуазное землевладение четверть века спустя, — на рабочий вопрос. Если харьковские условия воспитывали «англичан», то Новоузенский уезд Самарской губернии, где было имение Кавелина, уже в 50-х годах был образчиком «американского» типа аграрной эволюции. Читая замечательные «Письма из деревни» Кавелина (1860 года), вы с трудом представляете себе, что речь идет о России еще до отмены крепостного права: так мало феодального во всей картине. Под влиянием аграрного подъема 50-х годов самарцы с азартом биржевой игры принялись за
производство пшеницы, за которую платили на рынке «огромные цены». Азарт усиливался тем, что при экстенсивном хозяйстве («земля возделывается кое-как и не навозится») успех зависел исключительно от погоды: «Весь секрет в том, чтобы под хороший год иметь как можно больше земли под посевами. А как его угадаешь — хороший год!» Но зато на одном хорошем урожае можно было разбогатеть, — ив результате «все здесь нанимает землю и сеет, — говорит Кавелин: — и дворовый, и вдова, и пастух, и кучер, и кухарка — хоть десятину, да сеет». Но посеянное, когда Бог послал урожай, нужно было жать, — и вот перед нами картина совсем американского «дальнего Запада». «Наем рабочих, особливо жнецов, — любопытнейшая вещь в нашем краю. Приспела жатва — и всюду начинается усиленная деятельность и необыкновенное столпление народа. Хозяева спешат на базары — пункты, где нанимаются жнецы; для нас таким базаром служит преимущественно Вольск, уездный город Саратовской губернии, в 70 верстах отсюда. В то же время рабочие тысячами идут в глубь степи искать работы. В последние годы наемные цены на жнецов страшно возвысились: с 3-х руб. сер. за сороковую десятину, как бывало прежде, они поднялись до 6, 6 1/2 и 7 рублей. В третьем году жали по 8-ми, а в отдаленных местах, по 10,12 и даже по 15 целковых за десятину. Во все время работы вы должны кормить жнецов, и кормить хорошо — пирогами (как называются здесь пшеничные хлебы), с приварком из пшена или гороха (иные не станут есть гороха), с салом, в постные дни — с маслом, иногда и с бараниной. Если же вы наняли их не у себя, а на базаре, то издержки еще больше! вы должны доставить к себе на своих лошадях и угостить водкой, по здешнему — дать магарычу, не говоря уже о пирогах во время ряды и в продолжение пути. А найма на базаре редко избежишь: рабочие могут и не прийти, когда нужно. Что тогда делать? Вы видите, что издержки огромны, и при плате за землю деньгами они должны быть затрачены вперед… Я еще не все сказал о жнецах и работниках. То, что они всем нужны в самую горячую пору, делает их требовательными, нахальными и своевольными в высшей степени; о римском праве они не имеют никакого понятия, вероятно потому, что не были в университете. Святость контракта, верность данному слову не существует даже по имени. Когда поспевает пшеница — все думают только о том, как бы зашибить копейку жнитвом. Вы нанимаете во время жатвы няньку; она вам преспокойно говорит: заплатите мне, сколько платят жнецам, а не то я пойду жать. Вы наняли работника еще с осени на год и на условиях, для него выгодных, но имели неосторожность не заплатить ему денег вперед, так чтобы во время жатвы у него оставались незаработанные деньги: берегитесь, он у вас не останется, и вы в самое нужное время лишитесь его: он пойдет жать. Да если и вперед дадите, то и это вас не спасет: он все-таки уйдет жать. Пойдите, судитесь с ним, когда каждая минута рубля стоит…»
[71].
Маленькие причины иногда имеют большие следствия: строптивый новоузенский жнец, для которого не существовало святости контракта даже по имени, крепко засел в памяти друга Герцена и корреспондента «Колокола». То скептическое отношение к вольному крестьянину, которое стало общим местом в 70—80-х годах, знакомо было Кавелину еще в 50-х, — когда к рабочему вопросу в деревне весьма легкомысленно относились даже такие люди, как Унковский, наивно воображавший, что рабочих после эмансипации будет сколько угодно — хоть отбавляй: по расчетам Унковского, на всю Россию еще 800 000 лишних должно было остаться. Никто, кажется, из публицистов одного с Кавелиным направления не отстаивал с такой силой идеи о необходимости твердой и сильной власти в минуту эмансипации и непосредственно после нее. Конституционные — а тем паче революционные — иллюзии его современников внушали Кавелину величайшее недоверие и даже отвращение. «Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтобы не вспыхнули и не произвели взрыва, — писал он по поводу дворянского либерализма Герцену. — Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими средствами… Я бы хотел, чтобы ты был правительством и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно и явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал». Чтобы избежать повторения в России французской революции («формула русской истории страшно как напоминает формулу французской: читаешь книгу Токвиля — и дрожь пробегает по жилам…»), надо действовать сверху, а не снизу. Кавелин вовсе не был «аполитическим» мыслителем — совсем напротив: он верил «тайному голосу, который еще с детства предсказывал ему политическую будущность». Но чтобы идти по этой дороге, отнюдь не надо было становиться «политическим агитатором, главою партии» — как стал Герцен, которого Кавелин горько за это упрекал. Путь буржуазного публициста был иной, — нужно было вести долгие дружеские беседы с шефом жандармов (не подававшим Кавелину руки), раскрывать свою душу перед фрейлиной императрицы, — венцом благополучия было поговорить с этою последней лично, с глазу на глаз. Настроение Кавелина после такой беседы можно описать только его же словами. «Того волнения, восторженности, которые возбуждены были во мне этим последним двухчасовым разговором (с императрицей Марией Александровной, в Дармштадте, в августе 1857 года), я передать не в состоянии. До сих пор я точно в чаду, и если бы кто-нибудь вдруг сильно взял меня теперь за руку или ударил по плечу, я готов был бы думать, что проснулся, и что все, происходившее со мною, был сон, удивительный, очаровательный, навеянный огромным самолюбием и такою же огромною любовью к родине». Немудрено, что помещенному в «Колоколе» письму к государыне Кавелин придает большее значение, чем агитационным статьям того же «Колокола»: «Кто может сказать, что это письмо не будет иметь значения для будущей России? Ведь это письмо так тепло…». В противоположность «шатаниям влево» либеральных помещиков типа Унковского или даже Кошелева, Кавелин твердо ставит как идеал прогрессивной буржуазии не конституционную, а самодержавную Россию. «Если передать впечатления свои в двух словах, то вот к чему сводится вопрос: замена византийско-татарско-французско-помещичьего идеала русского царя идеалом народным, славянским, посредством самой широкой административной реформы по всем частям»
[72].
Абсолютизм и отречение от
политической свободы при максимуме
гражданской свободы как необходимое условие дальнейшего капиталистического развития без революции — это была программа на двадцать лет вперед. Только не теряя из виду этих политических предпосылок, мы будем в состоянии правильно оценить и
буржуазную программу освобождения крестьян. -
Различные проекты эмансипации мотивировали ее весьма различными соображениями. В бюрократических кругах наиболее популярной была мотивировка полицейская — от «опасности внутреннему спокойствию», которому угрожает дальнейшее сохранение рабства. Николай Павлович с этого мотива начал свою речь перед Государственным советом — по поводу закона об «обязанных» крестьянах (1842)
[73]. Из интимных заметок Уварова мы знаем, что при Николае мотивировка не была искренней — но после его смерти стали бояться ужо не в шутку. Проекты частного характера пытались возвыситься от полицейской до политической точки зрения. Так, Самарин неудачу в Крыму склонен был приписать, главным образом, крепостному праву, которое, нужно сказать, было в этом именно виновато меньше, чем многое другое, — армии Александра I, составленные из крепостных мужиков, били, однако, тех же французов при других условиях. Но Самарину казалось, вероятно, что такая аргументация больше тронет высокопоставленных читателей, на которых он рассчитывал: не освободите крестьян — потеряете всякое влияние в Европе, грозился он. Заблоцкий-Десятовский, в свое время, пытался доказать, что крепостное право
невыгодно помещикам: при всей своей экономической обоснованности — аргумент тоже «шкурного» характера. Даже наиболее близкий к Кавелину трезвый Кошелев рядом с «современными требованиями промышленности и народного благосостояния» нашел нужным говорить и об «общественной совести», и о «государственной безопасности». Исходной точкой Кавелина является чисто буржуазное понятие —
свободы труда. С этого он начинает. «Многие убеждены, что Россия по своим естественным условиям — одна из самых богатых стран в мире, а между тем едва ли можно найти другое государство, где бы благосостояние было на такой низкой ступени, где бы меньше было капиталов в обращении и бедность была так равномерно распространена между всеми классами народа… Причин нашей бедности очень и очень много… Все эти причины действуют более или менее гибельно. Но ни одна не проникает так глубоко в народную жизнь, ни одна так не поражает промышленной деятельности народа в самом ее зародыше, ни одна так не убивает всякий нравственный и материальный успех в России, как
крепостное право, которым опутана целая половина сельского народонаселения империи. Двадцать пять с половиною миллионов жителей мужского и женского пола в нашем отечестве лишены самых первых, самых скромных зачатков гражданской свободы — права по своему усмотрению заниматься тем или другим промыслом и произвольно отлучаться из своего места жительства; вопреки всякому здравому смыслу они лишены самого действительного побуждения к занятию промыслами — права требовать плату или вознаграждение за свой труд, чего он действительно стоит». Совершенно логично к крепостным, кроме помещичьих крестьян, Кавелин причисляет и другие разряды населения, лишенные свободы труда: крестьян удельных и дворцовых, военных поселян, мастеровых казенных заводов, и т. д. Он пытается даже определить, что теряет русское народное хозяйство от крепостной зависимости всех этих людей, и «по самому умеренному исчислению» определяет ежегодный убыток «по крайней мере в 96 1/2 милл. руб. сер.». Не менее логически было вывести отсюда необходимость полного восстановления свободы труда для всей массы населения:
«крепостных следовало бы освободить вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ» — таков первый принцип, устанавливаемый Кавелиным. Но буржуазия не только требует «свободы труда» — она уважает собственность. «Государство не может ни желать, ни допустить освобождения крестьян без вознаграждения владельцев, и на это имеет самые основательные причины.
Освобождение крестьян без вознаграждения помещиков, во-первых,
было бы весьма опасным примером нарушения права собственности, которого никакое правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно повергло бы в бедность многочисленный класс образованных и зажиточных потребителей в России, что, по крайней мере сначала, могло бы во многих отношениях иметь неблагоприятные последствия для всего государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка земли наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с освобождением крепостных совсем лишатся дохода от этих имений. Не получив вознаграждения, многие из них на первый раз, а иные может быть и навсегда, были бы осуждены на самое бедственное существование»… Отсюда третье, «главное основание» Кавелина:
«освобождение может совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев». На первый взгляд, как будто выпадает из этой строго буржуазной логики
второй принцип эмансипации: крестьян «надлежало
бы освободить
не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею». Может показаться, что тут вторгся посторонний элемент — из области полицейских страхов: «…в видах общественной тишины и порядка, правительство не может допустить сохранения хотя бы тени зависимости бывших крепостных от их бывших помещиков», — говорит в одном месте Кавелин. Но это только литературная манера опытного публициста — сплетать моральные и политические рассуждения, апеллируя не только к рассудку, но и к эмоциям своего читателя. Сам автор ни на минуту не сбивается со своей колеи. Не нужно упускать из виду главной цели всей эмансипационной кампании, поскольку она велась помещиками: получения путем эмансипации капитала для перестройки своего хозяйства на новых основаниях. Кавелин также определенно ставит эту цель, как и цитированный нами выше Кошелев. «Освобождение крепостных, — говорит он, — потребует немедленного поставления наших помещичьих хозяйств на коммерческую ногу, а это можно сделать не иначе, как с помощью более или менее значительных единовременных, чрезвычайных издержек, которые понадобятся почти в ту же самую минуту, когда совершится освобождение. При всеобщей бедности и разорении нашего дворянства ему неоткуда взять капиталов, необходимых для покрытия таких чрезвычайных издержек, поэтому,
если вся выкупная сумма не будет уплачена владельцам при самом освобождении их крестьян, сельское хозяйство в России понесет весьма чувствительный вред, от которого не скоро оправится…». «Сумму» должен был уплатить владельцам специально учрежденный для этой цели государством банк — а «выплаченная владельцам из банка сумма зачисляется долгом на выкупленном имении, с уплатою в 37-летний или другой, более продолжительный, срок…»
Экономическое значение крестьянского надела здесь совершенно ясно: это — и обеспечение выданного из банка капитала, и средство его постепенной уплаты. Кавелин путем подробных вычислений старается установить, что дохода от крестьянского надела вполне хватит для этой цели — и даже с избытком. Это примерное вычисление любопытно одной деталью: из него видно, что душа крестьянина в нечерноземной полосе ценилась в три раза дороже его земли: первая, для выбранного Кавелиным примера (Смоленская губерния), стоила 117 р., а вторая — всего 35 р. 75 к. Позднейшие выкупные оценки были, таким образом, вполне предвидимы уже в 1855 году…
Само собою разумеется, что эта деликатная операция — превращение мужицкой души вместе с ее землею в дворянский капитал — могла совершиться только сверху, силою власти, которой все привыкли беспрекословно повиноваться. Кавелин обдумал и эту сторону дела — и вполне сознавая неспособность николаевских министров, продолжавших править Россией и при Александре II, разрешить трудную задачу («даже предположив в таких лицах полную добрую волю и желание привести крестьянский вопрос к разрешению, они, очевидно, не в состоянии были бы это сделать по недостатку сведений»), он первый высказал идею учреждения, которому суждено было сыграть такую выдающуюся роль в истории реформы:
редакционных комиссий. В учреждении этом должны были быть сосредоточены все, кто своими специальными познаниями мог быть полезен делу как служащие, так и не служащие (позднейшие «члены-эксперты»), Кавелин дает и их список, во многом опять-таки совпадающий с позднейшим действительным составом редакционных комиссий. Но все эти лица должны были получить свои полномочия
сверху, от правительства — а отнюдь не
снизу, от помещиков или крестьян.
Таким образом, «бюрократический» способ решения крестьянского дела был предложен из буржуазного лагеря. Напротив, мысль о необходимости «общественной самодеятельности», в чем многие видят чуть ли не главную причину большей успешности почина Александра II сравнительно с попытками его отца, — эта либеральная мысль пришла из лагеря «крепостников» и была предложена не кем другим, как бывшим государственным секретарем и доверенным человеком Николая I — бароном Корфом. Именно он в секретном комитете предлагал «для успеха новых мер по устройству крестьян, чтобы они (меры)
спущены были не сверху, а выросли снизу, от указаний опыта, — разослать от Министерства внутренних дел всем губернским предводителям дворянства циркуляр о предоставлении
опытности и добрым намерениям дворянства разрешения вопросов о средствах исполнения и о порядке применения по различию местностей обширной империи дела об изменении положения крестьян»
[74]. Что толкнуло феодальную группу на этот путь, оказавшийся, как очень скоро обнаружилось, довольно скользким? На первом месте следует тут, поставить, конечно,
страх — тот универсальный страх, которым были охвачены «сферы» после Севастополя: боялись всего на свете — Наполеона III, крепостного мужика, отпускного солдата, — боялись, между прочим, и дворянина. А вдруг обидится? Этим именно чувством приходится объяснить те совершенно неправдоподобные авансы, которые делались дворянству, например, во время поездки Александра Николаевича по внутренним губерниям в конце лета 1858 года. Послушать императора, так без дворянской поддержки он и шагу сделать не мог: «Я уверен, что могу быть покоен, — говорил он, например, в Твери, — вы меня поддержите и в настоящем деле». И тут же дано было знаменитое обещание, что «дело» будет обсуждаться в Петербурге при непременном участии выборных от дворянства. Следующим после страха, обстоятельством, удручавшим «сферы», была их совершенная теоретическая беспомощность, которою Кавелин мотивировал свой проект «редакционных комиссий»: блестящим образчиком этого качества феодальной группы была известная нам записка Гагарина. Проект Позена должен был показаться феодалам лучом света в окружавшем их экономическом мраке: вот какую поддержку можно получить от помещиков! Значит, не надо пренебрегать их содействием: с божьей помощью в каждой губернии может оказаться свой Позен, и буржуазное меньшинство будет благополучно задавлено. Убеждение же, что освобождения по буржуазному типу, т. е. с землей, обеспечивающей в дальнейшем выкупные платежи, желает лишь
меньшинство помещиков, было наверху очень сильно, — недаром глава феодалов, Муравьев (будущий виленский генерал-губернатор), тоже, по примеру Александра II, совершил поездку по губерниям, вербуя себе сторонников.
Южные, черноземные, комитеты, нужно сказать, и оправдали в значительной мере ожидания: в Херсонской и Таврической губерниях, где в среднем на душу населения приходилось 24,4 и 56 десятин, соглашались отдать крестьянам — в Херсонской от 1,3 до 3 десятин, а в Таврической от 3 до 5 десятин на душу! В Екатеринославской губернии из 18,9 десятины, приходившихся на душу в крепостных имениях, помещики не находили возможным уступить более 3. Воронежские дворяне себе оставляли 2 000 000 десятин, а крестьянам давали 240 000. Тамбовские требовали отрезки от 1/2 до существующего надела. Если таковы были аппетиты после того, как политический конфликт дал наверху перевес буржуазному типу эмансипации, можно себе представить, что было бы без этого! Но между феодальной группой и даже этими — их можно назвать «правыми» — комитетами все же не оказывалось полной солидарности. Поскольку в комитетах были представлены интересы местных
помещиков — хозяев, им не мог улыбаться тот способ ликвидации крепостных отношений, какой считали наиболее для себя выгодным Гагарин и его товарищи. Те желали превращения крепостного крестьянина в вечного невольного арендатора помещичьей земли. В этом именно смысле был редактирован знаменитый рескрипт, 20 ноября 1857 года, основные положения которого были сделаны обязательными для губернских комитетов, появившихся на свет божий, как известно, именно благодаря этому рескрипту. Согласно ему, за помещиками сохранялось право собственности
на всю землю: крестьянин получал в собственность
лишь усадьбу (за выкуп, размер которого определялся не только ценностью усадебной земли и строений, но и «промысловых выгод и местных удобств»: другими словами, выкуп усадьбы был замаскированным выкупом
личности крестьянина и всех «выгод», которые обладание этою личностью доставляло помещику);
надел же предоставлялся крестьянину лишь в
пользование за определенные повинности, причем феодалы надеялись, очевидно, удовлетворить владельцев и барщинных имений, сохранив в качестве одной из таких повинностей барщину. Это лишний раз свидетельствовало об их экономическом невежестве: как раз в
кризисе барщины и заключался узел всего вопроса. Если барщина крестьян, составлявших собственность помещика, не представляла для этого последнего большой цены, можно себе представить, что стоила бы барщина крестьян, юридически свободных, по отношению к которым у помещика не оставалось никаких средств принуждения. Вот почему при всем разногласии черноземных и нечерноземных комитетов насчет количества земли, которое можно было уступить крестьянам, всем им — говоря словами Кошелева по поводу «депутатов первого призыва» —
«отдача помещичьих земель в бессрочное пользование крестьян за неизменные повинности казалась ничем не оправдываемым нарушением права собственности.
Большинство… требовало обязательного выкупа как единственного средства произвести освобождение на законном основании и удовлетворительно для помещиков и для крестьян. Меньшинство, соглашаясь на отдачу мирских земель в бессрочное пользование крестьянам, требовало переоценки или земли, или, по крайней мере, денежных повинностей… Депутаты опасались, что если раз установится бессрочное пользование крестьян помещичьими землями за неизменные повинности, то правительство успокоится и долго-долго не озаботится устройством выкупа»
[75]. Таким образом, только меньшинство оброчных помещиков склонялось к феодальной точке зрения, но и то с поправками: владельцы барщинных имений, при всей разнице в размерах их земельного аппетита были на стороне типа буржуазного.
Между теми, кто начал крестьянскую реформу и считал себя полным хозяином дела, и теми, в чьи руки попало дело с образованием губернских комитетов (первым возник, как известно, нижегородский комитет: в декабре еще 1857 года, — если не считать западных губерний, к которым непосредственно и был обращен рескрипт от 20 ноября; в течение 1858 года комитеты образовались постепенно во всех губерниях), уже в
экономической области не было, таким образом, полного единодушия. Когда работа комитетов развернулась мало-помалу, дело осложнилось политическим конфликтом. У «манчестерски» настроенных передовых помещичьих кругов была своя логика. Они не могли ограничиться вопросом о барщине — и вообще тесными пределами помещичьего хозяйства. «Ежели более или менее патриархальное управление помещиков признается несовременным, тягостным для крестьян, — писал один из членов тверского комитета, — то тем больше вредно и невозможно начало бюрократическое в управлении свободными обществами. Чиновник-бюрократ и член общества — два существа совершенно противоположные». «Чтобы оправдать доверие государя и осуществить его ожидания, — писал один из членов владимирского комитета, — на дворянах лежит священная обязанность указать твердые основания к благоденствию страны и,
возрождая народ, дать ему не одни только средства к жизни, но
вполне оградить его от всякого произвола и стеснений — указать ему широкий путь к разумному развитию и положить конец злоупотреблениям». Министр внутренних дел так резюмировал эти тенденции в своем докладе Александру II: «Не подлежит сомнению, что некоторые действительно желают воспользоваться настоящим случаем, чтобы понемногу ввести представительное правление в решение дел государственных». Исходною точкой, очевидно, должно было послужить то собрание дворянских депутатов от всех губерний, которому Александр Николаевич пообещал предоставить «обсуждение» крестьянской реформы в последней инстанции.
ОЪ этой опасности позабыли в минуту паники и хлопот о своих хозяйственных интересах: теперь приходилось спешно воздвигать укрепления с той стороны, откуда не ожидали никакого нападения.
Нет сомнения, что опасность — благодаря, вероятно, долгой отвычке от всякой дворянской оппозиции — была страшно преувеличена. Впоследствии, когда дело дошло до подачи «адресов» императору, — кульминационный пункт дворянского брожения 1858–1860 годов, — из
двадцати четырех депутатов, подписавших эти адреса, только
шестеро дали свои подписи адресам политического характера. Причем «конституционализм» наиболее толкового адреса «пяти» (знакомых уже нам Унковского, Хрущева, Шретера и еще двух ярославских депутатов, Дубровина и Васильева) никак не приходится писать без кавычек, ибо
представительства, даже совещательного, и они не требовали: их пожелания не шли дальше всесословного земства, суда присяжных и «печатной гласности» (не свободы печати!). Это, в сущности, была кавелинская платформа — социальный строй буржуазного общества без политической свободы: очень скоро логика событий заставила само правительство Александра II выполнить эту программу. А наиболее нелепый, «олигархический» — по оценке императора — адрес Шидловского только наивно настаивал на том всероссийском дворянском собрании для решения крестьянского вопроса, которое тем же императором и было обещано. Зато адрес большинства — «восемнадцати» — не заключал в себе ровно ничего политического, да еще довольно значительное меньшинство уклонилось от подписания какого бы то ни было адреса… С такими «революционерами» нетрудно было справиться. Но у страха глаза велики: дабы избежать в России введения «представительного правления» через посредство дворянских комитетов, на минуту бросились в объятия той «буржуазии», с которой на экономической почве было для феодалов гораздо труднее столковаться. Плодом этого акта отчаяния и явились знаменитые «редакционные комиссии».
Для того, чтобы понять психологически этот зигзаг, описанный «руководившею» крестьянским делом феодальной группой, надо опять-таки припомнить постановку эмансипации при Николае I — на другой день 14 декабря. Дворянин забунтовал — его нужно взять в руки: одним из средств было обласкать крестьянина и оказать ему защиту против барского произвола. Николай Павлович, учреждая Третье отделение, одновременно напоминал помещикам об их обязанностях по отношению к крестьянам — «как христиан и верноподданных». Как только наверху заподозрили, что в проектах губернских комитетов могут быть «отступления вообще от духа государственных узаконений», сейчас же вспомнили, что ведь помещику нетрудно и обидеть беззащитного мужичка: «действительно ли улучшается» проектами комитетов «быт помещичьих крестьян, и в чем именно»? С помещиков велено было взять честное слово, что они заботятся в самом деле об интересах крестьян, а не своего кармана: это был грубый окрик, выражавший лишь настроение кричавшего и не имевший никакого практического значения
[76]. Но если бы окрик дошел до крестьянской массы, она, конечно, с приятностью почувствовала бы, как о ней заботятся. Еще раньше не прочь были внушить этой массе идею, что освобождение — дело личной инициативы государя: Кавелину показалось, что против оглашения этой части своего разговора с ним императрица ничего бы не имела. Строжайше запрещено было говорить о выкупе душ: свобода должна была явиться для крестьян подарком — и, конечно, не подарком господ. Венцом всего было решение взять всю реформу «в свои руки». Неблагонадежные комитеты могут там стряпать, что хотят: мы освободим крестьян сами. Но это оказалось не так просто. Помещики, заседавшие в комитетах, имели практическое знакомство с хозяйственными условиями деревни и могли предложить практические меры. Наверху смутно слышали, что есть какой-то надел, какая-то община, какая-то чересполосица: но самый доверенный агент власти, Ростовцев, чуть не накануне своего назначения в главные крестьянские благодетели, был убежден, что позеновский проект — идеал эмансипации; сравнительно, кн. Гагарин оказывался еще «глубоким экономом». Нужны были люди, которых можно было бы противопоставить комитетским крамольникам. Тут благонамеренная буржуазия типа Кавелина нашла свое призвание. Правда, ее главный литературный представитель был слишком скомпрометирован своею дружбой с Герценом и, кроме того, имел бестактность напечатать свою записку раньше, чем она удостоилась апробации: этого Александр II не мог ему простить. Но помимо него в том же лагере нашлось достаточно людей, которым можно было оказать доверие: они и составили проектированное Кавелиным учреждение, которое хотя и носило скромное название
редакционных комиссий, но, в сущности, было тем секретарем при знатном губернаторе, который имеет влияния гораздо больше, чем сам этот последний. Чтобы
читатель имел представление
о политической физиономии этого учреждения, мы позволим себе привести несколько выдержек из переписки его главных деятелей: наиболее талантливого члена-эксперта из помещиков, Юрия Самарина, и самого замечательного из представителей администрации в «комиссиях», Николая Милютина. Вот как характеризовал политическое положение первый из них в самом начале 60-х годов: «Теперь, как двести лет назад, на всей русской земле есть только две живые силы: личная власть наверху и сельская община на противоположном конце; но эти две силы вместо того, чтобы быть соединенными, разделены всеми посредствующими слоями. Эта нелепая среда, лишенная всяких корней в народе и в течение веков цеплявшаяся за вершину, начинает храбриться и дерзко хорохориться перед своей собственной, единственной опорой (доказательство — дворянские собрания, университеты, пресса и т. д.). Ее крикливые выходки напрасно пугают власть и раздражают массы. Власть отступает, делает уступку за уступкой без всякой пользы для общества, которое дразнит власть из удовольствия ее дразнить. Но это не может длиться долго, иначе нельзя избежать сближения двух полюсов — самодержавия и простонародья, — сближения, которое сметет и раздавит все, что находится в промежутке, — а в промежутке вся образованная Россия, вся наша культура. Хорошее будущее, нечего сказать!» Итак, не только радикалы (пресса), но и либералы (дворянские собрания) вели Россию не более и не менее как к культурной гибели. Единственной живой силой, как при царе Петре, оказывалось самодержавие. Можно себе представить, что испытывали люди этого типа, очутившись лицом к лицу с настоящей революцией. Как известно, после самой России, деятелям редакционных комиссий пришлось проводить крестьянскую реформу в Польше, в разгар восстания в 1863–1864 годах. «Ты не поверишь, — писал Н. Милютин жене из Варшавы (в ноябре 1863 года), — до чего политически развращены здесь все классы общества! Всюду ложь, лицемерие, низость, жестокость. Если больше не убивают на углах улиц, то это потому, что революционные комитеты отозвали в леса всех своих кинжальщиков, напуганных последними казнями. Что за общество, где можно чего-нибудь добиться только страхом!» «Низший класс населения — единственный, который может нас утешить и ободрить. Все остальное — дворянство, духовенство, евреи (и мелкая буржуазия, как видно из другого письма) — нам так враждебно и до такой степени развращено и деморализовано, что с теперешним поколением уже ничего не сделаешь. Страх — единственная узда для общества, в котором все моральные принципы перевернуты кверху ногами, так что ложь, лицемерие, грабеж, убийство возведены в доблесть и признаются актами героизма». Незараженные «развратом» крестьяне одни радовали своим веселым и доверчивым видом русских чиновников, явившихся возвестить им свободу (возвещенную, впрочем, уже раньше польским революционным правительством): «Женщины плакали и обнимали наши колени». Но поездку освободителей к освобождаемым опять стоит описать словами самого Милютина. «В ночь с субботы на воскресенье я отправился по Венской железной дороге с Самариным и Черкасским… На заре мы пересели в две открытые коляски и отправились в галоп, эскортируемые полуэскадроном улан и полусотней линейных казаков. Весь день, с восьми часов утра до шести вечера, мы ездили из деревни в деревню и из местечка в местечко, останавливаясь всюду, чтобы расспрашивать и осматривать, пугать войтов и бурмистров и знакомиться с народом (с которым они могли объясняться, как видно из другого места письма, только при помощи переводчика)… Вся местность, по которой мы ездили, охвачена восстанием. В местечках кишит население, из которого формируются банды. Мы посетили немецкие колонии, где эти «хищники», как называют их наши казаки, убили нескольких земледельцев… Нам удалось завязать сношения с народом (через переводчика, не забудьте этого…), и это привело нас всех в хорошее настроение и придало нам бодрости. Военное начальство принимало нас с распростертыми объятиями. Что касается солдат, не говоря уже о линейных казаках, которые привели нас в восторг своим мужеством, понятливостью и ловкостью, мы были поражены неистощимой веселостью и смелостью всех войск без исключения…». Возвращался в Варшаву Милютин уже под конвоем не казаков и уланов, а стрелков, которые «все время не переставали дурачиться и петь «пойдем Польшу покорять» и другие подобные песни, так что обратное путешествие совершилось самым веселым образом».
Итак, кроме крестьян, припадавших к ногам своих освободителей (один бог знает, чем больше был вызван этот почтительный жест — ласковыми ли словами, которые слышали крестьяне из уст переводчика, или внушительным видом уланских пик и казацких нагаек), последние нашли в Польше еще одно «отрадное явление»: то были усмирившие «хищников» солдаты. Помимо почтительных крестьян и бравых солдат, все остальное население Польши состояло из до мозга костей развращенных представителей «латинской и шляхетской культуры», совершавших «убийства» (то есть, террористические акты) и «грабежи» (по-современному — экспроприации), причем все это с крайней степенью «лицемерия», то есть весьма конспиративно и без всякого стремления поговорить «по душе» с представителями русского правительства, не решавшимися даже на прогулку выйти из стен Брюлевского дворца, где они жили. Читателю, несколько знакомому с историей восстания 1863–1864 годов, эта психология, вероятно, напомнила уже одну из крупнейших фигур, выдвинутых на арену битвы с русской стороны: читая излияния Милютина, невольно вспоминаешь М. Н. Муравьева. И действительно, эти два человека, казавшиеся еще вчера, в разгар русской реформы, непримиримыми антагонистами, на поле сражения с революцией живо поняли друг друга. Тотчас же по приезде в Вильну Милютин провел с Муравьевым «почти целый день». «Наше свидание и наши объяснения имели самый сердечный характер. Мы даже коснулись прошлого (т. е. споров перед 19 февраля) — и оказались совершенно согласны. Вообще все, что он мне сказал, было очень разумно и для меня поучительно. Помимо ясного понимания людей и вещей, которые его окружают, он действительно обладает замечательными административными способностями. В энергии также у него нет недостатка, но я был поражен в нем каким-то оттенком печали, которого я не замечал у него прежде, и который объясняется постоянным нервным напряжением. По его словам, в течение шести месяцев казнено сорок восемь человек». Само собою разумеется, что Милютин эти казни одобряет — потому что они ведь предупредили еще большее кровопролитие — и удивляется на европейскую печать, находившую образ действий Муравьева негуманным. Но у него очень скоро оказались точки соприкосновения не с одним Муравьевым, а и со всей «камарильей», еще вчера только выжившей Милютина из Министерства внутренних дел. «В прошлую субботу император собрал несколько человек и ясно выразил перед ними свое одобрение общей программе, изложенной в нашем рапорте, — писал Милютин Самарину уже из Петербурга, в январе 1864 года. — Оппозиция замерла. Один князь Горчаков (министр иностранных дел) делал оговорки…
Князь Гагарин поддерживает нас самым энергическим образом. Чевкин тоже… Гр. Панин (другой вчерашний враг Милютина, бывший председатель «редакционных комиссий»), несмотря на легкий оппозиционный оттенок, был чрезвычайно мил и любезен. Словом, все прошло так хорошо, как только возможно». По старой памяти, Милютин еще высказывает дальше некоторый скептицизм, — но он был совершенно напрасен: на
политической почве ему и его вчерашним врагам было нечего делить, а разделивший их ранее
экономический вопрос теперь не играл роли, ибо дело шло не о русских помещиках, а о польских, только что учинивших революцию
[77].
Мы привели все эти выписки, конечно, не для того, чтобы очернить перед читателями «честного кузнеца-гражданина»: в полной его искренности не может быть ни малейшего сомнения. И эти письма носят все совершенно интимный характер — в них Милютин отразился с фотографической подлинностью. В борьбе с «конституционными вожделениями» камарилья могла на него положиться. А так как зимою 1858/59 года политический момент неожиданно опять выдвинулся на первый план, то феодальная камарилья просто не сообразила, что, отдавая дело в руки Милютина и его товарищей из буржуазной группы, она сажает себе на спину своих
экономических противников. Когда феодалы понемногу поняли это, — особенно должно было стать это ясно после того, как «редакционные комиссии» выжили из своей среды представителей феодальной группы, кн. Паскевича и гр. Шувалова, и обнаружилось, что даже Позен не имеет в комиссиях никакого влияния, — когда, с другой стороны, встретившись лицом к лицу с дворянскими «революционерами», они убедились в полной безобидности огромного большинства этих последних, — камарилья поспешила дать задний ход: дело снова было взято, с самой грубой бесцеремонностью, из рук милютинского кружка и снова забрано было в надежные феодальные руки. Будь камарилья и губернские комитеты
экономически солидарны между собою, реформа, несмотря на все усилия Милютина, все же прошла бы по гагаринскому типу: ее спасло то, что и в комитетах было множество сторонников буржуазной программы из чрезвычайно видных деятелей, притом начиная с Кошелева и Унковского. Работу редакционных комиссий спас как раз тот элемент, к которому эти комиссии относились с таким недоверием.
Пока дело «освобождения» крестьян было в руках комитетов, Милютин относился к его возможному исходу с чрезвычайным скептицизмом. «В каких теперь все это руках? — писал он в начале 1858 года своему дяде, знакомому нам гр. П. Д. Киселеву. — Что за бессмыслие и неурядица! Горестно вспомнить, как творится такое трудное и важное дело. Дворянство, корыстное, неподготовленное, неразвитое, предоставлено собственным силам. Не могу себе представить, что выйдет из этого без руководства и направления при самой грубой оппозиции высших сановников, при интригах и недобросовестности исполнителей». Всеспасающая «общественная инициатива» не внушала, таким образом, приятелю Кавелина никакого доверия: единственной силой, от которой он чего-либо ждал, была личная власть. «Нельзя не изумляться редкой твердости государя, который
один обуздывает настоящую реакцию и силу инерции». Можно подумать, что с переходом эмансипации под просвещенное руководство и направление кавелинс-кого кружка все пошло совершенно иначе. Мы не можем судить, правда, что сделал бы сам Кавелин (если не считать того, что в своем собственном имении он впоследствии использовал все «поправки», внесенные в реформу кн. Гагариным): в редакционные комиссии» его не пустили. Благодаря этому руководящая теоретическая роль в комиссиях досталась славянофилам — главным образом Ю. Ф. Самарину: так, по крайней мере, утверждало тогдашнее общественное мнение. Но для того, чтобы померк тот ореол, которым доселе окружена деятельность редакционных комиссий на страницах либеральной публицистики, нет ни малейшей надобности пускаться в теоретический анализ их трудов. Им была дана практическая директива, позволявшая, казалось бы, сделать из реформы настоящее освобождение крестьян, без кавычек. Вырванный у феодальной группы знакомым нам припадком паники журнал Главного комитета 4 декабря 1858 года ставил задачей нового курса предоставить бывшим крепостным
«право свободных сословий», лично, по имуществу и по праву жалобы — признавая в то же время необходимость «стараться,
чтобы крестьяне постепенно делались земельными собственниками». Шли ли комиссии неуклонно в этом — не разрешенном, а формально предписанном им — направлении: создания в России класса свободных мелких земельных собственников? Весьма осторожно и с большими зигзагами. В основу юридической характеристики нового «свободного сословия» комиссии положили — как это ни покажется странным — старомосковскую идею «тягла», ту самую идею, что лежала в основе крепостного права. «На основании действующих законов, — рассуждали комиссии, — все свободные сословия, несмотря на различие прав, предоставленных им в составе обществ, пользуются полною друг от друга независимостью. Все они, от высших до низших, непосредственно
тянут (по выразительному юридическому термину нашего древнего законодательства) к живому средоточию государственного устройства, олицетворяющему собою единство Русской земли и единство правящей ею верховной власти». Можно было бы спросить редакционные комиссии, в чем же заключалось в 1860 году «тягло» не только дворян, но хотя бы купцов или городского мещанства? К середине XIX века «тяглыми» оставались только крестьяне, — реформа юридически в том и состояла, чтобы сравнять их с остальными обывателями; но для редакционных комиссий такой шаг был слишком резким и радикальным. Для крестьян были сохранены сословные учреждения — волостное правление и волостной суд; а в руках этих учреждений и старый аппарат воздействия на новых «государевых тяглецов»: розги. Целый ряд губернских комитетов, притом вовсе не особенно буржуазных (как московский, например) оказался в этом отношении левее друзей Кавелина, категорически настаивая на отмене телесных наказаний. Так было со «свободой»; в том же роде шло дело и с «земельной собственностью». Кавелинского принципа — сохранения в руках крестьян
всей земли, какою они пользовались в момент освобождения, ибо было совершенно ясно, как увидим далее, что и она могла служить
лишь минимальным обеспечением выкупных платежей, — этого принципа комиссии провести до конца не сумели. Еще в первом периоде своей деятельности, до столкновения с представителями губернских комитетов, комиссии, в заседании 20 июня 1859 года, значительным большинством высказались за
отрезку, т. е. за принципиальное право помещика уменьшать в известных случаях надел своих крестьян при освобождении. Они утешали себя тем, что случаи эти должны были оставаться
исключительными; но во
втором периоде деятельности комиссий, после их столкновения с губернскими комитетами (в августе — октябре 1859 года), и это утешение оказалось призрачным. По установленным комиссиями, под давлением комитетов, нормам максимального надела отрезка по целому ряду черноземных уездов должна была коснуться трети, половины, местами даже большинства имений (в отдельных случаях до 80 %!): «исключение» оказывалось распространеннее правила. Комиссии утешали себя еще тем, что зато оценили они отходящую к крестьянам землю дешевле, чем помещики. Но, во-первых, разница не так уж велика: курский комитет, например, желал получить за надел 80–93 р., комиссии оценили его в 64–81 р.; калужский — от 100 до 150, комиссии от 111–120; московский — от 160 до 179, комиссии от 76 до 120. Кроме Москвы столкновение было довольно решительным в Ярославле: ярославские дворяне (очень либеральные, как мы видели) желали получить за мужицкую землю от 196 до 270 р., комиссии не давали больше 75—166 р. Зато в ряде случаев оценки комитетов и комиссий сходятся чрезвычайно близко: в Тульской губернии 69—137 р. (комитет) и 66 — 139 р. (комиссии); в Харьковской — 96 р. (комитет) и 71—101 р. (комиссии)
[78]. Но все эти арифметические подвиги стушевываются перед тем фактом, что принцип оценки крестьянской земли
выше ее действительной стоимости, т. е. замаскированный выкуп личности вполне признавали и комиссии. «При уступке земель крестьянам в собственность за выкуп, — писали они, — помещик лишится… дохода, а потому и должен получить соразмерное вознаграждение. Отсюда вытекает необходимость определить высший размер выкупной суммы не оценкою выкупаемых угодий, а суммою постоянного дохода или денежного оброка, установленного на основании Положения.
Не подлежит сомнению, что доход этот во многих случаях будет превышать действительную стоимость поземельных угодий, так как для определения размера крестьянских оброков редакционные комиссии приняли за исходную точку не поземельную ренту, а нынешние повинности, установившиеся под влиянием крепостного права».
Если прибавить, что и в вопросе о самом
выкупе была сделана крупная уступка феодальной стороне, выкуп был сделан комиссиями обязательным для
крестьян, но не для помещика, — от его воли зависело, пустить землю в своем имении на выкуп или нет, — то позиция комиссий как
промежуточная между феодальной и буржуазной группами обрисуется перед нами с полной отчетливостью. Всероссийское дворянское собрание, о котором мечтали помещики, вероятно, дало бы точно такую же картину компромисса, — ибо ни освобождение вовсе без земли, ни с чересчур малым земельным наделом вовсе не отвечало выгодам всех или даже большинства дворян. Быть может, крестьяне из рук этого собрания вышли бы еще меньше землевладельцами, но зато по части свободы они, пожалуй, выиграли бы: проекты комитетов были ближе к буржуазном отношениям в деревне и дальше от идеи старомосковского «тягла», нежели крестьянское самоуправление по проектам комиссий. Кроме того, непосредственное столкновение с феодалами без всякого промежуточного буфера, вне сомнений, подвинуло бы еще влево буржуазно настроенную часть помещиков: редакционные же комиссии ближайшим образом достигли лишь того, что этой буржуазной части был просто зажат рот. Ибо весьма склонный к компромиссам в экономической области, по части «свободы» Милютин был неумолим: именно он, вопреки даже мнению значительной части членов комиссий, в том числе Самарина, настаивал на том, чтобы депутатам от комитетов, съехавшимся в Петербург в августе 1859 года, не давать никакого голоса в решении дела, даже не разговаривать с ними по существу, а ограничиться формальным отобранием у них справок по нескольким второстепенным вопросам. При таких условиях депутатам ничего не оставалось, как апеллировать через голову комиссий к «правительству», т. е. к феодальной камарилье. Насколько усиливалась этим позиция последней, нетрудно оценить, если вспомнить, что среди этих «депутатов первого призыва» были такие люди, как Кошелев и Унковский. Дальнейшим следствием было то, что в самих комитетах окрепло феодальное течение, и депутаты «второго приглашения» довольно единодушно стремились уже к обезземелению крестьян. Милютин, конечно, не хотел быть орудием камарильи, но роль такого орудия он, помимо своей воли и сознания, все же сыграл. Положение сильнее человека — и нельзя делать людей свободными при помощи абсолютизма.
Если члены комиссий не сознавали логики своего положения вначале, они должны были понять ее, увидав, как кончилось дело. Едва комиссии кончили заданную им работу: собрали нужное количество экономического и юридического материала, выработали технику реформы и обуздали крамольные комитеты, как от них поспешили отделаться с невероятной бесцеремонностью: 10 октября 1860 года они были закрыты почти экспромтом, и
ни один из их членов не был допущен в то учреждение, где должен был решиться вопрос, — в Главный комитет по крестьянскому делу, преобразованный из знакомого нам «секретного» комитета и, в сущности, тоже «секретный», ибо его прения составляли тайну для всех, не исключая и бывших членов комиссий… Милютин и его товарищи должны были частным путем разузнавать, что делают с проектом, куда они вложили всю душу. Принципиальной борьбы с этим проектом заседавшему в Главном комитете феодальному синклиту, впрочем, не пришлось вести: комиссии предупредительно оставили все нужные «крепостникам» лазейки. Только Панин, внук усмирителя пугачевщины, министр юстиции Николая I и бывший, после смерти Ростовцева, председатель редакционных комиссий (еще более номинальный председатель, впрочем, чем был Ростовцев) еще немного покромсал крестьянские наделы — где на полдесятины, где на четверть. Да кн. Гагарин вбил последний гвоздь, проведя право помещиков освобождать крестьян почти без земли — с одной четвертью надела. В дальнейшем и Главный комитет и сыгравший роль чисто формальной инстанции Государственный совет остались на почве проекта комиссий. Благодаря тому, что эти последние поставили
выкуп, т. е. окончательную ликвидацию отношений между барином и его бывшими крепостными, в зависимость от согласия помещика, в «Положении от 19 февраля» оказались узаконенными сразу
оба типа «освобождения»: николаевский, по которому крестьяне оставались «обязанными» (как по закону от 1842 года), и более новый, — буржуазный, делавший из крестьян на бумаге «свободных мелких земельных собственников». И те, и другие оставались, конечно, одинаково привязанными к месту, ибо сохранена была круговая порука в деле уплаты податей и повинностей, и крестьянин не мог уйти из деревни без согласия «мира», а мир имел все побуждения его не выпускать. Но зато помещик был совершенно не связан в выборе системы хозяйства, — он мог вести его по-новому, наемными работниками, или по-старому, оброком либо барщиной.
Ликвидация крепостного хозяйства, таким образом,
была всецело предоставлена инициативе землевладельцев; этого не нужно забывать, когда мы слышим, что крепостное право было отменено «сверху». Право — да; хозяйство — нет. Относительно хозяйства был устроен своего рода плебисцит между помещиками: и вот какие результаты дал этот плебисцит. К 1 мая 1864 года «Положение от 19 февраля» было введено во всех — или почти во всех — имениях европейской России. Из 109 758 имений с 9 765 925 душами крестьян остались на «обязанном» положении: 75 412 имений с 5 300 000 душами.
Перешли на выкуп или воспользовались гагаринской оговоркой о четвертном (дарственном) наделе: 34 301 имение с 4 465 739 душами.
Для того чтобы правильно оценить эти цифры
[79], надобно принять в соображение, с одной стороны, что в западных губерниях после польского восстания 1863 года выкуп был сделан
обязательным (во всей России он стал обязательным только в 1881 году). С другой стороны, что для владельцев
оброчных имений (составлявших около 1/3 общего числа), вообще менее других заинтересованных в ликвидации крепостного права, было создано лишнее побуждение отложить эту ликвидацию, в виде обещания
пересмотра — само собою разумеется, повышения — крестьянского оброка через 20 лет. Кто стал бы резать курицу, которая могла еще снести золотое яйцо? Произведя соответствующие вычеты, мы увидим, что за «свободный труд» высказалось немедленно же после реформы до
половины помещиков. Это дает нам мерку распространенности «манчестерских» взглядов среди тогдашнего дворянства.
Сохранение «обязанных» отношений, буде того пожелает помещик, послужило главным источником «недоразумений» при проведении реформы на местах: Киселев воочию мог убедиться, к какому хаосу привел бы сочиненный им при Николае план освобождения крестьян, если бы он осуществился. Система выкупных платежей (детальнее мы коснемся ее в следующей главе) была так сложна, что не одним крестьянам не сразу было догадаться о действительном их значении: скрывающемся за выкупом земли выкупе личности. Но быть от царя объявленным свободным человеком и в то же время продолжать ходить на барщину или платить оброк это было вопиющее противоречие, бросавшееся в глаза. «Обязанные» крестьяне твердо верили, что эта воля — не настоящая: придет «слушный час», и тогда сам царь (а не помещики, чиновники и попы) объявит настоящую волю. Единственным средством убедить крестьян, что «Положение от 19 февраля» и есть настоящая воля, были
розги. Посланный в Калужскую губернию генерал Казнаков (реформа проводилась при помощи высочайше командированных на места генералов и флигель-адъютантов — отголосок неосуществив-шегося проекта о генерал-губернаторах) доносил, что он «против своего убеждения и даже без надежды на успех решился на испытание розог, и, к счастью и удивлению его, достаточно было не страшного числа ударов, а легкого наказания в пределах, ниже дозволенных законом даже полицейско-исправительной власти, для преодоления непонятного до того упорства крестьян». Никогда так много не секли, по словам современников, как в первые три месяца после объявления «воли»: и у крестьян даже сложилось убеждение, что в самом «Положений» есть статья, предписывающая пороть всякого мужика, осмелившегося это «Положение» прочесть. Но не всегда и розог оказывалось достаточно: за два года составления «уставных грамот» в 2115 селениях пришлось применять военную силу, причем временами доходило до настоящих военных действий, с десятками убитых и раненых — со стороны крестьян, разумеется. И тем не менее из 97 539 уставных грамот 45 825 было не подписано крестьянами: почти
половина их отказалась от «свободного труда» в той форме, в какой он был предложен манифестом от 19 февраля 1861 года.

Глава XV
Шестидесятые годы

Пореформенная экономика
Экономическая статистика ♦ Основные черты политического строя остались неизменными в 60—70-х годах ♦ Крестьянский надел — принудительная собственность
«Удача» или «неудача» крестьянской реформы всецело зависела от того, удержится или не удержится экономическая конъюнктура, на почве которой созрела среди помещиков сама идея реформы. Ибо не нужно забывать, что если теоретически преимущества «свободного труда» были демонстрированы еще в 60-х годах предшествующего века, если правительство по тем или иным побуждениям носилось с планами «освобождения» уже в первые годы XIX столетия, то хозяева-практики согласились на реформу лишь к 40-м годам, даже к концу их, а разговоры о реформе, пока не было на нее согласия непосредственных владельцев крепостного труда, были простым сотрясением воздуха. Обманул или не обманул ожидания русских дворян «свободный труд»? Наиболее заинтересованные лица — сами дворяне — в 80-х годах прошлого века отвечали на это утвердительно. О том, что дворянство что-то «потеряло» от реформы, можно было прочесть даже в очень благонамеренных исторических книжках, вышедших в последние годы XIX столетия. Художественная литература, толкуя об «оскудении», якобы постигшем российского помещика после «воли», вторила этим утверждениям. Действительное оскудение эпохи Александра III отбросило мрачную тень на двадцать лет назад. Коротка память у людей, и свежая беда заставляет их забывать долгие годы предшествовавшего этой беде благополучия.
Если мы от колеблющихся настроений перейдем к твердым объективным данным, от психологии к статистике, мы сразу увидим, когда началось «оскудение», и можно ли говорить о нем для двух десятилетий, непосредственно следовавших за 19 февраля 1861 года. Мы видели, что крестьянская «свобода» была прямым ответом на высокие хлебные цены, установившиеся в Западной Европе с 40-х годов, а международный хлебный рынок уже тогда командовал более тесным и узким русским рынком. Сравните два ряда нижеследующих цифр — и оскудение, настоящее оскудение станет перед вами со всей рельефностью, можно сказать, автоматически отмечая свою действительную хронологическую дату.

Это конечные результаты: беда уже пришла. Она подбиралась постепенно, и та же статистика дает нам возможность заметить ее приближение издалека. Если, как мы это делали раньше, мы примем хлебные цены 20-х годов XIX века за 100, мы получим такие соотношения:
Годы — Пшеница — Рожь
1861–1870 — 168,20 — 177,80
1871–1880 — 181,38 — 191,03
1881–1884 — 159,97 — 179,31
Цены стали падать только с начала 80-х годов: с конца 50-х годов и до этого времени они, хотя и с колебаниями, все время поднимались
[80]. Увеличивался, разумеется, и русский хлебный вывоз:
Годы — Тысячи четвертей
1848–1850 — 3896
1851–1853 — 7569
1857–1862 — 8780
1860–1862 — 8859
1863–1865 — 8708
1866–1868 — 13 154
1869–1871 — 18 154
1872–1874 — 21 080
Если мы примем вывоз последнего трехлетия (1857–1859) перед 19 февраля за 100, вывоз трехлетия 1872–1874 годов выразится цифрой 240
[81]. Еще два года спустя, к 1876 году, эта цифра дошла до 287, — пореформенный вывоз увеличился сравнительно с дореформенным почти втрое за 15 лет.
Но, скажет читатель, что же тут удивительного? За эти пятнадцать лет Россия покрылась сетью железных дорог, подвоз хлеба к портам стал во много раз удобнее и дешевле, — возможно, что такие же результаты были бы достигнуты и при крепостном праве. Действительно, из 26 миллионов четвертей хлеба, вывезенного за границу в 1874 году, 17 миллионов было доставлено по железной дороге, и лишь 9 — водными путями или на лошадях, почти те же 9 миллионов четвертей вывозились ежегодно и в 1859–1861 годах, когда железных дорог в России почти еще не было. И тем не менее результаты не могли бы быть такими же, потому что хлеба для вывоза в распоряжении населения было бы меньше. Манчестерское предположение помещиков о большей доходности «вольного» труда оправдывается статистическими данными в такой же мере, в какой ими опровергается упадок русского сельского хозяйства после реформы. Для проверки манчестерского предрассудка у нас имеются два ряда цифр. Во-первых, имеются данные
об урожайности в различных губерниях России до и после реформы. Данные неполные и, может быть, не вполне точные, но так как точность их всюду нарушена в одном направлении, в сторону излишнего оптимизма, то неточность абсолютных цифр не мешает отношениям быть весьма поучительными. После освобождения крестьян земля стала родить больше, это не подлежит сомнению:
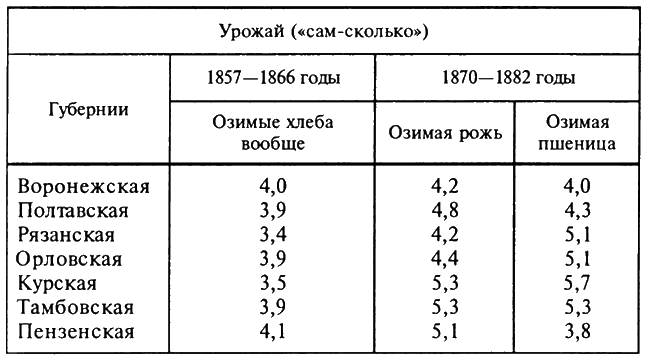
Урожайность
ржи повысилась
везде, урожайность пшеницы понизилась в одной Пензенской губернии, да в Воронежской осталась на прежнем уровне: и это — чрезвычайно характерное обстоятельство. Пшеница — барский хлеб, рожь — мужицкий; на крестьянских землях пшеницей была засеяна, считая на всю Россию, лишь 1/5 общей площади, рожью — 4/5, тогда как на помещичьих землях под пшеницею 1/3 и под рожью 2/3. Причем крестьянские посевы пшеницы уже в 80-х годах все уменьшались и уменьшались
[82]. Рост урожайности «мужицкого» хлеба при всем известной застойности крестьянской земледельческой техники за этот период может быть отнесен исключительно на счет производительности
труда, в самом тесном и прямом значении этого слова. Земля стала родить больше, когда с нее сняли барщину. И, несмотря на быстрый в России рост населения, хлеба на каждую душу стало оставаться больше:
 Чистый остаток
Чистый остаток в руках населения увеличился; таким образом, увеличилось и количество хлеба, которое могло быть вывезено за границу. Мы нарочно сохранили и третий столбец таблички, выходящей за хронологические пределы наших наблюдений: он намечает не только
время, но и
место начинавшегося оскудения. Раньше всего встал старый земледельческий центр; «колонии» удержались лучше
[83].
Итак, «манчестерцы» оказались правы: земледельческий труд в России стал производительнее с тех пор, как он стал «свободным», хотя бы и в кавычках. Что было бы, если бы он стал свободным в подлинном смысле слова, мы с трудом можем себе представить. Но это были бы праздные мечтания: вернемся к реальности. Наряду с предрассудком насчет оскудения помещиков непосредственно после реформы и благодаря ей, прочно живет и другой, гласящий, что «манчестерцы», наговорив либеральных фраз, под шумок все-таки сохранили старую барщину — в виде знаменитых
отработков. «Отрезав» у крестьян, по «Положению от 19 февраля», земли, для тех абсолютно необходимые, — луга, выгоны, даже места для прогона скота к водопою, — помещики заставляли их арендовать эти земли не иначе, как
под работу, с обязательством вспахать, засеять и сжать на помещика определенное количество десятин. Что на таких началах велось помещичье хозяйство нечерноземной полосы в 70-х годах, это категорически подтверждает Энгельгардт (его «Письма из деревни», как известно, — единственный в своем роде памятник экономической истории России в пореформенную эпоху). Он говорит, что когда он сел на землю и начал хозяйничать, ни один разумный помещик в его округе (и он сам в том числе) не сдавал крестьянам «отрезков» за деньги. Многие жили только «отрезками»; один хвастал, что его отрезки охватывают, как кольцом, 18 деревень, которые все у него в кабале; едва приехавший арендатор-немец в качестве одного из первых русских слов запоминал atreski и, арендуя имение, прежде всего справлялся, есть ли в нем эта драгоценность. Но работа крестьян за арендуемую у барина землю — это, говорят, та же барщина: где уцелели отработки, там сохранилось по-прежнему барщинное хозяйство. Однако, во-первых, это не одно и то же, — хотя повод к смешению и подал такой авторитет, как Маркс, рассматривающий отработки и барщину как две разновидности одного типа хозяйства. На самом деле это два разных типа, и Маркс в другом месте указал совершенно правильный принцип различения этих двух типов, установив разницу
экономического и
внеэкономического принуждения. Крепостные крестьяне юридически были обязаны отбывать барщину, — экономически они вовсе не были к этому вынуждены; хотя теоретически надел барщинного крестьянина и может рассматриваться как обеспечение его барщинной повинности, но на практике в русском крепостном имении он обеспечивал вовсе не ее, а повинности крестьянина перед казной, подати (которые иначе помещик вынужден был бы платить из своего кармана). Едва ли можно указать случай, чтобы у крестьянской семьи был отобран надел, т. е. чтобы крестьянское хозяйство было разорено из-за того, что члены данной семьи плохо работали на барщине: применивший такую «меру взыскания» помещик вполне уподобился бы высекшей самое себя унтер-офицерше. За плохую барщину можно было сменить большака, что и делалось, отдать семью под надзор другой, более исправной, взыскать со всей общины, наконец, по круговой поруке; но если помещик иногда обезземеливал крестьян, он делал это вне всякой связи с тем, исправны или не исправны они на барщине. С отработками дело обстояло совершенно иначе. Юридически крестьянин вовсе не обязан был снимать отрезки у барина и за то на него работать; но без отрезков он не мог вести своего крестьянского хозяйства; в силу этого
отработки являлись для него экономической необходимостью. В сущности, все равно, что заставляет человека продавать свой труд, и если не все равно, что он за этот труд получает, то
тут именно разница
видовая, а не
родовая. Отработочный крестьянин, батрак с наделом, сельский пролетарий — это три последовательные ступени развития наемного труда в земледелии. Причем даже и настоящий наемный работник может получать свою плату — или часть ее — не деньгами, а натурой. Блестящим примером этого является скотник Энгельгардта
[84].
Отработочное хозяйство — не простая маскировка крепостного: это, экономически,
хозяйство полубуржуазное. И очень характерно, что двадцать пять лет после реформы даже это полубуржуазное хозяйство в России не являлось уже правилом. Поданным 1883–1887 годов, все губернии России можно было разделить на три такие группы:

Но сюда входят данные и о
мелкопоместном хозяйстве, лучше всего консервировавшем остатки крепостного права. Если мы возьмем пример с одними
средними или
крупными имениями, преобладание капиталистической системы станет еще рельефнее. Цитируемый нами автор приводит 4 уезда Курской губернии, где наемный труд применялся так:

Таким образом, только ничтожное меньшинство крупных имений держалось здесь отработочной системы — и решительное большинство средних также перешло уже к наемному труду
[85].
Крупное землевладение в черноземной
полосе оказывалось наиболее буржуазным: наблюдение, важность которого мы оценим, если вспомним, что
большая часть дворянской земли была в руках крупных собственников. По данным середины 70-х годов, только
одна четырнадцатая дворянской земли принадлежала помещикам, имевшим менее 100 десятин на черноземе и менее 500 десятин в нечерноземной полосе, т. е. бывшим мелкопоместным: а сами эти помещики составляли
более трех четвертей (76,5 %) всей массы дворян-землевладельцев (90 225 из 1,14 716). Зато 10 % дворян, имевших каждый более 1000 десятин земли, владели
тремя четвертями всей площади (74,5 %). В руках среднего землевладения (100–500 десят. на черноземе и 500—1000 на суглинке) было 20 % всей земли
[86]. Сопоставление этих цифр дает ключ к целому ряду политических и экономических явлений эпохи реформ. Во-первых, мы начинаем понимать, почему знать так же прочно держала бразды правления в своих руках после 19 февраля, как и при Николае Павловиче: экономически это была сильнейшая часть дворянства, притом очень сильнейшая. Это еще более подчеркивается распределением земельной собственности между отдельными группами самих крупных землевладельцев: из общей массы принадлежавшей им земли (55 миллионов десятин)
три пятых (32 миллиона) принадлежало
крупнейшим собственникам, владевшим более 5000 десятин на каждого.
Совершенно понятно, почему, несмотря на все «реформы», основные черты политического строя остались у нас неизменными и в 60—70-х годах; земельные магнаты, еще в первой четверти столетия имевшие случай убедиться в крамольности среднего землевладения, цепко держались за абсолютную монархию, для них непосредственно, в конце концов, наиболее выгодную. Напротив, для этого среднего дворянства, составлявшего незначительное меньшинство в своем сословии, крайне трудно было провести свою политическую программу, не опираясь на другие общественные слои: в 60-х годах повторялось то же, что было и 14 декабря. Ближайшим союзником опять могла бы быть буржуазия. Но буржуазия торгово-промышленная при Александре II, как и при Николае I, по-прежнему продолжала обнаруживать высшую степень благонамеренности: мы увидим, дальше, что ей «сильная власть» была как нельзя более необходима в это время. Буржуазия же аграрная, юридически появившаяся у нас при Александре I, но начавшая играть некоторую социальную роль лишь после 19 февраля, развивалась очень туго. К числу обычных признаков «оскудения» причисляется всегда и массовый переход барских усадеб в руки колупаевых и разуваевых: на утрированность этой картины обращали внимание уже в 90-х годах. Процент дворянских земель, перешедших в недворянские руки за тридцать лет после «освобождения», правда, довольно значителен: из 79 миллионов десятин, считавшихся за дворянами перед 1861 годом, убыло к 1895 году 28 миллионов — более 35 %. Но, во-первых, почти половина этого количества (до 12V
2 миллиона дес.) перешла в руки крестьян, непосредственно — не считая той земли, которая была перепродана крестьянам же маклаками-скупщиками. Притом с течением времени крестьянские приобретения все более и более росли на счет купеческих, которые приходится считать основным типом буржуазных, хотя, конечно, «купец» и «буржуа» — не одно и то же. Крестьянские и купеческие покупки распределяются по десятилетиям так:
В среднем покупалось ежегодно:
1863–1872 — 1873–1882 — 1883–1892 годы
крестьянами
155 тыс. — 340 тыс. — 550 тыс. десят.
купцами
400 тыс. — 380 тыс. — 172 тыс. десят.
Рост буржуазного землевладения на счет дворянского, и без того не быстрый, шел не ускоряясь, а замедляясь
[87]. Причины — с 80-х годов особенно создание Крестьянского банка, вздувшего цены на землю, — мы увидим в своем месте. Сейчас для нас важен самый факт. Далее,
географически буржуазное землевладение в России распределялось далеко не равномерно. По той же статистике середины семидесятых годов, купеческое землевладение было распространено в губерниях, во-первых, промышленных (Владимирская — 27,4 %, Московская — 19,4 %, Костромская —18,8 %), во-вторых, нижневолжских и новороссийских (Самарская — 20,2 %, Саратовская — 15,2 %. Таврическая — 17,8 %, Бессарабская —17,9 %, Херсонская — 12,9 %), т. е. в «колониях», которые были гнездом буржуазного землевладения отчасти и раньше 19 февраля (Саратовская и Таврическая губернии). В «метрополии» дворяне цепко держали земли в своих руках, — процент купеческих имений на черноземе значителен только в Тамбовской губернии (15,4), в остальных черноземных губерниях мы встречаем от 4 до 9 % купеческой земли на 65–90 % дворянской. А масса скупленных и разоренных Колупаевыми усадеб? У нас нет под руками данных о количестве экспроприированных помещиков, но вполне можно допустить, что их было много. Только разорялись преимущественно мелкие землевладельцы-дворяне: крупное землевладение оказывалось и более прогрессивным и наиболее устойчивым в то же время, — одно тесно связано с другим.
Перевес крупной дворянской собственности над имениями среднего размера дает нам ключ и к исходу крестьянской реформы. Как бы ни была слаба феодальная программа теоретически, как бы ни были невежественны и отсталы ее выразители, их экономическое могущество обеспечивало им всю ту долю победы, какая была совместима с объективными условиями: ибо, не нужно этого забывать, безземельное освобождение крестьян грозило разорением всем нечерноземным помещикам, а в их среде было достаточно и очень крупных землевладельцев. Зато на черноземе (по вычислениям г. Лосицкого) было отрезано у крестьян до 30 % надельной земли: и так
как четверть надела готовы были отдать своим мужикам и феодалы, — поправка кн. Гагарина, — то последние уступили фактически меньше чем наполовину (70 % — 25 %=45 %: эта цифра и выражает арифметически долю уступки феодалов на черноземе). Мы видели при этом, что победа феодальной программы вовсе не выражала еще собою победы феодального типа хозяйства: напротив, феодалы скорее приспособились к буржуазной обстановке, чем мелкие землевладельцы. Статистика дает нам еще более парадоксальный вывод: «освобождение» по феодальному типу более способствовало развитию буржуазных отношений в деревне, чем реформа по типу буржуазному. Известные наблюдения г. Щербины над крестьянскими бюджетами (ограничивающиеся, к сожалению,
очень тесной площадью — в сущности, лишь несколькими уездами Воронежской губернии) дают некоторую возможность проследить развитие денежного хозяйства в крестьянской среде:

«Дарственник», «освобожденный» по гагаринскому проекту, вел хозяйство более «денежное», нежели щедрее его наделенный землею «собственник»: другими словами, первый был ближе к чистому пролетарию капиталистического общества, тогда как последний являлся промежуточною ступенью не между пролетарием и мелким собственником, как это было бы в условиях развитого буржуазного строя, а между пролетарием и крестьянином феодального типа, вместе с натуральным хозяйством сохранившим, конечно, и феодальную идеологию во всей ее неприкосновенности… Недаром еще Чернышевский задумывался над вопросом: не была ли бы полная победа феодальной программы — освобождение без земли — в конечном счете для крестьян выгоднее?
Но нет надобности поднимать общего вопроса: что было бы выгоднее для крестьян — оказаться совсем обезземеленными или получить надел? Достаточно присмотреться к условиям, какими обставлено было получение этого надела, чтобы нам стало ясно, что сделаться таким «собственником», во всяком случае, было менее выгодно, нежели просто стать пролетарием. Читатель, вероятно, еще хорошо помнит, какое значение придавалось крестьянскому наделу «буржуазной» программой: это было обеспечение не столько крестьянского хозяйства, сколько того долга, который ложился на «освобождаемого» крестьянина, выражая собою номинально стоимость «уступленной» помещиком крестьянину земли, а фактически — стоимость и самого «освобождаемого». Какая доля долга приходилась на землю, какая на душу, это мы теперь можем определить для всей крестьянской массы, с большой степенью арифметической точности. У г. Лосицкого мы находим такие данные
[88]:

В Западной России, где «освобождение» проводилось (М. Н. Муравьевым) на фоне революционной борьбы польского помещика с русским правительством, душу крестьянина, действительно, отняли у барина задаром. Но там, где помещик не бунтовал, он получил за душу изрядный куш: 162 миллиона рублей на суглинке и 58 миллионов на черноземе (где, не забудем этого, еще до 19 февраля крестьянская душа уже не стоила почти ни гроша). Редакционные комиссии, которые вполне сознательно, как мы помним, шли на эту операцию, прекрасно предвидели, что выплатить эту сумму из доходов с земли крестьянин, особенно в нечерноземной полосе, будет не в состоянии. Они уповали исключительно на сторонние заработки «освобождаемого»: «Нельзя сомневаться, — рассуждали комиссии, — что после выкупа,
при достаточной свободе располагать своею личностью, означенные крестьяне будут вносить исправно следующие с них выкупные платежи, которые по своей умеренности (!!) могут быть зарабатываемы ими без особых усилий». Что касается «умеренности» выкупных платежей, то достаточно сказать, что даже в черноземной полосе — где земля была оценена все-таки ближе к ее действительной стоимости — они составляли большую половину всех крестьянских платежей вообще (в Курской губернии, например, 56 %), т. е. превышали правительственные подати, никогда не отличавшиеся умеренностью. При сравнении черноземных губерний с нечерноземными получается в высшей степени любопытный вывод: выкупная оценка земли шла в порядке, обратно пропорциональном ее действительной стоимости:

1
[89]
Это не единственный пример «обратной пропорциональности», какой мы имеем в выкупной операции: не менее замечательной особенностью этой операции было то, что чем надел был меньше, тем он, относительно, стоил дороже. Так, при трехдесятинном максимальном наделе в черноземной полосе крестьянин платил по 40 р. за десятину; если его надел был меньше максимума и составлял лишь две десятины, то каждая обходилась ему уже в 43 р. 33 к., а за минимальный надел в 1 десятину он платил уже 53 р. 33 к. Это так называемая «градация», — честь ее изобретения принадлежит самому либеральному из губернских комитетов, тверскому: но изобретение было немедленно же с радостью адаптировано редакционными комиссиями. В самом деле, мужик хитер: если бы плату за его душу разложить поровну на все десятины надела, он мог бы нагреть барина, взяв минимальный надел. «Градация» парализовала мужицкую хитрость; плата за душу разлагалась на первые десятины надела — на то количество земли, без которого мужику никак нельзя было обойтись. Следующие десятины ценились уже почти нормально, — важно было получить деньги за самого «освобождаемого»; землей дворяне не маклачили…
Уже выкупные оценки сами по себе создавали из крестьянского надела такую «собственность», что Чернышевский (за три года до реформы! — так издалека были видны белые нитки, которыми сшивалось «освобождение»…) сравнивал ее с помещичьим имением, где проценты по закладной превышают доход земли. «Бывают случаи, — писал Чернышевский, — когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых поместьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением»
[90]. Но крестьянин находился в положении наследника, который не может, не имеет права отказаться от «наследства»: мы помним, что выкуп зависел от барина, а не от крестьян. Феодалы в период реформы очень издевались над тем, что буржуазная программа «заставляет крестьян быть землевладельцами»: насмешка не была лишена меткости. Крестьянский надел действительно являлся диковинным образчиком принудительной собственности: и чтобы «собственник» от нее не убежал, — чего, по обстоятельствам дела, вполне можно было ожидать, — пришлось поставить «освобождаемого» в такие юридические условия, которые очень напоминают состояние если не арестанта, то малолетнего или слабоумного, находящегося под опекой. Главнейшим из этих условий было пресловутое «мирское самоуправление» — красивое название, под которым скрывалась старая, как само русское государство, круговая порука. Фискально-полицейская роль «мира» отнюдь не была, как и многое другое, результатом какой-либо порчи «великой реформы» злодеями-крепостниками. Устроители крестьянского благополучия вполне сознательно относились к этому вопросу. «Общинное устройство теперь, в настоящую минуту, для России необходимо, — писал Александру II председатель редакционных комиссий Ростовцев, — народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика. Без мира помещик не собрал бы своих доходов ни оброком, ни трудом, а правительство — своих податей и повинностей». В силу этого принципа крестьянин был лишен права без согласия «мира» не только выходить из общины, но даже уходить из деревни на время: «мир» — вернее, зависевший от дворянского «мирового посредника» староста — мог не дать ему паспорта. Прикрепление к земле пережило у нас крепостное право — и вовсе не в качестве бессмысленного пережитка старины, а как необходимое звено именно в
буржуазном плане реформы. Доходами с крестьянского надела обеспечивались суммы, выданные правительством помещику: что получило бы правительство, а значит, что получили бы в конечном счете и помещики, если бы крестьяне бросили свои наделы по невыгодности их обработки? Но тут получался роковой круг: сами редакционные комиссии признавали, что доходов с надела недостанет на уплату выкупных платежей — и утешали себя надеждой, что крестьянину удастся приработать на стороне «при достаточной свободе располагать своей личностью». Но этой-то именно свободы, благодаря «освобождению с землей», крестьянин и не получил. Получался роковой круг, выход из которого, рано или поздно, был один: постепенное разорение «освобожденных». К 90-м годам, как увидим дальше, этот результат и обнаружился со всею ясностью.
Превращение дворянского имения в капиталистическое предприятие было куплено, таким образом, ценою задержки буржуазного развития в деревне. Это обстоятельство оказалось не без выгоды для дворян впоследствии, когда новый аграрный кризис вырвал почву из-под ног у дворянского «манчестерства». Но для развития капитализма в России условия «освобождения» сыграли роль колодок, настолько тяжелых, что — факт мало вероятный, но несомненный, —
рост обрабатывающей промышленности, например, в первые годы после «воли» не ускорился, как следовало бы ожидать, а замедлился.
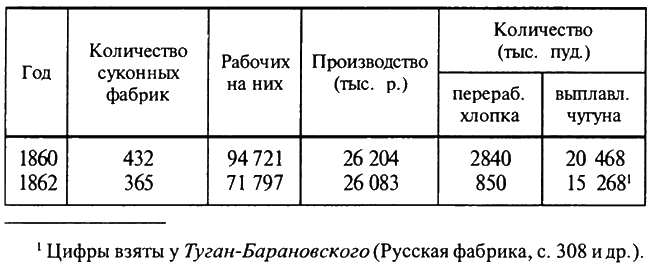
В «освобожденной» России индустрия развивалась туже, чем в разгар николаевского «крепостничества»! Правда, понемногу русский капиталист приспособился и к этому «испанскому башмаку»: мы увидим в своем месте
[91], что к 80-м годам Россия была неизмеримо более крупнокапиталистической страной, нежели в 1860 году. Но помещичий эгоизм заставил преодолеть массу ненужного трения, которое пошло на пользу опять-таки не кому иному, как той же знати, ближайшему антагонисту манчестерского среднего помещика. С особенной рельефностью отразилось это на истории крупнейшего капиталистического предприятия пореформенной России — постройке железнодорожной сети. Развитие этой последней шло с большой быстротой, особенно со второй половины 60-х годов:
Годы
1857–1867 — 1870–1876
Количество верст, открытых
для движения (без Польши)
671 — 3408–6724 — 16 700
Но около этого дела — крупнейшего, а стало быть, и выгоднейшего — мы сразу встречаем комбинацию, характерную для отечественного грюндерства на всем протяжении нашей новейшей истории: рядом с заграничными банкирами стоят наиболее аристократические фамилии России. Первое в России железнодорожное общество («Главное общество российских железных дорог») было делом преимущественно французского банкирского дома братьев Перейра. В том же 1857 году, когда возникло «Главное общество», попробовало родиться и другое, — во главе его стояли банкиры Тонсон, Бонар и К° вместе с графами Ржевуским, Адлербергом, Голенищевым-Кутузовым и Лубенским и князьями — Долгоруким и Кочубеем. В дальнейших концессиях перед нами мелькают имена Строгановых, Толстых, Мусиных-Пушкиных, Апраксиных, Нарышкиных и даже принцев Ольденбургских. Первоначально, таким образом, делались попытки захватить дело в руки путем индивидуальных выступлений. Скоро они прекратились, — железные дороги не дали сразу тех золотых гор, каких ждали несколько беззаботные по части политической экономии российские феодалы. Тогда к делу согласились припустить и среднее дворянство — в лице земств различных губерний. Пионером было Борисоглебское земство (Тамбовской губернии), выхлопотавшее себе концессию на постройку железной дороги от станции Грязи до города Борисоглебска, в 1868 году. За ним последовали земства: Козловское, Тамбовское, Орловское, Саратовское и другие. «Но, — говорит историк русских железных дорог, — система отдачи концессий земствам оказалась наименее удачною. Земства являлись лишь дорого обходящимся государству и почти всегда неумелым посредником между оптовыми строителями, так называемыми концессионерами, и правительством»
[92]. На самом деле, «сферы», раньше пытавшиеся взять дело в руки в лице своих отдельных представителей, теперь решили его централизовать в своих руках. «Действовали таким образом: правительство брало себе часть акций и облигаций и становилось, таким образом, частным предпринимателем; затем оно делало от имени государства заем, выпуская не частные акции и облигации, но государственные железнодорожные облигации, доход по которым (проценты и погашение капитала) был гарантирован выручкой тех железных дорог, для которых совершалась эта операция»
[93]. В 1878 году было выпущено железнодорожных бумаг на 1 383 000 000 рублей металлических (2 060 000 000 рублей кредитных по курсу 31 декабря 1877 года), из которых правительству принадлежало 1 112 000 000 рублей кредитных, т. е. 54 % всей суммы. От этих бумаг государство имело не прибыль, а убытки, достигавшие, по расчету цитируемого нами автора, к 1877 году 130 миллионов рублей ежегодно. Но за эту сумму оно являлось крупнейшим акционером — а стало быть, хозяином всей сети фактически гораздо раньше, нежели железные дороги в России и юридически сделались государственными. Владея большей частью земельных имений непосредственно, знать косвенно, через посредство правительства, составленного из ее членов, держала в своих руках важнейшее орудие дальнейшего развития русского аграрного капитализма. Субъективно, по своей идеологии, реакционнейшая часть русского общества, объективно, помимо своей воли и сознания, оказывалась могучим тараном, и в центре, и на местах разбивавшим «устои старой, докапиталистической России». Но за кем экономический прогресс, за тем и действительная общественная сила — какие бы дикие мысли ни обитали в головах носителей этого прогресса. Судьба русского либерализма 60-х годов — иными словами, нового столкновения среднего и крупного дворянства — как нельзя лучше иллюстрирует это положение.
Буржуазная монархия
Развитие буржуазных отношений в русской деревне ♦ Дворянские привилегии ♦ Судебная реформа Александра II ♦ Прокламация «К молодой России» ♦ Нападки Герцена на самодержавие Николая I ♦ Дарованная сверху конституция ♦ Социальная программа «Молодого поколения»
Перенесение в русскую деревню начал буржуазного хозяйства имело, как мы сейчас видели, очень крупные экономические последствия, — несмотря на всю неполноту реализации этих начал и несмотря на то, что круги, распоряжавшиеся жизнью России, субъективно были глубоко враждебны этим началам. Именно программа этих кругов, напротив, и помогала развитию буржуазных отношений в русской деревне: не только 9 ноября 1906 года русский феодализм оказался, — сам того ни на секунду не предполагая, конечно, — союзником русского капитализма. Объективные условия были сильнее людской воли. В силу этих объективных условий тот же феодализм и в
политической области вынужден был пойти навстречу буржуазному государству. Если он не дошел до конца по этому пути и не «увенчал здания», в этом виноваты были опять-таки объективные условия — резкая перемена экономической конъюнктуры с конца 70-х годов. Тем не менее первые шаги были сделаны: и тем, кто говорил о «буржуазной монархии» в России 1912 года, не следовало забывать, что фундамент этого здания был заложен задолго до того в судебной, земской и других реформах Александра II. Даже внешняя политика буржуазного государства не представила бы ничего нового тому, кто был свидетелем завоевания Средней Азии и русско-болгарской эпопеи 70—80-х годов. И это опять совершенно не зависимо от того, что последние главы этой эпопеи приходятся на период самой глухой феодальной реакции, какую только переживала Россия после смерти Николая I. Точно так же, как эта глухая реакция не помешала расцвету русского промышленного капитализма именно в дни Александра III. И тут, как всегда, экономическая действительность командовала людьми, думавшими, что они командуют всем и всеми.
Буржуазные реформы Александра II были, однако, лишь отчасти результатом этого своеобразного «экономического принуждения». Так было по отношению к «высшим сферам» — глубоко феодальным и глубоко враждебным всякой «буржуазности» на всем протяжении русской истории. Но эти сферы, как мы сейчас увидим, непосредственно реформами и не были задеты. Широкие дворянские круги, которых эти реформы прямо касались, шли им навстречу очень сознательно. Нельзя было сделаться «манчестерцем» только в экономике, — у манчестерства была своя логика. Современники единогласно констатируют, что то, что можно назвать
буржуазным настроением, чрезвычайно широко было разлито во всей помещичьей массе. Всего характернее, может быть, сказывалось это в мелочах будничной жизни. Дворянство всегда очень свысока поглядывало на купечество. «Наши купцы — невежды», — такое мнение, как мы помним, можно было услышать даже от декабристов, — по крайней мере, такой аргумент в устах декабриста не казался странным и диким. Поэтому сближение с «невеждами» особенно рельефно оттеняло совершившуюся перемену. В клубах, за карточным столом, на любительских спектаклях помещичье общество вдруг запестрело невиданными в нем прежде гостями. «Просидев день в бакалейной, красной или рыбной лавке, купец к вечеру облекался во фрак и являлся поглядеть на танцы или послушать некрасовское стихотворение да тургеневский и щедринский рассказы, или полюбоваться гоголевскою «Женитьбою» на сцене, а купеческие дамы и девицы отплясывали с дворянами на славу, знакомясь тут же с помещицами и чиновницами. «Хорошо нас приняли дворяне, — отзывались представители купечества, — мы ими оченно благодарны». С наступлением же лета общение поддерживалось в другой форме, хотя только мужское, — главным образом мировыми съездами, которые представляли тогда первый образец публичных заседаний»
[94]. Так было в уезде — правда, «не захолустном и, по составу общества, небезынтересном», — то же, в более широком масштабе и в более серьезной форме, было и в столицах. В феврале 1863 года, перед выборами в Московскую городскую думу (состоявшую тогда из представителей от
сословий, каждое из которых выбирало депутатов отдельно), московское дворянство нашло нужным устроить «домашнее собрание» с участием представителей от купечества. Открывавший это собрание Погодин говорил, между прочим, в своей речи (или в своих речах, — он много говорил в течение этого собрания) от имени дворянства: «Очень приятно было нам узнать о готовности, с какой почтенное купечество приняло наше приглашение. С особенным удовольствием мы видим теперь вас всех вместе. Русская история, — не мешает нам вспоминать ее, — отличается именно тем, что сословия у нас, вследствие особых причин, никогда не разделялись такими высокими стенами и не питали такой ненависти одно к другому, как в западных европейских государствах. Дай Бог, чтоб и впредь эти же чувства взаимного доброжелательства не только продолжались, но усиливались и укреплялись. Никогда не было такой нужды в любви и в согласии, как теперь». Раззадоренный явным сочувствием аудитории, Погодин договорился до того, что сословий, по-настоящему, и не было у нас никогда. «Русские люди разделялись всегда преимущественно по родам своих занятий: одни пахали и добывали хлеб — это крестьяне, другие менялись своими и чужими произведениями, торговали — это купцы; третьи служили на войне и в мире — сословие служивое, военное, что ныне дворянское. Всякий был волен делать и жить, как ему угодно (!): купец шел на службу, дворянин мог торговать, крестьянин — переселяться в город»
[95]. Если бы спросить почтенного историка, как это крепостной крестьянин стал бы «делать и жить как ему угодно» — «переселился», например, «в город» без разрешения своего барина, — оратор, может быть, и смутился бы немного. Но настроение аудитории было не таково, чтоб кто-нибудь вздумал задавать щекотливые вопросы; Погодин же мечтал о кандидатуре в городские головы: русская история (которую он очень хорошо знал) могла и потесниться немного. Выбрали московским головой не его и не Кошелева, тоже мечтавшего об этом, но все же дворянина, и даже титулованного, кн. Щербатова: и титулованный дворянин не отказался принять должность, искони считавшуюся «купеческой».
«Бессословность» входила в нравы, и нам, свидетелям того, как цепко держалось российское дворянство за обломки своих привилегий, трудно себе представить, что было время, когда литераторы, принадлежавшие к дворянскому сословию, гордившиеся этим, даже явно жаждавшие угодить дворянству, поднимали вопрос о полной отмене дворянских преимуществ. «Неужели мы должны оставаться постоянно в пределах грамоты императора Петра III или императрицы Екатерины II? — спрашивал тот же Погодин одного из своих оппонентов. — Дворянская грамота совершила свое дело. Поклонимся ей с честью и примем с благодарностью приступ правительства к новым мерам, коих настоятельно требуют время и наше положение в Европе. Дворянская грамота — это парчовая риза, но во сто лет она значительно потерлась, износилась и обветшала. Никакой искусственной подкладкой, никакими цветными заплатками восстановить ее нельзя. Надо
строить, говоря по-церковному, новые ризы…». Оппонент насмешливо ответил Погодину, что, значит, он предлагает отправить Дворянскую грамоту на толкучий рынок? «Нет, не на толкучий рынок, — запальчиво возражал ему увлекавшийся московский историк, — а в Пантеон истории, где хранятся наши государственные законоположения, совершившие свой подвиг, — «Русская правда», «Судебник», «Уложение» и пр.». Дворянским привилегиям отводилось почетное место — рядом с кровной местью и губными учреждениями: так думали в 1862 году, повторяем, не враги дворянства, а защитники его интересов. В это самое время более экспансивный и более искренний Иван Аксаков предлагал собравшемуся на выборы московскому дворянству «выразить правительству свое единодушное и решительное желание:
чтобы дворянству было позволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя как сословия». «Нам кажется, что такого рода заявление было бы вполне достойно просвещенного дворянского сословия, — писал Аксаков. — Такое действие, являясь, по нашему мнению, необходимою историческою ступенью общественного развития, фундаментом для будущего общественного здания, стяжало бы русскому дворянству почетное место в истории, право на народную благодарность и славу нравственного исторического подвига. Всякие же прочие решения были бы, кажется нам, не согласны с волей и началами русского народа. Мы полагаем, что дворяне не посетуют на нас за такой искренний и прямой совет человека, принадлежащего, по происхождению, к их среде и сословию». Насколько мнение Аксакова казалось малоэкстравагантным, видно из того, что к нему, с оговорками, присоединялся такой практический человек, как Катков
[96].
Буржуазное настроение дворянства объясняет нам, прежде всего, почему так дружно и легко прошла крупнейшая из реформ 60-х годов—
судебная. Казалось бы, упразднение старого, сословного суда — сословного юридически, на практике же — односословного, дворянского, потому что председатели палат были выборные от одного дворянства, а «заседатели», т. е. члены, недворяне совершенно стушевывались перед своими дворянскими коллегами, — должно было вызвать сильнейшее трение именно со стороны помещиков. Но в состав нового общественного настроения интегральной частью входило и отрицательное отношение к старому суду. Судебной реформой интересовались даже гораздо больше, чем земской, так непосредственно задевавшей интересы помещиков. Современник объясняет это тем, что «уж чересчур наболела всем неправда старого суда»
[97]. Присмотримся к этой «неправде» ближе: она тоже изображена одним современником в ряде анекдотов, которые, может быть, как всякие анекдоты, недостаточно объективно рисуют повседневную практику дореформенных судебных учреждений, — анекдот всегда ярче действительности, — но зато помогают сразу схватить их
тип. «Черная неправда» старого суда была совершенно несовместима, прежде всего, с буржуазным хозяйством: невозможно себе представить сколько-нибудь развитого буржуазного оборота в обществе, где
нет нотариусов, — где для того, чтобы засвидетельствовать самый пустячный документ, надо или околачивать пороги судебной палаты по целым неделям, или платить взятки чуть ли не дороже самого документа. Самому министру юстиции Николая Павловича, графу Панину, засвидетельствование рядной записи в пользу его дочери стоило сто рублей, причем давал эту взятку собственными руками директор департамента Министерства юстиции. Нельзя вести гражданские дела в стране, где
нет адвокатуры, где «ходатай по делам» был чем-то вроде мошенника, которого судебное начальство во всякую минуту может не только выгнать из канцелярии суда (дальше его и не пускали), но и выслать совсем из города или посадить в тюрьму. Само собою разумеется, что за такую профессию люди с чувством собственного достоинства и брались неохотно, так что среди тогдашней «адвокатуры» не редкостью были «лишенные права жительства в столице» и вообще «прикосновенные к суду» не только в качестве адвокатов. Но когда московский генерал-губернатор кн. Д. В. Голицын заикнулся раз перед императором Николаем о желательности легальной адвокатуры в России, он встретил такую суровую отповедь, которая надолго заградила ему уста. «Ты, я вижу, долго жил во Франции и, кажется, еще во время революции, — напомнил своему генерал-адъютанту Николай Павлович, — а потому не удивительно, что ты усвоил себе тамошние порядки. А кто (тут Николай повысил голос), кто погубил Францию, как не адвокаты, вспомни хорошенько! Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, князь, пока я буду царствовать — России не нужны адвокаты, без них проживем». Вместо столь опасной адвокатуры снизу Николай Павлович оберегал интересы своих подданных при помощи особой адвокатуры сверху — в лице жандармских офицеров. К каким результатам приводила эта «адвокатура» — надо рассказать подлинными словами современника. «В одной из палат замечена была вообще медленность в ходе дел. В видах понуждения и неотлагательного решения оных послан был жандармский офицер, коему вменено было в обязанность не выезжать из города, где была палата, до тех пор, пока не будут решены все дела. Явился жандарм в палату и настойчиво требовал исполнения объявленного им поручения. Председатель задумался: как быть и что делать? Затем велел принести из канцелярии все дела. Потом, взяв одно дело и поднеся его к своим глазам, или, лучше сказать, к носу, объявил: решение суда
утвердить, и положил его на правую сторону. Потом взял другое дело и, делая те же движения, заявил: решение суда
отменить. Затем, при тех же приемах, начал быстро откладывать дела: то направо, то налево, вскрикивая: утвердить, отменить, и т. д. По окончании сего жандарм уехал с донесением, что все дела в палате решены». Третье отделение являлось универсальным ходатаем за всех «невинных»: не было дела, — преимущественно гражданского, где деньгами пахло, — которое оно отказалось бы принять к своему рассмотрению, не стесняясь ни существовавшими законами, ни состоявшимися уже судебными решениями. Оно «определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопросов о том, кто и как нажил себе состояние и какой кому и в каком виде он сделал ущерб». У одного петербургского купца едва не отобрали всего капитала, потому что происхождение его показалось Третьему отделению подозрительным: и Николая Павловича не без труда убедили, что надобно все-таки прежде доказать, что купец в чем-нибудь виноват.
А по стопам Третьего отделения шли административные органы сортом пониже. Уже в самом конце царствования Николая при Министерстве внутренних дел действовала комиссия, которая «не стеснялась ничем и усвоила себе
сыскной порядок — так, она
подвергала кредиторов аресту до тех нор, пока они или не помирятся с должником, или не умерят своих претензий, или вовсе не прекратят своих взысканий. Комиссия эта навела страх на всех, кто имел долговое дело: начали приносить жалобы, но их нигде не принимали», а когда жалобы дошли до Сената, то оказалось, что комиссия юридически не существует — ибо Сенату о ней ничего не известно. Понадобилось Высочайшее повеление для того, чтобы этот диковинный судебный институт прекратил свою деятельность. Убедить какими-нибудь разумными доводами феодальных администраторов, что так нельзя вести дело в стране с развитыми торговлей и кредитом, — было бы совершенно напрасной тратой времени. Почти трогательное в своей невинности отношение николаевской знати к вопросу прекрасно иллюстрируется одним подвигом петербургского генерал-губернатора кн. Суворова — подвигом, совершенным, можно сказать, накануне судебной реформы, уже при Александре II. Суворову донесли, что одно решение петербургского коммерческого суда неправильно; князь не стал долго думать: весь состав суда был немедленно же арестован. Когда в «сферах» это вызвало переполох (как раз петербургскому коммерческому суду приходилось чаще всего иметь дело с Европой, в лице иностранного купечества), Суворов объяснил, что он подписал бумагу об аресте,
не читая. Можно ли было представить себе буржуазный порядок, который устоял бы перед столь бухарской юстицией?
[98].
Связь судебной реформы Александра II с буржуазным строем сознавалась уже при самом возникновении судебных уставов 1864 года, но ни правительство, ни общество не умели схватить, в чем сущность этой связи, и придумывали объяснения более или менее искусственные. Государственный совет, обсуждая мотивы реформы, прямо связывал ее с упразднением крепостного права. «Смешение властей, — рассуждал совет, — было отчасти неизбежным последствием крепостного состояния. Помещичьи крестьяне, составлявшие около половины всего нашего народонаселения и лишенные гражданских прав, имели в лице своего владельца хозяина, судью и исполнителя своих решений… Такое же смешение наблюдалось и на учреждениях крестьян других ведомств, где хозяйственные и полицейские власти сделались, вместе с тем, и судебными. При таком смешении властей в отдельных управлениях, оно должно было проникнуть и в общее управление империи; и так все административные власти, начиная от станового пристава до губернатора и даже до министров, вмешиваясь в силу самого закона в ход судебных дел и тем самым ослабляя истинное значение суда, останавливают правильное отправление правосудия». Здесь, конечно, ценно признание, идущее из столь авторитетного источника, что власть губернатора и «даже министра» в России была однокачественна с властью владельца крепостного имения; нельзя было явственнее сказать: «Мы — феодалы». Но сближение конкретных фактов явно искусственно. Во-первых, и до 19 февраля помещик вовсе не был судьею своих крепостных по
всем делам: его разбирательству, непосредственному и безапелляционному, подлежали только преступления не важнее тех, что ведались впоследствии мировыми судьями, а теперь, еще позже, земскими начальниками. Перестраивать из-за изменения подсудности в этом скромном уголке всю судебную систему империи — это очень походило бы на то, как если бы какой-нибудь добрый хозяин сломал весь дом ради перестройки одной комнаты. Во-вторых, как раз
крестьянские дела, и притом именно те, что разбирал раньше помещик, в значительной степени остались вне круга действия новых судов — перейдя отчасти к судам волостным, отчасти к мировым посредникам, в руках которых судебная власть продолжала смешиваться с административной. Вообще, крестьяне меньше всех других на первых порах почувствовали блага судебной реформы, и первый, по времени, критик этой реформы счел даже возможным написать: «Нельзя сказать, что так называемые общие судебные установления ведают дела всех сословий; они созданы только для всех дел дворян и мещан; дела же других сословий поступают на их рассмотрение только в некоторых случаях, то есть когда в деле участвуют лица разных сословий, когда иск превышает известную сумму, а проступок — известную меру взыскания»
[99]. Той непосредственной связи, какую усмотрел Государственный совет между 19 февраля 1861 года и 20 ноября 1864 года, не было, таким образом, — и все же он был прав в том смысле, что обе реформы представляли собою две части одного органического целого.
Недаром и подошло к ним правительство Александра II одновременно, и хронологическое сопоставление всего лучше покажет нам, где шла спайка. «Первоначальная работа, относящаяся до судоустройства, была
положение о присяжных стряпчих или поверенных, которое внесено было в Государственный совет гр. Блудовым в 1858 г.» — говорит официальная записка
[100]. Из 14 законопроектов, внесенных в Государственный совет с 1857 по 1861 год, только 4 относились к
уголовному процессу, тогда как 8 касались
гражданского судопроизводства, а 2 — судоустройства, в том числе упоминавшийся уже проект об адвокатуре. Сам Блудов хлопотал главным образом о том, чтобы «улучшить
наше судопроизводство гражданское», в то время как уголовное судопроизводство, по мнению тогдашних реформаторов, «даже в том виде, как оно действует ныне», нуждалось лишь в частичных усовершенствованиях. Введение в России суда присяжных признавалось той же запиской «преждевременным» — и суд присяжных у нас явился, действительно, уступкой
политической оппозиции, чего нельзя еще сказать о судебной реформе вообще. Требование этой уступки впервые было более или менее настойчиво заявлено в дворянских адресах осени 1859 года — сначала в адресе «пяти» (Унковского и др.), затем в заявлениях владимирского и ярославского дворянских собраний. За несколько месяцев до этого Александру Николаевичу была представлена записка некоего брата-славянина из австрийских земель, но состоявшего на жалованье русского правительства — галичанина Зубрицкого. Записка касалась либерального движения в России, которому брат-славянин не сочувствовал, называя, между прочим, «воздыхания об адвокатстве,
присяжных, открытом уголовном судопроизводстве» — западными дурачествами. Император эти слова подчеркнул в знак своего полного с ними согласия. Предчувствовал ли он, что меньше чем через 4 года, в январе 1862 года, выйдет Высочайшее повеление за его же подписью, где будет сказано, что судебная часть в России должна быть преобразована по началам, «несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукою и
опытом европейских государств»!
Но этим же политическим характером суда присяжных объясняется и то обстоятельство, что из него вышло нечто иное, нежели ждали его инициаторы. Ни к какому другому отделу судебной реформы не приложимы в такой степени известные слова, принадлежащие виднейшему из этих инициаторов — Унковскому: «Независимые и хорошие органы правосудия не могут создаваться одними уставами судопроизводства и судоустройства. Так как судебные учреждения не являются чем-то внешним, не от мира сего сущим, то существование их, так же, как и прочих учреждений, необходимо обусловливается общим состоянием среды, в которой они действуют. Поэтому особые постановления о судопроизводстве и судоустройстве могут получить жизнь и действительное значение лишь настолько, насколько они соответствуют общему строю народной жизни. При известных условиях существование независимого и нелицеприятного суда точно так же невозможно, как существование гласности без права свободной речи или публичности без публики»
[101]. Политическое значение суда присяжных сказывается, почти исключительно, в тех случаях, когда суду приходится разбирать конфликты, где правительство или его агенты являются одной из сторон. Но судебные уставы 1864 года с самого начала заботливо устранили именно эти казусы не только из ведения суда присяжных, но, в сущности, из ведения судебной власти вообще. Во-первых, было принято за принцип, что «судебное преследование должностного лица должно быть начинаемо не иначе, как по постановлению начальства обвиняемого о предании его суду»: иными словами, чиновник за преступление по службе отвечал, по-прежнему, не перед общим для всех преступников судом, а перед своим начальством, которое, если бы захотело, могло обратиться к суду, но его никто к тому не обязывал. Принцип этот считался настолько священным и неприкосновенным, что Государственный совет не решился его даже и обсуждать, не только что оспоривать: «Так как предначертанное в проекте правило о предании суду должностных лиц административного ведомства перенесено буквально из Высочайше утвержденных основных положений, то и не может подлежать обсуждению» — мотивировал свое воздержание Государственный совет. Какие бы насилия ни позволяло себе местное начальство по отношению к населению, каким бы грабительством оно ни занималось, оно могло быть уверено, что перед представителями этого населения ему не придется отвечать ни в коем случае, ежели центральное начальство не выдаст. Это было, конечно, вполне сообразно «с общим состоянием среды», употребляя терминологию Унковского, — там, где правительство вообще не отвечало перед народными представителями, странно было бы заставлять его агентов отвечать перед случайно выхваченными из среды народа двенадцатью человеками. А этот основной принцип безответственности правительства вообще поддерживала, как мы знаем, и либеральная буржуазия, не видевшая возможности провести необходимые ей реформы иначе, как через посредство сильной центральной власти. Трагизм положения либеральной буржуазии заключался в том, что ей самой правительство отнюдь не склонно было оказывать такое доверие, какое она находила возможным оказывать правительству. Феодалы, погубившие карьеру Кавелина и всячески вставлявшие палки в колеса такому, в сущности, послушному и благонамеренному человеку, как Милютин, и в этом случае оказались верны себе. Наиболее острые конфликты общества и его правящей группы должны были разрешаться исключительно агентами этой последней или, по крайней мере, людьми, состоящими под ее специальным контролем. «По делам о
государственных преступлениях присяжные заседатели не участвуют вовсе, — гласили удостоившиеся Высочайшего утверждения «основные положения»: — дела сии всегда начинаются в судебной палате, где при обсуждении их присутствуют с правом голоса: губернский и уездный предводители дворянства, городской голова и один из волостных старшин». Очень характерно, что для политических процессов был, таким образом, сохранен
сословный суд: так четко вырисовалась черта, за которую «буржуазные реформы» не смели переходить.
Не менее характерна и мотивировка, данная этому «основному положению» Государственным советом, здесь не ограничившимся простым воздержанием от обсуждения, как по вопросу об ответственности чиновников. Из нее мы узнаем, между прочим, что под «государственным преступлением» совет понимал не только заговор или мятеж — или, вернее, не столько их: мысль о суждении заговорщиков или инсургентов с участием присяжных, по-видимо-му, никому и в голову не приходила. «Государственным преступлением» в глазах совета было уже распространение «политических и социальных теорий, направленных против существующего порядка вещей в государстве и обществе»: другими словами, самая мирная пропаганда конституционных, например, идей была в 1862 году достаточным поводом, чтобы отправить человека на каторгу. Так недалеко еще режим Александра II ушел от режима Николая II. Вполне естественно, что Государственный совет не видел в присяжных достаточно энергичного орудия репрессий для подобных случаев. Он прямо признавался, что вместо осуждения деяния пропагандистов могут у присяжных «встретить сочувствие». «Притом, — рассуждал совет, — политические и социальные теории, направленные против существующего порядка вещей о государстве и обществе, имеют столько оттенков, что от пустых, почти невинных утопий и мечтаний доходят до самых вредных учений, подрывающих даже возможность общественной жизни; но иногда и те и другие людьми неопытными считаются равно ничтожными и безвредными. При таких условиях предоставить присяжным, избранным обществом, разрешение вопроса о преступности и непреступности учений… значило бы оставить государство, общество и власть без всякой защиты». Раз дело шло о борьбе против учений, совершенно очевидно, что только случайным недосмотром можно объяснить сохранение в компетенции присяжных заседателей
преступлений, совершенных путем
печати: категория, появившаяся в нашем Уголовном кодексе благодаря закону от 6 апреля 1865 года, заменившему предварительную цензуру карательною, — или, вернее, предоставившему авторам и издателям выбор между тою и другою. Закон носил характер льготы исключительно для буржуазии, ибо предоставлявшееся им право распространялось только на книги большие и относительно дорогие (не менее 10 листов для оригинальных сочинений и 20 — для переводных) и периодические издания, от которых требовался залог не менее 2500 рублей (по крайней мере 5000 р. на золотые деньги). Может быть, поэтому и позволили себе роскошь — сделать опыт, оставив дела о печати в ведении обычного суда. Но первый же оправдательный приговор последнего, приговор, касавшийся не крамольников, а просто литераторов, не угодных Министерству внутренних дел, заставил поспешно исправить ошибку: законом от 12 декабря 1866 года литературные дела, наравне с политическими, были переданы судебным палатам. Так как при этом административная расправа и по политическим делам, и по литературным, осталась во всей неприкосновенности, и Третье отделение работало энергичнее, нежели когда бы то ни было, то
политическое значение судебной реформы быстро свелось к нулю: «общее состояние среды» одержало весьма легкую победу. Оставалось только обеспечить интересы «порядка» кое-какими частичными мероприятиями — гарантировать, например, безусловную благонадежность судебного персонала, изгнав оттуда всех, кто когда-либо имел хотя самое малое касательство к «политике»: простого участия в студенческих беспорядках достаточно было, чтобы навсегда закрыть для человека судейскую карьеру; обойти несколько неудобный (хотя далеко не в такой степени, как обыкновенно думают) принцип несменяемости судей, истолковав его в том смысле, что прогнать судью министр, конечно, не может, но перевести его из Петербурга хотя бы в Барнаул — отчего же нет? Притом, если не может министр, на что же существуют «Высочайшие повеления»? Словом,
«общее состояние среды» ни над чем не торжествовало так легко, как над «несменяемостью». Наиболее яркой из частных мер была организация
предварительного следствия в «новом суде». Приглядевшись ближе, вы чувствуете, что здесь «новым» уже почти не пахло. Основными принципами, освященными «наукою и опытом европейских государств», были
гласность, устность и состязательность процесса. В классической стране этих принципов, в Англии, процесс и характеризуется этими признаками с самого начала и до конца. Но судебные уставы 1864 года предусмотрительно были скопированы не с английского оригинала, а с образца, приспособленного к нарочитому поддержанию «порядка» — с судебных порядков Второй французской империи (унаследованных, впрочем, на большую долю, и Третьей республикой). Сходство нашей и французской судебной организации было так велико, что, как известно, французский автор, взявший на себя задачу ознакомить своих соотечественников с «империей царей», не нашел нужным подробно описывать русские суды — ограничившись замечанием, что они, в общем, «такие же, как и у нас». С тех пор, как писал Леруа-Болье, кое-что успело измениться во Франции: состязательность и там теперь начинается с предварительного следствия, — привлеченный к нему имеет право пригласить адвоката и пользоваться его советами. Публичность этой стадии процесса — в Англии существующая de jure — во Франции пока остается на правах «бытового явления»: во всех более или менее громких случаях газеты на другой же день предупредительно сообщают публике все, что говорилось в камере «следственного судьи», ибо во Франции следователь — действительно судья со всеми его атрибутами, включая и несменяемость. У нас такое опубликование «данных предварительного следствия» было уголовным преступлением: камера судебного следователя была закрыта от нескромных взоров не хуже, нежели старый, дореформенный суд с его «канцелярской тайной» — причем исключения не делалось ни для кого, не исключая и защитника подсудимого или подозреваемого. Зато закрытая для публики, эта дореформенная стадия «нового суда», как некогда дореформенный суд в его целом, была открыта самому широкому воздействию
прокуратуры. Судебный следователь в России, обыкновенно, не несменяемый судья (следовательская несменяемость скончалась у нас еще гораздо раньше общесудейской), а «исправляющий должность» молодой человек, всецело зависевший от милостей начальства, — по закону обязан был исполнять требования прокурора в ряде случаев, а там, где его не обязывал к этому закон, он слушался прокурора по обычаю. Прокурор, т. е. высшая полиция
[102], держал в руках привлеченного к суду гораздо раньше, нежели его увидят присяжные или даже его защитник: и, нужно прибавить, он продолжал держать его в своих руках и после того, как выскажутся присяжные. Оправдательный вердикт последних даже в императорской Франции кончал дело. В России человек, которому присяжные сказали «нет, не виновен», вовсе еще не избавлялся этим от тюрьмы и дальнейших мытарств: судебный приговор мог быть кассирован по протесту прокурора, и новый состав присяжных — более «подходящий» — мог доставить этому последнему удовлетворение, которого лишил его первый состав. По всей вероятности, тот, кто придумал
кассацию как средство обеспечения формальной правильности судебных действий, никогда не вообразил бы, что это средство обеспечения прежде всего подсудимого может быть использовано как способ во что бы то ни стало «закатать» его на каторгу. Тут мы имеем пункт, где судебным уставам удалось превзойти не только свой образец, наполеоновскую Францию (где кассация приговора допускается только
в пользу подсудимого, оправдательный же приговор, хотя бы кассационный суд и признал судебную процедуру формально неправильной, отменен быть не может), но даже и «старый суд»: при всей своей «черноте», старый суд допускал пересмотр вошедшего в законную силу приговора только с целью его смягчения.
Столь обезвреженный, новый уголовный суд оказался совместимым и «с общими условиями среды»: но естественно, что для общества он скоро оказался малоинтересным, несмотря на все усилия его теоретических сторонников подогреть к нему сочувствие. Интерес в публике — и то больше на первое время — возбуждали только открытые судебные заседания: но это был интерес не более «общественный», нежели тот, который собирает ту же публику в театральную залу. Исполнение обязанностей присяжного заседателя всегда рассматривалось как тяжелая барщина, и не может быть сомнения, что если бы не высокий штраф за неявку, 90 % представителей «народной совести» постоянно оказывались бы «в нетях». Этим же объясняется и то, что около
ценза присяжных не завязалась борьба, которая была бы неизбежна, имей новый институт действительно крупное общественное значение. Ценз для присяжных, как известно, был назначен сперва очень низкий (он был возвышен впоследствии, при Александре III) — так что присяжными могли быть и крестьяне, правда, лишь бывшие раньше волостными старшинами или сельскими старостами: это был не столько имущественный ценз, сколько «ценз благонадежности», аналогичный тому, который был установлен, как мы видели, и для коронной части суда. Между тем, общее отношение к крестьянам вовсе не так резко изменилось под влиянием «буржуазного настроения», как отношение к купцам, например. Цитированный нами по поводу сближения помещиков с купцами автор дает очень живописную картинку «народа», сидя на земле терпеливо ожидающего у дверей мирового съезда своей очереди быть впущенным в святилище, тогда как «господа», служащие и неслужащие, горделиво проходят туда, не ожидая никакой очереди. А на самом съезде мировой посредник держал к «народу», пробовавшему резониться, такую речь: «Тебя еще не выпороли? Ну, так выпорят»… Сухой обыкновенно Головачев впадает в стиль анекдота, когда ему приходится говорить об отношении представителей «нового суда» к крестьянам. Ему «пришлось один раз быть вместе со своим приказчиком из местных крестьян свидетелем при одном следствии, не в глуши, а в губернском городе Владимире. Следователь, отобравши от нас показания, записал их и подал сперва мне для подписи. Я спросил следователя: «Надо подписать
к сему показанию»? — «К сему объяснению», был ответ. Я подписал; затем садится приказчик и спрашивает:
«К сему объяснению надо писать»? — «Дурак! — отвечает следователь, — мужик, а хочет писать
к сему объяснению; пиши:
к сему показанию». Мужик «показывал», дворянин «объяснялся»! При таком умении отличить белую кость от черной дворянское самолюбие не слишком страдало, когда барину приходилось сесть на скамью присяжных рядом со своим бывшим крепостным (сидеть рядом на скамье
подсудимых им приходилось и раньше: дворянская жалованная грамота, дав дворянину особые привилегии на суде и в тюрьме, отчасти сохраненные и «новым» судом, не додумалась до особых судов для дворян); а так как
интересов правящих классов суд присяжных, при его русской постановке, не задевал и не мог задеть, то, повторяем, против его относительной демократизации никто особенно не спорил. Наиболее реальные последствия этой демократизации сказались в области уголовной репрессии: 17 апреля 1863 года были отменены
телесные наказания по приговорам общих судов, — остались только розги по приговору суда крестьянского, волостного. Упразднение сословного суда логически требовало отмены и сословных различий в области наказаний, а «буржуазное настроение» требовало такой отмены в сторону облегчения «низших» классов, а не в сторону нового обременения высших. Привилегию дворянства — не быть секомым — можно было распространить на всех, но дико было бы «демократизировать», отняв эту привилегию и у дворян.
Иначе стало, когда реформа коснулась такой области юридических отношений, которая была непосредственно связана с помещичьим хозяйством. Местный суд при крепостном праве был точно так же в руках местных помещиков, как и суд губернский. Демократизация последнего, казалось бы, логически требовала демократизации и первого. В самом деле, некоторые проекты губернских комитетов — например, рязанского, вдохновлявшегося Кошелевым — и предлагали передать разбирательство мелких деревенских преступлений и тяжб особого рода деревенским присяжным, избранным от местного населения. Но уже редакционные комиссии поправили в этом пункте увлекшихся «манчестерцев», сохранив сословный волостной суд под опекой мирового посредника, назначавшегося из среды местных помещиков представителем центральной администрации. Судебная реформа завершила эту работу классового самосохранения, оставив всецело в руках тех же местных помещиков все деревенские дела, выходившие из компетенции волостного суда: все мелкие кражи, потравы, мелкие земельные столкновения, мелкие деревенские тяжбы, споры хозяев с рабочими и т. д., — все это перешло в ведение
мировых судей. О том, что должность эта должна замещаться: в деревне из среды местных землевладельцев, а в городе — домовладельцев, никаких споров не было. Спор шел лишь, как в крестьянской реформе, между крупным феодальным землевладением, с одной стороны, и средними помещиками — с другой» Феодальная группа — литературным выразителем ее был Катков — требовала придания должности мирового судьи
почетного характера: мировой судья должен был в России, как в Англии, нести свои обязанности
безвозмездно, что само собою предполагало, что им может быть лишь крупный землевладелец, притом не поглощенный всецело заботами о своем хозяйстве. Среднее дворянство — выразителем его была вся либеральная пресса того времени — видело, напротив, в судейской службе по выборам подспорье к своим землевладельческим доходам и убежище на случай экономического краха: оно добивалось поэтому, чтобы должность мирового судьи была платная. Кончилось, как и в крестьянской реформе, компромиссом: в угоду феодальным тенденциям была создана должность почетного мирового судьи, не приуроченного ни к какому участку и фактически ничем не занятого: вся тяжесть повседневной работы падала на участкового, мирового судью получавшего за свой труд жалованье. Казалось бы, это последнее обстоятельство избавляло от необходимости требовать еще какого-нибудь
ценза, кроме образовательного. Совершенно не логически, но вполне политически последовательно, судебные уставы потребовали, однако, и от участковых мировых судей
имущественного ценза, размерами своими с грубою ясностью показывавшего, из рядов какой общественной группы должен был рекрутироваться мировой суд в деревне. Мировой судья должен был иметь недвижимую собственность, ценою не ниже 15 000 рублей (в десятинах от 400 до 950, смотря по местности). В городе он должен был иметь дом, в столицах — не дешевле шести, а в провинциальных городах — не дешевле трех тысяч рублей. Очевидно, ни земельных магнатов, ни крупнейшей городской буржуазии не ждали в качестве кандидатов на новые должности: но в деревне мировой судья был непременно из помещиков. Чтобы обеспечить это его качество еще более, выборы мирового судьи были поручены коллегии, где помещикам принадлежал решительный перевес. Мировые судьи должны были избираться уездными земскими собраниями (в городах — городскими думами), состоявшими из представителей исключительно местных землевладельцев, а отнюдь не местного населения вообще. «Таким образом, весь многочисленный класс лиц, доходы которых получаются с движимых ценностей, от свободных профессий или от службы частной и государственной, не имеет никакого влияния на выборы мировых судей, а между тем, принадлежа к наиболее деловой части населения, скорее другого землевладельца может быть подсуден мировому судье. Иной землевладелец отдает свою землю в аренду, не живет в данной местности и не знаком вовсе с местными жителями, но имеет полную возможность влиять на выборы мирового судьи, между тем как постоянно живущие на месте чиновник, адвокат, артист, художник, врач, служащий при железной дороге или пароходстве, и даже коронный судья окружного суда или судебной палаты лишены всякой возможности содействия к успешному выбору мировых судей и должны подчиняться авторитету таких лиц, с которыми они могут не иметь ничего общего и которые не пользуются нисколько их доверием»
[103]. Но даже участие всех перечисленных лиц едва ли изменило бы ситуацию выборов, производившихся в собрании, где 45 % составляли дворяне, а 37,5 % — крестьяне, юридически свободные, но продолжавшие опекаться дворянской администрацией. «Посредник — все, — писал по поводу этой опеки знаток русской деревни в 70-х годах. — И школы, и уничтожение кабаков, и пожертвования — все это от посредника. Захочет посредник, крестьяне пожелают иметь в каждой волости не то что школы — университеты. Посредник захочет — явится приговор, что крестьяне такой-то волости, признавая пользу садоводства, постановили взносить по стольку-то копеек с души в пользу какого-нибудь гарлемского общества разведения гиацинтовых луковиц. Посредник захочет — и крестьяне любого села станут пить водку в одном кабаке, а другой закроют»
[104]. Остается прибавить, что практически подать свой голос при выборах мирового судьи могло лишь ничтожное меньшинство и правоспособного в данном пункте местного населения. Минимальное число гласных, при котором могло быть открыто уездное земское собрание, в большей половине уездов европейской России составляло 12 человек; для законности выборов было достаточно простого абсолютного большинства, — иными словами, 7 человек в большей половине России могли поставить мировых судей для целого уезда. Если предположить, что из этих семерых трое зависели от остальных четырех (случай вполне возможный, почти нормальный), а эти четверо были между собою связаны взаимными интересами, — в чем тоже не было бы ничего ненормального, — то получится, что все решала «своя семья». Три партнера за карточным столом решили выбрать четвертого — и тот становился судьей над десятками тысяч населения. Казалось бы, более безобидный, более согласный с «общими условиями среды» институт трудно было придумать — и тем не менее через двадцать лет феодальной реакции понадобилось съесть мировых судей!
По уверению историков мирового суда, он стяжал себе общее сочувствие уже в самом деле «без различия сословий». Для критической проверки этого «хвалебного гула» у нас нет никаких данных, ибо главный объект мирового суда в деревне — крестьяне — еще не имеют обычая писать свои мемуары; архивы же мировых судебных установлений еще не были предметом научного исследования. Вполне возможно, что когда будет известна подкладка судебной реформы, ее постигнет та же участь, что уже постигла реформу крестьянскую. Память столичных жителей — в столице все видней! — наряду с симпатичными чертами первых мировых судей сохранила и курьезные. «В Петербурге один мировой судья, устроивший, вопреки господствовавшей у мировых судей строгой простоте обстановки, в своей камере, для судейского места, драпированное красным сукном возвышение, вообразил себя вместе с тем великим пожарным тактиком и стратегом — явился, в цепи, распоряжаться на пожаре, вспыхнувшем в его участке; а другой, возвращаясь в летнюю белую ночь с островов и найдя мост разведенным, надел цепь и требовал его наведения»
[105]. Как это живо напоминает ворононовских мировых посредников, которые не расставались со своею цепью нигде, красуясь в ней «и в магазинах, и на бульваре, и в театре»! Повторяем, действительное отношение народной массы 60-х годов к «новому суду» нам пока неизвестно — и, вероятно, долго останется неизвестным. Зато не оставляет никаких сомнений отношение командующих кругов как дворянства, так и буржуазии. Здесь было ликование — безраздельное и, конечно, неподдельное. Петербургская городская дума хорошо выразила настроение этой части общества в своем адресе Александру II, где было, между прочим, сказано: «Открытие нового суда наполнило радостью сердца всех верноподданных, какую Россия испытывала в лучшие минуты своего исторического существования». А еще лучше — интимнее и теплее — выразилось это настроение в Воронеже, где прокурор читал лекцию о «новом суде» на благотворительном вечере, под аккомпанемент Славянского хора.
Судебная реформа больше интересовала городскую интеллигенцию и литературные круги: для массы среднего дворянства имел практическое значение, как мы видели, только
мировой суд. Но так как мировых судей должны были выбирать земские собрания, то судьба этого института в деревне была тесно связана с другой из «великих реформ» 60-х годов — введением
земских учреждений (1864 года). Судьба этой «великой реформы» чрезвычайно любопытна, — любопытна с начала до конца, можно сказать: ибо нигде, ни в какой другой области, «действительное соотношение сил» не давало себя чувствовать с такою силой до самой революции. В старой либеральной литературе земская реформа Александра II украшалась пышным титулом «введения в России местного самоуправления». Внимательные читатели настоящей книги застрахованы от подобных ошибок: они знают, что местное управление перешло у нас в руки «общества», т. е. дворянства, еще при Екатерине II. Расширение этого «самоуправления» могло бы идти в двух направлениях. Во-первых, под непосредственным влиянием пугачевщины екатерининская реформа ограничила «самоуправление» низами провинциальной администрации, оставив наверху ее агента центральной власти с чрезвычайными полномочиями —
наместника, а позже
губернатора, хозяина губернии; компетенция местного самоуправления могла бы быть расширена вверх, передачей в его ведение всех губернских учреждений, с устранением этой бюрократической верхушки. Во-вторых, екатерининское «самоуправление» носило односословный, дворянский, характер; могла бы быть расширена его социальная база путем предоставления действительного, а не фиктивного голоса в местных делах остальным классам населения. Первое могло бы быть результатом социального перевеса среднего землевладения, буржуазного по своим тенденциям, над крупным феодальным, поставлявшим из своей среды «правительство»; второе показывало бы, что в глубине России устанавливается действительный, подлинный буржуазный строй. Но мы уже знаем, что ни того, ни другого не было: среднее землевладение экономически было слабее крупного, интересы же среднего землевладения после 19 февраля способствовали не ускорению, а, наоборот, задержке в развитии буржуазных отношений среди «освобожденного» крестьянства. Значит, о расширении местного самоуправления в России в 60-х годах не могло идти речи, как бы ни представлять себе это расширение — вертикальным или горизонтальным. Действительно, с первой точки зрения — вертикальной, самоуправление реформой 1864 года было не расширено, а, наоборот, сужено, притом чрезвычайно существенно. Раньше и низший
суд и низшая
полиция на местах были всецело в руках местных помещиков, выбиравших и уездных судей, и уездного полицеймейстера, исправника. После реформы Александра II в руках местного населения остался только местный суд, полиция же перешла к центральной власти — в лице
исправника, назначенного центральной администрацией (его помощники —
становые — назначались уже с царствования Николая I). Характерно, что для правительства Александра II в этом изъятии местной полиции из рук «самоуправления» заключалась вся суть дела; с этого началась «земская реформа», — в том самом 1858 году, когда провинциальное дворянство, впервые после 14 декабря, было снова «взято под сомнение» насчет своей политической благонадежности. Излагающий дело с официальной точки зрения полуофициальный биограф Александра II готов всю земскую реформу логически вывести из этой реформы полицейской
[106]. Дело происходило, конечно, не так просто — мы скоро это увидим: но очевидно, во всяком случае, что для тех, кто смотрел сверху, речь шла никак не о расширении, а, напротив, об ограничении. Новое «самоуправление» сразу же было отдано под такую опеку центральной власти, какой не видало самоуправление старое, дворянское. Мало того, что губернаторам и министру внутренних дел было предоставлено право veto на постановления земских собраний во всех случаях, где хотя бы самое тонкое чутье могло открыть хотя бы самый незначительный запах «политики», и в области чисто хозяйственной, где никакой политикой заведомо для правительства не пахло, — земство начали стеснять с первых же шагов, а вовсе не только после «реакции» Александра III, как часто себе представляют. Уже в 1867 году земство лишено было права облагать торговые и промышленные предприятия по их действительной доходности, — фабрики и заводы оно могло облагать только как «строения» (!), а с торговых свидетельств и патентов брать не более 25 % казенной пошлины. «С издания этого постановления замечается особенное охлаждение к земским делам как в обществе, так и в среде земских деятелей, — говорит один из современных наблюдателей. — Представители землевладельцев убедились, что за недостатком средств земские собрания обречены на ограниченную деятельность по исполнению обязательных расходов; крестьяне, живо заинтересованные вначале этим делом, в результате увидели одно возвышение налога, а представители городов, будучи обложены всегда одним и тем же сбором, стали относиться к нему совершенно пассивно». Тот же наблюдатель приводит далее гораздо более основательные мотивы этого охлаждения к земству как у крестьян, так и у представителей городов. Именно он указывает, что в общем числе уездных гласных (13 024) землевладельцы имели 6 204 представителя, крестьяне — 5171 и городские общества — 1649; причем это вовсе еще не значило, что в собраниях было более 30 % крестьян: «Многие сельские общества выбирают гласными мировых посредников вследствие того влияния, которое последние имеют в волостях, им подведомственных», а другие волости, можно прибавить, выбирали тех, кого им укажет мировой посредник. Поводов для «холодности» к земству и у крестьян, и у горожан, как видим, было достаточно и помимо указа от 22 ноября 1867 года
[107]. Если вспомнить ко всему этому, что губернские гласные выбираются уездными собраниями, где помещикам обеспечено разными способами подавляющее большинство, так что губернское земство является помещичьим уже sans phrases, то нам, кстати, станет ясно, как мало можно говорить и о «горизонтальном» «расширении местного самоуправления» в 60-х годах.
Взятая сама по себе, реформа была, таким образом, крайне скромной, гораздо скромнее не только крестьянской, но и судебной. И если память русской буржуазии причислила и ее к лику «великих», то в этом виновато не то, чем были земские учреждения 1864 года, а то, чем они не были, но чего от них ждали. В представлении и современников, и ближайшего потомства
земство было прочной конституцией. Это, в сущности, вполне определенно и высказано в известном адресе, который подало Александру II в январе 1865 года московское дворянство: созвание общего собрания выборных людей являлось в этом адресе довершением государственного здания, фундамент которого составляло именно земство, — по случаю введения земских учреждений адрес и был подан. Так понял адрес и Александр Николаевич. «Что значила вся эта выходка? — спрашивал он, недолго спустя, одного из самых горячих ораторов дворянского собрания, звенигородского предводителя Голохвастова. — Вы хотели конституционного образа правления?» К этому император прибавил, что готов хоть сейчас подписать какую угодно конституцию, если бы она была полезна для России, но не дает ее именно потому, что считает конституцию для России вредной. В искренности этого заявления сына Николая Павловича мы тем не менее можем сомневаться: бесполезность и даже вредность для России, или, по крайней мере, для дворянства конституции за три года до того доказал не кто другой, как Кавелин. В своей заграничной брошюре «Дворянство и освобождение крестьян», напечатанной в 1862 году, Кавелин спрашивал: «Возможны ли и достижимы ли у нас политические гарантии в настоящее время? Мы глубоко убеждены, что нет; а следовательно, и мечтать о них теперь нечего. Чтобы иметь представительное правление, надобно сперва получить его и, получивши, уметь поддерживать, а это предполагает выработанные элементы представительства в народе, на которых могло бы твердо и незыблемо основаться и стоять здание представительного правления: — где же у нас такие элементы?.. Составных стихий народа у нас две: крестьяне и помещики; о среднем сословии нечего говорить: оно малочисленно и пока так еще незначительно, что не идет в счет. Что касается до масс народа, то, конечно, никто, зная их хоть сколько-нибудь, не сочтет их за готовый, выработанный элемент представительного правления… Остается дворянство. В наше время трудно себе представить исключительно дворянскую конституцию. Слава богу, мы живем не в средние века, не в варварские времена, когда она была возможна». Итак, правительство заявляло, что оно в принципе ничего не имеет против конституции, но считает ее практически неосуществимой в России. Общество не только соглашалось с последним, но и приводило в пользу неосуществимости в России конституции очень солидные аргументы. И тем не менее первое нашло нужным сделать опыт, а второе очень заволновалось, когда стало ясно, что опыта не доведут до конца. Скромнейшая из реформ Александра II начинает становиться весьма загадочной — и останется для нас таковой, пока мы будем вращаться в заколдованном кругу общества и правительства.
Как ни слабо было объективно брожение, вызванное в среде крестьян «свободой не по их разумению», — по размерам все же, однако, более серьезное, нежели волнения дней Крымской кампании, — на психику верхних общественных слоев оно повлияло очень сильно. Гораздо сильнее, чем в 1854–1857 годах, они чувствовали себя накануне революции. Хладнокровнее всех было, как и тогда, Министерство внутренних дел, сумевшее даже, как увидим ниже, из большой паники извлечь для себя маленькую пользу. Но в черносотенных кругах, стоявших дальше от администрации, ужас был неописуемый. Один монах, ставший впоследствии архиереем, записал в своем дневнике 12 апреля 1862 года: «От генеральши Крыжановской (рожденной Перовской, дочери одного из министров Николая I) я слышал, что мятежники накануне Пасхи раздавали солдатам и народу печатное воззвание о перемене правления и что в пасхальную ночь толпы народа стояли у Зимнего дворца и-ожидали бунта. Полиция до сей поры не могла узнать, где напечатано это воззвание». Одна светская дама, состоявшая в переписке с другим русским архиереем, наверное знала, что «все прокламации были печатаны в Киево-Печерской лавре…»
[108]. «…Общество в опасности, сорванцы бездомные на все готовы, и вам дремать нельзя, — писал в Третье отделение один «честный человек», «не годившийся в доносчики», — на вас грех падет, коли допустите их до резни, а она будет, чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами. Время николаевское ушло». Кровь на каждом шагу мерещилась «честному человеку», страницы его доноса, фигурально выражаясь, политы ею. Вышедший из того же круга автор анонимного письма к Чернышевскому видел своего корреспондента не иначе, как «с ножом в руках, в крови по локоть»
[109]. Но если черносотенные круги неосновательно пугались, то в других кругах те же волнения вызывали не менее неосновательные надежды. «Говорят, что в Петербурге боятся пуще всего Земской думы; опасаются, что с нею начнется революция в России, — писал в том же 1862 году Бакунин. — Да неужели же там в самом деле не понимают, что революция давно началась? Пусть посмотрят вокруг себя, в самих себя, пусть сравнят свое настроение духа с тем, что чувствовалось правительством при императоре Николае, — и пусть скажут: разве это не коренная и не полная революция? Вы слепы, это правда. Но неужели слепота ваша дошла до той степени, что вы думаете — можно воротиться назад или отделаться шутками? Итак, не в том вопрос, будет или не будет революция, а в том:
будет ли исход ее мирный или кровавый?.. В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную Земскую думу…». «Помещичьи крестьяне недовольны обременительною переменой, которую правительство производит под именем освобождения, — писал еще годом раньше «Великорусе»: — Недовольство их проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут». Если есть надежда на мирный исход дела, то только потому, что «крестьяне не организовались еще для общего восстания, эпохою которого будет лето 1863 года, если весна его обманет их…».
Само собою разумеется, что ни в числе испуганных, ни в числе надеющихся не было среднего дворянства: оно, напротив, было в самом радужном настроении. «1861 год видел преобразование, которое составляет эпоху в русской истории, — писал, все в те же дни Чичерин — 1862 год не менее плодотворен. В начале года в первый раз обнародован бюджет; затем в правительственном отчете объявлено, что цензуру книг предполагается уничтожить; теперь публикуются Высочайше утвержденные начала нового устройства суда. Основания их: независимость судей, публичность суда, присяжные. Реформа следует за реформою; общественная свобода и гласность развиваются все шире и шире. Не есть ли это лучший ответ на односторонние суждения, на подозрения недовольных, на возгласы нетерпеливых»? Не только к Бакунину, но и к Чернышевскому дворянский публицист относился в высшей степени отрицательно. В современной ему «левой» публицистике он не видит ничего, кроме «буйного разгула мыслей, умственного и литературного казачества», которое «составляет, к несчастью, проявление одной из исторических стихий русской жизни.
Но ей всегда противодействовали разумные общественные силы, которые поставляли себе задачею развитие общественности и порядка». Вера в эти силы была у Чичерина очень крепка, и это застраховывало его и ему подобных от паники. Последняя царствовала всего безраздельнее в феодальных кругах. Что касается революционных надежд, они концентрировались в трех группах, которые, к удивлению, довольно хорошо различались феодальными кругами при всей приписываемой им Бакуниным «слепоте». Уже цитированный нами монах Порфирий Успенский записал в своем дневнике, между прочим, и следующее: «Сегодня прогуливался в тенистых аллеях Лавры с преосвященным Леонтием и слышал от него вот какие недобрые вести. Теперь у нас три политические партии: первая — герценская — умеренная, домогается конституции; вторая — великорусская — мечтает о славянской федеративной республике, а третья — красная — жаждет безначалия и крови, уничтожения монастырей (это для монаха было всего важнее!), общения женщин и имуществ и разгульного жития…». Подвергнув анализу тогдашние политические программы, мы получим именно три течения, идущие справа налево именно в том порядке, какой давал им черносотенный собеседник нашего монаха:
либерально-монархическое, группировавшееся около Герцена,
буржуазно-демократическое, центром которого была редакция «Современника», откуда и вышел «Великорусе», и
социалистическое, нашедшее свой манифест в известной прокламации «К молодой России»
[110].
«Присмотришься, — у него все еще в нутре московский барин сидит», — говорил о Герцене Чернышевский. Как политический деятель Герцен был спайкой, соединявшей полудворянский либерализм декабристов с буржуазным либерализмом пореформенной России. Прочтите его знаменитые страницы
о мещанстве, едва ли не лучшие страницы во всем Герцене, в «Концах и началах», где он самому себе подвел итог, думая подвести итог европейской истории: отправной точкой всей характеристики является не
будущее, а прошедшее, в будущем этот утопический социалист — недаром так близкий к романтике помещичьего славянофильства 40-х годов — видит чрезвычайно мало утешительного. Весь образованный мир «идет в мещанство»: «Мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна…
Мещанство, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности, — демократизация аристократии, аристократизация демократии; в этой среде Альмавива равен Фигаро, снизу все тянется в мещанство,
сверху все само падает в него по невозможности удержаться. Американские Штаты представляют одно среднее состояние, у которого нет ничего внизу и нет ничего вверху, а мещанские нравы остались. Немецкий крестьянин — мещанин хлебопашества, работник всех стран — будущий мещанин». Вы чувствуете, как жалко автору тех, кто «падает», и как мало у него интереса к тем, кто поднимается до мещанства. Чему тут сочувствовать в самом деле?
«Заработавшая себе копейку толпа одолела, и по-своему жуирует миром. В сильно обозначенных личностях, в оригинальных умах ей нет никакой необходимости… Красота, талант вовсе не нормальны — это исключение, роскошь природы, высший предел или
результат больших усилий целых поколений… Для цветов его (мещанства) гряды слишком унавожены; для его гряд цветы слишком бесполезны; если оно иногда и растит их, то только на продажу». Мы не будем пускаться в споры с Герценом, опровергая банальный, «токвилевский», предрассудок, будто «буржуазия» значит «посредственность» и будто буржуазному обществу нет нужды в оригинальных умах, сильно обозначенных личностях; важно то, что он, социалист, разделяя этот предрассудок, незаметно для самого себя примыкал к тому реакционному течению, которое среди XIX века вздыхало о силе, разнообразии и красоте безнадежно погубленного «мещанами» феодального мира. То, что берегли «целые поколения», утрачено: а что все будут сыты, — это мало трогает Герцена. С большим презрением он признает «право на сытость»: «Нельзя сказать голодному — тебе больше к лицу голод, не ищи пищи». Но как характерно это представление о голоде, который может быть «к лицу», о красивом голоде! И как в этой фразе о «заработавшей копейку толпе» во весь рост встал перед нами человек, не только сам никогда не осквернивший своих рук работой для заработка, но, можно сказать, социально, в ряде поколений, забывший, как это делается!
У политического романтизма есть своя внутренняя, органическая связь. Резкие нападки Герцена на самодержавие Николая I могут навести на мысль о суровом и непреклонном республиканце вроде Пестеля. Увы! Политическая наследственность Герцена ведет, как к ближайшим предкам, не к Пестелю, и даже не к Рылееву, а к Никите Муравьеву или даже к Волконскому или Михаилу Орлову. Непрестанные «оскорбления величества» нисколько не мешали автору «Былого и дум» быть на практике монархистом. Он ненавидел лично Николая Павловича, но даже эта ненависть не была безнадежной. «Царь колеблется и мешает, он
хочет освобождения и препятствует ему. Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли в свою очередь — начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма»
[111]. Николай хочет освобождения крестьян, освобождения без кавычек! Николай понял, что «освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли» (хорошо было бы лицо Николая Павловича, если бы ему кто-нибудь сказал такую фразу!..), — и не приступает к освобождению из «боязни социальной революции»! Можно ли представить себе более фантастическую идеализацию человека, который видел главное свое достоинство в том, чтобы делать ружейные приемы, «как лучший ефрейтор», и ничего так не желал своим подданным, как того, чтобы каждого из них можно было произвести в ефрейторы. Нетрудно догадаться, что случилось с оскорбителем монархов, когда на русском престоле оказался Александр II. «Говорят, что теперешний царь добр»: и вот, на царской «доброте», совершенно как в моральных поучениях XVI века, начинают строиться все политические чаяния вождя русской оппозиции. Нужно видеть то трепещущее нетерпение, с каким Герцен ждет своих «чудес» — проявлений царской доброты к народу. Нужно видеть его негодование, когда чудеса медлят. «Сначала мешала война… Прошла война — ничего! Все отложено до коронации… прошла и коронация — все ничего»! «А ведь как легко было сделать чудеса — вот что непростительно, вот чего мы не можем вынести»! И как в XVI веке, виноват, конечно, не царь. Виноваты его советники, «закоренелые в рабстве слуги Николая. Они погубят Александра — и как жаль его! Жаль за его доброе сердце, за веру, которую мы в него имели…». А когда первое из «чудес» — чисто николаевский по духу рескрипт от 20 ноября 1857 года — наконец явилось, как ликовал Герцен! «Ты победил, галилеянин»! Даже после того, как стало ясно, что галилеянин разбит наголову, что вместо эмансипации вышла экспроприация, он не совсем утратил свои надежды. «Кто же будет суженый»? — спрашивал он после 19 февраля, читая, как народ, в ответ на «волю», «дошел чуть ли не до открытого мятежа». «Император ли, который, отрекаясь от петровщины, совместит в себе царя и Стеньку Разина? Новый ли Пестель, опять ли Емельян Пугачев?..». Уж очень крепка была его теория о социальной роли самодержавия. «Русское императорство родилось из царской власти ответом на сильную потребность
иной жизни. Это военная и гражданская диктатура, гораздо больше сходная с римским цезаризмом, нежели с феодальной монархией…
Но императорство не сильно, как скоро оно делается консервативным. Россия отреклась от всего человеческого, от покоя и воли, она шла в немецкую кабалу только для того, чтобы выйти из душного и тесного состояния, которое ей было не под лета. Вести ее назад теми же средствами невозможно. Только идучи вперед к целям действительным, только способствуя больше и больше развитию народных сил при общечеловеческом образовании, и может держаться императорство…»
[112].
Итак, самодержавие может быть фактором прогресса — вопрос в личности самодержца, в понимании им своей роли. «Одна робость, неловкость, оторопелость правительства мешает ему видеть дорогу, и оно пропускает удивительное время. Господи! чего нельзя сделать этой весенней оттепелью после николаевской зимы; как можно воспользоваться тем, что кровь в жилах снова оттаяла, и сжатое сердце стукнуло вольнее! Мало чувств больше тягостных, больше придавливающих человека, как сознание,
что можно теперь, сейчас ринуться вперед, что все под руками и что недостает одного понимания и отваги со стороны ведущих. Машина топится, готова, жжет даром топливо, даром теряется сила, а все оттого, что нет смелой руки, которая бы повернула ключ, не боясь взрыва. Пусть же знают наши кондуктора, что народы прощают многое — варварство Петра и разврат Екатерины, прощают насилия и злодейства, если они только чуют силу и бодрость мысли. Но непонимание, но бледная шаткость, но неуменье воспользоваться обстоятельствами, схватить их в свои руки, имея неограниченную власть, — ни народ, ни история никогда не прощают, какое там доброе сердце ни имей». Мы начинаем понимать, почему можно было быть одновременно другом Герцена и Николая Милютина: только когда Кавелин высказался категорически
против конституции, ему пришлось выбирать между двумя своими друзьями. Считать себя «представителем мысли восстания в России» — и идти рука об руку с людьми, которые открыто заявляли, что не только восстания, а и никаких политических гарантий России вовсе не нужно — это было уж слишком нелогично; Европа обязывала. Но России издавна была знакома особая форма восстания, не известная Европе: бунт на коленях. К этой форме Герцен не относился так сурово, как отнеслись бы к ней декабристы, ставшие, правда, на колени, но лишь тогда, когда их бунт был уже раздавлен. Недаром около Герцена группировались последние «маркизы Позы», — Серно-Соловьевич, так названный самим Герценом, был не один. Очень близок к издателю «Колокола» был Мартьянов, долгое время едва известный по имени и только недавно «открытый» послереволюционными раскопками в нижних ярусах «общественного движения». «Торговый мужик», по московской терминологии, купец из крепостных крестьян графа Гурьева, отпустившего его на волю чуть не нагишом, он, как его предки, торговые мужики Московской Руси, обратился к Александру II с настоящей челобитной, за которую можно ручаться, что она если не написана, то, во всяком случае, проредактирована Герценом. Устами «простого крестьянина», его «безыскусственным» стилем можно было сказать много такого, что не напечатаешь за своей подписью в «Колоколе», все из-за той же Европы. Герценовская редакция дорого обошлась Мартьянову, — немедленно по возвращении в Россию он попал на каторгу, конечно, не за свое во всех отношениях благонамеренное «письмо», а за слишком сквозившую из-за этого письма дружбу с «лондонскими пропагандистами». Гораздо более известный, чем Мартьянов, Сер-но-Соловьевич за подобное же непосредственное обращение к Александру II — по крестьянскому делу — получил не каторгу, а высочайший поцелуй устами председателя главного комитета кн. Орлова; и если и Серно-Соловьевича впоследствии постигла участь Мартьянова, то это было опять-таки в связи с «лондонскими пропагандистами»
[113]. Что эти челобитчики по призванию — как увидим дальше, и конституцию для России Серно-Соловьевич надеялся «отхлопотать» путем челобитной — тянули именно к Герцену, это очень характерно, конечно, но еще характернее, что герценовский романтизм разделялся даже такою на первый взгляд антимонархическою фигурою, как Бакунин. «Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль, — писал Бакунин (в 1862 году, заметьте это), — Александр II мог бы так легко сделаться народным кумиром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью, свободою, благоденствием своего народа. Опираясь на этот народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянского мира… Он и только он один мог совершить в России величайшую и благодетельнейшую революцию,
не пролив капли крови. Он может еще и теперь: если мы отчаиваемся в мирном исходе, так это не потому, чтобы было поздно, а потому, что мы отчаялись, наконец, в способности Александра Николаевича понять единственный путь, на котором он
может спасти себя и Россию. Остановить движение народа, пробудившегося после тысячелетнего сна, невозможно. Но если б царь стал твердо и смело во главе самого движения, тогда бы его могуществу на добро и на славу России не было бы меры…»
[114]. Видеть будущего главу европейского анархизма хоть на минуту в роли «челобитчика», — это ли, казалось, было не утешение для российской монархии? А Сенат Александра Николаевича за одно знакомство с Герценом и Бакуниным приговаривал людей в каторгу. Какое горькое недоразумение, скажет читатель. Сенат лучше понимал сущность российского самодержавия, скажем мы.
Но кто говорит
а, должен сказать и
б. Раз. веришь в монархию, нужно верить и в
дворянство. Органическую связь двух этих институтов установил еще Монтескье так прочно, что к его аргументации до сего дня нечего ни прибавить, ни убавить
[115]. Что Герцен возлагал надежды на дворянство в деле освобождения крестьян, это было еще не так наивно: мы знаем, что крестьянскую реформу провели, в конечном счете, именно сами помещики так, как им было выгодно и надобно. Только не стоило взывать к дворянству по этому поводу: дело совершилось бы само собою, к этому шло, и вопрос в середине 50-х годов (когда написан «Юрьев день») был не в том, освободят ли крестьян, а в том,
как их освободят. В этом последнем случае Чернышевский оказался куда проницательнее Герцена, так и не разглядевшего ловушки, которую ставило крестьянину «освобождение с землей». Гораздо наивнее была попытка поднять дворянство на эмансипацию
политическими мотивами. «Мы рабы, потому что мы господа… Нет свободы для нас, пока проклятие крепостного состояния тяготит над нами, пока у нас будет существовать гнусное, позорное, ничем не оправдываемое рабство крестьян… Больно, если освобождение выйдет из Зимнего дворца, власть царская оправдается им перед народом и, раздавивши вас, сильнее укрепит свое самовластие, нежели когда-либо». Но, во-первых, для того, чтобы провести «освобождение» так, как нужно было помещикам, «самовластие» было совершенно необходимо: без него ничего бы не вышло. А во-вторых, утверждение, будто наши помещики николаевской эпохи были «рабами», фактически неверно. Раб в своей частной жизни, в своих семейных отношениях, в своем имуществе всецело зависит от барского произвола. В частную жизнь дворянства самодержавие, начиная с царствования Александра Павловича, уже более не вмешивалось, — Павел слишком дорого заплатил за попытку подобного вмешательства. Чтобы попасть под перуны Третьего отделения, нужно было иметь какое-нибудь касательство к политике — или быть, по крайней мере, литератором, либо купцом (см. то, что говорилось выше по поводу судебной реформы); но многие ли из дворян занимались литературой, и что им было за дело до купцов? Подавляющее большинство провинциальных помещиков чувствовало себя при Николае, до 1848 года, как нельзя более «свободно»; жандармский штаб-офицер был отличным партнером для виста, а иногда и желанной «выручкой» в семейных делах деликатного свойства, которых не хотели доводить до суда. Те, кто служил в столицах, сильнее чувствовали тяжелую руку Николая, но на службе, а не у себя в семейном быту. За то же они делали карьеру, — все на свете оплачивается. После 1848 года тяжелая рука стала чувствоваться сильнее всюду, но зато опасность, что «освобождение выйдет из Зимнего дворца», исчезла самым радикальным образом. Словом, аргументация Герцена била мимо цели, но он этого не замечал. Прошло уже 19 февраля, а он все еще верил, что с дворянством стоит разговаривать на политические темы. Когда Кавелин сказал свое, в сущности, трезвое слово, что дворянству в России никаких политических гарантий не нужно, Герцен с ним порвал. В бумагах Серно-Соловьевича полиция нашла «герценовскую» конституцию, теперь напечатанную
[116]: «Проект Уложения императора Александра II». Мы имеем право назвать проект «герценовским», — Серно-Соловьевич был слишком близок к герценовским кругам, чтобы серьезнейшее дело его жизни осталось для этих кругов незнакомым. А горячая симпатия самого Герцена к автору проекта ручается, что в политических взглядах Серно-Соловьевича не было ничего, что бы Герцена шокировало: к тем, с кем издатель «Колокола» расходился, он не был столь милостив
[117]. Достаточно привести два первых параграфа «Уложения», чтобы оценить его
политический размах: «1) Верховная власть в России принадлежит Государю Императору, особа которого считается священною и неприкосновенною. Порядок престолонаследия определяется сообразно доселе действовавшим законам. Сумма на содержание Государя Императора и Августейшего Дома определяется ежегодно Его Величеством. 2) Верховная власть составляет высшую степень управления государством,
под ее ведением действуют власти; законодательная, исполнительная и судебная»… Как видим, это много умереннее самой умеренной из декабристских конституций: и нет ничего мудреного — Серно-Соловьевич был в тысяче верст от мысли о каком бы то ни было восстании. Для осуществления своего проекта он рассчитывал исключительно на «доброту» Александра II, которому и предполагалось подать проект при верноподданническом письме, составленном, конечно, в соответствующих выражениях
[118]. Но еще любопытнее политической умеренности проекта его
социальный консерватизм.
«Выборы в Народное собрание производятся… отдельно по сословиям», гласит § 8. Дворянство каждой губернии, какова бы ни была его численность, имеет в Народном собрании двух депутатов, тогда как горожане имеют по одному депутату на 50 000 жителей, а сельское население — по одному на 100 000. Причем круг лиц, которых может избирать последнее, страшно сужен, благодаря образовательному цензу: депутат от крестьян непременно должен кончить хотя бы низшую школу. Можно себе представить, сколько было крестьян со школьным образованием в 1862 году! Избирательный закон, действовавший у нас до 3 июня 1907 года, был чрезвычайно либерален сравнительно с проектом Серно-Соловьевича, — и находились неблагодарные, которым этот закон казался ультрареакционным…
Итак, октроированная, дарованная сверху конституция, опирающаяся на «народное собрание» из представителей «образованных классов» — с очень ограниченными полномочиями (оно не могло, например, касаться внешней политики, за исключением вопросов, «предоставленных собранию Высочайшей волей») — и гарантирующая элементарные «свободы», понимаемые, впрочем, не широко и формулированные не особенно определенно. Не оговорено, например, категорически уничтожение
всякой цензуры, — сказано лишь глухо: «Всякий имеет право беспрепятственно высказывать печатно свои мнения» (§ 55). Буквально дальше упразднения
предварительной цензуры отсюда ничего еще не вытекало. Нет свободы совести: говорится лишь о «праве беспрепятственно придерживаться своего религиозного верования и отправлять богослужение по учению своей церкви» — прекращение преследования раскольников формально уже удовлетворяло это требование. О свободе собраний нет ни слова. Весьма бледная
умеренно-либеральная программа — вот как можно охарактеризовать «проект Уложения императора Александра II». Для левого крыла тогдашней русской журналистики уже за три года до работы Серно-Соловьевича эти рамки казались слишком тесными. «Либералов совершенно несправедливо смешивают с радикалами и демократами, — писал Чернышевский еще в 1858 году. — У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву, свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы. С теоретической стороны, либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливою судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, — скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений? — Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм повсюду обречен на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа»
[119].
Сообразно с таким пониманием дела «Великорусе» очень мало занимается конституционными деталями. «Все согласны в том, какие черты законного порядка должна установить конституция, — говорят его авторы. — Главные из них: ответственность министров, вотирование бюджета, суд присяжных, свобода исповеданий, свобода печати
, уничтожение сословных привилегий, самоуправление по областным и общинным делам». Все это, кроме подчеркнутого нами, есть в менее решительной форме и у Серно-Соловьевича; но насчет того,
как всего этого достигнуть, «Великорусе» держался радикально противоположного мнения. «Но чего требовать? Того, чтобы государь даровал конституцию, или чтобы он предоставил нации составить ее? Правительство не умеет порядочно написать даже обыкновенного указа; тем менее сумело бы оно составить хорошую конституцию, если бы и захотело. Но оно хочет сохранить произвол; потому под именем конституции издало бы оно только акт, сохраняющий при новых словах прежнее самовластие. Итак,
требовать надо не октроирования конституции, а созвания депутатов для свободного ее составления». Раньше народного собрания должно быть учредительное собрание: вот первый кардинальный пункт расхождения «либералов» и «демократов» в их практической программе. Но для превращения проекта Серно-Соловьевича в русскую конституцию ничего не нужно было, кроме доброго сердца Александра II: для того, чтобы добиться учредительного собрания, требовалось, очевидно, гораздо большее. После низвержения существующего правительства, учредительное собрание разумелось само собой: так ставили дело декабристы. Но в руках декабристов была реальная сила, при помощи которой они надеялись достигнуть своей цели — этой силой было войско. В руках Чернышевского и его кружка никакой реальной силы не было, — тут-то и была ахиллесова пята российского демократизма 60-х годов. О рабочих, или, как их звали тогда, «работниках», никто не думал: общественное значение пролетариата стало сознаваться в России, и то не всеми, лет на пятнадцать позже. Пробовали добраться до крестьян: есть все основания думать, что ненапечатанная прокламация «К барским крестьянам», за которую был сослан на каторгу Чернышевский, написана действительно им — хотя судившему его Сенату и не удалось этого доказать
[120]. «Великорусе» отводит крестьянскому вопросу первое место — гораздо выше конституции (которая упоминается после даже «освобождения Польши»). С большой уверенностью толкует он о «партиях», существующих между помещичьими крестьянами, и очень твердо ставит решение вопроса: «Для мирного водворения законности необходимо решить крестьянский вопрос в смысле удовлетворительном по мнению самих крестьян, т. е. государство должно отдать им, по крайней мере, все те земли и угодья, которыми пользовались они при крепостном праве, и
освободить их от всяких особенных платежей или повинностей за выкуп, приняв его на счет всей нации». Но на помощь
самих крестьян в деле можно было рассчитывать лишь для более или менее отдаленного будущего: при данном уровне крестьянской сознательности так легко было вместо демократии получить черносотенную пугачевщину, — и Чернышевский отлично это понимал. Недаром он в своей прокламации наставляет помещичьих крестьян — «покуда пора не пришла, силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит,
спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку, что ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет. Это значит только дело портить, да себя губить». Но раз крестьянская «сила» пока что должна была оставаться в резерве, что же можно было двинуть в первую линию? «Либералы» хлопотали о «ценностях», которые не многого стоили, но у них было кому хлопотать: они обращались к дворянству. «Демократы» очень хотели бы «уничтожить преобладание высших классов над низшими», «уменьшить силу и богатство высших сословий», но — увы! — и им не к кому было обратиться, кроме, в сущности, тех же «высших сословий». Чернышевский и руками, и ногами отбивается от этой неизбежности. В «Письмах без адреса» (обращенных, как известно, к Александру II, так трудно было выбиться из этой колеи даже Чернышевскому!) он еще пытается теоретически обойти этот подводный камень, чрезвычайно искусственно отделяя «просвещенных людей всех сословий» от «помещиков», которые, тремя строками ниже, разумеется, возвращаются на свое законное место в ряду «просвещенных людей»: ибо велика ли была в 1861 году интеллигенция вне дворянских кругов? «Великорусе» уже разочаровался в этой алхимии — с «образованными классами» он оперирует как с понятием само собою разумеющимся. А кто такое на самом деле эта «просвещенная часть нации» — догадаться нетрудно: «Мы не поляки и не мужики. В нас стрелять нельзя… Прямо противиться требованию, выраженному
всем образованным русским обществом, она (династия) не может. Пусть каждый подумает, возможно ли с Москвою и Петербургом поступить так, как с Варшавой, Вильной или каким-нибудь селом Бездной»? Но уж из «всего»-го образованного общества помещиков никак нельзя было изгнать. А взяв в кредит социальный базис «либералов», как отрешиться было от их методов действия? И начавший с такого правильного, так решительно заявленного утверждения, что от правительства ничего не дождешься и не добьешься, «Великорусе» заканчивает проектом всеподданнейшего адреса, написанного, правда, приличнее, чем писались обыкновенно дворянские адреса, но по существу ставившего все дело в полную зависимость от «благоволения» Александра Николаевича. А если бы он не соблаговолил? Что оставалось делать? Грозить мужицкими топорами, как это до чрезвычайности наивно делал Герцен в своем «Юрьевом дне»? Угроза, правда, могла подействовать наверху — там уже были напуганы; но при первой попытке реализовать угрозу страх так же быстро прошел бы, как случилось это перед крестьянской реформой. «Общественное мнение» без рук никогда и нигде многого не могло сделать. Мужицкие руки были обоюдоострым оружием, — слишком загадочно было употребление, какое найдут нужным дать им их владельцы. Оставались руки, правда, не сильные, мозолистые, а слабые «интеллигентские», не мускулистые, зато нервные и, казалось, готовые сию же минуту пуститься в рукопашную. Уже герценовские круги апеллировали к «молодому поколению»: но как ни популярен был в среде молодежи Чернышевский
[121], оно попыталось найти собственную дорогу и выдвинуло своеобразную программу — единственную из программ тех лет, которая не осталась в области слов, а нашла себе воплощение и в поступках — вернее, в одном поступке, в одном жесте. Из движения молодежи в начале 60-х годов вышла первая проба русского революционного социализма, упершаяся, как в свой финал, в покушение Каракозова.
Либеральное течение, концентрировавшееся около кружка друзей Герцена, опиралось, как на свою социальную базу, на группу левых дворян, не позабывших еще традиций 20-х годов, и, в сущности, очень плохо понимавших «деловые» интересы того дворянского авангарда, который вел реформы 60-х годов. Этот авангард пользовался «Колоколом», когда нужно было бороться с феодальной камарильей, всегда имевшей возможность зажать рот домашней, не зарубежной, подцензурной печати. Зажать рот лондонским эмигрантам было нельзя — и камарилья боялась их, как боялась она всего, до чего не могла достать руками. Но когда дело было сделано, реформа от 19 февраля, худо ли, хорошо ли, прошла, в «Колоколе» больше не было необходимости: дальнейшее можно было отстаивать и при помощи подцензурной прессы. Герцен должен был утратить влияние — или перейти на более левую позицию. Он смутно понимал это, стал нерешительно, ощупью сближаться с революционными кругами: известный эпизод с агентом «Земли и воли» — несмотря на свое как бы социалистическое название, в сущности, демократического кружка, очень близкого по своей программе к «Великоруссу» — показывает, какими комическими недоразумениями чревато было сближение наследника декабристов с предшественниками народовольцев. Что может быть забавнее этой оценки сил тайного общества арифметически — по числу «голов», в него завербованных! Тщетно Огарев уверял своего друга, что одна такая голова, как его, Герцена, стоит больше тех трех тысяч, в существовании которых сомневался (и, вероятно, основательно сомневался) издатель «Колокола». В конце концов, он примкнул к той революции, которую мог понять: к польской. Польские революционеры, как две капли воды, были похожи на итальянских — иные из них и вышли прямо из гарибальдийских дружин: это было Герцену знакомо. Но тут уже всякие точки соприкосновения с прежней герценовской публикой были потеряны. Манчестерские дворяне не для того начали свои реформы, чтобы оборвать их на втором Севастополе: а поляки, сознательно вызывая вмешательство Наполеона III и Англии в русские дела, вели именно ко второму Севастополю. В довершение несчастия, и полякам-то Герцен был нужен именно из-за своего влияния на обычную публику «Колокола»: в сочувствии революционных кругов в России они и без того были уверены. Потеряв своих дворянских читателей, Герцен лишился всякой социальной опоры — политически он теперь не представлял никого. Публика Чернышевского была прочнее, — недаром «Великорусе», по признанию даже его идейных противников слева, был популярнее всей остальной литературы того времени. Но это опять была публика из зажиточных слоев общества, и в этом отношении сам лидер «великоруссцев» не составлял исключения: Чернышевский, по показанию его самого, зарабатывал до 10 тысяч в год (до 20 тысяч золотом на теперешние деньги), имел экипажи, лошадей и собственную дачу в аристократическом Павловске. И в его лице, таким образом, — а в лице его последователей тем менее — русская революция не выходила из того круга «порядочных людей», где она основалась со времен тайных обществ 20-х годов
[122].
Со студенчеством, выступившим на политическую сцену в «беспорядках» 1861 года, мы попадаем в самый нижний слой русского революционного движения, ниже которого оно почти не спускалось до наших дней, впервые увидевших десятки тысяч
политических ссыльных из крестьян и рабочих. Известный историк Ешевский — один из тех, кто сожалел, что у совета Московского университета не было в руках «материальной силы» для усмирения студенчества: человек, стало быть, «объективность» которого никакому сомнению подлежать не может — оставил в своих записках великолепную характеристику студентов 60-х годов как социальной группы. Подавляющее большинство составляли бедняки, приходившие часто пешком в Москву «из отдаленных губерний». Возвышение платы за ученье Ешевский считает ближайшим толчком к беспорядкам, а участие в них поляков объясняет тем, что «большинство поляков и уроженцев западных губерний в Московском университете отличались крайней бедностью». Дело, конечно, не было так экономически просто — и роль поляков, например, гораздо лучше объясняется тем, что это была политически наиболее развитая и наиболее революционно возбужденная уже тогда часть академической молодежи. Но, во всяком случае, поляки и неполяки, — это были люди, не имевшие ни своих лошадей, ни дач в Павловске: это не был пролетариат в социально-экономическом смысле, но это были «пролетарии» в смысле бытовом — для которых вопрос о добывании насущного хлеба был центральным вопросом существования. Аргументировать, обращаясь к ним, от опасности крестьянского восстания, как это делал «Великорусе», — было бы смешно. Прельщать их «приличной» конституцией, с «народным собранием» из помещиков и чиновников — было бы издевательством. Что с ними надо говорить иным языком, затрагивать иные мотивы — это понимал даже и Герцен, или, по крайней мере, самые живые из «герценовцев». — Прокламация «К молодому поколению» — современница «Великоруссов»: она помечена сентябрем 1861 года — еще не вполне свободна от воспоминаний о герценовском романтизме; правительство еще может «поправить беду» — «но пусть же оно не медлит»; в дворянство «мы не верим», но автор верит все же, что дворянство
могло бы отхлопотать конституцию, если бы
захотело. «Когда государь сказал им: «Я хочу, чтобы вы отказались от своих прав на крестьян», им следовало ответить: «Государь, мы согласны, но и вы должны отказаться от безусловной власти, вы ограничиваете нас, мы хотим ограничить вас». Это было бы последовательно, и в руках дворянства была бы конституция. Дворянство струсило, в нем недостало единодушия». Горько было признаться, что те, на кого надеялись, не оправдали надежд: но это значило признаваться в то же время и в существовании этих надежд. Еще сильнее в «Молодом поколении» другая сторона герценовского романтизма: «Кто может утверждать, что мы должны идти путем Европы, путем какой-нибудь Саксонии или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России?.. Мы не только можем, мы должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала, вовсе не известные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. Мы можем точно прийти, если наденем на себя петлю европейских учреждений и ее экономических порядков; но мы можем прийти и к другому, если разовьем те начала, какие живут в народе». Но в этой форме герценовский романтизм был действительно интегральной частью русского утопического социализма, именуемого народничеством. Здесь шла спайка не между декабристами и дворянскими манчестерцами, а между Герценом и русскими революционерами 70-х годов: этой стороны Герцена удобнее поэтому коснуться, говоря о позднейшей «Земле и воле». Там мы увидим, что этим предрассудком одинаково грешили и «либералы», и «демократы». Беря же «Молодое поколение» в его ближайших хронологических рамках, рассматривая его как памятник революционного движения, современного «великим реформам», мы найдем в нем меньше предрассудков, нежели даже в «Великоруссе». Тот еще верил в «просвещенную часть нации». «Надо обращаться не к обществу, а к народу», — писал Михайлов в своем ответе «Великоруссу» (ответе, напечатанном Герценом с оговоркой, что редакция «Колокола» «не совершенно согласна» с его автором: напечатать это меткое возражение Чернышевскому было так приятно — но не брать же на себя ответственность за все «крайности»). «Общество никогда не пойдет взаправду против правительства и никогда не даст народу добровольно, чего тому нужно. Общество — это помещики-чиновники, у которых одни начала, одни стремления с правительством, общность интересов, общность преступлений, стало, серьезной вражды быть не может; могут быть только размолвки о том, чтобы поровнее делиться правом теснить и грабить народ». В «Молодом поколении» сквозит мысль, может быть, еще и не осознанная его автором как следует, — что в борьбе с правительством нужно опираться не на тех, кто политически недоволен, но, в сущности, сыт и благополучен, — а на тех, кто
экономически угнетен: первые могут стать лишь «оппозицией Его Величества», как часто стали говорить позже, — лишь вторые могут явиться опорой революционного движения. «Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий; затем все
угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола — чиновники, эти несчастные фабричные канцелярий, обреченные на самое жалкое существование и зависящие вполне от личного произвола своих штатских генералов; войско, находящееся в таком же положении, и 23 миллиона освобожденного народа, которому с 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату». Выше еще упоминается городское мещанство, «эта неудавшаяся русская буржуазия, выдуманная Екатериной II. И какие они tiers-état! Те же крестьяне, как и все остальные, но без земли, бедствующие, гибнущие с голоду. Им должна быть дана земля».
В этом спасении всех от всех бед при помощи
земли — главная оригинальность
социальной программы «Молодого поколения». «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел,
чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту; чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины, т. е. или приписаться к общине существующей, или несколько граждан могли бы составить новую общину». Национализация земли еще не социализм, — но среди буржуазной демократии зачатки социализма всегда были связаны с «аграрными законами»: так было уже во дни Великой французской революции. Во всяком случае, это
предельная демократическая реформа — за ней уже некуда идти, кроме социализма. Политическая программа «Молодого поколения» не отличается большой выдержанностью, — видно, что писали ее люди неопытные. Рядом с такими радикальными требованиями, как уничтожение
всякой цензуры, как избирательность
всех властей, как упразднение дворянства и всяких сословных привилегий, стоят такие наивности, как «уничтожение императорской полиции» (откуда же она взялась бы при выборности всего состава управления?) или упразднение министерства императорского двора (где был бы этот двор, если бы хоть половина требований «Молодого поколения» осуществилась?). Но как первая попытка представить себе, хотя в неясных очертаниях, российскую демократию, прокламация замечательна даже и в этих частях. Последующие «молодые поколения» пошли дальше, вовсе отбросив заботу о политике, а национализацию земли развив в полную схему аграрного социализма, но они шли по тому же пути. С наивной местами прокламации приходится датировать начало революционного народничества: кто бы ни был автор, Михайлов или Шелгунов (вероятнее последнее), с политической борьбой в России он связан прочнее, чем кто бы то ни был из его современников после Герцена и Чернышевского. И что всего интереснее исторически, он первый наметил не только содержание будущей революционной программы, а и основные приемы революционной тактики:
конспирация и
пропаганда как методы борьбы впервые в неразрывном сочетании названы им же. «Для страны, находящейся под вековым рабством, нет другого средства сбросить иго, как
тайные союзы, — писал он, возражая против адресной кампании «Великоруссов». — Назовите из целой истории хотя одно удавшееся народное движение, совершенное без них, или одно, без них удавшееся»? «Говорите чаще с народом и солдатами, — учит он «Молодое поколение» в своей прокламации, — объясняйте им все, что мы хотим, и как легко этого достигнуть: нас — миллионы, а злодеев — сотни… Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко…». В отдельности ни тот, ни другой совет не были новостью: тайные общества декабристов при всей своей слабости и неорганизованности были куда сильнее всех кружков 60-х годов. Но декабристы не занимались, или почти не занимались, ни агитацией, ни пропагандой. Чернышевский, как мастер и в том, и в другом, был куда сильнее Михайлова, да и всех тогдашних социалистов, в кавычках и без оных: его журнальные статьи сохраняют свое пропагандистское значение доселе, и наша нелегальная литература знает мало агитационных произведений такого совершенства, как прокламация «К барским крестьянам». Но он рассчитывал действовать исключительно массовыми, притом, по возможности, легальными средствами: адрес «Великоруссов» был таков, что его действительно можно было обсуждать, не боясь полиции, в клубах и на журфиксах, за карточным столом и вокруг самовара, — как он сам советовал. Идею конспиративного общества для пропаганды мы впервые находим в «Молодом поколении», — оно первое наметило форму, не изжитую русским революционным движением до последних дней.
Молодое поколение — русское студенчество начала 60-х годов — представляло собою в 1861 году очень благодарную почву. Феодальная камарилья, которая тоже обратила на него свое внимание и по-своему хотела повлиять на него, как и часто после, вела блестящую агитацию в пользу революционеров. Она не нашла ничего остроумнее, как поставить во главе русских университетов в качестве министра народного просвещения свирепого и тупоумного ханжу — гр. Путятина. Моряк по профессии, к своей «просветительной» деятельности он готовился на корабле николаевских времен, где ничего не стоило пожертвовать жизнью нескольких матросов, чтобы поставить паруса двумя минутами раньше, чем у других. Фанатический поклонник Православной Церкви, он в одном отношении предпочитал ей Католическую: там был «авторитет», был Папа, которого, как капитана на корабле, никто не смеет ослушаться. Он долго жил в Англии, женился на англичанке и очень любил английскую морскую дисциплину; кроме флота, он находил в Англии и еще нечто, достойное подражания — английские университеты, с их аристократическим строем и той же дисциплиной: более ничего в Англии он не заметил. Должно быть, его разговоры о дисциплине и университетах в Англии и дали ему в Петербурге репутацию знатока университетских дел. Он сейчас же начал заводить дисциплину и «аристократизм», — последний самым простым из всех способов: сразу, без всякого предупреждения, повысив плату за ученье. Освобождение от платы допускалось только в виде редкого исключения: в Московском университете, где раньше освобождалось от платы 150–200 человек, по новым правилам этой льготой могло воспользоваться лишь 18! Без взноса денег не принимали даже прошения о поступлении в университет, хотя повышенная плата была введена совершенно внезапно. «Рязанские семинаристы, пришедшие пешком в Москву на экзамен, — рассказывает Ешевский, — не имея возможности не только держать его, но и подать просьбу, жили в Москве чуть не милостыней день за день, потому что им не с чем было возвратиться домой». Счастливцы, попавшие в университет, оказывались опутанными сетью мелких полицейских правил, преследовавших ту великую цель, чтобы в университете дисциплина была не хуже, чем на николаевском корабле. Результатом были волнения осенью 1861 года, в Петербурге дошедшие до вмешательства вооруженной силы и заключения нескольких сот студентов в Петропавловскую крепость. Капитана университетского корабля этот шквал унес за борт, но волны долго не могли улечься; в сущности, до полного штиля николаевских времен дело уже никогда снова не доходило. В 1861 году русское студенчество получило политическое крещение, и именно с тех пор «студент» в устах черносотенной толпы стало синонимом «неблагонадежного». Немудрено, что когда весною следующего года в Петербурге произошло подряд несколько очень крупных пожаров, «общественное мнение» немедленно приписало их студентам. Есть все основания думать, что такое убеждение было созданием не одной только стихийной силы, с которою сами боги боролись тщетно, — человеческой глупости, — но что природе тут помогло искусство. Тогдашний директор департамента полиции, гр. Толстой, прямо признается в своих записках, что правительство в лице министра внутренних дел Валуева «воспользовалось этим обстоятельством (пожарами), чтобы восстановить свой авторитет, столь сильно поколебленный в последнее время»
[123]. Если использование пожаров с целью поднятия правительственного авторитета не было доведено до конца, то, по уверению Толстого, лишь потому, что инициатива Валуева не была достаточно оценена, так что в конце концов он добился только усиления петербургской полиции гвардейскими солдатами, да экстренного ассигнования в 300 000 рублей. Но это были, так сказать, организационные результаты политики Валуева, психологический же эффект ее был гораздо полнее: чуть не все «образованные классы» — от светской дамы, писавшей тверскому архиерею, что студенты собираются перерезать всех дворян за их преданность престолу, до профессора Кавелина — были в разной степени убеждены, что пожары не обошлись без участия «революционеров». И раньше некрепкая связь «просвещенной части нации» с революцией была порвана окончательно, и последний удар нанесла ей сама революционная молодежь, как раз в это самое время выступившая впервые с манифестом уже совершенно социалистического характера. То была знаменитая прокламация «Молодая Россия». Нам теперь крайне трудно объективно отнестись к этому произведению, — так оно юно, и в своей юности, не побоимся употребить это слово, нелепо. Теперь не только студенты, а и гимназисты наверно сумели бы написать что-нибудь гораздо более толковое и последовательное. Но теперь столько трафаретов, готовых формул, отштампованных схем — только выбирай. «Молодая Россия» была
первой попыткой русской социалистической молодежи формулировать свои требования и свои надежды. С иностранной литературой ее авторы, по-видимому, вовсе не были знакомы, никаких следов того, чтобы они читали, например, «Коммунистический манифест», не заметно: им поневоле приходилось быть вполне оригинальными. Притом надо было торопиться: время, по их представлению, не терпело, да и места в их распоряжении было немного, в одной прокламации нужно было высказать все — дать и критику настоящего, и программу будущего, и способы осуществления этой программы. «Волнуясь и спеша» «Молодая Россия» громоздит в одну гигантскую кучу весь «старый порядок». «В современном общественном строе… все ложно, все нелепо, от религии до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которой не выдерживает даже поверхностной критики, от узаконения торговли, этого организованного воровства, и до признания за разумное положение работника, постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист; женщины, лишенной всех политических прав и поставленной наравне с животными» (!). При такой спешке, — читатели заметили, что в последней фразе, о женщине, нет ни подлежащего, ни сказуемого, — что мудреного, если в перечне практических требований «Молодой России» мы находим невообразимую чехарду, где рядом стоят уничтожение брака и уничтожение монастырей, «увеличение в больших размерах жалованья войску» и замена этого войска «национальной гвардией». Но мы обнаружили бы большое легкомыслие, если бы только посмеялись над этим ученическим произведением и отошли прочь. Историки литературы не гнушаются ученическими стихотворениями Пушкина, в них они находят зародыши мотивов, игравших впоследствии в творчестве Пушкина серьезную роль. В «Молодой России» впервые, после Пестеля и его товарищей, — а печатно вообще впервые на Руси, — произнесено слово «республика». Нужно оценить, какой подъем настроения предполагало это слово в те дни, когда даже Бакунин на «царскую доброту» возлагал по крайней мере половину своих надежд… В ней впервые поставлены вопросы
о прогрессивном подоходном налоге, о даровом обучении в школах всех типов,
о замене постоянной армии милицией, о полном и безусловном равноправии женщин. По части национализации земли и выборности всего чиновничества нечего было прибавить уже к прокламации Шелгунова: тут «Молодая Россия» только повторяет «Молодое поколение». Но она делает шаг еще дальше по направлению к социализму, по крайней мере, субъективно, в своем понимании «социализма». «Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет; требуем заведения общественных лавок, в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорейшего обогащения». Кооперативные мастерские и кооперативные лавки — еще не социализм, конечно, но давно ли их перестали смешивать с социализмом?
Уже своим
содержанием эти требования должны были показаться донельзя дикими не одним темным черносотенцам, монахам и светским дамам, а и многим из читателей Герцена. Но что окончательно должно было привести последних в ужас, — это тот
способ, каким «Молодая Россия» надеялась провести свои требования в жизнь. И Герцен, и Чернышевский не прочь были поиграть на идее народного восстания
[124]. Но и у того, и у другого эта неприятная вещь рисовалась как отдаленная перспектива; в их читателях она вызывала трепет, скорее приятный — как у людей, которые смотрят на далекий пожар: до нас, слава богу, не дойдет. Читая «Молодую Россию», они должны были испытывать то же, что почувствовали бы люди, имеющие несчастие жить рядом с пороховым погребом, видя, как какие-то молодцы с горящими папиросами в зубах подваливают к погребу кучи соломы. Люди обсуждали вопрос — подавать адрес или нет (а вдруг сошлют?), а тут им говорят, что единственный выход из настоящего положения «революция, революция кровавая и неумолимая — революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». «Прольется река крови, погибнут, может быть, и невинные жертвы». Нет, это уж что же такое! — должен был воскликнуть самый либеральный помещик, вполне согласный, что адрес подать нужно, и готовый даже забастовать в подкрепление своих требований (тверские дворяне в 1860 году после столкновения с правительством отказались производить выборы в губернские должности). Как силен был вопль, поднявшийся из этой либеральной среды, показывает лучше всего тот факт, что Бакунин, и здесь представлявший собою эхо редакции «Колокола», нашел нужным самым категорическим образом отмежеваться от «Молодой России». «Редакторов «Молодой России» я упрекаю в двух серьезных преступлениях, — писал он в той же, цитированной уже нами прокламации. — Во-первых, в безумном и в истинно доктринерском пренебрежении к народу; а во-вторых, в нецеремонном, бестактном и легкомысленном обращении с великим делом освобождения… Появление «Молодой России» причинило положительный вред общему делу, и виновниками вреда были люди, желавшие служить ему…». А Герцен — Герцен поспешил успокоить своих читателей, что если авторам «Молодой России» и удастся пролить чью-нибудь кровь, то это будет «их кровь — юношей-фанатиков». Во всех произведениях автора «Былого и дум» нет страницы, читать которую было бы грустнее.
Правительство, в лице Валуева, чрезвычайно быстро и ловко использовало конфликт между «буржуазией» и «революцией». Конфликт чисто литературный, правда, — но ведь и все, о чем мы рассказываем теперь, было пока литературой, а не жизнью. В жизни были лишь не освещенные никакой идеей волнения крестьян, чувствовавших, что их обманули, но не умевших даже разобраться, где именно обман, и ждавших спасения единственно от царя. И удары правительства обрушились на литературу: были закрыты «Русское слово» и «Современник»
[125], арестован Чернышевский. Демократическое крыло оппозиционного движения было разбито, и пропасть между «юношами-фанатиками», с одной стороны, нубийкой «Колокола» — с другой, стала еще шире. Для правительства оставался вопрос, нельзя ли эту последнюю публику просто привлечь на свою сторону путем грошовых или даже чисто бумажных уступок? Практически это могло быть полезно ввиду надвигавшейся, как казалось, войны с западными державами из-за Польши. С этим и связана относящаяся к весне 1863 года — разгар польского восстания — попытка «увенчать» земское здание: проект Валуева создать при Государственном совете «съезд государственных гласных», из представителей губернских земств и городских дум некоторых, важнейших, городов. «Съезд» должен был явиться чем-то вроде совещания при совещании: он имел право предварительно обсуждать вопросы, подлежавшие обсуждению Государственным советом, в самых заседаниях которого принимали участие только 16 человек из числа «государственных гласных». Вполне возможно, что перед глазами Валуева была «конституция» Серно-Соловьевича, и что он только «приспособил» ее к «традициям» русского государственного строя, совсем исключив из представительства «мужиков» (косвенно, однако же, имевших
что-то вроде голоса, ибо гласных губернских собраний выбирали, между прочим, и крестьяне, сидевшие в уездном собрании), да еще более сузив полномочия «народного собрания», и у Серно-Соловьевича неширокие. Но военная гроза прошла стороной, а «общество» задаром, без всяких конституционных подачек, обнаружило такой «патриотизм», что Александр II и его министр быстро успокоились. Когда московское дворянство спохватилось и заговорило об «увенчании здания», было уже поздно… Литературной угрозы социальной революцией оказалось достаточно, чтобы «дворянская буржуазия» надолго спрятала в карман свои конституционные проекты. Но это потому, что самые проекты были литературой, — в своей массе, дворянские манчестерцы вовсе в конституции не нуждались, как это прекрасно было объяснено Кавелиным. Не забудем, что «освобождение» далеко не было доведено до конца — выкупная операция только что начиналась. Теперь ли было ослаблять твердую руку?

Глава XVI
Революция и реакция

Социализм 70-х годов
«Петербург кафешантанов и танцклассов» ♦ Буржуазный либерализм «крепко умер» ♦ Русский социализм — отражение интересов небольшой общественной группы ♦ Студенческие волнения ♦ Пропагандистское и террористическое движение в революционной работе
Через пять лет после того, как было подавлено польское восстание, «Петербург Чернышевского» стал «Петербургом кафешантанов и танцклассов»: такое впечатление произвел он на наблюдателя, видевшего русскую столицу в разгар реформ — и вернувшегося туда после долгого отсутствия, в разгар «пореформенного» настроения. Буржуазная монархия стояла в полном цвету. «После освобождения крестьян открылись новые пути к обогащению, и по ним хлынула жадная к наживе толпа. Железные дороги строились с лихорадочной поспешностью. Помещики спешили закладывать имения в только что открытых частных банках. Недавно введенные нотариусы и адвокаты получали громаднейшие доходы. Акционерные компании росли, как грибы после дождя, и учредители богатели. Люди, которые прежде скромно жили бы в деревне на доход от ста душ, а не то на еще более скромное жалованье судейского чиновника, теперь составляли себе состояния или получали такие доходы, какие во времена крепостного права перепадали лишь крупным магнатам». В то же время «вкусы общества падали все ниже и ниже. Итальянская опера, прежде служившая радикалам форумом для демонстраций, теперь была забыта. Русскую оперу… посещали лишь немногие энтузиасты. И ту, и другую находили теперь скучной. Сливки петербургского общества валили в один пошленький театр, в котором второстепенные звезды парижских малых театров получали легко заслуженные лавры от своих поклонников — конногвардейцев. Публика валила смотреть «Прекрасную Елену» с Лядовой в Александрийском театре, а наших великих драматургов забывали. Оффенбаховщина царила повсюду». Разочарованный Петербургом провинциал искал утешения в литературных кружках, но утешения и тут было мало. «Лучшие литераторы — Чернышевский, Михайлов, Лавров — были или в ссылке, или, как Писарев, сидели в Петропавловской крепости. Другие, мрачно смотревшие на действительность, изменили своим убеждениям и теперь тяготели к своего рода отеческому самодержавию. Большинство же хотя и сохранило еще свои взгляды, но стало до такой степени осторожно в выражении их, что эта осторожность почти равнялась измене…». «Чем сильнее радикальничали они десять лет тому назад, тех больше трепетали они теперь. Нас с братом очень хорошо приняли в двух-трех литературных кружках, и мы иногда бывали на их приятельских собраниях. По как только беседа теряла фривольный характер или как только брат, обладавший большим талантом поднимать серьезные вопросы, направлял разговор на внутренние дела или же на положение Франции, которую Наполеон III вел к страшному кризису 1870 года, — так кто-нибудь из старших уже наверное прерывал разговор громким вопросом: «А кто был, господа, на последнем представлении «Прекрасной Елены»? или: «А какого вы мнения, сударь, об этом балыке»? Разговор так и обрывался»
[126].
Буржуазный либерализм, казалось, так же «крепко умер», как в свое время император Павел. «Отеческое самодержавие» давало буржуазии все, что ей было нужно: его лозунгом на берегах Невы, как и на берегах Сены, было — обогащайтесь! Но чего же буржуазия,
как класс, может другого требовать? Она становится оппозиционной лишь тогда, когда существующий порядок начинает мешать обогащению, революционной — лишь тогда, когда защитники этого порядка в черносотенном ослеплении и упрямстве начинают прямо разорять буржуазию своими нелепо «охранительными» мерами. Правительство Александра II нельзя было обвинить ни в том, ни в другом. Оттого недоразумения этого правительства с буржуазией и кончились, как только с достаточной определенностью наметился круг реформ,
необходимых для того, чтобы процесс обогащения протекал беспрепятственно. Не все желали довольствоваться этим необходимым минимумом, — находились охотники из категории необходимости перейти в категорию возможности, но этим скоро указали их место. До последнего времени довольно прочно держалась иллюзия, будто под самый конец царствования Александра II положение снова изменилось; будто буржуазная оппозиция в конце 70-х годов снова подняла голову — притом даже более дерзко и заносчиво, чем даже в начале
60-х. Документов, подтверждавших такое мнение, не было; а поскольку документы были, они указывали на нечто такое, к чему крайне трудно применить термин «оппозиция». Но, за недостатком документов, были легенды, семейные предания, «рассказы современников», видевших будто бы что-то крупное и значительное. Под страхом обнаружить недостаток «объективности» приходилось им верить. Но — увы! — пришел исследователь, в «объективности» которого не может быть никакого сомнения, — достаточно сказать, что его работа появилась на страницах «Русской мысли». Пришел, бестрепетной рукой поднял завесу — и показал почтеннейшей публике, что за этой завесой ничего нет. «Земское движение» 70—80-х годов приходится причислить к разряду таких же мифов, какими давно стали бескорыстие помещиков 19 февраля или необыкновенное мужество и стойкость декабристов на допросах. Для всех этих мифов были, конечно, известные исторические основания:
некоторые декабристы, например, действительно держали себя порядочно даже перед лицом Николая Павловича. Некоторые, очень немногие, либералы времен Лорис-Меликова действительно добивались конституции, но их было чуть ли не еще меньше, чем в годы, предшествовавшие польскому восстанию, и влияние их на своих собратьев было совершенно ничтожно. Выступление тверского дворянства в 1862 году по силе и яркости далеко оставляет за собой все, что на самом деле происходило в некоторых земских собраниях конца 70-х или начала 80-х годов. В либеральной журналистике этих лет мы тщетно стали бы искать что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее энергический стиль Чернышевского. Тихим голосом скромно просили люди о чрезвычайно скромных вещах — притом очень немногие люди, при гробовом молчании большинства. Перешагнуть через такой «протест» было гораздо легче, нежели перешагнуть через дворянские адреса 60-х годов. Правительству Александра III понадобилось для борьбы с «оппозицией» куда меньше гражданского мужества, нежели правительству его отца. В этом ключ и ко всей трагедии народовольчества. При нормальном ходе вещей народовольцы составили бы крайнее левое крыло «общественного движения». Это левое крыло могло быть разбито, но феодальной реакции пришлось бы купить свою победу ценою уступок центру; так и было приблизительно 25 лет спустя. У движения, достигшего кульминационной точки в 1881 году, только и было, что левое крыло, состоявшее тоже из немногих единиц, беспримерной духовной силы, но и беспримерной материальной слабости. «Дерзость» этой кучки так напугала правящую феодальную группу, что та сгоряча двинула в поле всю свою тяжелую артиллерию, но после первых же залпов она увидела, что стрелять не по ком. Победа над революцией недешево досталась
лицам, — пал не один Александр II, — но она никогда не доставалась так дешево
порядку. Оттого феодальный режим 80-х годов и вышел из испытания столь свежим и бодрым, каким он ни разу не был после смерти Николая Павловича.
Попытки революции — сначала социалистической, потом демократической — составляют все содержание русской истории 70-х годов, если вычесть из этого содержания внешнюю политику да «правительственные мероприятия», важнейшие из которых, впрочем, были только реакцией на те же самые попытки. Следующее же десятилетие точно так же сплошь заполнено «реакцией» — контрреформами Александра III. Название «революция и реакция» вполне исчерпывает, таким образом, основное содержание этого периода нашей истории. И у того, и у другого явления была, конечно, своя материальная подкладка — свой «социальный базис», делавший данное явление объективно необходимым. Но этот базис был, если так можно выразиться, в обоих случаях, «революции» и «реакции»,
различной ширины. В то время, как экономические условия, определившие реакцию дней Александра III, приходится искать в тогдашнем, 80-х годов, положении мирового хозяйства, русский социализм 70-х годов являлся отражением интересов и мировоззрения очень небольшой и экономически совершенно не влиятельной общественной группы. Этим объясняется относительная степень прочности «революции» и «реакции». В то время, как результаты последней откристаллизовались необыкновенно твердо, — перед земскими начальниками мы и после 1905 года стояли, как перед глухой стеной, — революционные организации были историческими эфемеридами, растаявшими чрезвычайно быстро и вновь возродившимися только благодаря факту, отчасти ими непредвиденному, отчасти — с негодованием отвергавшемуся как нечто безусловно «отрицательное», — развитию в России промышленного капитализма в 80—90-х годах. С чисто теоретической точки зрения, изучение этих эфемерид, может быть, дает и не бог весть какие важные результаты, и для позднейших социологов история русской деревни с 60-х по 90-е годы, например, будет во много раз поучительнее, нежели история тех студенческих кружков, которые в этот период времени создали, пропагандировали и отчасти даже собственными силами пытались осуществить своеобразный российский «социализм». Но для историка недавних событий
практическое значение этих последних может перевесить их теоретический интерес; а каково было практическое значение революционного народничества, читатель без труда оценит, если вспомнит хотя бы то только, что первая русская революция, несмотря на официальный марксизм большинства руководивших ею групп, прошла под народническими лозунгами. Изучая народнический социализм, мы изучаем свое собственное прошлое, которое нужно же знать, независимо от того, интересно оно для будущих социологов или нет. Последующие страницы не претендуют, само собою разумеется, на изображение генезиса революционного народничества в сколько-нибудь полном виде: такому полному изображению место не в общем историческом курсе, а в специальной работе. Лишь потому, что таких специальных работ пока еще нет (полемической литературы мы не считаем, само собою разумеется), приходится не ограничиваться общей характеристикой, опирающейся на всеми признанные, бесспорные данные, а привести несколько подлинных цитат, подбор которых — это можно заранее предсказать — многим читателям и критикам настоящей книги покажется «односторонним». Что же делать! Всякий историк изображает ту сторону прошлого, которая ему самому виднее; пусть другие изобразят другие стороны — в целом и получится нечто «разностороннее».
Основные идеи социализма приняты русской литературой целиком с Запада, выяснять поэтому их генезис — значило бы повторять всем давно надоевшие трюизмы. Но как только идеи были усвоены, немедленно же явился вопрос: насколько можно рассчитывать на их реализацию в
русских условиях? В Западной Европе социализм явился логическим итогом длинной цепи развития, которой русский народ не прошел, которую ему еще предстояло, по-видимому, пройти. С все упрощающей классовой точки зрения (которую и не любят больше за ее простоту: с одной стороны, для фантазии простора не остается, с другой, — и это главное — иллюзиям места нет, утешиться нечем) ответить и на этот вопрос нетрудно: судьбы социализма связаны с судьбами определенного общественного класса — рабочего класса пролетариата. Есть в России пролетариат или нет его? Ежели есть — есть и почва для социализма или будет в более или менее скором времени, притом тем скорее, чем быстрее будет расти пролетариат. Если нет — ни социалистической теории, ни, тем более, практических попыток ее осуществления — в масштабе, больше комнатного — ждать нечего. Но для литературы 60-х годов дело стояло совершенно иначе. Может быть, смутно сознавая, что политической роли пролетариата России ждать еще долго — может быть, руководимая смутным инстинктом самосохранения, русская социалистическая литература совершенно устраняла пролетариат из своих расчетов. Не только для Чернышевского, но еще и для Лаврова пролетариат — «язва», одно из явлений «вырождения»
[127]. Западная Европа уже имеет эту «язву вырождающегося или волнующегося пролетариата»: европейцам от нее не отвертеться. Но зачем же нам брать на себя все чужие язвы? Нужно ли и нам переболеть этою болезнью пролетариата, чтобы войти в царство небесное социалистического строя? Этот вопрос — не существующий для марксизма — был кардинальным вопросом для Чернышевского и Герцена. Первого, с его громадным теоретическим чутьем, вопрос прямо бесил. Та концентрированная злость, которою проникнута каждая строчка «Критики философских предубеждений против общинного владения землею», показывает, чего стоили Чернышевскому те логические прыжки, на какие осуждала его безвыходность положения. Возможен ли социализм в России сейчас, в 1860 году? Инстинктом Чернышевский понимал, что
нет, — вот почему
на практике, как мы видели, патриарх народничества был буржуазным демократом, не более. Но по долгу совести он считал себя обязанным презирать буржуазный демократизм как нечто теоретически давно преодоленное, мысленно уже давным-давно осуществившееся, ставшее банальностью. Теоретически нужно было обосновать неизбежность социализма для России — России 1860 года! И с яростью, направленною формально против его тупоголовых противников, фактически — против нелепости задачи, которую навязывало ему его положение русского радикального публициста времен крестьянской реформы, он «долбит» в голову своего читателя истины, которые — увы! — ему самому едва ли казались такими, когда он оставался наедине с самим собою. «Согласитесь, — иронизирует он, — редко приходилось вам испытывать такую страшную скуку, какая производится чтением нашей статьи, весь характер которой выражается такою формулой: бе-а — ба, бе-а — ба, баба». Но поглядите, какою роскошью аргументов обставляет он свои «трюизмы», — бросаясь от биологии к лингвистике, от истории — к химии, от политической экономии — к технике «ручного оружия». Не слишком ли это много, чтобы доказать, что бе-а — ба. И действительно, присмотревшись к его двум основным заключениям, резюмирующим
всю статью, вы видите, что тут всего менее приложим термин «трюизм». Вот эти два заключения в их подлинном виде: «1) Высшая ступень развития по форме совпадает с его началом. 2) Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей ступени прямо на высшую, минуя средние логические моменты». У русского народа есть поземельная община — остаток древнейшего коммунизма: он поэтому ближе к коммунизму позднейшему, нежели народ, утративший общину. Притом развитие русского народа пойдет несравненно быстрее, чем шло развитие Западной Европы: «История, как бабушка, страшно любит младших внучат». Стало быть, бе-а — ба — у нас коммунизм не только возможен, но
более возможен, чем в Западной Европе.
Ход аргументации Герцена настолько похож (оставляя в стороне
художественный момент), что невольно является мысль о взаимодействии (при этом нужно заметить, что Герцен писал
позже Чернышевского). «Ученый друг, приходивший возмущать покой моей берлоги, принимает, как ты видел,
за несомненный факт, за неизменный физиологический закон, что если русские принадлежат к
европейской семье, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами; но в своде физиологических законов такого параграфа не имеется…»
«Общий план развития допускает бесконечное число вариаций непредвидимых, как хобот слона, как горб верблюда. Чего и чего ни развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончие, борзые, водолазы, моськи… Общее происхождение нисколько не обусловливает одинаковость биографий; Каин и Авель, Ромул и Рем были родные братья, а какие разные карьеры сделали! То же самое во всех нравственных родах или общениях. Все христианское имеет сходные черты в устройстве семьи, церкви и проч., но нельзя сказать, чтоб судьба английских протестантов была очень сходна с судьбой абиссинских христиан, или чтоб очень католическая австрийская армия была похожа на чрезвычайно православных монахов Афонской горы. Что утка не дышит жабрами — это верно; еще вернее, что кварц не летает, как колибри. Впрочем, ты верно знаешь, а ученый друг не знает, что в жизни утки была минута колебания, когда аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с притязанием на жабры, но, имея физиологическое предание, привычку и возможность развиться, утка не останавливалась на беднейшем строении органа дыхания и переходила к легким».
«Это значит просто-напросто, что рыба
приладилась к условиям водяной жизни и далее жабр не идет, а утка идет. Но почему же это рыбье дыхание должно сдунуть мое воззрение, этого я не понимаю. Мне кажется, что оно, напротив, объясняет его. Genus «europeum» есть народы, состарившиеся без полного развития мещанства (кельты, некоторые части Испании, южной Италии и пр.), есть другие, которым мещанство так идет, как вода жабрам, — отчего же не быть и такому народу, для которого мещанство будет переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабры для утки»
[128].
Физиология тут ни при чем, конечно, — но, помимо этой отрыжки сороковых годов, в аргументации Герцена много верного. Не уходя далеко от русской истории, мы найдем случаи, когда явления, необходимые в цепи развития, оставались у одного народа в зачаточной, едва заметной форме, тогда как в жизни других народов те же явления играли выдающуюся роль. Так было у нас с
городским ремеслом. Всюду обрабатывающая промышленность в промежутке между деревенским ремеслом и мануфактурой прошла эту стадию. Самые яркие страницы в истории западноевропейского города связаны с расцветом именно цехового ремесла. У нас в России эта стадия тоже была — но она едва наметилась. Наши «цеховые» всего менее могли когда бы то ни было притязать на политическую роль. От деревенского кустаря мы сразу перешли даже не к мануфактуре, этой зачаточной форме крупного производства, а прямо к фабрике. Правильно и то, что одни и те же законы развития в разной обстановке дают эффекты, мало похожие друг на друга: в капиталистической Англии крестьянство исчезло как социальная категория, в не менее капиталистической Германии то же крестьянство не обнаруживает никакой тенденции к «вымиранию». Все это так, — но к вопросу, из-за которого Герцен поднял на ноги физиологию, а Чернышевский — все науки об органической и неорганической природе, все это имеет весьма слабое отношение. Теоретически, в отвлеченной форме, вполне можно было бы допустить, что капитализм — «мещанство» Герцена — только «скользнет» по России, как скользнуло по ней городское ремесло, и сейчас же уступит место социализму; может быть, когда-нибудь с какими-нибудь европейскими колониями в Африке так и будет. Но для того, чтобы предсказывать подобное будущее для России, у Герцена и у Чернышевского не было под руками никаких конкретных данных. И тот, и другой опирались на существование в России
поземельной общины. Но и тот, и другой должны были знать, — ибо уже утопическими социалистами 30—40-х годов это было поставлено твердо, — что
социализм есть известная
организация производства. Где же, однако, в русской сельской общине социалистическая организация производства или хотя бы зачатки ее? Когда позднейшие социалисты-народники в 70-х годах поняли это, они стали искать такие зачатки, но должны были признаться, что их
почти нет. «Возможность общинной обработки земли доказывается тем, что, даже при теперешних условиях, эта общинная обработка существует в некоторых отдельных общинах, — писала «Земля и воля» в своей программной статье
[129]. —
Факты эти крайне немногочисленны, но для доказательства того, что
общинное владение землею, как оно практикуется в первобытной общине,
нисколько не мешает коллективной обработке земли, достаточно было бы и одного факта, с тем условием, конечно, чтобы он не был создан искусственно». Итак,
из ручательства, что социализм в России возможен, сельская община спустилась до уровня факта,
не мешающего развитию социализма. Ну, а разве крупная капиталистическая промышленность технически этому мешает? Наоборот, технически она подготовляет социализм. Подготовляет, конечно, в гораздо большей степени, нежели чрезвычайно индивидуалистическая техника крестьянского земледелия. Этот экономический индивидуализм русского крестьянина чрезвычайно поражал народников, которым приходилось сталкиваться с крестьянским хозяйством на практике. «В моих письмах я уже много раз указывал на сильное развитие индивидуализма в крестьянах, на их обособленность в действиях, на неумение, нежелание, лучше сказать, соединяться в хозяйстве для общего дела», говорит Энгельгардт
[130]. «Отец с сыном, брат с братом при рытье канавы делят ее на участки, и каждый отдельно гонит свой участок, — писал он же в другом месте. — Даже родные сестры, не говоря уже о женах родных братьев, мнут лен в раздел, каждая на себя, и не согласятся класть лен в одну кучу и вешать вместе, а заработную плату делить пополам, потому что сила и ловкость не равная, да и стараться так не будут и,
работая вместе, наминать будут менее, чем работая каждая порознь. Только мать с дочерью иногда вешают вместе, но и это лишь тогда, когда мать работает на дочь, и все деньги идут дочери».
Но неужели, спросит читатель, в основе народнического социализма лежит просто
теоретическая ошибка — ошибка Герцена, Чернышевского, Лаврова и их эпигонов? Конечно, нет; давать такое объяснение — значило бы обнаружить наивность во много раз большую, чем наивность самого народнического социализма. Индивидуальные ошибки могут решить судьбу отдельных личностей — самое большее, отдельных эпизодов борьбы; но если какое-нибудь течение держится годами и десятилетиями, переходя от поколения к поколению, очевидно, есть какие-то неиндивидуальные причины, его поддерживающие. При каких условиях можно было признать за социализм, хотя бы за зачатки социализма, такой строй, где нет социализации производства, а есть только социализация владения: где погашена только юридическая категория собственности, но не экономическая категория индивидуального хозяйства? Очевидно, при одном основном условии: что та общественная группа, среди которой вербовались сторонники народнического социализма, характеризовалась обоими этими признаками — слабым развитием чувства собственности рядом с полным отсутствием какой бы то ни было производительной организации. Этой группой не могли быть рабочие. Когда социализм к концу 70-х годов проник в среду русского рабочего класса, тот сразу же провинился, как мы увидим, во-первых, тем, что обратил слишком мало внимания на великое значение сельской общины, во-вторых, тем, что обнаружил слишком большую наклонность подражать западноевропейскому, промышленному, а не аграрному социализму. Ею не могли быть и крестьяне — как мы сейчас видели, вовсе не социалисты, а индивидуалисты чистой воды. Среди рабочих народнический социализм нашел очень мало адептов, весьма не правоверных притом: среди крестьян он, кажется, не нашел ни одного, — в политических процессах 70-х годов фигурирует не один крестьянин по паспорту, но, кажется, нет ни одного «земледельца» по роду своих занятий; все политические «крестьяне» тех дней или рабочие, или полуинтеллигенты
[131]. Но была общественная группа, где чувство собственности было развито необычайно мало, где этого чувства прямо стыдились и стремились отделаться от последних его следов и где в то же время «производства» никакого не было, почему производственные отношения не только не стояли в центре внимания, но легко от этого внимания вовсе ускользали. «Мы были бедны и едва-едва перебивались; но в то время студент почти гордился бедностью, — писал Дебагорий-Мокриевич о быте киевских студентов конца 60-х годов. — Бедность была некоторым образом в моде, составляла своего рода шик. Если у кого даже и имелись средства, то это не показывалось, так как на это смотрели нехорошо. Простая, нещегольская одежда являлась признаком студенческой порядочности; над франтами смеялись; так, помню, подняли на смех одного, явившегося в студенческую столовую с кольцами на руках. Впрочем, наши франты держались в стороне и не посещали. собраний, студенческая масса в большинстве состояла из сыновей мелких помещиков, чиновников, священников. Общая нужда вызывала потребность в организации касс и кухмистерских, вызывала сожительство товарищескими кружками и приучала людей делиться друг с другом последними грошами. Таким образом,
студенческая среда представляла как нельзя более благоприятный элемент для распространения социалистического учения, так как, очевидно, усвоить учение, отвергающее личную собственность, легче было тому, у кого собственности не было и кто обладал, к тому же, соответственным умственным и нравственным развитием. Отсутствие денежных счетов и товарищеский дележ друг с другом, нередко имевшие место в студенческих кружках, не только сохранились впоследствии, но еще шире вошли в употребление в наших революционных кружках и организациях»
[132]. Нужно прибавить, что и социальный состав этих кружков и организаций был чрезвычайно близок к намечаемому автором социальному составу студенчества: в «процессе 50-ти» двадцать два из обвиняемых были дети дворян и чиновников (т. е. 44 %); в «процессе 193-х» — 97, (т. е. более 50 %). А борьба за «кассы и кухмистерские» была в буквальном смысле слова исходной точкой всего революционного движения. Прологом этого последнего были студенческие волнения 1868 года. Воззвание «К обществу», выпущенное тогда петербургскими студентами, недаром издателями сочинений Бакунина напечатано во главе «нечаевских» документов. А первый пункт этого воззвания гласит: «Мы, студенты Медицинской академии, Университета, Технологического института, Земледельческой академии, желаем: 1) чтобы нам предоставлено было иметь кассу, т. е. помогать нашим бедным товарищам…».
Всякая общественная группа вырабатывает философию общественного процесса, отвечающую объективным условиям существования этой группы. Рабочему классу как нельзя больше подходит материалистическое понимание истории, — «экономический материализм» каждый пролетарий чувствует непосредственно на своей коже. Своего рода Евангелием молодежи 70-х годов, по словам одного из ее представителей, были «Исторические письма» Миртова (Лаврова). На первый взгляд может показаться, что Лавров чрезвычайно близок к историческому материализму. «При рассмотрении взаимодействия экономических и политических потребностей в истории, — говорит он, — научное решение вопроса склоняется к господству первых над последними, и всюду, где, при помощи исторического материала, можно разглядеть с большею подробностью истинное течение фактов, приходится сказать, что политическая борьба и ее фазисы имели основанием борьбу экономическую; что решение политического вопроса в ту или другую сторону обусловливалось экономическими силами; что эти экономические силы создавали каждый раз удобные для себя политические формы, затем искали себе теоретическую идеализацию в соответствующих религиозных верованиях и философских миросозерцаниях, эстетическую идеализацию — в соответствующих художественных формах, нравственную идеализацию — в прославлении героев, защищавших их начала»
[133]. Но если бы книга Лаврова — вся сплошь написанная тем же стилем, как и выписанный нами отрывок, — развивала такую идею, она бы, конечно, не сделалась ничьим «Евангелием», а сам Лавров стал бы не «революции оплотом», как гласила подпись на известной карикатуре, а лишь одним из полузабытых предшественников позднейшего русского марксизма. Среда, усвоившая «Исторические письма» как Евангелие, весьма мало зависела от экономических условий — как ни кажется парадоксальным это утверждение, принимая во внимание неоспоримую бедность большинства принадлежащих к этой среде. Объективное общественное положение человека — а, стало быть, и его идеология — определяются не тем,
сколько имеет и приобретает человек, а тем,
как он приобретает то, что имеет. Драгоманов, как и вся наша интеллигенция, привыкший выводить социализм из бедности, был крайне поражен, когда увидел в Берлине, что «о социальном вопросе говорят не самые бедные, а самые богатые (и, конечно, самые образованные) рабочие
[134]. Первыми русскими социалистами-рабочими были заводские мастеровые Петербурга — материально самый обеспеченный разряд русского пролетариата. Товарищи Дебагория-Мокриевича «были бедны и едва-едва перебивались», но то немногое, что у них было, они или получали готовым из дому, или зарабатывали индивидуальными усилиями в области, не имевшей ничего общего с экономикой (уроками, перепиской и т. д.). Нет ничего индивидуалистичнее интеллигентской работы: ни в какой области
личность не чувствует себя в такой степени хозяином всего «процесса производства», с начала и до конца. Учение о «критически мыслящей личности» как основном факторе прогресса весьма мало гармонирует с учением о преобладании экономических отношений в истории, но тогда никто не думал ставить Лаврову на счет эти противоречия. «Как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно в критически мыслящих личностях: без них он безусловно невозможен; без их стремления распространить его он крайне непрочен». Но студент или сам учится, или учит других — и первое, и второе обыкновенно в довольно тесном кругу: обучение, высоким стилем говоря — «проповедь», является для него наиболее обычным способом воздействия людей друг на друга. «Проповедь истины и справедливости шла от убежденных и понимающих единиц в небольшой кружок людей», учили «Исторические письма». Интеллигенция составляет ничтожное меньшинство народа — это не беда: «Большинство может развиваться лишь действием на него более развитого меньшинства». Нигде моральный элемент не играет такой роли, как в
личной деятельности. Говорить о «безнравственности капитализма» почти так же странно, как о «злодеяниях» мессинского землетрясения, но свои собственные индивидуальные поступки всякий расценивает по моральному масштабу — они всегда «хорошие» или «дурные». «Проповедь» для «меньшинства» не только историческая необходимость, это — его нравственный долг. «Член небольшой группы меньшинства, видящий свое наслаждение в собственном развитии, в отыскании истины и в воплощении справедливости, сказал бы себе: каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имею досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу: оно именно и составляет идеал, возбуждающий меня к деятельности. Лишь бессильный и неразвитой человек падает под ответственностью, на нем лежащей, и бежит от зла в Фиваиду или в могилу. Это надо исправить, насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо зажить. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену твоего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящей и будущем»
[135]. Современники в один голос говорят, что ничем так сильно не действовали «Исторические письма» на молодежь, как этим учением о
долге интеллигенции перед народом. Люди питались селедкою с черным хлебом (причем и селедка уже возбуждала споры: все-таки «предмет роскоши»), жили в обстановке неизмеримо худшей, чем зажиточный крестьянин или хорошо оплачиваемый рабочий, — и мучились мыслью, что эти «удобства жизни» куплены «страданиями миллионов». Так
свежо можно ощущать свой моральный долг только в известном возрасте: с годами лишь редкие, исключительные люди не становятся более или менее циниками. К социальной характеристике социалистов-народников приходится прибавить и
возрастную: из всех подсудимых «процесса 50-ти» только одному уже стукнуло 30 лет — да и тот оказался к делу непричастным; 22–24 года были классическим возрастом. Но и тут мы не выходим за пределы все той же социальной группы: первая половина третьего десятилетия — это ведь классический возраст и для студенчества. С какого бы конца мы ни подходили, революционное движение 70-х годов отовсюду будет нам представляться как
движение учащейся молодежи.
Первый толчок движению дали, как уже упомянуто, студенческие «волнения» зимы 1868/69 года. «Волнения возникли на чисто профессиональной почве. Петербургские студенты требовали разрешения устроить кассу взаимопомощи, права сходок и невмешательства полиции в университетские дела. В Киеве «первое пробуждение и оживление студенческой среды стало замечаться осенью 68-го года. Насколько помнится, дело началось с устройства кассы самопомощи и кухмистерской. Кассовая организация была составлена из кружков, представители которых в известное время собирались для выдачи пособий своим нуждавшимся членам, а также для принятия решения по разным организационным вопросам. Дела же кухмистерской решались общими собраниями, отбывавшимися в помещении кухмистерской… К этому времени, то есть к концу 68-го и началу 69-го года, в наш университет стали определяться исключенные за беспорядки из Петербургского университета и Медико-хирургической академии, и этот элемент еще более оживил нашу среду. Стали зарождаться литературные кружки. В скором времени кухмистерская заняла центральное положение среди других студенческих учреждений; в кухмистерской собирались для обсуждений по всем интересовавшим студенчество вопросам… Вслед за кухмистерской и студенческой кассой устроилась студенческая библиотека»
[136]. «Экономический» характер движения в Киеве проявился с особенной яркостью — так, что даже умеренно-либеральные профессора остались им недовольны. «Я был очень доволен, что киевские студенты после долгих споров решили никаких петиций о студенческих корпоративных правах не подавать, — пишет Драгоманов, — но с сожалением смотрел, что заведенные и в Киеве тайные студенческие корпорации занялись более кассами, столовою, чем самообразованием и изучением своей страны»
[137]. Может быть, это и было причиной, что в Киеве движение не вызвало непосредственных административных репрессий, — по крайней мере, оба наши автора о них не упоминают. Но из их же рассказов мы узнаем, что в других университетах преследования были: там исключали; из других источников мы знаем, что там и арестовывали, и ссылали. Все это поднимало настроение до того, что петербургские студенты говорили уже о своей готовности «скорее задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших академиях и университетах». С профессиональным движением студенчества происходило то, что впоследствии стало классической картиной российской рабочей стачки: усилиями администрации дело передвигалось на политическую почву. По отношению к студенчеству это было тем легче, что университетская молодежь уже с начала 60-х годов имела известные
политические традиции. Местами мы можем проследить традицию весьма конкретно: историк саратовских кружков 70-х годов возводит начало движения к влиянию еще Чернышевского и отмечает, что группа каракозовцев среди московского студенчества составилась «главным образом из пензяков и саратовцев»
[138]. В создании революционной традиции русского студенчества
каракозовцы играли несомненно выдающуюся роль — и тем больше приходится пожалеть, что об этой «организации» (она так буквально и называлась) мы знаем чрезвычайно мало. Фигура самого Каракозова, с его покушением на жизнь Александра II (4 апреля 1866 года), совершенно заслонила в памяти общества его товарищей — и движение, довольно широкое, свелось к чисто личному эпизоду: как известно, товарищи Каракозова, за исключением, может быть, одного, не были даже посвящены в его замысел — не только что не принимали в деле никакого активного участия. Необыкновенность события — покушение на жизнь императора не со стороны придворных (это бывало), а со стороны одного из рядовых его подданных, — те необычайные полицейские репрессии, которые обрушились на общество в результате этого необыкновенного события, и сделали «белый террор» 1866 года надолго незабываемым среди русских либералов: все это как нельзя больше способствовало исторической аберрации. И это, повторяем, очень жаль — ибо «каракозовщина» сама по себе исторически гораздо интереснее, нежели событие 4 апреля. Завершая собою студенческо-социалистическое движение начала 60-х годов, манифестом которого была «Молодая Россия», оно в то же время в миниатюрном масштабе и очень элементарных формах резюмирует все движение вообще, вплоть до «Народной воли». Здесь мы находим вкратце все признаки всех этапов народнической революции: от хождения в народ и попыток кустарей реализации социализма до заговорщической тактики, террора, подготовки вооруженного восстания и цареубийства. «Объяснительная записка» по делу «Организации» — документ, составленный с относительно большой объективностью, не в пример позднейшим обвинительным актам 70-х годов, — так определяет цели каракозовского общества: «Возбуждение и приготовление народа путем социальной пропаганды к восстанию, требование за сим у правительства уступки, т. е. введения социализма, и, в случае сопротивления, устройство государства на социалистических началах путем революционным, по захвате верховной власти в свои руки и ниспровержении правительства». Первой подготовительной ко всему этому мерой должно было быть сближение с народом, главным образом через посредство народной школы. «Те члены, которые обязаны были разъехаться по губерниям, как только найдут себе в одном из городов занятия, обеспечивающие их существование, или, если будут средства для открытия губернской библиотеки, должны были знакомиться с семинаристами и вообще молодыми людьми и убеждать их делаться сельскими учителями, стараться открывать различного рода ассоциации, сноситься с сельскими членами и в случае нужды помогать им деньгами и книгами. Сельские члены — учителя должны были устраивать при школах ремесленные заведения, сообразные с потребностями местности, объяснять крестьянам, что единственное средство улучшить их положение — круговая поддержка и устройство ассоциаций». Рядом с этим «были переговоры о покупке ваточного завода в Можайском уезде для устройства его на социальных началах; было предположение об устройстве того же завода в Жиздринском уезде». Средства для этих «социалистических» предприятий думали добыть при помощи экспроприации: разговаривали об убийстве с этою целью одного купца и об ограблении почты. Все это были разговоры, которым обвинительный акт — все же прокурорское произведение — старается придать, конечно, большее значение, чем, вероятно, они имели в действительности. Но террористическое настроение выражалось не в одних разговорах. «Яд был у многих из членов организации, — рассказывал защитник одного из каракозовцев: — они им запасались для принятия в случае каких-либо покушений и носили его в пуговицах». Из «Организации» выделилась особая группа, ставившая террористические акты своей ближайшей задачей — в шутку эту группу назвали «Адом», прототип будущего «Исполнительного комитета партии Народной воли». Среди членов «Ада», «мортусов», обсуждался и вопрос о цареубийстве как наиболее решительном виде манифестации, которая «расшевелит молчащую толпу». Но и это, опять-таки, были одни разговоры, — на этот раз даже без всякого «приготовления к действию». Лишь один из «мортусов» принял разговор всерьез: это был сам Каракозов. Тайком от других он поехал в Петербург и там произвел свой знаменитый выстрел. Затем последовал решительный разгром каракозовщины. Участие в этом разгроме — а может быть, и в самом покушении 4 апреля, за спиной Каракозова — провокации чувствуется довольно определенно, но положительных данных нет, как и вообще их для этого дела чрезвычайно мало
[139].
Но позвольте, скажет читатель, несколько знакомый с «литературой предмета»: как же можно считать каракозовщину с ее экспроприаторскими вожделениями, мечтами о терроре и ядом в пуговицах — прологом социалистического движения 70-х годов, когда всякому известно, что это последнее было движением мирных «народолюбцев-пропагандистов», «в высокой степени безобидным и мечтательным» — сравнительно с которым даже выступления земских либералов были, пожалуй, настоящей крамолой? Кому не известно, что если эти овцы обратились в тигров, и «мирнейшие граждане земли своей» начали бросать бомбы, то в этом были виноваты исключительно жестокости
начальства, доведшего своими преследованиями «самых обыкновенных культурников» до террора? Быть может, не стоило бы уделять места критике этого либерального предрассудка, — мы имеем право назвать его «либеральным», так как сами уцелевшие участники движения не находили никакой чести в том, чтобы считаться «самыми обыкновенными культурниками», и, как сейчас увидим, весьма решительно этот предрассудок опровергали, — если бы он не был воспроизведен в чрезвычайно категорической форме на страницах специального исследования о «Народной воле», принадлежащего перу весьма компетентного автора
[140]. В подтверждение старого предрассудка этот автор приводит две цитаты из защитительных речей на суде двух народовольцев, — прием, который сам по себе нельзя сказать чтобы не возбуждал никаких возражений с точки зрения исторической критики. Ведь если можно характеризовать политические движения по защитительным речам, то, логически рассуждая, нельзя запретить противной стороне характеризовать их по обвинительным актам — а тогда народнический социализм нам придется признать «походом против государства и цивилизации», как не постыдился написать прокурор, составлявший обвинительный акт по делу 193-х. Если эти цитаты что-нибудь доказывают, то только то, что
некоторые народники-революционеры были не без греха в создании того предрассудка, от которого их товарищи впоследствии так энергически открещивались. «Первоисточником» легенды тут приходится считать, однако, не те речи, которые цитирует наш автор, а гораздо более раннюю и несравненно более известную речь
Бардиной в процессе 50-ти. «Я, господа, — говорилось, между прочим, в этой замечательной речи, — принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем мирных пропагандистов. Задача их — внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно; указать ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было тех же ошибок, — но когда наступит это будущее, мы не определяем и не можем определить, ибо конечное его осуществление от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды до подстрекательства к бунту еще весьма далеко». Речь Бардиной принято называть «горячей и искренней». Прочитав ее внимательно, нельзя не согласиться, что к ней не менее идут и другие эпитеты — «умной и ловкой», например. Бардина великолепно использовала все промахи прокуратуры и, опираясь на эти промахи, отрицала даже самую свою принадлежность к организации, в которой она играла одну из первых ролей. Никоим образом не приходится ее упрекать за это, конечно: состязательный суд — борьба, потому он и называется «состязательным», а в данном случае борьба была еще и неравная: на одной стороне были и «юстиция, и полиция, и милиция», а на другой — две дюжины молодых девушек и студентов, сильных только своим энтузиазмом. Надо же было показать коронному суду, что он и в каторгу-то не умеет отправить людей сколько-нибудь прилично и с толком! Но раз «адвокатский» характер речи Бардиной неотрицаем, к фактическим се утверждениям историк обязан относиться с величайшей осторожностью. Нетрудно догадаться, на
кого были рассчитаны фразы о мирном характере социалистической пропаганды. По оплошности начальства на процессе 50-ти зал был переполнен публикой, — публикой, конечно, «чистой», буржуазной, жадной толпой, сбежавшейся посмотреть на «московских амазонок». Если бы эти последние выступили с резко революционными заявлениями, впечатление у
этой публики получилось бы, несомненно, отрицательное: она испугалась бы так же, как испугалась в свое время «Молодой России». А между тем был такой соблазн эту публику распропагандировать! И Бардина показала себя гениальной пропагандисткой. Но когда ее товарищам впоследствии пришлось рассказывать о своей деятельности не на суде, а перед публикой, иначе настроенной, они не находили нужным надевать маску. Вот как, например, передает планы и разговоры в киевских кружках Дебагорий-Мокриевич — перед тем, как члены этих кружков «пошли в народ». «По нашему убеждению, на Волге, Доне и Днепре сохранилось в народе более революционных традиций, чем в средней России, так как самые крупные народные движения происходили на окраинах: пугачевщина была на Волге, бунт Стеньки Разина — на Дону (!), гайдамачина — на Днепре. Мы полагали, что где один раз происходило революционное движение, там оно легче могло возникнуть во второй раз, и потому решили, не разбрасываясь по всей России, сосредоточить наши силы в таких именно местностях, которые имели известное историческое прошлое. Таким образом, по нашему плану, одни должны были действовать на Днепре, другие — на Волге.
Вызывая стачки и местные бунты, во время которых обыкновенно выдвигаются из массы более смелые и энергические личности, мы думали
таким образом намечать годных для дела людей и привлекать их в революционную организацию. А раз вспыхнуло бы восстание в одной местности, мы надеялись, что оно, подобно пламени, распространится и охватит всю Россию». Дебагорий-Мокриевич принадлежал к так называемому «бунтарскому» направлению — хотя, как он сам же далее объясняет, разница между двумя направлениями была больше теоретической: на практике и «бунтарю» приходилось начинать с пропаганды, да ею же, по большей части, и оканчивать. Но зато, с другой стороны, и пропагандисту приходилось готовить бунт — и иного смысла пропаганда 9/10 народников того времени не имела. Чистых «лавристов» — единственных, кого можно назвать действительно «мирными культурниками» — было крайне мало, и никакой популярностью они не пользовались. Наиболее влиятельным кружком пропагандистов был кружок
чайковцев. И вот что читаем мы у его историка, — бывшего в то же время одним из деятельных его членов: «В позднейшее время идейное течение начала 70-х годов многими понималось как отрицание всякой политики, как какое-то антиреволюционное стремление
к мирной социалистической пропаганде в монархическом государстве. Легко заметить, в чем здесь заключалась ошибка. Революционеры 70-х годов признавали лишь бесплодность и даже вредное значение таких политических переворотов, в которых народные массы не играли бы самостоятельной роли, а служили бы простым орудием в руках буржуазии… Но это еще вовсе не значило, чтобы революционеры 70-х годов считали возможным примирить каким-то путем социалистическое движение с самодержавием и чтобы они понесли в народ
мирную социалистическую пропаганду. Это значило только, что их политическая программа заключалась в прямом обращении к народу, в призыве к революционному восстанию самих рабочих масс. С этою целью они и двинулись в народ, оставляя пока в стороне непосредственную политическую борьбу с правительством и отказавшись принципиально от всяких союзов с либералами»
[141]. Одного каталога библиотеки тогдашнего пропагандиста достаточно, чтобы избавить его от упрека в излишней «жирности»: французская революция, Стенька Разин, Пугачев, изображение «экономической, политической и религиозной эксплуатации народа, с прямым призывом к восстанию» («Сказка о четырех братьях») — вот темы брошюрной литературы чайковцев. А уж кого другого, но Стеньку Разина и Пугачева мудрено использовать в целях «мирного культурничества»
[142]. В этой «красной» стае Бардина и ее кружок отнюдь, конечно, не являлись белыми воронами. Не говоря уже о том, что к процессу 50-ти относится
первое в 70-х годах вооруженное сопротивление (кн. Цицианова), — это могло быть случайностью; не цитируя столь использованной обвинением фразы из переписки кружка: «убивайте, стреляйте, работайте, бунтуйте», ибо это могло быть шуткой, — прочтите только совсем нешуточные воспоминания одной из подруг Бардиной, Ольги Любатович, где через двадцать лет так живо чувствуется вся горечь катастрофы. Она рассказывает, как, после побега из Сибири, встретившись в Петербурге с Кравчинским и другими, она разговаривала с ними о «Чигиринском деле» — единственной попытке крестьянского восстания, которую удалось вызвать, как, это мы увидим ниже. «Все они чувствовали, однако, как и я, что с идеалом peuple souverain, с идеалом гордого и могучего народа, сознающего свое право и опирающегося на свою только силу, волей-неволей нужно пока проститься». Эту фразу нам еще придется вспоминать: в ней вся философия переворота, испытанного движением 70-х годов, — превращения
пропагандизма в народовольство. Но мог ли бы ее написать человек, вся цель которого заключалась бы в том, чтобы разъяснить «самодержавному народу» (peuple souverain) выгодность ассоциаций?
Говоря о двух
фазах движения — пропагандистском и террористическом — мы, впрочем, несколько упрощаем действительность: на самом деле все время рядом существовали два
типа революционной работы, один из которых можно охарактеризовать как
массовый, — здесь господствующим методом являлась пропаганда, — а другой как
заговорщический, лучше всего приспособленный, конечно, к террору. В зачатке оба типа встретились нам уже в начале 60-х годов — и тот, и другой намечались, как мы помним, в прокламации «К молодому поколению». В каракозовщине преобладал, несомненно, второй тип. Когда после двухлетнего перерыва, последовавшего за разгромом каракозовцев, революционная агитация возобновилась, главным образом, в студенческих кружках Петербурга, заговорщический тип почти монополизировал движение: каракозовщина сменилась
нечаевщиной. Нечаев, с точки зрения исторической психологии, один из любопытнейших характеров русской революции, был, можно сказать, фанатиком заговора. Людям, которые совершенно чужды заговорщических настроений и в то же время не обладают достаточно живой фантазией, чтобы представить себе настроения, лично ими не переживавшиеся, Нечаев и до сих пор представляется как нечто среднее между мономаном и уголовным преступником. Насколько далек был он от последнего, насколько велико было его революционное бескорыстие, показывает известный эпизод, случившийся незадолго перед 1 марта 1881 года. Нечаеву, которого уже почти десять лет гноили в одиночном каземате Петропавловской крепости, представлялась возможность бежать, из могилы выйти снова на свет Божий. Но для этого нужно было, чтобы народовольцы отвлекли от дела часть своих сил, а эти силы, уже очень небольшие в то время, все были сконцентрированы на покушении против Александра II. Нечаев решительно восстал против проекта освободить его такою ценою и предпочел остаться заживо замурованным, чем рисковать, что «из-за него» дело может сорваться. А он не мог не знать, конечно, как мало бывает шансов бежать из Петропавловки! Что касается «мономании», то те, кто изучал французский бланкизм, согласятся, вероятно, что эта нечаевская болезнь обладает весьма большим распространением, и что Нечаев отличается от своих европейских образцов только разве истинно русскою широтою размаха. Основной же принцип в обоих случаях один и тот же. Народ, масса рассматривается как своего рода сырое тесто, из которого революция, воплощенная в кружок заговорщиков, лепит все, что ей нужно. Разговаривать с этой массой до времени совершенно излишне: «Мы должны народ не учить, а бунтовать», — писал Бакунин, вначале, как известно, совершенно солидаризовавшийся с Нечаевым и разошедшийся с ним, насколько можно судить по изданной бакунинской переписке, чисто на личной почве — когда нечаевская тактика стала затрагивать лично близких Бакунину людей. А насколько Бакунин принципиально мало нашел бы возражений против нечаевщины, видно хотя бы из того знаменитого пассажа, где он рекомендует самым настойчивым образом вниманию русских революционеров—
разбойника, по его мнению, — идеальное воплощение самородной русской революции. Любителям уголовщины не мешало бы обратить внимание на этот пассаж — да, кстати, уже зачислить «по уголовщине» и основателя европейского анархизма. Повторяем, лично нечаевской особенностью является только колоссальность в применении принципа — разница в количестве, а не в качестве. Нечаев находил возможным обойтись вовсе без всякого сколько-нибудь сознательного участия народной массы в деле — и перед 1 марта совершенно серьезно советовал народовольцам вызвать восстание при помощи целой серии подложных манифестов от имени царя, Земского собора и т. д. Раньше он, ничтоже сумняшеся, мистифицировал университетскую молодежь своим обществом
«Народной расправы», которое едва ли не состояло только из него самого и двух-трех его ближайших друзей, — ибо и университетская молодежь была для него тоже массой, таким же тестом, только, так сказать, следующей степени революционной всхожести. Попытка создать революцию почти что единоличными усилиями не могла кончиться ничем, кроме краха: стоило одному из кусочков живого теста начать рассуждать — и все поползло врозь. Нечаев не задумался убить рассуждающего (интерес революции выше всего!), но нельзя убить способности суждения. За одним сомневающимся пошли другие. Нечаев скоро остался один уже не по доброй воле, и «Народная расправа» умерла в петропавловском каземате вместе с ним. От нее остался только знаменитый «Революционный катехизис» (написанный, может быть, Бакуниным, — Нечаев и литературой пренебрегал, как всеми средствами массового воздействия), который особенно охотно утилизировался черносотенной публицистикой, когда ей нужно было сделать из революционера страшилище. Недаром и опубликовал его в России впервые «Правительственный вестник». Среди же самой революционной молодежи нечаевщина надолго дискредитировала заговорщическую тактику. «Нечаевское дело вызвало тогда (в начале 70-х годов) против себя особенно сильную реакцию», — пишет историк «чайковцев»; слово
нечаевщина стало обозначать всякую неискренность в отношениях между революционерами, всякое стремление к «генеральству» в революционных организациях»
[143].
Но банкротство нечаевщины совсем не обозначало банкротства бакунизма и перехода к мирной пропаганде: бакунизм был достаточно широк, чтобы вместить в себя весьма разнообразные революционные течения. Из двух его главных аспектов, заговорщичества и анархического федерализма, среди молодежи теперь взял верх последний. Лозунгом дня стала не централизованная революция, устроенная кучкой заговорщиков, а ряд местных бунтов, подготовленных «самостоятельно организованными революционными группами», в процессе революции развивающимися в «революционные общины». Бакунин в этот антинечаевский период заявлял себя «прежде всего врагом так называемой революционной диктатуры»; образование какого бы то ни было правительства, даже временного, является, в его глазах, вырождением революции. Но для того, чтобы подготовить такой разлитой, если так можно выразиться, народный бунт, нужно было «идти в народ», из Питера его не сделаешь. Бакунин был убежден, что в народе его «бунтарей» (тогда фракционная кличка, как позже «большевик» или «максималист») ждет несомненный и быстрый успех; «всякий народ, взятый в своей совокупности, и всякий чернорабочий человек из народа — социалист по своему положению, — утверждал Бакунин. — Умный русский мужик — прирожденный социалист». Так как надежда на развитие социализма из крестьянской общины вела к тому же выводу, то объект для «бунтарской» агитации давался сам собою — это было крестьянство: оно должно было составить революционную массу, революционную сознательно. Из этой веры в глубокую прирожденную революционность русского крестьянина часто заключали, что «бунтари» игнорировали рабочих — ближайший-де к ним революционный элемент: искали рукавиц, а обе — за поясом. Современные документы показывают, однако, что именно рабочие-то и были единственным доступным революционерам 70-х годов образчиком «умного русского мужика», и что при всем желании агитировать среди «настоящих крестьян» они всюду должны были довольствоваться этим суррогатом: и чайковцев, и московский кружок Бардиной, и саратовцев, и, на первое время, даже киевлян мы видим среди фабричного населения, которое и было ими разагитировано весьма недурно; к концу 70-х годов можно уже говорить о настоящем рабочем движении в России, притом с окраской, несомненно, революционной
[144]. До деревенского «умного мужика» добраться оказывалось неизмеримо труднее. Стоит прочесть рассказ Дебагория-Мокриевича, как ему однажды в шинке случайно удалось разговориться с «настоящим» крестьянином и встретить у него понимание и сочувствие, и в каком он был восторге от этого события, чтобы оценить, какой редкой птицей был для тогдашнего революционера «настоящий мужик»; а еще киевляне, как мы увидим, оказались потом самыми счастливыми в этом отношении
[145]. Большинство бродило по деревням, как в лесу, на каждом шагу «проваливаясь» по незнанию местного наречия, местных обычаев и т. п. «проваливаясь», впрочем, без всяких, обыкновенно, полицейских последствий (арестовывать стали значительно позже, притом начиная с городов), но и без всякой надежды что-нибудь сделать среди населения, сразу настроившегося относительно агитаторов подозрительно. В лучшем для них случае их принимали за воров… С мужицкой, буржуазной точки зрения ничем иным нельзя было объяснить, зачем эти люди, в данной местности чужие и, видимо, очень плохо знающие деревенскую работу, шатаются по деревням. Эта буржуазная точка зрения готовила первое жестокое разочарование «бунтарям», с раскрытым сердцем пошедшим к «прирожденным социалистам». «В тех местах крестьяне очень неохотно пускали в дом прохожих, — рассказывает один пропагандист-семидесятник о своем первом странствовании по северу Московской губернии. —
Пешие гости возбуждали в них подозрительность. Крестьяне чуть-чуть побогаче прямо отказывали нам в ночлеге или без всяких разговоров, или высказывали кратко и бесцеремонно свой взгляд относительно нечистоты на руку вообще прохожих. И это повторялось много раз. В самые бедные избы нас пускали, но почти везде только после тщательных расспросов, в особенности о нашем маршруте, предыдущем и последующем, а также о наших намерениях…»
[146]. «Крестьяне крайне неохотно пускали нас к себе на ночь, — пишет Дебагорий-Мокриевич, — так как наша сильно поношенная, почти оборванная одежда явно возбуждала у них подозрения. Надо сознаться, что этого мы всего менее ожидали, когда отправлялись в наше путешествие под видом рабочих. Мы знали о недоверчивом отношении крестьян ко всем, носящим панский, т. е. европейский костюм, и полагали, что чем беднее одежду наденем на себя, тем с большим доверием станут они относиться к нам. И в этом ошиблись». Еще больше ошиблись они в своих представлениях
о революционности крестьянства: «Из разговоров оказалось, что крестьянские движения происходили главным образом в конце 50-х и начале 60-х годов, т. е. в период до и тотчас после освобождения крестьян, и что приблизительно с половины 60-х годов волнения стали происходить реже, а к 70-м годам их почти совсем уже не было»
[147]. Не было не только никаких активных попыток восстания, но не было в помине и революционного настроения. «Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям, — рассказывает первый из цитированных нами пропагандистов о своем знакомстве с костромичами-плотниками, — из того времени, когда он успел уже окончательно приспособиться к деревенской среде и сам поступил в плотничью артель. Но тут я натыкался всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими посылками кологривец делал из них
свой вывод или подводил свой итог, а именно: утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты… По этому воззрению, им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение собственно потому, что они сами поголовно
пьяницы и забыли Бога. Не помню, за давностью, находил ли я аргументы, пригодные для того, чтобы доказать им, что следствие в данном случае принималось за причину, или пытался ослабить в них этот пессимизм как-нибудь иначе… Но остается факт, что я никак
не мог сбить моих собеседников с их позиции»
[148]. На юге крестьяне жаждали аграрного переворота — «передела земли»; но в 70-х годах память о 19 февраля была еще свежа, и переворот рисовался крестьянам в легальной форме — царского указа, доделывающего то, что оставила в недоконченном виде реформа 1861 года. Это должны были признать даже наиболее оптимистически настроенные пропагандисты. Так, одна из виднейших деятельниц народнического движения, утверждающая, что «на юге России народ далеко не привязан к верховной власти, все традиции его находятся в антагонизме с нею», сообщает, тем не менее, такой любопытный факт: «Некоторые крестьяне спрашивали, нет ли под моими грамотами подписи царя или кого-нибудь из его семейства», а один крестьянин-сектант с большой уверенностью принял самое пропагандистку за «царицу или цареву дочку»
[149]. Оставалось только упрекать крестьян в недоверии к собственным силам, в трусости, но это были уже академические утешения. Тем, кто не хотел им предаваться, оставалось только признать, что
царизм являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян.
Свои желания,
свои понятия о справедливости крестьяне переносили на царя, как будто это были
его желания,
его понятия. К крестьянам шли, чтобы встретить в них прирожденных революционеров, а они оказывались, употребляя современный термин, «легализаторами». Читатель, помнящий нашу характеристику «пореформенной экономики», не затруднится в объяснении источника этой крестьянской легальности. Несмотря на все ужасы, рисовавшиеся народнической статистикой, экономическое положение крестьян после 19 февраля не ухудшилось, а улучшилось, хотя и незначительно, и этого незначительного улучшения было достаточно, чтобы внушить крестьянам известный оптимизм по отношению к будущему. Только когда параллельно с аграрным кризисом 80-х годов дела крестьянского хозяйства быстро пошли под гору, стали возможны настроения, сказавшиеся в дни первой и второй Думы. За четверть столетия раньше «в народе возможно было вызвать восстание только от имени царя, т. е. не
против существующего порядка, а
на защиту его. Ухватиться за такой предлог для восстания можно было, очевидно, лишь с отчаяния. Плохую услугу бунтарям оказал тут известный реакционный историк французской революции Ипполит Тэн. Стремясь изобразить события 1789 года стихийным бунтом, «бессмысленным и беспощадным», Тэн очень охотно подчеркивал тот факт, что крестьяне разных медвежьих углов шли громить замки своих сеньеров «по королевскому указу», предводимые иногда разными «принцами» в голубых лентах. Он не пояснял своим читателям, что смысл движению давали не эти темные вспышки, а гораздо более сознательные выступления парижских мещан и мастеровых, без которых ни о какой «революции» и говорить не пришлось бы. «Бунтари» наивно приняли памфлет французского реакционера за последнее слово науки (можно ли их упрекать за эту наивность, если подобную ошибку делали еще лет десять спустя университетские профессора?) и нашли, что картина, как восстание, поднятое
во имя короля, обращается
против него, необыкновенно заманчива
[150]. В Чигиринском уезде Киевской губернии давно шла глухая, но ожесточенная борьба между двумя разрядами самого крестьянства — из бывших «государственных». Тема спора необыкновенно близка нашему времени: зажиточные крестьяне отстаивали подворное, участковое землевладение, а бедняки требовали передела земли по душам, т. е. перехода к общине. Начальство было на стороне первых, и этим воспользовалась работавшая в Чигиринском уезде «бунтарская» группа (Стефанович, Дейч, Дебагорий-Мокриевич и др.). Был пущен слух, что царь давно предписал передел, но чиновники это скрывают; царь не может с ними справиться, а потому обращается прямо к народу; был распространен подложный манифест, приглашавший крестьян вооружаться на защиту царя и поземельной общины. Агитация на этой почве шла необыкновенно успешно между «душевиками» (как называли сторонников передела по душам). «Бунтарям» удалось дойти до. организации крестьянских дружин, но тут они наткнулись на затруднения уже чисто технического характера: для того, чтобы сколько-нибудь прилично вооружить своих дружинников, у них не хватило средств, они смогли раздобыть всего 30 плохих револьверов. Дело затянулось и, конечно, раскрылось. До 900 крестьян было арестовано. «Говорят, что крестьяне были вне себя от ярости, когда перед ними раскрылась мистификация «царского комиссара» (так называл себя Стефанович); особенно они возмущены были священной клятвой, которую он заставил их принести, и ложной присягой, которую он сам принес»
[151].
Единственная попытка массового движения, которую удалось вызвать революционерам-народникам 70-х годов, кончилась хуже, чем простой неудачей.
«Народная воля»
Организационный крах бунтарской пропаганды ♦ Тактика террора погубила саму организацию ♦ Материальные средства народовольцев ♦ Слабость сил революционеров вела к террору
Гораздо раньше, чем бунтарскую пропаганду постиг
политический крах на Чигиринском деле, она испытала крах
организационный. Федеральное устройство и общинная автономия оказывались совершенно неприложимыми к тайному обществу, каким неизбежно должен был стать в данных политических условиях кружок социалистической пропаганды. По бакунинскому кодексу (усвоенному фактически и небакунистами), каждый член «революционной общины» должен был знать все о всех своих товарищах: община для «своих» должна была жить как бы в стеклянном доме. При этом предписывалась, с самым важным видом, строжайшая конспирация от «чужих»; но стоило одному из этих последних прикинуться «своим» достаточно ловко (а это легко было сделать — в особенности представителям того «народа», до которого так жаждали добраться) — ив революционном деле не оставалось ничего тайного для полиции. Мало того, провал одной общины вел за собою неизбежно провал целого их ряда, ибо, во имя принципа федерации, «управления» всех общин данной местности должны были осведомлять друг друга о всех своих делах, пользуясь для этого общим шифром и сообщая друг другу революционные клички членов «управлений» и т. п.
[152]. В наше время такая «конспиративная организация» прожила бы не дольше одного месяца — или с первого же месяца стала бы игрушкою в руках провокаторов. Только совершенной неприспособленностью тогдашней местной полиции к борьбе с какой бы то ни было революцией можно объяснить, что «бунтарские» и пропагандистские кружки 70-х годов держались без провалов по нескольку месяцев и даже лет. Но стоило полицейским центрам, Третьему отделению и прокуратуре заинтересоваться делом, как провалы посыпались один за другим. К началу 1875 года в руках полиции было уже более 700 человек, так или иначе скомпрометированных по делам о революционной пропаганде; не разысканными оказалось всего 53 из числа тех, кого полиция желала иметь, а всех активных участников движения едва ли была тысяча человек. Такого полного провала революционное движение в России ни разу не испытывало ни раньше, ни после; даже в дни совсем открытой работы процент арестованных работников не достигал такой высоты, несмотря на все новейшие полицейские усовершенствования. Факт не мог не обратить на себя внимания, в особенности тех, в ком живы были нечаевские традиции и кого не совсем правильно называли тогда «якобинцами»
[153]. Этой кличкой хотели подчеркнуть «антипатичные» черты заговорщической-так-тики: централизацию, иерархичность и дисциплину, делавшие из мелкого члена организации слепое орудие революционного «начальства». Нечаевец Ткачев на страницах своего «Набата» блестяще доказал, однако, — анализом как раз процесса 50-ти, разбиравшегося в 1877 году, — что без этих «антипатичных» особенностей никакой конспирации быть не может. Год спустя сознали это и уцелевшие от облавы «бунтари» и «пропагандисты». Скрепя сердце пошли они навстречу централизации, попытавшись влить оставшиеся «революционные общины» в первое тех дней общерусское революционное общество — партию «Земли и воли». Но массовая работа все же была в их глазах слишком ценной — и от «хождения в народ» не отказались и землевольцы, только «хождение» в собственном смысле они, ценя предыдущий опыт, заменили
поселением среди народа. Относящееся сюда место из воспоминаний одного из учредителей общества чрезвычайно любопытно, — оно показывает, как была потрясена вера в прирожденный социализм «умного русского мужика» уже к 1878 году. «Прежнее догматическое утверждение, требовавшее, чтобы революционер отправлялся в народ в качестве чернорабочего, потеряло свою безусловную силу. Положение человека физического труда признавалось по-прежнему весьма желательным и целесообразным, но
безусловно отрицалось положение бездомного батрака, ибо оно никоим образом не могло внушить уважения и доверия крестьянству, привыкшему почитать материальную личную самостоятельность, домовитость и хозяйственность. А потому настоятельною необходимостью считалось занять такое положение, в котором революционеру при полной материальной самостоятельности открывалась бы широкая возможность прийти в наибольшее соприкосновение с жителями данной местности, входить в их интересы и пользоваться влиянием на их общественные дела. В силу этого люди устраивались хозяйственным образом в положении всякого рода мастеровых: заводили фермы, мельницы, лавочки, занимали должности сельских и волостных писарей, учителей, фельдшеров, врачей и проч. Особенно желательным считалось, чтобы в среде поселенцев был по крайней мере хоть один человек из уроженцев данной местности»
[154]. Усвоить организационный опыт оказывалось гораздо труднее, чем тактический. Автор отнюдь не желал посмеяться над своими товарищами, но можно ли без улыбки читать такой его рассказ: «Не так скоро покончили мы с уставом. Михайлов
[155] требовал радикального изменения устава в смысле большей централизации революционных сил и большей зависимости местных групп от Центра. После многих споров почти все его предложения были приняты, и ему поручено было написать проект нового устава. При обсуждении приготовленного им проекта немалую оппозицию встретил параграф, по которому член основного кружка обязывался исполнять всякое распоряжение большинства своих товарищей, хотя бы оно и не вполне соответствовало его личным воззрениям. Михайлов не мог даже понять точки зрения своих оппонентов». Революционер наших дней также едва ли бы понял эту своеобразнейшую «точку зрения» на партийную дисциплину, но какой яркий свет бросает этот маленький факт на нравы и обычаи бакунинских «революционных общин»!
«Земля и воля» была первой русской революционной организацией, имевшей свой литературный орган — газету (правильнее — журнал, полное название было: «Земля и воля, социально-революционное обозрение»), которой с октября 1878 по апрель 1879 года вышло 5 номеров, не считая № 6 «Листка «Земли и воли». Организации 60-х годов не шли дальше выпуска, в сущности, прокламаций, хотя и стремились придать им известную последовательность и периодичность («Великорусе» и «Свобода»). Возможность выпускать в течение полугода, под бдительным оком полиции, настоящее периодическое издание — с хроникой, внутренним обозрением, корреспонденциями и т. д. — уже сама по себе свидетельствовала о такой «солидности» нового общества, которая в предыдущем не знала себе примера. Тем не менее не прошло года, как и оно было ликвидировано — правда, не так, как предшествовавшие ему кружки: те были «ликвидированы» полицией, «Земля и воля» ликвидировала себя сама, на воронежском съезде в июне 1879 года. Народнические авторы объясняют эту автоликвидацию полицейским террором, будто бы исключавшим для членов общества, поселившихся в деревне — «деревенщиков», — всякую возможность сколько-нибудь производительной работы. Авторы противоположного направления указывают, что землевольцы не туда обращались, куда следовало: «Если бы делу сближения с рабочими она (интеллигенция) посвятила хоть половину тех сил и средств, которые потрачены были на «поселения» и на разные агитационные опыты в крестьянстве, то к концу 70-х годов социально-революционная партия твердо стояла бы уже на русской почве»
[156]. Противники могли бы ответить, что
массовая агитация в городе пока давала столь же жалкие результаты, как и в деревне. На знаменитую демонстрацию 6 декабря 1876 года (у Казанского собора в Петербурге) ждали 2–3 тысячи рабочих, а пришло 200 человек, по большей части интеллигентов. Из рабочих больше можно было выловить политически развитых
единиц, чем из крестьян, но рабочая
масса стала политически возбудимой гораздо позднее. В 70-х годах к ней можно было подойти только
неэкономической почве. Мифом оказывалась вообще «прирожденная революционность» как городской, так и деревенской бедноты, — вот истина, которую должны были признать агитаторы-народники после того, как опыт с деревней заставил их сознаться, что прирожденный социализм крестьянства — тоже миф. Нужны были долгие годы подпольной работы, чтобы чего-нибудь добиться внизу. А между тем
сверху, казалось, так легко было действовать! В беседе с одним близким приятелем Желябов — будущий лидер «Народной воли» — превосходно выразил это дьявольское искушение — стать из
народника якобинцем. «Желябов рассказал трагикомическую историю своего народничества. Он пошел в деревню, хотел просвещать ее, бросить лучшие семена в крестьянскую душу, а чтобы сблизиться с нею, принялся за тяжелый крестьянский труд. Он работал по 16 часов в поле, а, возвращаясь, чувствовал одну потребность растянуться, расправить уставшие руки или спину, и ничего больше; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в животное, в автомата. И понял, наконец, так называемый консерватизм деревни: что пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба… до тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением. Подозрительный, недоверчивый крестьянин смотрит искоса на каждого, являющегося в деревню со стороны, видя в нем либо конкурента, либо нового соглядатая со стороны начальства для более тяжкого обложения этой самой деревни. Об искренности и доверии нечего и думать.
Насильно милым не будешь. Почти в таком же положении и фабрика. Здесь тоже непомерный труд и железный закон вознаграждения держат рабочих в положении полуголодного волка. Союз, артель могли бы придать рабочим больше силы. Но тут и там натыкаешься на полицию; ей невыгодно такое положение: легче и удобнее давить в розницу. — Ты был прав, — окончил он смеясь, —
история движется ужасно тихо, надо ее подталкивать. Иначе вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело»
[157].
Желябов не был формально землевольцем (хотя на автоликвидацию «Земли и воли» имел громаднейшее влияние), но в официальных верхах партии думали совершенно так же. «В то время все представители «Земли и воли» ясно сознавали, что
вызвать революцию можно не организацией в слоях народа, а, наоборот, сильной организацией в центре можно будет вызвать революционные элементы и организовать из них революционные очаги», — пишет один из главных устроителей ликвидаторского воронежского съезда
[158]. По документам, оставшимся от последней чисто народнической организации, можно шаг за шагом следить, как боролись ее руководители против дьявольского искушения и как дух заговорщичества и революции сверху отвоевывал одну позицию за другою. Уже на первом учредительном съезде «Земли и воли» весной 1878 года «целую бурю» вызвало предложение Валериана Осинского, касавшееся «введения политического элемента вообще в нашу программу и
усиления дезорганизаторской деятельности в частности». Слово «террор» еще не получило права гражданства… «Прения по этому поводу были продолжительны и очень горячи. Но деревенщина еще была тогда в силе. Преобладающее настроение общества было строго народническое. И предложение Валериана было отвергнуто огромным большинством». А 13 марта (следующего 1879 года) Мирский стреляет в нового шефа жандармов, Дрен-тельна, и стреляет по решению Большого совета партии, в котором большинство — «деревенщики». Теория, наконец, удостоила санкционировать практику, в которую террор, в качестве одного из приемов борьбы, был давно введен, как ни восставала партия против террора официально
[159]. А две недели спустя перед партией оказалась следующая ступень: Соловьев явился с предложением убить Александра II. «Администрация» «Земли и воли» была уже всецело в руках террористов. Большой совет был еще против проекта Соловьева, но он аргументировал уже не от принципов народничества, а только от практических последствий предлагаемого шага. «Я доказывал, — писал в своих воспоминаниях один из членов Совета, — что тем способом, каким имеется в виду осуществить цареубийство, девяносто девять против одного говорят за полную неудачу попытки. Но покушение тем не менее окажет свое действие: за ним последует
военное положение, т. е. такое положение вещей, из которого
единственным выходом может быть вторичное, третичное — целый ряд покушений на цареубийство, инициативу и исполнение которых должна будет уже обязательно взять на себя
партия, на собственный страх и риск… Замечательно, что против второго моего положения (что террор ухудшит дело) возражали сторонники цареубийства, те, которым, как я в этом теперь убежден, именно
этого (т. е. обострения положения) и хотелось: на самом деле все уже было предусмотрено и решено; обратились же к Совету, главным образом, по настоянию Соловьева, которому сильно хотелось для дела своего заручиться санкцией землевольцев». Официальной санкции он не получил, но и отречься от покушения 2 апреля 1879 года партия была уже не в силах. «Покушением Соловьева, — говорит народнический историк «Земли и воли», — революционеры, хотя и против воли большинства, вынужденные обстоятельствами, бросили правительству вызов на смертный бой. Возврата назад не было. Нужно было идти вперед по избранному пути, так как все другие были закрыты. Отступить — значило подписать смертный приговор партии»
[160].
Но партии как
народнической, т. е. массовой, организации смертный приговор именно и подписывала террористическая тактика. Покушение Соловьева — неудачное, как и предсказывали противники террора — было весною, а летом того же 1879 года состоялся упоминавшийся нами ранее «ликвидационный» съезд «Земли и воли». На нем «деревенщина» подверглась полному разгрому — террор был признан нормальным орудием партийной борьбы по всей линии — от деревни до Зимнего дворца: в этом смысле была дополнена программа, теоретически оставшаяся прежней. Теоретически продолжала признаваться и массовая деревенская агитация: на нее решено было расходовать 1/3 всех средств партии, а на террор лишь V На деле все прекрасно понимали, что никакой деревенской агитации не будет. Стефанович и его товарищи, правда, обещали в Чигиринщине какое-то «продолжение», но было слишком ясно, что в
таком направлении лучше не продолжать. Немного месяцев спустя после съезда «деревенщики» формально откололись от террористического теперь большинства, образовав новую группу «Черного передела». Чернопередельчество сыграло известную роль в развитии революционного движения, послужив мостом между народничеством тех годов и позднейшей социал-демократией, но то была связь идейно-психологическая (и больше психологическая, чем идейная), фактического же влияния на революционные события тех дней «Черный передел» не имел, еще раз на опыте доказав, что массовая агитация как средство вызвать революцию в данный момент не годится. Впрочем, противники чернопередельцев уверяли, будто те на самом деле даже и не занимались агитацией в массах, а только разговаривали о ней — в каковом виде дело и изображено в известном письме Маркса
[161], инспирировавшегося тогда из террористического лагеря. Как бы то ни было, поле осталось за «якобинцами» (сами они, конечно, так себя не называли), которые очень скоро и формально подчеркнули свой поворот от прежней тактики, приняв название партии «Народной воли». Что не значило, как объяснял их орган (носивший то же название и оказавшийся самым долговечным из всех русских революционных изданий XIX столетия — с 1 октября 1879 по октябрь 1885 года вышло 12 номеров), чтобы они себя считали выразителями воли народа, а значило лишь, что они стремятся создать такие политические условия, при которых эта воля могла бы себя обнаружить. Историческая случайность дала как будто нарочно наглядную иллюстрацию организационным преимуществам нового направления. Землевольческий съезд предполагался в Тамбове, куда и съехалось уже порядочно народу. Но «бунтарская» конспирация давно отстала от событий. Прежние счастливые времена, когда можно было агитировать под носом у полицейских, давно прошли: «Тамбовская полиция сейчас же заметила сборища незнакомых ей молодых людей, державших себя притом шумно и свободно, — началась слежка, и съезд оказался проваленным. Пришлось спешно перебираться в Воронеж. Тем временем террористы устроили свой фракционный съезд в Липецке — оставшийся тайною не только для полиции, но и для противной фракции «деревенщиков». Из Липецка плотной, хорошо спевшейся группой явились они в Воронеж и там одержали легкую победу. С первых же шагов видно было, что эти люди, во всяком случае, умеют устроить заговор».
Торжество
заговорщической тактики в самом деле было наиболее наглядным признаком совершившейся перемены. «Совершение переворота путем заговора — вот цель партии «Народной воли», определяемая программою
Исполнительного комитета…
Строго централистический тип организации, на весь период борьбы, до первой прочной победы революции, мы считаем за наилучший, единственно ведущий к цели»[162]. Это было торжество
каракозовско-нечаевской традиции над традицией чайковцев и всех других социалистов-народников 70-х годов — «бунтарей» или «пропагандистов», лавристов или бакунистов, безразлично. Преемственность нечаевщины сразу же чрезвычайно ярко выразилась в
названиях. Встречая два имени: партия «Народной воли» и Исполнительный комитет, вы, конечно, подумаете о
двух учреждениях, их которых второе представится вам исполнительным органом первого. Ничего подобного: исполнительный комитет и партия — это было одно и то же. Вернее говоря, партия была такою же фикцией, как нечаевская «Народная расправа», — комитет был единственной реальностью. Зачем понадобилась мистификация— ответ дает статистика. Г. Богучарский в своей книге довольно точно подсчитал число членов Исполнительного комитета до 1 марта 1881 года: там перебывало с 26 августа 1879 года (дата
первого заседания комитета) 37 человек, «но и этого числа, разумеется, одновременно никогда не было»
[163]. Зато бывали случаи, что
одновременно в России оставался только
один член Исполнительного комитета; начал же он свою деятельность при 28 человеках, по подсчету того же автора. Вот сколько было террористов, бросивших в 1879 году «вызов на смертный бой» императорскому российскому правительству! Можно себе представить, какое впечатление произвела бы эта статистика, будь она известна своевременно. Но народовольцы принимали все меры, чтобы замаскировать скромную действительность и от своего врага, и от публики. Исполнительный комитет должен был оставаться для всех, кроме его членов, чем-то таинственным, недоступным и неуловимым. При арестах его члены упорно называли себя агентами, и так же они должны были именовать себя перед провинциальными кружками «сочувствующих». Члена комитета никто не должен был видеть никогда, а между тем всю работу, до самой черной технической, несли на себе сами члены комитета, ибо никакой «периферии» к их услугам не было. Едва ли нужно объяснять скромность приведенных цифр: психологически дело вполне понятно само собою. Вступить в члены террористической организации, где цареубийство стояло первым пунктом в программе деятельности (в заседании 26 августа 1879 года решено было «все силы сосредоточить на одном лице государя»; этим не исключались покушения на других представителей власти, но намечалась
главная цель), значило надеть себе петлю на шею — со среднеобывательской точки зрения, совершить «замаскированное самоубийство». В момент массового революционного подъема способных на такое «самоубийство» людей могло бы оказаться и довольно много, но в 1879 году никакого массового подъема не было; революционерам приходилось черпать силы из своей собственной среды, а их число, после всех разгромов и разочарований, едва ли выходило из сотен, и даже очень немногих сотен: тут и 40 человек являлись весьма значительным процентом. Притом
заговора количество не так много значит, как
качество: кучка генералов и офицеров, которым армия слепо предана, могут устроить заговор, низвергающий правительство, вчера еще казавшееся прочнее пирамид, хотя бы посвященных в дело было всего десять человек; чем меньше, тем даже лучше. Русская история богата заговорами: были и многолюдные, но неудачные, как заговор декабристов; были и очень малолюдные, но весьма удачные, как тот, который сделал Екатерину II из опальной царской жены самодержавною императрицей, а Петра III — из самодержавного императора сначала политическим арестантом, а потом — покойником. У Григория Орлова товарищей было едва ли больше, чем членов в Исполнительном комитете: но у него зато было три гвардейских полка из четырех, составлявших тогда императорскую гвардию. Читатель догадывается, о каком «качестве» идет здесь речь. Личное мужество народовольцев засвидетельствовано всеми политическими процессами того времени, их энергия, их многоразличные таланты от технических до литературных — всей их деятельностью, тогдашней и позднейшей; это несомненно был цвет тогдашней молодежи. Но, по пословице, «Один в поле не воин», самые выдающиеся личные достоинства не заменят
материальной силы. Как с этой стороны обстояло дело у Исполнительного комитета? Тот же автор сделал попытку учесть
денежные средства народовольцев
[164]. Цифры его, несомненно, ниже действительности, — по отчетам «Народной воли» о состоянии партийной кассы судить нельзя, ибо в этих отчетах сознательно пропускались наиболее крупные пожертвования, чтобы не обратить на них внимание полиции (позже отчеты и вовсе прекратились). Но если в данном случае нет возможности оперировать статистическим методом, достаточно выразительны приводимые г. Богучарским цитаты. Вот один пример: ведется подкоп под Курскую дорогу (взрыв царского поезда 19 ноября 1879 года); для этого специально куплен дом, все, что в нем делается, должно, конечно, быть окружено строжайшей конспирацией, и этот дом закладывают (что было сопряжено с его осмотром) ради того, чтобы получить 600 рублей! Рисковать из-за такой суммы провалить важнейшее, в тот момент, дело партии можно было только при совершенном безденежье. Вот другой пример: 1 марта у Исполнительного комитета не нашлось квартиры для собрания — и он собрался в лаборатории, где накануне всю ночь изготовлялись бомбы… И дело опять слишком понятно: только массовое движение может создать приток больших средств в кассы революционных организаций. Когда приходится зависеть от индивидуальных «благотворений», много не соберешь. Можно с уверенностью сказать, что из буржуазных кругов революционеры 70-х годов никакой сколько-нибудь щедрой поддержки не получали: и для чего бы буржуазия стала поддерживать своими деньгами людей, борющихся с ее собственным буржуазным правительством? Капиталы же, какие имелись у самих отдельных революционеров, были к народовольческому периоду уже израсходованы или захвачены правительством (первое имело место по отношению к деньгам Войнаральского, отдавшего на революционное дело все свое состояние — около 40 000 р., второе — по отношению к состоянию Лизогуба, повешенного Тотлебеном в Одессе в августе 1879 года; у него было до 150 000 р., из которых не более трети попало в кассу партии). Чтобы дополнить картину «материальных средств», нам остается сказать,
что людей в распоряжении Исполнительного комитета было так же мало, как и денег. Много говорилось, и в свое время, и впоследствии, о боевых дружинах из рабочих: никаких следов таких дружин, однако, не найдено, — были отдельные рабочие-террористы (как Халтурин, устроивший взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года), но, считая их, мы едва ли выйдем из первого десятка. Была военная организация, состоявшая исключительно из офицеров, но офицерские кружки были, собственно, группами пропаганды, где читали Лассаля, Маркса и нелегальную литературу и дебатировали политические темы
[165]. И хотя организация ставила одной из своих задач «исключительно военное восстание с целью захвата верховной власти», — никаких, даже подготовительных шагов к осуществлению этой задачи найти нельзя. Нельзя указать ни одной воинской части, которая была бы целиком в руках народовольцев — как были отдельные полки или хотя роты в руках декабристов. Были, опять-таки, отдельные офицеры-террористы, как лейтенант Суханов, — вот и всё.
Мы недаром остановились на этом, может быть, «скучном», вопросе — о материальных силах и средствах народовольцев. Этими силами и средствами определялась всецело их
тактика, а их тактикой в значительной степени определялась
программа Народной воли. Читатель удивится — он привык слышать, что программой определяется тактика, а не наоборот; так
должно быть, — нов революции, как и всюду, объективное командует над субъективным. Мы до сих пор принимали как бы за данное, что Народная воля была партией
террористической, и говорили раньше, что заговорщическая тактика всего лучше гармонирует именно с террором. Действительно, без конспирации террор просто невозможен, и почти все заговорщики всех времен и народов не отказывались от этого приема революционной борьбы. Но, кажется, не было ни одного заговора на свете, где к террору, и притом к «центральному террору», т. е. к попыткам цареубийства, сводилась бы в сущности вся или почти вся борьба. «Центральный террор» сам по себе, без других задач и приемов революционной борьбы, является просто бессмыслицей. На место убитого государя станет другой, его наследник, — и дело придется начинать сызнова. А наивность обывательского представления, что власть можно «запугать» террором, прекрасно понимали сами народовольцы: на психологический эффект испуга они рассчитывали только как на минутное средство в решительный момент — в начале
народного восстания. Без этого последнего и помимо него они сами не мыслили террористической тактики. В документе, который мы имеем в виду («Подготовительная работа партии»), «главнейшие задачи» Народной воли являются перед нами в весьма обширном виде: «1) создание центральной боевой организации, способной начать восстание; 2) создание провинциальной революционной организации, способной поддержать восстание; 3) обеспечить восстанию поддержку городских рабочих; 4) подготовить возможность привлечения на свою сторону войска или парализование его деятельности; 5) заручиться сочувствием и содействием интеллигенции — главного источника сил при подготовительной работе; 6) склонить на свою сторону общественное мнение Европы»
[166]. Много задач, как видите, — и среди них террор даже не назван, хотя в пункте 1-м он подразумевается. А между тем,
к террору свелось на практике все, и никаких попыток вооруженного восстания сделано не было даже 1 марта 1881 года, когда будто бы какие-то рабочие предлагали Перовской увлечь массы на улицу, — из чего, само собою разумеется, не произошло бы ничего дальше повторения, с большим, конечно, кровопролитием демонстрации 6 декабря 1876 года. С сорока человеками, без всякой массовой организации, восстания устроить было нельзя, — можно было только о нем говорить, тогда как для бомбистских выступлений, даже для рытья мин и подкопов, достаточно было двух дюжин решившихся пожертвовать собою людей. Но и это лишь при условии сосредоточить работу данной кучки лишь на
одной цели. Даже массового террора при Наличных силах Исполнительного комитета устроить было нельзя, — «центральный террор», ряд покушений на
одно лицо, оставался единственным объективно возможным выходом.
Что было с тактикой, то же случилось и с программой. Официально и «Народная воля» продолжала оставаться
социалистической партией; в программе Исполнительного комитета мы имеем и «принадлежность земли народу» (п. 4-й), и «систему мер, имеющих целью передать в руки рабочих все заводы и фабрики» (п. 5-й). А на деле, тотчас после воронежского съезда, Желябов уже поднял вопрос о том, чтобы не писать больше об аграрном вопросе, «дабы не отпугивать либералов», — а другой народоволец, Баранников, очевидно, основательно вспомнивший нечаевщину, предлагал «мистифицировать либералов изданием особого листка от Исполнительного комитета, программа которого (т. е. листка) должна была быть только
политической»[167], то есть где бы никаким социализмом и не пахло. «Программа Исполнительного комитета», по духу, несомненно, была
республиканской («Наша цель — отнять власть у существующего правительства и передать ее Учредительному собранию», которое дальше именуется — «имеющим полную власть»), но так как республика могла «отпугнуть либералов» не меньше, чем национализация земли или социализм, то, во-первых, слово «республика» обошли даже и в тексте программы, а затем и самое понятие, обозначаемое этим словом, перестало играть сколько-нибудь серьезную роль в глазах самих народовольцев. «В программе, по которой я действовала, — говорила В. Н. Фигнер в своей речи на суде, — самой существенной стороной, которая имела для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистического образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, будет ли у нас республика или конституционная монархия. Я думаю, что можно мечтать и о республике, но что воплотится в жизнь та форма, к которой общество окажется наиболее подготовленным, так что этот вопрос не имеет для меня особенного значения». В данный момент В. Н. Фигнер, конечно, не руководилась какими-либо «дипломатическими» соображениями, — но привычка террористов «не придавать практического значения» вопросу о республике сложилась, вне сомнения, на почве дипломатии — по отношению к «либералам», единственной возможной материальной базе Народной воли, единственному возможному (хотя и не оправдавшему ожиданий) источнику ее средств. Под конец, в период уже разгрома, соглашались «помириться» с правительством даже на условии амнистии политическим да некоторого расширения свободы печати, собраний и т. п. Логически развертываясь, история Народной воли привела к положению вещей, диаметрально противоположному тому, с чего началось социалистическое движение 70-х годов: там была необъятная программа, ниспровергавшая «все», — и весьма невинная тактика; здесь программа была так «практически» обрезана, что даже движение 1905–1906 годах дало более крупные результаты, — но эта скромная программа сочеталась с тактикой самой революционной, какую только можно себе представить.
Слабость сил революционеров вела к террору. «Ни за что более, по-нашему, партия физически не может взяться, — писал накануне казни Валериан Осинский находившимся на воле товарищам. — Но для того, чтобы серьезно повести дело террора, вам необходимы люди и средства…». И вот, в погоне за «средствами», пришлось радикально изменить социальный базис революции: крестьяне и рабочие могли еще дать «людей» — последние и давали, но «средства» могла дать только буржуазия. Что революционерам-социалистам приходилось рассчитывать на буржуазию, в этом одном была уже трагедия. Это моральное самопожертвование стоило того физического, на которое обрекал людей террор. Довольно часто приходится слышать, что 1 марта было «агонией» «Народной воли»: гораздо правильнее сказать, что сама «Народная воля» была агонией социализма 70-х годов. Но стоило ли, по крайней мере, вторично жертвовать собой — своею нравственной физиономией? Привычка к западноевропейскому трафарету, имеющая столь великую власть над русским интеллигентом, мешала народовольцам видеть тот факт, что империя Александра II была уже буржуазной монархией — насколько буржуазная монархия вообще была мыслима на данной ступени экономического развития. На страницах самой «Народной воли» один весьма талантливый писатель, стоявший чрезвычайно близко к народовольцам, пытался растолковать им эту истину. «Вы боитесь конституционного режима в будущем, — писал Н. К. Михайловский осенью 1879 года, когда идеология народовольцев только складывалась. — Оглянитесь, это иго уже лежит над Россией»… «Россия только покрыта горностаевой царской порфирой, под которой происходит кипучая работа набивания бездонных приватных карманов жадными приватными руками. Сорвите эту когда-то пышную, а теперь изъеденную молью порфиру, и вы найдете вполне готовую, деятельную буржуазию. Она не отлилась в самостоятельные политические формы, она прячется в складках царской порфиры, но только потому, что ей так удобнее исполнять свою историческую миссию расхищения народного достояния и присвоение народного труда… Европейской буржуазии самодержавие — помеха, нашей буржуазии оно — опора»
[168]. Если бы народовольцы могли читать буржуазную публицистику, не гласную и явную, газетную, — перед публикой все и всегда прихорашиваются, — а публицистику, так сказать, интимную — публицистику «конфиденциальных» записок, предназначавшихся для личного употребления высокопоставленных лиц, а не для печати, они могли бы найти там сколько угодно «оправдательных документов» к тезису Михайловского. Не менее крупный, в своем роде, идеолог другого крыла российской «общественности», Чичерин, писал в те времена в записке, которую он через посредство Д. А. Милютина доставил Лорис-Меликову: «…Власти необходимо прежде всего показать свою энергию, доказать, что она не свернула своего знамени перед угрозою… Против организованной революции должна стоять крепкая правительственная власть, организации можно противопоставить только организацию». «Толки о представительстве вызваны у нас вовсе не стремлением ограничить самодержавие.
В России большинство не ищет ни большей личной свободы, ни гарантий против власти; той общественной свободы, которой у нас пользуется гражданское лицо, совершенно достаточно. В советах власти призвать к содействию выборных людей сказывается иное побуждение, по крайней мере, у тех, кто не примешивает к общественному делу личных целей. Русское общество чувствует, что в виду усложняющихся интересов и грозящих опасностей
правительству необходимо найти лучшие орудия, и что оно найдет их только в его (общества) содействии»
[169]. От людей ждали, что они предоставят хотя бы свои «средства» в распоряжение революции, а они только о том и мечтали, чтобы сделаться «орудиями» правительства против этой самой революции… Чичерин был очень «правым» либералом, конечно, — но, тем не менее, это был, лично чрезвычайно независимый человек, отнюдь не наемное перо и не политический карьерист какой-нибудь вроде Каткова. А либералом он был настолько, что правительство Александра III распространило, как известно, и на него свою опалу. У «левых» либералов мы встречаем, в сущности, совершенно то же отношение к революции, только смягченное некоторою слезливою сентиментальностью по адресу «жертв увлечения». Вот, например, каким стилем выражались авторы известной московской записки (Муромцев, Чупров и Скалой), поданной тому же Лорис-Меликову в марте 1880 года: «Невозможность высказываться открыто заставляет людей таить мысли про себя, лелеять их втихомолку и равнодушно встречать всякую, хотя бы незаконную, форму их осуществления. Таким образом создается весьма важное условие для
распространения крамолы — известное послабление со стороны людей, которые при иных обстоятельствах
отвернулись бы от нее с негодованием»[170]. А между тем московская записка была все же самым ярким документом «земского движения» (характерно, что писали-то ее как раз не земцы, а публицисты и профессора), единственным, где вопрос о конституции ставился почти определенно. И только отдельные единицы из числа земцев решались хотя бы вступить в сношения с революционерами — но лишь со специальной целью отговорить их от террора. Так, в декабре 1878 года И. И. Петрункевич, лидер тогдашних «левых земцев», с одним из своих товарищей вели в Киеве переговоры с Валерианом Осинским и его друзьями, — причем «одним из первых условий для успеха конституционной агитации» ставилось «приостановление террористической деятельности революционеров,
запугивавшей известную часть нашего общества», а равным образом и правительство
[171]. «Правые» негодовали и предлагали себя в «орудия»; «левые» боялись и просили перестать… Народовольцам не оставалось надеяться ни на кого, кроме самих себя.
Революция превратилась в дуэль Исполнительного комитета, с одной стороны, русского правительства — с другой. Покушения, убийства и казни — казни, убийства и покушения наполняют, совсем и без исключения, хронику революционного движения с 1878 по 1881 год. Причем сразу бросается в глаза, что
казней было гораздо больше, чем покушений, — неизмеримо больше, чем убийств. С августа 1878 по декабрь 1879 года было казнено
семнадцать революционеров[172], а со стороны правительства за этот промежуток времени пали только
двое: харьковский ген. — губернатор кн. Кропоткин и уже упоминавшийся нами шеф жандармов Мезенцев. Тут уже была не «смерть за смерть», а смерть за десять смертей. Желябов правильно резюмировал положение, сказав: «Мы проживаем капитал». Сосредоточение всех покушений на
одном лице — Александре II — еще раз диктовалось объективными условиями: приходилось спешить, чтобы сделать что-нибудь решительное раньше, чем правительство всех переловит и перевешает. На стороне народовольцев была опять неумелость русской полицейской организации: несколько набив руку на ловле пропагандистов, она, эта организация, снова растерялась перед террором. С пропагандистами было сравнительно легко: в городе достаточно было следить за молодыми людьми, обладавшими «нигилистическими» признаками (длинные волосы у мужчин, короткие у женщин, плед, синие очки и т. п.), чтобы с риском громадных ошибок, разумеется, уловлять «неблагонадежных». А так как за ошибки платили арестованные, а не полиция, то последняя могла относиться к своим промахам с равнодушием, истинно философским. В деревне было еще проще: достаточно было присматривать вообще за интеллигентными людьми, которые там, в деревне, все наперечет. Народовольцы жили как все, одевались как все
[173], притом самая их малочисленность служила для них лишней ширмой: можно было арестовать сотню молодых людей с самой революционной репутацией и не быть уверенным, что среди них есть хоть один член Исполнительного комитета. А к классическому средству новейших дней, к провокации, прибегли только уже в период распада «Народной воли». Небогатая полицейская фантазия не сразу могла подняться до инфернальной картины — революционера-террориста, человека «обреченного», который согласился бы за хорошую сумму денег предать и свое дело, и своих товарищей. Провалы народовольцев были обыкновенно связаны с чрезвычайно сложной техникой их дела: типографию или лабораторию трудно было замаскировать иногда даже от очень неопытного глаза. Это было бы во сто раз легче, будь они окружены сочувствующей им массой: но этого как раз не было. Первый дворник, первая горничная, заметив что-то «подозрительное», спешили поделиться своими догадками с участком. Но без техники нельзя себе представить террористической организации, — в технике была вся ее сила, и, благодаря прогрессу этой техники, очень большая сила могла быть сосредоточена в руках очень немногих людей. Принято говорить о влиянии русско-турецкой войны 1877–1878 годов на общественное движение конца 70-х годов. Влияние это обычно представляют себе так: война, с ее колоссальными стратегическими ошибками и сопровождавшим ее дипломатическим позором Берлинского конгресса, обнаружила всю неспособность правительства и тем страшно обострила недовольство общества этим правительством. Но мы сейчас только видели, какой невысокой температуры достигало общественное оживление внереволюционных кругов. Не будем спорить — война действительно подняла общественную температуру на два-три градуса: историческое значение этой оттепели было ничтожно — «общество» все же ничем себя не ознаменовало, кроме робких попыток «содействовать» и «примирить». Несколько больше, может быть, было
моральное влияние войны на самих революционеров истинно пошехонская неуклюжесть и трусость, обнаруженные правящими сферами на полях Плевны и в Берлине, сильно обнадеживали насчет успеха новой тактики
[174]. Но несомненно громадное влияние на эту тактику
технического опыта войны. Новые взрывчатые вещества — динамит, пироксилин — впервые были в широком масштабе использованы в этой войне, и сторонники партизанской тактики не могли без восторга видеть, как маленькая лодочка при помощи динамитной мины пускает на дно гордый броненосец, с его сложным механизмом, сотнями людей и огромной артиллерией. Вот что рассказывает автор уже цитированных нами воспоминаний об А. И. Желябове: «Желябов завел обширные знакомства с профессорами Артиллерийской академии, разными техниками, офицерами разных специальностей. В Одессе, на рейде, в то время стояли всегда военные суда, миноноски и проч. Он видел действие мин и торпед на воде, присутствовал при разных опытах со взрывчатыми веществами. Эти же офицеры давали ему уроки. Оплачивались они дорого, очень дорого, что-то вроде 25 рублей за час. Вообще Желябов подготовлял себя чуть-что не к службе монтера. Он входил во все детали и как-то по неосторожности на каком-то опыте был ранен. Его очень полюбили, но как-то побаивались, он слыл здесь за «нигилиста», хотя специальных черт этого тургеневского типа у него не было. Покойный лейтенант Рождественский (не надо смешивать с цусимским «героем» Рождественским) раза два брал его на свой миноносец, на котором делал разные экскурсии по Черному морю. А другой офицер П. постоянно говорил на артиллерийские темы. В гавани почти ежедневно матросы занимались рыболовством, что служило хорошим подспорьем к матросскому пайку. Обыкновенно на паровом катере они ездили верст за 10–12 от города к Большому Фонтану и, заметя стаю рыб, бросали в нее шашкой пироксилина на проволоке, замыкая в то же время ток. Взрыв, и масса оглушенной рыбы всплывала на поверхность. Эффект каждый раз превосходил ожидания Андрея Ивановича. У него раздувались ноздри, глаза готовы были выскочить из орбит, весь он дрожал от удовольствия»
[175]. У Желябова, вероятно, еще сильнее загорелись глаза в ту минуту, когда он узнал, что это могучее орудие борьбы, динамит, можно приготовлять дома, кустарными средствами. Весь «центральный террор» держался на динамите
[176], и под конец народовольческая техника обогнала даже западноевропейскую: бомбы, приготовленные для 1 марта Кибальчичем, были настоящим «новым словом» в этой области. С другой стороны, именно здесь же выразилась вся беспомощность полиции: когда полицейские при обыске впервые нашли динамит, они стали его пробовать на язык и сначала успокоились, увидав, что это «что-то сладкое». Только потом, когда язык у одного из них стало щипать, они усумнились в невинности найденного продукта…
При отсутствии буфера — каким могла бы явиться либеральная буржуазия, если бы она существовала у нас в сколько-нибудь значительных размерах и в сколько-нибудь организованном виде — реакция правительства на действия революционеров могла носить только
полицейский, а не политический характер. Политика предполагает компромиссы — с либеральной буржуазией они могли быть, с террористами их быть не могло. Сами народовольцы прекрасно это понимали, и горьким укором звучали их слова, обращенные к «земским людям»: «Нам ли одним предстоит вынести на своих плечах историческую задачу переживаемой родною страною минуты? Так пусть же помнят земские люди, что в наших руках есть только одно средство — террор. Не с легким сердцем мы к нему прибегаем, нас вынуждают к тому сила обстоятельств и бессилие людей. Будет еще кровь; будем мы казнить, будут нас казнить. Ответственность за эту кровь падает не только на обезумевшее правительство, а и на тех, кто, сознавая неотложную потребность родины (как сознают ее либеральные земские люди) и имея в руках другие, мирные и легальные, средства борьбы, прячутся по норам, как только на них прикрикнут: молчать! руки по швам»!
[177]. «Сила обстоятельств и бессилие людей» были причиной того, что правительство Александра II всегда видело в террористах лишь нечто в роде бандитской шайки особого типа, с которой нечего разговаривать, которую можно только истребить и по отношению к которой «общество» играло роль попустителя. Ибо, ведь в самом деле: это «общество» столь многократно заявляло, что оно «гнушается крамолой»: чего же оно с нею не борется? Сначала, после первых террористических выступлений, это содействие «общества» полиции в борьбе с террором подразумевалось само собою: на этой мысли построено знаменитое «Правительственное сообщение» от 20 августа 1878 года (две недели спустя после убийства Мезенцева). «Правительство должно себе найти опору в самом обществе, — уверенно говорилось здесь, — и потому считает необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилии вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений. Русский народ и его лучшие представители должны на деле доказать, что в среде их нет места подобным преступлениям…». «Общество» и тут осталось совершенно пассивно: воззвания правительства и воззвания революционеров действовали на него одинаково слабо. Террористические покушения повторялись и после покушения Соловьева; объявив наспех пол-России на военном положении (были назначены временные генерал-губернаторы в Петербурге, Харькове и Одессе, с предоставлением им прав главнокомандующих армией в военное время; те же права получили и постоянные ген. — губер-наторы Москвы, Киева и Варшавы), Александр II образовал, под председательством Валуева, Особое совещание, которое попыталось детализировать вопрос об «обществе» и расследовать, какие же, собственно, в последнем имеются «разумные и охранительные силы»? Это валуевское совещание имеет очень большое историческое значение: оно дало лейтмотив всей будущей политике Александра II и Александра III. Оно проектировало, рядом с некоторым облегчением повинностей, лежащих на общественных низах — в особенности на крестьянстве — и некоторыми льготами для общественных групп, опальных только по старой памяти, а к тому времени уже совершенно невинных (раскольники и поляки), ряд репрессивных мер по адресу нового суда и печати. Феодальная реакция поднимала свою голову, — сама еще не зная, что история идет ей навстречу: основной вывод совещания —
доказать частному потомственному землевладению ободрительное со стороны правительства внимание»— мог бы стать девизом всей истории 80-х годов. Феодальная камарилья начинала понимать, что, чем дразнить среднее дворянство разными мелкими «шиканами», практичнее будет завербовать его к себе на службу: и экономика, когда-то сталкивавшая эти две группы, крупное и среднее землевладение, лоб со лбом, работала теперь на пользу феодальной камарильи. Террора, конечно, и валуевское совещание не остановило, но назначенный после нового удара террористов (взрыв Зимнего дворца 5 февраля 1880 года) фактически диктатором России Лорис-Меликов, в сущности, пошел дальше по той же дороге. Начальник «Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» был бы человеком чрезвычайно подходящим для организации буржуазной оппозиции против революционеров, если бы такая буржуазная оппозиция у нас тогда существовала. Можно сказать, что в известном смысле он, со своей точки зрения, вполне разделял иллюзию народовольцев — будто на «общество» можно опереться. Само собою разумеется, что использовать это «общество» он надеялся в целях истребления «крамолы»: народовольцы пытались растолковать это «обществу» с первых же дней «диктатуры сердца». Назначение диктатором Лориса наши газеты, приветствовали, как начало либеральной эры, — писала «Народная воля». — Ждали от него чуть не Земского собора. Оказалось, что ничего этого не будет. «Не толкуйте, пожалуйста, о свободе и конституции, — сказал Лорис Суворину, — я не призван дать ничего подобного, и вы меня ставите только в ложное положение». Теперь
политика Лориса определилась, он просто — «просвещенный деспот». Как человек неглупый, он понимает, что бессмысленно губить людей зря, по-потребенски и чертковски
[178], что гораздо выгоднее не мешать жить разным раскаявшимся насекомым… Вместе с тем Лорис понимает, что у него не отвалится язык от лишней либеральной фразы. Ну, а затем — человек действительно порядочный, мысль действительно независимая, — трепещи!
Просветленный деспот — это лучшая характеристика, какую можно дать Лорис-Меликову. «Деспотом» он был ровно в такой мере, в какой мог им быть старый кавказский генерал: не говоря уже о том, что он первый познакомил «общество» с применением полевого суда к политическим делам (покушавшийся на него Млодецкий был казнен в 24 часа), в дни «диктатуры сердца» вешали за одну найденную террористическую прокламацию. Но этому деспотизму не чужд был оттенок, который можно назвать «милютинским», в память Николая Милютина, — оттенок, выражавшийся в стремлении демократизировать по-своему феодальный режим, сделав его опорой общественные низы. Этот оттенок нашел себе выражение не столько в фантастической «конституции» Лорис-Меликова, сколько в программе сенаторских ревизий, которые он исхлопотал с первых же месяцев своей диктатуры. «Назначение ревизий не может, по моему убеждению, не произвести весьма
успокоительного впечатления на общество, как новое доказательство высочайшего Вашего Величества попечения о благе народном», — писал он в докладе Александру II по этому поводу. «Успокоение» и тут было главным, — но его предполагалось поставить прочно и на широком базисе. Ревизующие сенаторы должны были собрать данные и по вопросу об отмене подушной подати, и по вопросу об обязательном выкупе бывшими крепостными крестьянами их наделов, и по вопросу о возможности фабричного законодательства («выяснить, насколько необходимы законы, определяющие возраст рабочих и продолжительность дневной и ночной работы»), и по поводу расширения прав земства и т. д. Для «раскаявшихся» специально была выдвинута приманка в виде облегчения положения административно-ссыльных и пересмотра самого закона об административной ссылке, — но не уничтожения ее вовсе, однако. То, что эту программу, согласно с административной традицией, держали в тайне, только усиливало ее эффект: «общество» присочиняло к ней все, о чем оно мечтало — и досочинялось до «конституции Лорис-Меликова». А конституция вся состояла, как известно, в проекте — пригласить к участию в окончательной разработке материала, собранного сенаторскими ревизиями,
выборных от губернских земств, т. е. представителей крупных и средних помещиков, с совещательным голосом, разумеется. Причем участие их в дальнейшем законодательстве отнюдь не предполагалось само собою, — так что знакомый нам валуевский проект 60-х годов был, несомненно, левее. Оттого, может быть, Александр II, отвергший еще раз валуевский проект (он вновь всплывал в конце 70-х годов), и утвердил, хотя не без колебаний, доклад Лорис-Меликова.
На революцию велась, таким образом, правильная осада: террористов надеялись отрезать от всех общественных слоев, где они могли рассчитывать на какое-нибудь сочувствие. Была не забыта при этом и учащаяся молодежь: уволили крайне непопулярного творца «классической» системы гр. Толстого, и назначили на его тесто министром народного просвещения «либерала» Сабурова. А когда «высшая полиция» даст свои плоды — и революционная кучка окажется изолированной, полиция обыкновенная, тем временем организовывавшаяся и натаскивавшаяся, должна была покончить с нею несколькими ударами. К несчастью для «диктатуры сердца», всякая правильная осада требовала много времени. Низшая, чернорабочая, полиция далеко не была вся готова, когда Исполнительный комитет, напрягши последние силы
[179], со своей стороны нанес решительный удар. Что поражает в трагедии 1 марта — если позабыть на минуту трагическую сторону этого события и того, что за ним последовало, — это прежде всего полная беспомощность тех, кто должен был охранять особу Александра II. Полиции было отлично известно, что готовится покушение при помощи
бомб. Три человека, держа в руках бомбы такого размера, что спрятать их в карман было нельзя,
более часу ходили взад и вперед по дороге, по которой должен был проехать император. Некоторые из них — например, Рысаков, — наверное, имели вид очень взволнованный; но вид этих взволнованных молодых людей, с какими-то таинственными свертками расхаживавших по такому месту, не обратил на себя внимания ни одного полицейского. Когда взорвалась первая бомба, не тронувшая Александра Николаевича, его конвой, его специальная охрана, скакавшая за ним в санях, не приняла самой элементарной меры предосторожности — не оцепила места взрыва, что и дало возможность Гриневицкому вместе с толпою подойти вплотную к императору и бросить вторую бомбу, уже смертельную для обоих — и для того, кто бросил, и для того, в кого бросили. 1 марта было крушением не
политики, а
полиции Лорис-Меликова; но так как его политика была лишь полицейским средством, то катастрофа в этой низменной области разрушила весь карточный домик лорис-меликовской «конституции». Александр III, как увидим дальше, осуществил большую часть реформ, намечавшихся «диктатором сердца», — но он осуществил их обычным бюрократическим путем, не прибегая к фиктивному содействию «общества». И если эти реформы не сняли с царствования Александра Александровича эпитета «реакционного», то виною тут было не падение Лорис-Меликова, а некоторые специфические условия, к рассмотрению которых и приходится теперь перейти.
Аграрный вопрос
Период блужданий и ошибок ♦ Индифферентизм буржуазных кругов ♦ Шаги к реставрации крепостного режима ♦ Возвращение к сословному строю — яркий признак ликвидации буржуазной монархии
В своем дневнике Валуев окрестил положение, наступившее непосредственно после 1 марта 1881 года, «эрратическим
[180], — термин, не совсем обычный в политике, но лучше трудно придумать. Начался, действительно, короткий период блужданий и ошибок, притом с обеих сторон, нужно сказать. Не иным, как «эрратическим» актом приходится признать, например, знаменитое «письмо Исполнительного комитета к Александру III», где революционное движение объявлялось «не таким делом, которое зависит от отдельных личностей», а «процессом народного организма», — и в то же время ставились определенные условия «отдельной личности» новому императору, — условия, при соблюдении которых «процесс народного организма» должен был прекратиться или, по крайней мере, принять иную форму. Если бы Александр Александрович в эту минуту способен был рассуждать хладнокровно, он из одного факта такого письма мог бы заключить о растерянности своих врагов. Но вот как описывает состояние нового государя в те же первые минуты самый близкий к нему человек — Победоносцев: «Сегодня вечером, в 12 час. ночи (1 марта) бедный сын и наследник с рыданием обнял меня… Боже, как мне жаль его, нового государя! Жаль, как бедного, больного, ошеломленного ребенка. Боюсь, что воли не будет у него. Кто же поведет его?..»
[181]. На последний вопрос очень обстоятельно ответил тот же Валуев. «В течение всего периода царствования с 8 марта по 29 апреля противоположные течения скрещивались около государя, и на первый взгляд могло казаться, что то одно, то другое брало верх. Гр. Лорис-Меликов продолжал, так сказать, наружно играть прежнюю роль, но, в сущности, он утратил свое руководящее или решающее значение. Беспрерывно обнаруживались отрывочные влияния Победоносцева и гр. Воронцова (Дашкова), преимущественно по части личных назначений и анормальной независимости действий, предоставлявшейся разным лицам… Ни гр. Лорис-Меликов, ни его вдохновитель Аба-за (министр финансов) не решались бороться с этими вспышками прямого самодержавия. Они думали, как выразился Абаза, что игра таких вспышек пройдет, и они успеют окончательно утвердиться на своей почве и утвердить за собою прочное влияние. Последствия показали, что они ошиблись. Между тем рядом с ними и с Победоносцевым, и с гр. Воронцовым начинало упрочиваться еще другое влияние в лице гр. Игнатьева». И всякий из кандидатов в руководители вносил что-нибудь свое в эту какофонию. Лорис-Меликов — свой «просвещенный деспотизм» а lа Николай Милютин, Абаза («тайный советник Стрекоза» щедринских рассказов этой поры) — свой русско-бюрократический либерализм, Игнатьев — свое славянофильство «последнего образца», Победоносцев — свой фанатизм Торквемады XIX столетия, и, наконец, в лице Воронцова-Дашкова, будущего главы «Священной дружины», выступало нечто до того «сложное», что в этой «сложности» исследователи до сих пор не могут как следует разобраться: с одной стороны, как будто феодальный конституционализм виднеется, с другой — как будто народовольчество навыворот
[182]. Даже злосчастная «конституция Лорис-Меликова» не дает ясной раздельной черты. На докладе графа Александр III написал сначала: «Он (доклад) составлен очень хорошо»; во время знаменитого совещания 8 марта большинство членов было на стороне Лориса
[183], — и даже гораздо после, победившая сторона, в лице Игнатьева и ближайших сотрудников Воронцова-Дашкова, носилась с какими-то проектами то Земского собора, то прямо «парламентского образа правления» — непременно с Палатой лордов. На совещании 8 марта вопрос, правда, ставился — председательствовавшим на нем императором — так: за конституцию или против нее? Причем Александр Александрович мобилизовал даже свои личные европейские наблюдения (в хорошо знакомой ему Дании). Но, судя по всем рассказам, своего мнения он не навязывал — и явившаяся кульминационным пунктом «совещания» речь Победоносцева поставила дело несравненно шире. Вот наиболее выдающееся место этой речи: «Благодаря пустым болтунам, что сталось с высокими предначертаниями покойного незабвенного государя, приявшего под конец своего царствования мученический венец? К чему привела великая святая мысль
освобождения крестьян? К тому, что
дана им свобода, но не устроено над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки, бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков. Затем открыты были
земские и городские учреждения, — говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют вкривь и вкось о самых важных государственныхвопросах, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует? Кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своими семействами, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту. Потом открылись
новые судебные учреждения, — новые говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными.
Дал и, наконец, свободу печати, этой самой ужасной говорильне, которая во все концы необъятной Русской земли, на тысячи и десятки тысяч верст, разносит хулу и порицание на власть, посевает между людьми мирными и честными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям».
Все это, положим, приводилось как аргумент против «учреждения по иноземному образцу новой верховной говорильни» (о котором в разбиравшемся проекте Лорис-Меликова не было еще пока ни слова); но сопоставьте подчеркнутые нами фразы, — разве это не
полная программа контрреформ? Тут все можно уже найти, что отметило царствование Александра III, — от земских начальников, судебных новелл, стеснений печати до антисемитизма и даже до винной монополии, не связавшейся с этим царствованием только по случайной причине — преждевременной смерти императора. И если зловещие слова Победоносцева не остались пустым звуком, а воплотились в жизнь, то, очевидно,
тут был какой-то «органический процесс», которого не предусмотрели писавшие Александру Александровичу члены Исполнительного комитета. А в том, что «личности» тут были ни при чем, они, конечно, совершенно правы: не Победоносцев своими интригами — которым так много уделяет внимания новейший историк эпохи — повернул ход русской истории, а «органический процесс» подобрал себе исполнителей, какие ему были нужны, в том числе и Победоносцева с Д. Толстым и Катковым.
Мы видели, что настроение буржуазных кругов в конце царствования Александра II — настроение политическое — можно, скорее всего, охарактеризовать как
индифферентизм. Буржуазия не была настроена относительно правительства враждебно, но и горячей преданности ему (как это было в 1863 году, например) в конце 70-х годов нельзя заметить. Этот индифферентизм, это безразличие обе боровшиеся стороны истолковывали в свою пользу. Революционеры желали видеть в «обществе» оппозиционную силу и сетовали лишь, что эта сила слишком робка, слишком мало дает себя чувствовать. Правительство, в свою очередь, искало в «обществе» опоры против революционеров В общем, более право, конечно, было правительство — что вскоре после 1 марта и доказал один маленький случай. Самым ярким образчиком «эрратической» политики был, несомненно, «бараний парламент» — совет из выборных от петербургского населения при петербургском градоначальнике ген. Баранове, устроенный с нарочитою целью привлечь «общество» к активной борьбе с крамолой. Выборы были открытые — каждый избиратель должен был вручить свой бюллетень местной полицейской власти за своею подписью: это, конечно, очень ослабляет значение этих выборов, как выражения общественного мнения. При таких условиях трудно было ожидать, например, чтобы часто повторялись имена «левых» литераторов, профессоров и тому подобных лиц, начальству не угодных. Но выбирала исключительно буржуазия — домовладельцы и квартиронаниматели — люди, стало быть, лично не чересчур зависимые, и «совет» за короткое время своего существования держал себя сравнительно прилично
[184]. И вот на этих выборах подавляющее большинство (176 голосов на 228 выборщиков — выборы были двухстепенные) получил генерал Трепов, — тот самый, в которого стреляла Вера Засулич. Он прошел
первым, остальные получили голосов меньше. При всех минусах барановской системы это, несомненно, была манифестация — не революционная. По случаю вступления на престол Александра III ряд земских и дворянских собраний поднес ему адреса. В некоторых из этих адресов выражались конституционные надежды, — выражались робко и бледно, тем не менее их было, конечно, достаточно, чтобы адреса повлекли за собою репрессии. Но мы видели, что конституционные надежды были в это время и наверху: земство шло в такт с известной частью правительства. Ни одного адреса, носившего оппозиционный характер, не было не только подано (до этого бы и не допустили), но даже и проектировано: все были одинаково верноподданнические. Словом, нейтралитет «общества» был благожелательным более в сторону правительства, враждебным — более в сторону революционеров. Но все же это был только нейтралитет, и на то были свои причины. Правительство Александра II, когда-то рьяно пошедшее по пути буржуазной политики и внутри страны, и вне ее, в международных отношениях (с одной стороны, «великие реформы 60-х годов», с другой — завоевание Амура и Туркестана, рядом с воздержанием от вредного для развития русского капитализма вмешательства в европейские дела), к концу 70-х годов явно сбилось с этого пути. Русско-турецкая война (1877–1878) если и отвечала интересам каких-либо буржуазных групп, то групп немноголюдных (главным образом московских промышленников и железнодорожных грюндеров), и притом интересам довольно отдаленным. Ближайшим образом это была растрата средств и сил, для народного хозяйства совершенно бесплодная и вредная. Внутренняя политика, по мере развития революционного террора, выродилась в систему мер шкурного самоохранения, для той же буржуазии прямо убыточных: одно обязательное дежурство дворников было равносильно налогу в 700 000 рублей, наложенному на петербургских домовладельцев. О стране просто забыли: за каждым углом мерещился «нигилист» с бомбой, всецело гипнотизировавший тех, кто управлял. Оригинальность Лорис-Меликова в том и заключалась, что он пытался покончить с этой «охранной» точкой зрения в политике — во имя интересов самой же охраны, решив сделать что-нибудь и для управляемых. И
эту сторону лорис-меликовской политики правительство Александра III усвоило вполне: оно, не приходится этого отрицать, старалось делать то, что было нужно если не всему «обществу», то, по крайней мере, наиболее влиятельной его части. И если в итоге его «дела» получилось
восстановление крепостного режима в тех его частях, какие еще можно было реставрировать, то это потому, что
реставрация носилась в воздухе: ее желали, к ней стремились. Правительство только сыграло свою классическую роль — «комитета правящих классов».
Среди факторов, создававших, в начале 80-х годов, настроение этих «правящих» классов, на первом месте приходится поставить
экономическую конъюнктуру. В промышленности господствовал
застой: несколько цифр дадут о нем понятие лучше длинных рассуждений
[185].

Для самого начала периода можно говорить даже больше, чем о застое. Вот как характеризует положение дела один современный публицист, цитируемый тем же автором: «Зимою 1880/81 года рабочие во всех отраслях промышленности были поставлены в самое бедственное положение. В Петербурге крупные заводы, особенно механические, стали распускать рабочих… Так, напр., на огромном заводе Берда, где прежде работало 3–4 тысячи человек, теперь осталось 1000 рабочих, на Александровском заводе вместо 800 осталось 350 рабочих, на Сампсониевском вместо 1200–1500 только 450 человек, на заводе Нобеля вместо 900—1200 около 600; на остальных механических заводах точно так же произошло значительное уменьшение числа рабочих. Вообще, миллионные обороты заводов сократились почти наполовину».
Таким образом, крупная буржуазия, промышленная — к началу 80-х годов уже видный общественный фактор — должна была быть настроена консервативно в силу своего экономического положения. Застой и кризис всегда переводят предпринимателей на оборонительную позицию; они стремятся только к тому, чтобы отстоять свои «обычные» дивиденды: классовая борьба обостряется, а в связи с ее обострением промышленники чувствуют все больше и больше симпатии к полицейской силе. Все это едва ли нужно разъяснять читателю, пережившему 1906–1909 годы. «Полевение буржуазии» всегда происходит на фоне промышленного подъема и оживления, которым устаревшие политические формы ставят препятствия; в минуты застоя буржуазия всегда «правеет». Но общественная сила — промышленная буржуазия, в России 80-х годов далеко не была еще силой решающей, — какой почти она стала позже. Решающую роль продолжало играть
землевладение: крупное — непосредственно державшее в руках политическую власть,
среднее — господствовавшее в «местном самоуправлении», в земстве. Политическое настроение этих групп в первой половине века диктовалось, как мы видели, прямо и непосредственно —
хлебными ценами. Вздорожание хлеба на европейском рынке сделало помещиков 50-х годов из крепостников либералами. На «крепких» ценах двух следующих десятилетий держалось «буржуазное настроение» русского дворянства при Александре II. Как обстояло дело при Александре III? Дадим говорить опять цифрам. Вот данные, характеризующие изменения в ценах на
пшеницу и рожь на главнейших европейских рынках за двадцатипятилетие — с 1870 по 1895 год:

1
[186]
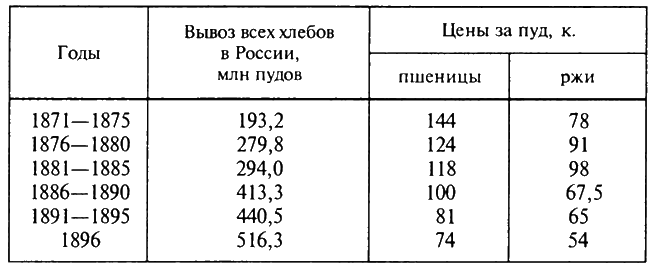
Так обстояло дело на Западе; совершенно естественно, что русский производитель, вывозя свой хлеб за границу, получал за него все меньше и меньше.
Цены русского хлебного экспорта дают возможность детализировать слишком суммарное впечатление первой нашей таблицы. Из последней видно лишь, что цены на хлеб в Европе, со второй половины 70-х годов, неуклонно падали — и особенно сильно падали они как раз в 80-х годах. Данные русского экспорта хлебов свидетельствуют, что это падение происходило не одинаково равномерно для
всех хлебов: пшеница падала неудержимо, рожь держалась гораздо устойчивее, а в начале 80-х годов даже
поднялась в цене. Но мы уже знаем различное
социальное значение обоих этих видов хлеба:
пшеница всегда была
барским хлебом, рожь — мужицким. Вот данные, которые еще раз иллюстрируют это:

Мы не будем останавливаться на этом чрезвычайно характерном проникновении «белого хлеба» на крестьянскую землю: это явление лежит вне рамок вопроса, занимающего нас сейчас. Сейчас для нас важно, что падение хлебных цен в 80-х годах должно было сильнее отразиться на положении крупного помещичьего землевладения, нежели мелкого, крестьянского. Мы видели, что непосредственно после крестьянской реформы дворянство довольно прочно держало в своих руках землю; обычное представление об «оскудении» помещичьего класса для 60—70-х годов является предрассудком. Но оно становится ужасающей, для дворянства, истиной в 80-х и 90-х годах. «Частная» (вненадельная крестьянская) земля так распределялась у нас по сословиям и по годам:

Дворяне из владельцев более 3/4 «частной» земли в 187
7 году превратились к концу столетия во владельцев едва половины! Тогда как процент земли, состоявшей в частной собственности
крестьян, увеличился за тот же период времени с лишком
втрое. По отдельным губерниям — и как раз тем, которые являются главными очагами зернового хозяйства, — цифры еще рельефнее: в Казанской губернии за
восемнадцать лет, с 1877 по 1895 год, дворяне потеряли
треть своей земли (32,8 %), в Самарской —
почти треть (30,5 %), почти столько же в Саратовской (27 %). Рост же крестьянского землевладения выразился не только в покупке дворянской земли лицами крестьянского звания, но, и еще рельефнее, в
колоссальном росте крестьянской аренды за эти годы. Этот спрос на арендную землю выразился в не менее колоссальном росте арендных цен за конец 70-х и начало 80-х годов, — по ним-то мы и можем составить себе представление о размерах явления. В Бугульминском уезде той самой Самарской губернии, которая видела в эти годы такой разгром дворянской земельной собственности, вот какое изменение испытали
арендные цены:

В Бахмутском уезде Екатеринославской губернии «последний период (1881–1884) ознаменовался значительным подъемом арендных цен, в 2 1/2 и 3 1/2 раза против максимальных цен предшествующего периода». В Сычевском уезде Смоленской губернии мы имеем следующую шкалу арендных цен, по пятилетиям — с 1866 по 1885 год:

По годам — Коэффициент возрастания для каждого
1882 — 1,7 %
1883 — 2,8 %
1884 — 26,5 %
1885 — 34,8 %
Автор, у которого мы заимствуем эти цифры, при всем своем народничестве, дает факту объяснение совершенно не «народническое». В Хвалынском уезде (Саратовской губернии) особенно сильное возвышение цен (800—1000 %), говорит он, замечается в волостях с «цветущим» земледелием, где спрос на земли превышает предложение. «Переходим к серии
причин вздорожания аренд… Нельзя не заметить, прежде всего, что
в этом смысле влияет всякое проявление капитализма в применении его к земледелию»
[187]. Знаменитая
дифференциация крестьянства, на которую возлагали такие надежды марксистские писатели 90-х годов, — надежды, несомненно отчасти обманутые историей следующего десятилетия, — относится главным образом именно к этому времени: некоторая аберрация марксистской статистики тем и объясняется, что в ее распоряжении были преимущественно данные земских переписей 80-х годов, — периода, когда проникновение буржуазных отношений в русскую деревню шло максимальным темпом, как сравнительно с предшествующими, так и сравнительно с последующими десятилетиями.
Основываясь на тех же знакомых нам крестьянских «бюджетах» Воронежской губернии, которыми оперировал Щербина, В. Ильин дал такую выразительную статистическую картину
расслоения русского крестьянства:

Наиболее «денежным» являлось в 80-х годах хозяйство самой бедной и самой богатой групп: сельского пролетариата и сельской буржуазии. Хозяйство «среднего» крестьянина было гораздо «натуральнее». А каких размеров достигало тогда это расслоение, показывает произведенное тем же автором, по конским переписям 1889 и 1891 годов, вычисление количества
лошадей, приходившегося на ту или иную группу крестьянства. Он резюмирует это вычисление так: в руках 22 % дворов сосредоточено 9 1/2 миллионов лошадей из 17 миллионов, т. е. 56,3 % всего числа. Громадная масса в 2,8 миллиона дворов совсем обделена, а у 2,9 миллиона однолошадных дворов лишь 17,2 % всего числа лошадей
[188]. «Крепкие» цены «мужицкого» хлеба создали расцвет крестьянского хозяйства, прежде всего выразившийся в превращении наиболее сильных элементов крестьянства в мелкую сельскую буржуазию. Продолжайся благоприятная для крестьянства конъюнктура дольше, — ив лице этой сельской буржуазии вырос бы грозный конкурент помещика. Но пора расцвета была короткая: со второй половины 80-х годов и ржаные цены стали падать так же неудержимо, как раньше падали пшеничные: наступило «оскудение» всей земледельческой России. Последующие конские переписи дают чрезвычайно быстро растущую
абсолютную убыль крестьянского рабочего скота. Для Орловской губернии, например, мы имеем такие цифры:
1888 год………………………………221 989 лошадей
1893 год………………………………188 908 лошадей
1899 год………………………………177 539 лошадей
«Если цифру 1888 года мы возьмем за 100, то получится такой убывающий ряд: 100; 85,1; 79,9»
[189]. И это на протяжении всего
одиннадцати лет — трети жизни одного поколения! «Расслоение» крестьянства продолжалось и теперь, конечно, но это было уже разложение не на «буржуазию» и «пролетариат», в европейском смысле этих слов, а на нищих и тех, у кого еще что-нибудь уцелело.
Наиболее наглядным статистическим показателем этой «разрухи» русского сельского хозяйства с конца 80-х годов являются
земельные цены.
Для
черноземной полосы их резюмирую следующие данные
[190].
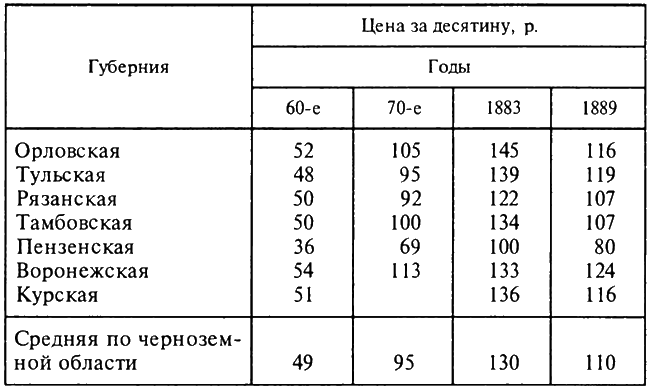
Высокие хлебные цены половины XIX столетия создали «дворянское манчестерство». Аграрный кризис должен был подготовить его катастрофу, и любопытнее всего, что эту катастрофу мы можем изучать как раз по произведениям того автора, который некогда был если не самым цельным и последовательным, то самым ярким и талантливым, самым ловким практически глашатаем этого самого «манчестерства». Кто лучше Кавелина мог объяснить в свое время самому непонятливому помещику все невыгоды крепостного режима? Кто находчивее мог придумать практические меры для мирного, безболезненного, наиболее для помещика выгодного перехода от крепостного хозяйства к «вольному труду»? Уже в 70-х годах этот прозорливейший из русских дворян должен был прийти к выводу, что «вольный труд» — для помещиков — не удался. «Из всех неблагоприятных условий деревенского хозяйства, которых немало, самое печальное и, к сожалению, самое безнадежное к скорому поправлению — это рабочая сила, которою мы располагаем. Рабочие у нас, как, вероятно, и везде в России, очень дороги и из рук вон плохи как в нравственном, так и в техническом отношении» («Из деревенской записной книжки» 1873 года). Как пример неслыханной «дороговизны» русских рабочих приводится косец, не соглашавшийся косить за 60 копеек в день (от Энгельгардта мы знаем, что косец мог накосить в день сена на 2 рубля); как пример нравственной негодности — горничная, которая
не крала хозяйских яблок
[191], но она признавалась, что хотела однажды украсть, — не явное ли это доказательство глубокой развращенности? Каким градом сарказмов обрушился бы Кавелин 60-х годов на своего противника из «крепостнического» лагеря, если бы тот вздумал приводить такие «факты»! Но теперь другу Герцена и Николая Милютина приходилось самому, исподволь, подготовлять своего читателя к реставрации крепостного режима — и в его знаменитом «Крестьянском вопросе» (1881 года) мы найдем «в зерне» уже все меры, характеризующие крестьянскую политику 80-х годов: и необходимость
опеки над крестьянством («до освобождения крестьян от крепостного права и правительственной опеки у них были свои защитники в лице помещиков, коронных стряпчих и других чиновников. Теперь они совсем предоставлены собственным силам, и им не к кому обратиться за помощью и защитой»); и необходимость «упрочить быт» крестьян, привязав их к месту и создав этим на месте резервную армию труда для помещиков («с упрочением быта земледельцев окрепла бы их оседлость, и прирост населения вызвал бы необходимость постепенного перехода к лучшим приемам земледелия, немыслимым при теперешней наклонности к бродяжеству»;
«избыток населения, по мере его увеличения,
шел бы на потребности соседних крупных и средних хозяйств…»); и симпатию к «прочным» крестьянским семьям («когда есть работа поблизости, крестьянин, в большинстве случаев, предпочитает держать сына, внука, племянника поблизости, у себя на глазах, зная по опыту и из примера соседей, что вне надзора, за глазами, молодые парни забалтываются…»); и, наконец,
иммобилизацию крестьянского землевладения, «признав земли, отведенные в надел крестьянам, за неприкосновенную и неотчуждаемую собственность сельских обществ и предоставя членам обществ лишь право наследственного владения и пользования этою землею, без права ее закладывать» или иначе отчуждать.
И закон от 12 июня 1886 года о найме на сельские работы, так энергично боровшийся с «нравственною недоброкачественностью» сельского батрака, и закон от 18 марта того же года о семейных разделах среди крестьян, и закон от 12 июля 1889 года о земских начальниках, и закон от 14 декабря 1893 года о неотчуждаемости крестьянских наделов — все это законодательство «реакции» с полным правом могло бы признать своим, если не родным, то крестным отцом либерального публициста эпохи «великих реформ». И — нет надобности это говорить — фактическая обоснованность всех этих «реформ» была не выше фактической обоснованности жалоб Кавелина на дороговизну и распущенность русских рабочих. Хотите ли вы знать, как велика была опасность обезземеления крестьянства путем отчуждения надельной земли? Это выяснил Государственный совет, обсуждая закон от 14 декабря 1893 года: «Из общего количества земель, полученных крестьянами в надел (96 миллионов десятин), выбыло из их владения за 28 лет, с 1861 по 1889 год, всего около 200 тысяч десятин, т. е. 0,21 %, причем в эту цифру вошли, в значительной части, земли, отведенные обязательно под железные и почтовые дороги, кладбища и т. п.»
[192]. Очевидно, как ни убедительно и красноречиво доказывал Кавелин необходимость в
интересах крестьянства изъять из оборота надельную землю, нужно это было не крестьянам, а кому-то другому, как не крестьянам, конечно, нужна была «опека» — в лице земских начальников, а тем паче ультракрепостнический закон о найме на сельские работы (настолько крепостнический, что он даже, как известно, почти и не применялся на практике: слишком далеко назад хватили!). Приглядевшись ближе, мы видим, что даже несомненно принадлежавшая к разряду «симпатичных» кавелинская мысль — об организованной помощи крестьянам при покупке ими земли у помещиков — не выводит нас за пределы помещичьих интересов: раз в начале 80-х годов, в период «крепких» цен на рожь, крестьянин является жадным и желанным покупателем барской земли, несмотря на пшеничный кризис, поднявшим ее цену с лишком на 30 %, сравнительно с ценами за 70-е годы. Учреждение
крестьянского поземельного банка (18 мая 1882 года), опять-таки, лишь по виду было «крестьянской реформой», на деле и эта «реформа» была дворянская. Учреждение дворянского
банка (21 апреля 1885 года) подчеркнуло только всю глубину кризиса; даже уступкою части земли крестьянам, даже сдачею в аренду другой части нельзя уже было более продержаться. Если хотели сберечь «разумную и охранительную силу», «заключающуюся в частном потомственном землевладении», — о чем так хлопотало еще валуевское совещание 1879 года, — не было другого способа, как взять эту «силу» прямо на казенное иждивение. Дворянству стали ссужать деньги на условиях более льготных, нежели сама казна их получала: платя по своим обязательствам, фактически не менее 5 %, государство «одолжало» помещика с 1889 года из 4 1/2 %, а с 1894 года — даже только из 4 %, тогда как частные общества предшествующего периода брали 7 %. Дело и началось с конверсии частных бумаг Общества взаимного поземельного кредита в гарантированные правительством 4 1/2 % закладные листы. А затем «извернулись» еще проще: выпустив в 1889 году по вздутому курсу выигрышный заем, получили деньги с публики, в сущности из 1 %; после этого можно было благотворить дворянству, уже не стесняясь; а что 90 млн рублей были отвлечены от производительного употребления, — это, конечно, озабочивало всего меньше.
Но искусственным закреплением за «потомственным землевладением» его имений нельзя было ограничиться, — приходилось идти по пути «искусственности» дальше, закрепляя точно таким же путем за новыми государственными пенсионерами их власть на местах — власть, которая без помощи «искусства» так же быстро стала бы уходить в руки иных общественных слоев, как и земля. Земское положение от 1890 года органически связано со всем рядом мер «воспособления» дворянству, и считать его продуктом какого-нибудь реакционного самодурства можно менее всего другого. Мы знаем, что уже Земское положение от 1864 года обеспечивало господство помещиков над «местным самоуправлением». Практика пошла гораздо дальше закона. Назначенные Лорис-Меликовым сенаторские ревизии обнаружили совершенно невероятные факты из области крестьянского «представительства» в уездных земских собраниях. В одном из уездов Черниговской губернии непременный член уездного по крестьянским делам присутствия (должность, сменившая упраздненных в 1874 году мировых посредников), по закону имевший право лишь открывать крестьянское избирательное собрание, в действительности «на выборах сидел на председательском месте, принимал участие в совещаниях выборщиков, сам предлагал лиц баллотировать в гласные, сам первый же себя записал в список, баллотировался и был избран». «По данным другого сенатора, среди 209 гласных, избранных в 1878 году сельскими съездами Саратовской губернии, насчитывалось 22 крупных землевладельца. Из таких крупных землевладельцев, избранных крестьянской курией в Саратовской и Самарской губерниях, было 5 уездных предводителей дворянства (состоявших ех officio председателями крестьянских присутствий), 4 «непременных члена», 2 брата уездного предводителя дворянства, 6 участковых мировых судей и т. д.». Третий сенатор заявлял в своем отчете, что крестьянами «большею частью в гласные избираются должностные лица, волостные старшины и волостные писаря, влиянию которых при обсуждении дел в земском собрании подчиняются остальные гласные от крестьян, опасаясь высказывать свои мнения и намерения; с другой стороны, волостные старшины и волостные писаря, по собственному их удостоверению, стеснены в свободе выражения своего мнения тем, что по должности своей подчинены предводителю дворянства, председательствующему как в крестьянском присутствии, так и в земском собрании»
[193]. При такой «традиции» введенное положением от 1890 года
назначение гласных от крестьян de jure губернатором, a de facto — земским начальником, в сущности почти не меняло дела. Нововведением «положения» приходится признать, главным образом, замену
земельного ценза, на котором и ранее держалось дворянское господство в земских учреждениях
[194], цензом
сословным: первый давал дворянам перевес как
землевладельцам, второй обеспечивал этот перевес за лицами дворянского происхождения, как таковыми, независимо от количества земли, остававшейся в руках дворянского сословия в данной местности. Припомните
прогрессию убыли этой земли, — выразительницей ее может служить таблица; приведенная нами на с. 963, — и «экономический базис» закона от 1890 года встанет перед вами со всею ясностью. Ни Победоносцев со своим реакционным мистицизмом, ни Катков со своим «человеконенавистничеством», никакие, словом, идеологические факторы тут ни при чем: земство грозило уплыть из рук помещиков, как уплывала земля; но помещики одинаково не желали расставаться ни с землею, ни с земством.
Возвращение к сословному строю было одним из самых ярких признаков ликвидации буржуазной монархии: ведь это был, в сущности, эквивалент замены экономического принуждения (в данном случае —
господства общественного класса) внеэкономическим
(господство сословия, утратившего экономическое верховенство). Но, очевидно, что настоящим полем этой ликвидации должны были явиться не губерния и не уезд, а средоточие хозяйственной деятельности дворянина—
деревня. Оттого
закон о земских начальниках (изданный все в том же, кульминационном для законодательства Александра III, 1889 году) гораздо глубже врезался в жизнь местного населения, нежели даже новое земство. На счет каприза злой реакции земские начальники могут быть отнесены так же мало, как и сословное земство следующего, 1890 года. Напротив, идея этой новой должности была заимствована «правительством», вне всякого сомнения, у «общества» — воспринята из среды того самого земства, которое якобы этим правительством угнеталось и служило очагом всяческих либеральных «движений». В то же время историческая связь законодательства Александра III с лорис-меликовскими планами опять выступает здесь достаточно отчетливо. Вопрос о реформе крестьянских учреждений был поставлен циркуляром от 22 декабря 1880 года — в разгар «диктатуры сердца». Он обсуждался в начале 80-х годов, одновременно в правительственной комиссии (так называемой «кахановской», по имени ее председателя) и в комиссиях различных губернских земств. Правительственная комиссия, со свойственною бюрократам отсталостью от жизни, высказывалась было за довершение земской реформы 1864 года снизу — путем создания всесословной волости. Более чуткие к веяниям времени земства решительно восстали против этой идеи. Одно из них, орловское, откровенно мотивировало свои возражения тем, что при наличных условиях во всесословной волости взял бы верх «тот влиятельный в сельской жизни и вредный класс», большинство которого составляют «мещане и разночинцы», иначе говоря,
буржуазия. «Таким образом, низменные и своекорыстные интересы получат преобладание в ущерб интересам общинным, а равно и (весьма хорошо это «равно»!)
интересам относительно
крупного личного землевладения, представители коего будут с первого же шага отстранены численною силой». Но если всесословной волости не нужно, это отнюдь не значит, что не нужно и никакой реформы крестьянского управления. Напротив, необходимо было оградить крестьян от «низменных и своекорыстных интересов», и лучше всего, конечно, могли это сделать представители «относительно крупного землевладения». Отсюда, симбирская, например, комиссия находила совершенно необходимым «во главе волостного управления поставить лицо, облеченное значительною властью, независимое по своему положению, представляющее гарантию необходимых нравственных и умственных качеств, способное дать защиту сельскому населению от обид и притеснений и принять на себя ответственность за порядок и спокойствие в волости». Идея эта была чрезвычайно популярна в земских комиссиях, и желательное для симбирцев «лицо», которому они давали наименование «земского судьи», встречается нам в целом ряде и других проектов («участковый член уездной земской управы» воронежского проекта, «попечитель» пензенского, «окружной член управы» тульского, «начальник земской волости» вологодского и т. д.). Закон от 12 июля устранил одну существенную черту проектов —
выборность этой должности, но так как выбираться «лицо» должно было помещичьим земством, то
сословный признак земского начальника — непременно из дворян — в полной мере удержал ее социальный смысл, как опека помещика над крестьянином.
Закон от 12 июля 1889 года создал в деревне положение, очень близкое к тому, какое получилось бы, если бы крестьяне были освобождены по Киселевскому проекту 30-х годов. Люди были изъяты из числа объектов частной собственности, но это было почти все, что уцелело от реформы от 19 февраля. От «гражданских прав» сельского обывателя не осталось почти ничего. Статья 61 положения от 12 июля предоставила земским начальникам право арестовывать крестьян без суда и без объяснения причин. Результатом был такой, например, случай (один из тысячи аналогичных, конечно): один из земских начальников Нижегородской губернии подверг аресту целый крестьянский сход, в несколько сот человек, за нарушение какого-то своего «обязательного постановления»; только грандиозность операции — невозможно было найти помещения для такого количества «арестантов» — обратила на нее внимание высшего начальства: дело дошло до Сената, который приговор земского начальника и отменил. В одной Тульской губернии за период времени с 1891 по 1899 год статья 61 была применена 24 103 раза — в среднем по 2 678 раз в год. А между тем статья 61, в сущности, — роскошь. Земские начальники имели полную возможность подвергать не только аресту, но и телесному наказанию, не вмешиваясь в дело непосредственно, через волостной суд, прямо им подчиненный: статья 62 предоставляла земскому начальнику право налагать на волостной суд дисциплинарные взыскания — не исполнить требования земского волостной суд никогда не посмел бы. Оттого, хотя право порки новому крестьянскому опекуну и не было предоставлено, все отлично знали, что применение порки в том или другом участке всецело зависит от усмотрения местного земского начальника: строгий начальник — порка каждый день, добрый — волость вовсе забывает о розгах. Совсем как со строгим и добрым барином в старое время. Но барину его дискреционное право карать и миловать нужно было прежде всего для поддержания
экономической дисциплины в деревне. В Рязанской губернии, по словам местного «комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности», никакое постановление (сельского схода) по вопросам самым узким,
близко относящимся до сельскохозяйственных нужд, не только не утверждается, если не было предварительного разрешения (земского начальника) на обсуждение вопроса, но еще может караться арестом». В Самарской губернии требовалась санкция земского начальника даже для найма «пастуха и конюха». Само собою разумеется, что ни один приговор о семейном разделе не обходился без такой санкции, как не посмела бы делиться крестьянская семья без разрешения барина в крепостное время. Как и барин, «земский» мог капризничать, мог предаваться фантазиям маниловского типа за счет своих крестьян, в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии, например, «обсаживались проселочные дороги деревьями, — и крепко штрафовали; масса была потрачена труда и времени, а результаты самые плачевные: нет ни одного дерева». Но гораздо чаще, разумеется, вмешательство носило экономически целесообразный характер. В Рязанской губернии один земский начальник скупил по приговорам крестьян у них право на их местные, давно открытые для общего пользования дороги и закрыл их благодаря тому, что эти дороги не были показаны на планах специального межевания. Таким путем этот господин регулировал местную сельскохозяйственную промышленность: когда крестьяне и вообще продавцы везли картофель к нему, на его крахмальный завод, дорога открывалась, а когда кто-либо вез этот картофель на завод соседа-землевладельца, сторожа никого не пропускали, и при необходимости объезда дорога для конкурентов удлинялась на несколько верст. Тут цели не выходили из области индивидуально-хозяйственного интереса, еще чаще они были экономически классовые. Дисциплинарные взыскания налагались, по словам одного очень осведомленного наблюдателя, за такие, преимущественно, проступки: «Ушел плотник, работающий поденно у помещика, скосить свою рожь — садись под арест на двое суток; не платит мужик долги кабатчику — садись»
[195].
Но уничтожение зародышей буржуазного правопорядка в деревне не могло остаться местным делом крестьянских низов и не коснуться «политических надстроек». Как реформа 1861 года была сигналом и для «нового суда», и для нового, юридически бессословного, самоуправления, так контрреформы 80-х годов должны были отразиться и на суде, и на земстве. Какое влияние имели они на судьбу последнего, мы уже видели. В области
суда феодальная реакция выразилась, прежде всего, в усилении
сословного элемента, как и надо было ожидать. По закону от 7 июля 1889 года (все тот же год опять!) все преступления по должности, т. е. все случаи, где подсудимым являлась власть, в лице хотя бы ничтожнейшего своего представителя, были изъяты из ведома суда присяжных и переданы судебным палатам, с участием «сословных представителей». Но эти последние, начиная с предводителей дворянства и кончая волостными старшинами, сами были чиновниками, — закон от 7 июля 1889 года вводил для российского чиновничества своего рода «суд пэров», еще дальше отодвинув границу, которой не могли переступать учреждения «буржуазного» типа. Даже околоточный надзиратель не подлежал уже их ведению! Зато все, что подлежало ведению полиции до судебной реформы, опять в это ведение вернулось. Положение «о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», «положение об охране», как обыкновенно говорят короче (от 14 августа 1881 года), предоставило администрации, между прочим, право «давать распоряжения о закрытии торговых и промышленных заведений как срочно, так и на все время усиленной охраны». Наряду с правом «воспрещать отдельным лицам пребывание в местностях, объявленных на положении усиленной охраны», это возвращало дело снова к тому порядку, когда Третье отделение делало «экономическую политику» — и из судебных процессов (хотя бы дело московского градоначальника Рейнбота) мы знаем, что практика в этом случае не отставала от теории. Как мы видим, крушение дворянского министерства унесло в своем водовороте много такого, что не стояло ни в какой, казалось бы, даже отдаленной связи с аграрным кризисом, и между тем нельзя не отметить характерного совпадения, что режим Николая I, так удачно реставрировавшийся 80-ми годами, сложился на почве такого же кризиса! Так сходные причины дают сходные последствия, на расстоянии далее пятидесяти лет. Но
полного сходства мы стали бы ждать напрасно. При Николае I помещик, купец и крестьянин исчерпывали весь наличный классовый состав общества. Только к концу его царствования появился свободный рабочий. К концу царствования Александра III этот рабочий был уже крупной общественной силой. Не существовавшая в России первой половины XIX века классовая противоположность буржуазии и пролетариата, к 90-м годам этого века не только существовала объективно, но и сознавалась уже достаточно отчетливо. Реакция 80-х годов была попыткою возродить николаевский режим в обществе уже европейского типа. Реакции удалось на время завладеть деревнею: но можно было заранее предсказать, что в городе ее победа не может быть такой полной, какой была она в 20-х годах. Так и случилось.

Глава XVII
Внешняя политика буржуазной монархии

60-е — конец 70-х годов
Соперничество России и Англии — «борьба слона с китом» ♦ Русско-прусский союз 60—70-х годов ♦ Сан-Стефанский трактат
Казалось, что Крымская кампания навсегда покончила с
империализмом николаевской эпохи. На двадцать лет исчезает со сцены наиболее бьющий в глаза его признак —
промышленный протекционизм. Таможенные тарифы 1857–1868 годов были самыми льготными, какими пользовалась Россия в XIX столетии, если исключить короткий фритредерский период в царствование Александра I (1819–1822): чугун, например, был в это время обложен в 9—10 раз легче, чем теперь, машины — в 8 раз легче и т. д. Финансово-экономическая литература 60-х годов дает почти сплошной хор фритредеров, — голоса протекционистов почти не были слышны, и, во всяком случае, прислушивались не к ним. Одна из наиболее ранних — и наиболее простых и ясных в то же время — формулировок господствующих взглядов была дана «Экономическим указателем» Вернадского, самым популярным из журналов этого рода в те дни. «При свободе торговли положение государств земледельческих — самое выгодное, и, следовательно, Россия как представительница этих государств при осуществлении идеи о свободе торговли имела бы если не первенство, то, по крайней мере, огромный вес в системе мировой промышленности и торговли…
Две крайние точки в системе современной производительности Европы составляют два государства — Россия и Англия, первая — в полном смысле слова земледельческая держава, вторая — мануфактурная. Обширность России, качество ее земли делает ее обильным, можно сказать, неисчерпаемым источником сельских произведений… обрабатывание этих самых произведений, сообщение им первой, необходимой для употребления формы должно быть естественным занятием России»
[196].
Соперничество России и Англии было бы с такой точки зрения в самом деле «борьбой слона с китом». Делить тем, кто дрался под Севастополем, оказывалось, было совсем нечего. Восторжествовавший 19 февраля аграрный капитализм, по-видимому, окончательно оттеснил на задний план капитализм промышленный. А так как международные отношения строятся, в конечном счете, на отношениях экономических, то и вся система дружбы и вражды, характеризующая царствование Николая I, должна была подвергнуться радикальной перестройке. В 1855 году Россия воевала с Францией и едва не начала войны с союзницей этой последней — Австрией: всего 4 года спустя, в 1859 году, Россия действовала
вместе с Францией
против Австрии. Франко-русский союз оказался недолговечен: еще через четыре года Россия оказывается рядом с Пруссией против Франции
[197]. Но экономическая подкладка союзов не переменилась: из союзницы одной «мануфактурной» державы Россия стала союзницей другой, враждебной первой, но тоже «мануфактурной». Русско-прусский союз 60—70-х годов, так помогший превращению Пруссии в Германскую империю, до смешного напоминает русско-английский союз начала XIX века. До перехода Германии к аграрному протекционизму (1879–1885) она была главным потребителем русской ржи и одним из главных — пшеницы, а по ввозу фабрикатов в Россию она занимала первое место, обогнав Англию, хотя на немного, впрочем. Только увидав перед собою барьер
хлебных пошлин, ставший особенно заметным с 1885 года, русский помещик почувствовал, что перед ним по ту сторону Вислы не друг, а враг; немецкий фабрикант начал чувствовать охлаждение несколько ранее, с 1877 года, но окончательный разрыв дружбы и с этой стороны датируется тем же концом 80-х годов.
Русско-прусский (вначале, потом русско-германский) союз был осью, около которой вращалась русская внешняя политика в промежутке между польским восстанием и турецкой войной 1877–1878 годов. В официальных и официозных русских публикациях — других почти нет — можно найти очень красноречивые рассуждения насчет той пользы, какую извлекла из этого союза бисмарковская Пруссия. Россия в этих публикациях представляется бескорыстным и самоотверженным другом, которому заплатили — на Берлинском конгрессе 1878 года — черной неблагодарностью. Упомянутая выше в примечании английская секретная переписка — совершенно случайно попавшая в руки польских ученых и благодаря этой случайности ставшая достоянием науки, — служит достаточно внушительным примером того, какие сюрпризы скрывают тщательно охраняемые от взоров непосвященных дипломатические архивы различных европейских государств
name=r198>[198]. Закулисную историю русско-германского союза, составленную по
документам, написать можно будет только, после Октябрьской революции. Но кое-какие сближения чисто внешних, объективных фактов возможны были уже и ранее, — возможны были и на другой день после событий; а кое-какие выводы можно сделать уже из одних таких сближений. Русско-прусский союз датируется февралем 1863 года (так назваемая Конвенция Альвенслебена); уже к осени этого года он достаточно «оправдал себя»: заступившиеся за Польшу державы, с Францией во главе, должны были отступить перед грозной аттитюдой Пруссии и России. А следующей весной, в мае 1864 года, вновь начинается прервавшееся в 1853 году
наступление русских в Среднюю Азию. Как относилась к этому наступлению
Англия (см. выше), мы уже знаем. В период русско-французского союза — весьма знаменательно — и речи не было о продолжении дела, начатого Перовским (взятие этим последним кокандской крепости Ак-Мечеть, теперешнего Перовска, было последним эпизодом движения, начавшегося при Николае I): Англия была союзницей Франции, хотя все менее и менее надежной. Поворот к русско-прусскому союзу сейчас же возродил русский империализм в том пункте, где он мог встретить наименьшее сопротивление. Первые шаги по давно оставленной дороге были робкие; поход генерала Черняева был возвещен Европе циркуляром кн. Горчакова, написанным явно конфузливо и оправдывавшим действия русских войск географическими соображениями, не имевшими никаких точек соприкосновения с реальною географией тех мест. Русское движение направлялось в старинные культурные очаги, где, по отзывам официальных русских наблюдателей, «земледелие находится в прекрасном состоянии и дает блестящие результаты»
[199]. А циркуляр толковал о каких-то «полудиких бродячих народах», «без твердой общественной организации». Важнее этой безусловно «нетвердой» географии было
политическое обещание кн. Горчакова, что русские завоевания ни в каком случае не пойдут далее
Чимкента, то есть что Россия не намерена распространять свое господство на междуречье Аму- и Сыр-дарьи. Мы сейчас увидим, какое это имело международное значение. Но дипломатические канцелярии — добросовестность которых в этом вопросе признавала и наиболее заинтересованная сторона, английская дипломатия
[200] — были не в силах остановить победоносный разбег русских генералов. Летом следующего года Черняев взял Ташкент и после неудачной, но тоже, надо думать, вполне добросовестной попытки образовать из этого города особое государство (помимо, кажется, всякого желания самих обитателей Ташкента — они-то, во всяком случае, империализмом не страдали), он был попросту присоединен к России: северная половина междуречья — долина Сыр-дарьи стала прочным русским владением. Очень характерно, что уже колебания насчет Ташкента — быть особому ташкентскому государству или нет? — разрешились непосредственно после событий, не имевших к Средней Азии, казалось бы, никакого отношениия: летом 1866 года Австрия была разгромлена Пруссией, и западная союзница России стала великой державой, а в августе того же года Ташкент был присоединен к России. Но еще характернее, что прусские победы на полях Богемии каким-то мистическим образом дали новый толчок русскому движению в Азии, уже к долине Аму-дарьи, до сих пор остававшейся, безусловно, вне пределов русской досягаемости. Объявив ташкентцам, что они стали русскими, оренбургский генерал-губернатор Крыжановский «вступил в бухарские владения и штурмом взял города Ура-Тюбе и Джизак»
[201]. Цитируемый автор, дипломат по профессии, очень хотел бы изобразить это дело Крыжановского как результат «нарушения преподанных ему наставлений»: так сильна была традиция кн. Горчакова среди русских дипломатов, даже в тех случаях, когда они писали недипломатические бумаги! Но из приводимых им же фактов видно, что Крыжановский был сменен как раз за противоположное: за несвоевременное заключение мира с Бухарой. Присланный на его место из Петербурга новый, уже
туркестанский генерал-губернатор Кауфман самым энергичным образом продолжает начатое движение вплоть до того момента, когда он взял Самарканд и, завладев течением Заравшана, снабжающего водой Бухарское ханство, стал фактическим хозяином этого последнего: после этого номинально бухарскому эмиру оставили его «независимость».
Уже за три года до этого, при первых известиях о походах генерала Черняева, английское правительство обратило внимание на возрождение николаевского империализма в Средней Азии. Обещание Горчакова насчет Чимкента было косвенным ответом на английские страхи, а столь быстро доказанная ненадежность обещания не могла, разумеется, успокоить этих последних. Но дать более определенные обязательства русский министр иностранных дел теперь поостерегся. События 1866–1868 годов обратили на себя внимание уже не только английских дипломатов, но и английского общественного мнения. Крупнейший авторитет по азиатским делам в глазах этого последнего, известный путешественник сэр Генри Раулинсон, составил в 1868 году наделавшую много шума записку, изображавшую русские завоевания в Средней Азии как начало систематической атаки на
Индию. Линия Чимкента, линия Ташкента, линия Самарканда образно сравнивались Раулинсоном с рядом параллелей, приближающихся к осажденной крепости: когда Мерв и Герат будут захвачены этими параллелями, русские будут на гласисе, и тогда начнется штурм. Английский ученый делал слишком много чести русскому правительству, приписывая ему столь строгую систематичность действия: можно с полною уверенностью принять, что завоеватели Туркестана тогда еще сами хорошенько не знали, какое именно употребление сделают они из своих завоеваний. Просто, отдохнув от крымского погрома, они вновь принялись за прерванное им дело, подчиняясь своего рода инстинкту, выработавшемуся за предшествовавшие 40 лет. Но англичане в своей колониальной политике ничего не делают инстинктивно и наобум: Раулинсон судил о русских по себе — и не мог не видеть, что, с захватом не только Сырдарьи, а и Амударьи, прорезывающей бухарские владения, русские в смысле нападения на Индию оказываются поставленными несравненно более благоприятно, нежели англичане в отношении обороны этой последней. В образе Аральского моря и Амударьи Россия имела отличный водный путь, подходивший почти вплотную к горным проходам, являющимся воротами из Средней Азии в Индию. Насчет доступности этих проходов для современной армии, с обозом и артиллерией, ничего определенного тогда не знали не только русские, но и англичане: знали только, что все предшествующие завоеватели Индии, двигавшиеся с севера, этими проходами пользовались, — этого было достаточно для того, чтобы опасения Раулинсона не казались бессмысленными. А если прибавить сюда газетные статьи на ту же тему некоторых русских, довольно высокопоставленных и осведомленных (как ориенталист Григорьев, скоро ставший начальником Главного управления по делам печати), возможность начинала казаться несомненностью. Что могла противопоставить Англия новому нашествию северных людей на индийский полуостров? Тут надо принять в расчет, что в дни записки Раулинсона
индийская железнодорожная сеть почти не существовала. На всю Индию было с небольшим 4 тысячи миль рельсовой колеи, из которых на северный конец, Пенджаб, приходилось всего 300 миль. Другими словами, мобилизация англо-индийской армии представляла огромные трудности. И еще труднее было доставить этой армии подкрепление из метрополии:
Суэцкий канал еще не был открыт, и сообщения Индии с Англией шли в объезд Африки. Стоит сравнить на карте длину водного пути, имевшегося в распоряжении русских (Аральское море и Амударья), с английской дорогой вокруг Капа, чтобы решительный перевес России в этом отношении сразу бросился в глаза.
В начале 1869 года английский министр иностранных дел, лорд Кларендон, обратился к русскому послу в Лондоне с формальным запросом: как ему успокоить английское общественное мнение и предупредить осложнения, могущие возникнуть между двумя правительствами по поводу Средней Азии? Запрос Кларендона был исходной точкой длинного конфликта, закончившегося юридически только англо-русской конвенцией 31 августа 1907 года, хотя фактически конфликт потерял свою остроту уже с середины 80-х годов. Но до этого бывали моменты большого напряжения — и однажды дело дошло даже до войны, правда, не непосредственно между Россией и Англией, а только между Россией и Турцией. Последняя в это время была, однако же, настолько явно клиенткой Англии, помогавшей туркам прямо деньгами и оружием, а косвенно даже и вооруженной силой (появление английского флота перед Константинополем в начале 1878 года), что
политически спор воспроизводил вполне точно кризис 1830—1850-х годов, только без севастопольского финала. Мы скоро увидим, что и экономические корни кризиса были те же самые. Пока для ясности остановимся на его внешнем ходе. В ответ на английский запрос бар. Бруннову, представлявшему тогда Россию в Лондоне, было поручено дать «положительное уверение», что русское правительство «рассматривает
Афганистан, как находящийся всецело вне сферы русского влияния». Русских спрашивали, зачем они зашли так далеко. В ответ на это русские намекали, что они могли бы пойти и дальше, но пока не хотят. Причем и эта последняя уступка была обусловлена довольно неприятным для англичан ограничением: не вмешиваться в афганские дела Россия обещала только до тех пор, пока Афганистан останется независимым. Но стремление Англии поставить афганского эмира к себе в такие же отношения, в каких был к России эмир бухарский, не составляло ни для кого секрета уже с 40-х годов. При таких условиях напоминание о независимости Афганистана было явной угрозой — и немудрено, что Кларендон отнюдь не чувствовал себя удовлетворенным русским ответом. Мысль создать из Афганистана государство-буфер его очень привлекала. Но чтобы функционировать с пользою для Англии, буфер должен был быть достаточно прочен. В сентябре того же 1869 года английский министр отправился в Гейдельберг для личных разговоров на эту тему с кн. Горчаковым. Можно думать, что не без задней мысли Кларендон поставил разговор на географическую почву — где, мы знаем, русский министр был особенно слаб. Россия согласна уважать независимость Афганистана — хорошо: но где же границы этого независимого государства? Англичане находили, что границей может быть только Амударья: другими словами, они соглашались успокоиться лишь в том случае, если возможная операционная линия русского похода на Индию будет наполовину в английских руках. К несчастью для своего собеседника, Горчаков к этому времени сделал заметные успехи в географии Центральной Азии. Он твердо помнил, что большая часть Бухарского ханства находится на
левом берегу Амударьи: включать весь этот берег в сферу
английского влияния после побед Крыжановского и Кауфмана было бы явной нелепостью. «Независимый» Афганистан должен был начинаться гораздо южнее. Гейдельбергское свидание «не имело никаких практических результатов»
[202]. И в конце все того же 1869 года английский посол в Петербурге «с явным беспокойством осведомлялся»: правда ли, что русским правительством уже решена экспедиция против Хивы? Ответ был отрицательный: русское правительство «надеялось еще обойтись без этой меры». Скоро, однако же, наступили события, сделавшие эту меру совершенно необходимой. События, по обыкновению, происходили чрезвычайно далеко от берегов Амударьи или Сырдарьи — и даже от берегов Босфора: их театром были берега Рейна и Мааса. В августе — сентябре 1870 года прусские пушки покончили со Второй французской империей — а в октябре того же года дипломатический мир с крайним изумлением узнал из циркуляра, разосланного кн. Горчаковым русским представителям за границей, что Россия не считает для себя более обязательным Парижский трактат 1856 года. Фактически пока она отменяла лишь ту его статью, которая запрещала ей держать флот на Черном море, но простая логика подсказывала, что если сегодня Россия считает себя в праве односторонним распоряжением отменить одну из статей договора, завтра она отменит другую или все другие. Англичане слов не находили для того, чтобы охарактеризовать горчаковский циркуляр. И так как связь событий была яснее дня, то по поводу
русского выступления английский уполномоченный Одо Россель явился в
прусскую главную квартиру, находившуюся тогда в Версале, требовать объяснений. И Бисмарк, и король Вильгельм были немало скандализованы беспримерным поступком своей союзницы. Но от союза не отреклись и, отведя душу несколькими замечаниями, не совсем лестными для кн. Горчакова, поддержали его, насколько дипломатические приличия допускали такую поддержку. Одо Росселю было дано понять, что на содействие пруссаков восстановлению Парижского трактата нечего рассчитывать. Что же касается главной виновницы этого трактата, Франции, ее положение достаточно иллюстрировалось тем, что ее правительству пришлось отвечать на горчаковский циркуляр из Тура: Париж был уже осажден. С Англией случилось то, что она всегда считала величайшей из неприятностей: она была лишена всяких континентальных союзников. Пришлось пойти на уступки и ограничиться моральным афронтом России (на лондонской конференции января — февраля 1871 года). Разорванный кн. Горчаковым международный документ не был вновь склеен, и Россия получила теоретическое право построить снова Черноморский флот. Что право это осталось пока чистой теорией, на то была добрая воля самой России: как и в Средней Азии, у нас умели взять; что делать со взятым, об этом догадывались еще долго. Раулинсон со своим рационализмом был решительно не способен оценить такой глубоко органический процесс, как внешняя политика царской России.
То, что говорилось — и писалось — на лондонской конференции, было, таким образом, одними словами. Поступки последовали опять чрезвычайно далеко от места этих разговоров. По-види-мому, английские дипломаты ошибались, предполагая, что экспедиция в Хиву была решена уже в 1869 году, но после 1870 года стало совершенно ясно, что государство злочастного хивинского хана скоро «развалится, как карточный домик» (слова директора азиатского департамента Министерства иностранных дел английскому послу, лорду Августу Лофтусу). В самом деле, только Хивы недоставало для того, чтобы водный путь Аральское море — Амударья
был всецело в русских руках: Хивинское ханство, занимавшее низовья реки, как раз его перерезывало. Завоеванию Хивы до сих пор мешали исключительные физические трудности, о которые разбилась экспедиция Перовского в 1839 году. В военном отношении хивинский хан не был, конечно, более страшным противником, чем бухарский эмир. По-видимому, он рассчитывал на непосредственную поддержку англичан: его посланцев мы встречаем в Симле, при дворе английского вице-короля Индии. С русской стороны решили поэтому подсластить пилюлю: в начале 1873 года кн. Горчаков заявил английскому правительству, что Россия готова признать маленькие ханства Вахан и Бадакшан — юридически спорные между Афганистаном и Бухарой, фактически же не зависевшие ни от первого, ни от последней — афганскими владениями.
С английской точки зрения, это могло считаться большим выигрышем: Вахан и Бадакшан непосредственно прилегают к горным проходам, ведущим из Средней Азии в Индию. Но так как индийская экспедиция, вопреки слишком поспешным прорицаниям Раулинсона, вовсе еще не входила тогда в практическую программу русского правительства — так как, с другой стороны, уступка была чисто словесная: на практике в спорных ханствах не имели никакой власти ни бухарский, ни афганский эмиры, — то русское пожертвование было не так велико, как казалось. Чтобы еще лучше прикрыть готовившийся удар, в Петербурге прибегли к следующему приему. В Англию был отправлен генерал-адъютант гр. Шувалов со специальным поручением заявить Английскому кабинету, что «император не только вовсе не желает завладеть Хивой, но и дал положительное приказание, дабы предупредить возможность этого завладения, и что Кауфману посланы инструкции, предписывающие наложить на хана такие условия, чтобы занятие Хивы ни в каком случае не могло быть продолжительным»
[203].
Когда в Англии стало после этого известно содержание договора, заключенного неизменно победоносным генералом Кауфманом с хивинским ханом в его занятой русскими войсками столице, — в «английской печати поднялась буря, и британское общественное мнение было охвачено пароксизмом острой вражды по отношению к России». В самом деле, договор говорил диаметрально противоположное тому, что только что было обещано гр. Шуваловым. Не только занятие Хивы должно было «быть продолжительным» — но хивинский хан признавал себя на вечные времена вассалом русского государя; причем, дабы не внушить ему излишней гордости, сношения он должен был вести не непосредственно с Петербургом, и даже не непосредственно с туркестанским генерал-губернатором, а с начальником Сырдарьинского отдела Туркестанской области. «Независимый государь» попросту подчинен был уездному исправнику! Что соблюден был
текст шуваловского обещания — русский гарнизон не остался в Хиве, не имевшей никакого военного значения, — это могло только еще более озлобить англичан, ибо, по другой статье трактата, низовья Амударьи стали русской территорией — ив этом была суть дела. Есть ли внутри глиняных стен Хивы хоть один русский солдат, когда владыка этих стен и все их обитатели дрожали при одном имени этого солдата, — было практически совершенно безразлично. В Англии не было ни одного разумного человека, который не считал бы Раулинсона проницательнейшим из всех пророков. Дело ясное: мы накануне последней из предсказанных им параллелей. Русским остается занять Мерв — и тогда начнется поход на Индию. И, как будто нарочно, для оправдания такого взгляда на запрос встревоженного Лондонского кабинета насчет именно Мерва из Петербурга ответили уклончиво. Мерв слишком далек еще от признанной афганской границы — и русское правительство никак не может обещать, что оно никогда не будет вынуждено принять меры против населяющих его туркменских разбойников. Теперь, после 1870 года, приходилось добиваться от России того, что раньше обещалось очень легко: признания неприкосновенности для русского расширения, по крайней мере, Афганистана. Правда, отречься сразу от обещаний 1869 года, как от Парижского трактата, у кн. Горчакова не хватило духу: дело было еще слишком свежо. Но он тянул переговоры, явно домогался от английского министерства гарантий независимости Афганистана (в ответ на подчинение Россией Бухары и Хивы!) — и воспользовался первым же удобным случаем, заявлением английского министра иностранных дел, лорда Дерби, что Англия оставляет за собой полную свободу действий по отношению к Афганистану, чтобы потребовать такой же полной свободы действий и для России. И англичане сейчас же должны были убедиться, что все это не пустые слова. Не прошло двух лет после хивинской экспедиции, как Россия формально аннексировала Кокан — третье «независимое» государство междуречья, с которого начались русские завоевания в 1864 году и которыми они, к востоку от Аральского моря, кончились. «Буре негодования» в английских газетах после этого не было уже предела.
История присоединения Кокана показала бы английскому общественному мнению — если бы оно могло рассуждать более спокойно, — что суть русских поступательных действии пока вовсе еще не в подготовке похода на Индию. И завоевание Кокана, как покорение Хивы, было продиктовано русскому правительству, точнее говоря — туркестанскому генерал-губернаторству, соображениями «внутренней политики». Несмотря на все уверения официальных бюллетеней, что русских в Средней Азии везде принимают с распростертыми объятиями, на самом деле завоевание Туркестана было не менее завоеванием, чем всякое другое. Покоренные ненавидели покорителей, и достаточно было найтись поблизости хоть одному свободному уголку, чтобы он непременно стал центром сопротивления русскому господству. Реальным поводом к захвату Кокана было поднявшееся там восстание против местного правителя Худояр-хана, слишком усердно служившего русским интересам. Вести войну пришлось не с правительством, а именно с народом. И в свете коканских событий нам становится понятна одна статья, затерявшаяся в договоре с Хивой: «Ханское правительство не принимает к себе разных выходцев из России, являющихся без дозволительного вида от русской власти, к какой бы национальности они ни принадлежали, а укрывающихся в ханстве русских преступников задерживает и выдает русскому начальству». Само собою разумеется, что тут имелись в виду не члены кружка Чайковского, а местные мусульманские агитаторы, непрестанно возбуждавшие местное население к священной войне с неверными всюду, где к этому представлялась малейшая физическая возможность. Эту возможность у них и старались отнять расширением сферы непосредственно русского господства. Но англичане на все смотрели глазами Раулинсона, и ближайшим результатом хивинской экспедиции и аннексии Кокана было то, что английское правительство поставило на первую очередь завоевание Афганистана, а как к более отдаленному, но все же неизбежному делу, стало готовиться к войне с Россией.
Зная только эти
внешние факты, можно подумать, что все дело было лишь грандиозным недоразумением. Англия была готова к самым сильным мерам потому, что считала Россию готовой к походу на Индию. Но это была ошибка — Россия вовсе не собиралась еще завоевать Индию. Может показаться, что отношения двух стран портили, действительно, какие-то «призраки», о рассеянии которых не без пафоса говорил кн. Горчаков в одной из своих депеш. Чтобы правильно оценить положение, нужно помнить, что спор из-за Средней Азии был только частным, наиболее конкретным эпизодом
общего конфликта. Этот общий конфликт и давал тон всему делу. Если мы возьмем, в широкой рамке 60—80-х годов, русскую внешнюю политику, с одной стороны, развитие производительных сил России — с другой, мы без труда увидим три параллельные линии, сопровождающие друг друга на всем протяжении этих десятилетий. Этими тремя линиями будут: во-первых
, рост русской обрабатывающей промышленности; во-вторых
, рост русского промышленного протекционизма; в-третьих,
ослабление наших экономических связей с Англией и ухудшение наших политических отношений с нею. Яснее всего эти три линии выступают, когда мы обращаемся к цифровым данным:

Как видим, медленнее всего развивалась за это десятилетие
текстильная промышленность, не выросшая даже в полтора раза; немного, очень немного энергичнее шло развитие
металлургии. Та и другая, однако же,
не стояли на месте: фритредерский тариф 1868 года не убил русского предпринимательства; напротив, если судить по цифрам вновь открывавшихся крупных предприятий (акционерные компании), он даже дал ему весьма сильный толчок к поступательному движению. 1876 год был последним годом действия льготного тарифа: в следующем году пошлины стали взиматься золотом, то есть были сразу повышены на 33 %. Дальнейший ход развития русского протекционизма удобно иллюстрировать на одном примере — пошлинах с
чугуна:
Годы
1868–1877 — 1884/85 — 1885/86 — 1886–1891
Тарифы: пошлины
с пуда чугуна,
золотом в к.
5–5 — 9 — 12–15 — 45–52 1/2
Производительность русской крупной индустрии при таком действии тарифного пресса росла, однако же, особенно вначале, немногим быстрее предшествующего десятилетия.
Годы
1877–1887 — 1892–1897
Общая сумма производства
в млн р.
541–802 — 1010–1816
Как видим, в России, как и везде в мире, протекционизм был не столько
условием развития крупной промышленности, сколько
результатом этого развития. По мере того, как капиталист становился сильнее, он требовал себе все новых и новых прерогатив, все более и более стремился монополизировать внутренний рынок. Когда ему это удалось окончательно (тариф 1891 года), его дела, разумеется, расширились на всю сумму вытесненных им с рынка иностранных продуктов:

Но гораздо раньше, чем обнаруживались эти положительные результаты торжества «национального» капитала, его соперники почувствовали отрицательные для них последствия нового порядка вещей.
Ввоз Великобритании в Россию:
Годы
1860–1870 — 1871–1880 — 1881–1890
Тыс. фунт. стерл.
5147 — 10 071 — 10 007 — 7783
Давно уже сделано наблюдение, что Англия никогда не может быть другом державе, которая ведет у себя строго протекционную систему. Одного того факта, что на границах России с 70-х годов вновь поднялась николаевская стена таможенного тарифа, было бы достаточно, чтобы испортить англо-русские отношения
[204]. Но это общее наблюдение в данном случае легко детализировать — и
хронологически, и
географически. Мы можем довольно точно определить,
когда и
где Англия стала чувствовать промышленное соперничество России — и при этом, кстати, еще раз видеть, что протекционизм является венцом промышленного здания, а отнюдь не его фундаментом. Еще действовал тариф 1868 года, даже золотых пошлин еще не было, а уже английский ввоз в Россию стал заметно сокращаться.
Годы
1867 — 1870 — 1873 — 1874 — 1875 — 1876
Англ, ввоз в Россию
(тыс. фунт, стерл.).
3944 — 6991 — 8997 — 8776 — 8059 — 6182
Мы не имеем в своем распоряжении детальных данных, которые позволяли бы судить, чем именно было обусловлено падение английского ввоза в Россию в 1876 году
(накануне торжества русского протекционизма!) до уровня ниже даже 1870 года. Но для нашей цели — экономически характеризовать внешнюю политику России — достаточно самого факта.
Англия теряла русский рынок. Повторяем, уже одно это никак не могло усилить англорусской дружбы. Но у нас есть неоспоримые доказательства того, что русское правительство сознательно пыталось вытеснить англичан и с
соседних рынков и что театром такой сознательной политики русского правительства был именно
Ближний Восток — те самые места, где скоро должны были разыграться войны 1876–1878 годов. В числе второстепенных рынков английского сбыта после Крымской войны заметную роль стала играть Румыния. Освобождение низовьев Дуная из русского таможенного кольца было тут главным благоприятствующим условием. Английский ввоз в Румынию, составлявший в 1860 году всего 9 млн франков
(седьмая часть общей суммы ввоза), к 1875 году превышал 25 млн франков, что составляло уже
четверть всего румынского ввоза. Но это повышение останавливается, опять-таки, на середине 70-х годов, достигнув максимума (33 млн франков) в 1874 году, английский ввоз в Румынию к следующему году упал до 25 млн. Маленький эпизод позволяет составить некоторое мнение насчет того, кто именно теснил в этих местах англичан. В конце 50-х годов одна английская компания получила от турецкого правительства концессию на устройства порта в Кюстендже (румынская Констанца) и железную дорогу от этого порта к Дунаю. Блестящая роль Констанцы в наши дни показывает, что англичане нащупали место верною рукою. Но Констанца, непосредственно связанная рельсовой колеёй с нижним Дунаем, в обход его труднопроходимых гирл, Констанца, гораздо ближе расположенная к Константинополю, чем русская Одесса, угрожала стать страшным конкурентом этой последней. Русское правительство не могло этого перенести — и по его настояниям Порта аннулировала английскую концессию в 1870 году. Можно себе представить, как было принято в английских коммерческих кругах известие, что в России носятся с планом исправить Парижский трактат еще в одном пункте, вернув в русские границы Бессарабию и устье Дуная, потерянные в 1856 году.
А в наличности этого плана нельзя было сомневаться уже тотчас после лондонской конференции 1871 года: уже тогда на этот счет велись секретные, но не составлявшие, конечно, тайны для заинтересованных лиц, переговоры с Турцией
[205].
На этом общем фоне англо-русского конфликта становятся понятны те осложнения, которые были вызваны в середине 70-х годов фактами, ничуть не более крупными сами по себе, чем имевшие место на десять или пятнадцать лет ранее. Герцеговинское восстание 1875 года было не хуже и не лучше герцеговинского восстания 1862 года — а критская революция 1867 года была значительнее их обоих. Но в 60-х годах, до лондонской конференции и в самом начале среднеазиатских завоеваний, русское правительство еще не дерзало активно выступать на театре своих поражений 1853–1856 годов. Теперь очень быстро вспомнили, что герцеговинцы — братья-славяне, и решили, что оставлять их без помощи никак нельзя. Сентиментальная картина — русский народ, в единодушном порыве устремившийся на помощь вновь обретенным братьям против неверных, — картина, к удивлению, повторяющаяся еще иногда и теперь, притом на страницах вполне, казалось бы, приличных книжек
[206], официальными кругами давно сдана в архив за ненадобностью. Авторы, национализм которых вне всякого сомнения, весьма спокойно присоединяются к оценкам, давно данным печатью всего менее националистической. И мы не находим лучшего способа объективно изобразить дело, как процитировав генерала Куропаткина, свидетеля, прибавим в скобках, тем более ценного, что он, начальник штаба генерала Скобелева в кампанию 1877 года, был уже сознательным деятелем описываемой им эпохи
[207]. «В сущности «вся Россия» вовсе не соединялась в порыве прийти на помощь славянским братьям. Огромная масса русского народа даже понятия, не имела, и не имеет его и теперь, о славянских народностях и их племенном и религиозном родстве с русским племенем. Это не было патриотическим движением, напоминавшим 1812 год. Тогда это движение проникло в глубь народных масс, ибо было понятно им: враг пришел в пределы России, враг сжег Москву. Ничего подобного, конечно, не было в 1876 году.
Возбуждение в России носило искусственный характер и захватило только поверхностно русский народ. Главную роль в этом искусственном возбуждении играли славянофилы, искренно верившие в призвание России жертвовать жизнью и достатком ее сынов для устройства славянских дел и расстройства собственных. В военных кругах возможность войны с Турцией встречалась с нескрываемым удовольствием. Наиболее горячие головы, чтобы скорее попасть в бой, шли в добровольцы, некоторые идейно, а некоторые — от избытка жизненной энергии. Было патриотическое возбуждение и среди отставных военных; многие и из них пошли в Сербию идейно, но для многих отставных поступление в добровольцы вызывалось желанием новой обстановки, опасности, борьбы, обеспеченного куска хлеба.
Особых же симпатий к сербам у многих заметно не было. Попадали в добровольцы и такие, которые, кроме вреда делу и русскому имени, ничего не принесли». Но даже и для славянофилов вера в «народное одушевление» была лишь минутой угара — и похмелье наступило очень быстро. Уже в декабре 1876 года Ив. Аксаков писал в частном письме: «Весь грех сербской войны в том и состоял, что она началась будто бы за освобождение южных славян, а не просто за свержение турецкого сюзеренства, за приобретение Старой Сербии и Боснии, словом,
началась ложью и фразой». Правильная перспектива получится лишь, когда мы вместо слова «народ» поставим «правящие круги русского общества». «Сочувствие к славянам Балканского полуострова, — говорит генерал Куропаткин, — находило поддержку в Аничковском дворце у наследника-цесаревича и в Зимнем дворце у государыни Марии Александровны. Из приближенных к государыне особенно влиятельною славянофилкою была графиня Блудова, к убежденным сторонникам решительных мер против турок принадлежал и великий князь Николай Николаевич». К ним принадлежали, нужно добавить, и представители
крупного капитала. Хлудов принимал большое участие в посылке Черняева в Сербию, крупнейшие банки и городские думы щедрою рукою приходили на помощь добровольцам. Собственно «народ» давал и деньги, и людей в минимальном количестве. «Порыв известной части общества к пожертвованиям на пользу славян был непродолжителен и по результатам незначителен. Денег было собрано немного, а количество всех добровольцев составило только до 1500 человек, но и в их числе, по отзывам особо командированных лиц — генерала Никитина и полковника Снессарева — находилось много лиц, о которых пришлось доносить, что среди них господствовали полная распущенность, разлад между собою и ненависть к сербам»
[208].
Для осуществления своих планов славянофилам всего меньше приходилось рассчитывать, таким образом, на «народное одушевление». На кого в действительности, а не на словах, можно было надеяться, это уже давно раскрыли дипломатические разоблачения русских и не русских авторов. Разоблачения установили факт весьма парадоксальный, но, тем не менее, совершенно несомненный: осуществление славянофильских планов всецело зависело от содействия двух
немецких держав: Австрии (именно Австрии, а не Австро-Венгрии, ибо венгеры были безусловно враждебны русским планам) и, в особенности, Германии. Освободить балканских славян можно было только при содействии злейших врагов «славянства»! А так как, само собою разумеется, никакой немецкий политический деятель не стал бы оказывать поддержку «панславизму» — то уже из самой возможности немецкого содействия ясно, что серьезные деловые люди вроде Бисмарка никакого значения славянофильской фразеологии русских правящих кругов не придавали, считая все разговоры о «славянстве» простой блажью, которую, конечно, несколько неприятно слушать, но которая никаких практических последствий иметь ни в каком случае не может. С замечательной чуткостью Бисмарк сразу нащупал нерв всего дела, с самого начала взглянув на него как на
конфликт Англии и России. Конфликт этот для него был в высшей степени неприятен. Германия уже тогда начинала становиться великой морской державой, ее коммерческий флот рос не по дням, а по часам — соответствующей же ему военной морской силы еще далеко не было налицо. Мир на море был необходим Германии как никогда — и ничто больше не могло угрожать этому миру, как русско-английская война. Еще в 1876 году поэтому Бисмарк предложил русскому правительству свои услуги как «честного маклера» на предмет соглашения с англичанами: с большой опять-таки проницательностью он видел, что конфликт далеко не так безысходен, как казалось Раулинсону и его единомышленникам, в сущности, очень далеко стоявшим от практической политики. Намерение России вернуть себе Бессарабию он считал «безделицей» (bagatelle) и полагал, что она ни в какое сравнение не идет с русско-английским спором в Центральной Азии. Стоит России гарантировать англичанам Индию, — Бисмарк предвидел, что для полного успокоения последних придется отдать им Египет, как он мягко выразился «обеспечить безопасность Суэцкого канала», с 1875 году перешедшего фактически в английские руки, так как Англия купила большую часть акций суэцкой компании, — и она охотно уступит России «безделушки». В действительности, как мы знаем, так и произошло: завладев в начале 80-х годов Египтом, англичане стали гораздо менее непреклонны в Средней Азии. Но в Петербурге насчет действительных намерений Германии находились в самом странном заблуждении: там были уверены, что в случае войны на Востоке Германия окажет России не более и не менее как вооруженную поддержку. Кн. Горчаков писал русскому послу в Берлине Убри: «В случае разногласия между нами и Австрией по Восточному вопросу, мы, как уверял Шувалова Бисмарк, можем безусловно рассчитывать на него. Пруссия, сказал Бисмарк, должница России за ее поддержку в 1866 и 1870 годах. Расплатиться с этим долгом для нее — дело чести. Поэтому как дворянин, а не как канцлер империи, он (Бисмарк) заявил, что для поддержания наших претензий Пруссия предоставит в наше распоряжение германскую армию». «Он сделал это заявление
не как канцлер, — прибавлял Горчаков, — потому, что в политических сношениях он не позволяет себе быть вполне откровенным (il se réservait une espèce d’élasticité dans l’expression de sa pensée)»
[209]. Объяснение этого разговора принесла опять-таки Октябрьская революция. Мы теперь знаем, что перед Горчаковым лежала секретнейшая конвенция, обещавшая России 200 тысяч прусских штыков, конвенция, которой Бисмарк и не думал исполнять.
Впоследствии, как известно, он публично высказывал, что весь Восточный вопрос не стоит костей одного померанского гренадера. Во всяком случае, здесь шла речь только о
русско-австрийском споре как возможности: насчет спора
русско-английского (а в нем была суть дела) Бисмарк, уже в совершенно трезвой беседе с Убри, вполне определенно давал понять, что на большее, чем безусловный нейтралитет Германии, Россия рассчитывать не должна. Но помимо канцлеров и посланников существовали личные, очень близкие отношения между государями двух стран — и тесная дружба высших военных и придворных чинов, принадлежавших не только к одному социальному классу, но нередко и к одной национальности в обеих странах: и не пересчитать остзейских баронов, носивших русский военный или придворный мундир. Когда император Александр II был в Варшаве, к нему явился с письмом и личным поручением императора Вильгельма генерал-адъютант последнего, фельдмаршал Мантейфель. Князь Горчаков поспешил, со своей стороны, побеседовать с доверенным лицом германского императора. На вопрос, окажет ли Германия поддержку России в случае войны, Мантейфель ответил категорически: «Мы вас не покинем». После этого как было сомневаться, что прусские штыки, можно сказать, в кармане?
Князь Бисмарк был совершенно невиновен в этом упорстве русского самообмана: добиться от него официального подтверждения слов Мантейфеля русским дипломатам так и не удалось, к великому огорчению кн. Горчакова. Только это и побуждало принять все же минимальные меры предосторожности и попытаться столковаться до войны по крайней мере с Австрией — если не с Англией. Австрия чрезвычайно охотно шла навстречу: точнее говоря, она двинулась в путь первая. В свое время не без больших оснований предполагали, что герцеговинское восстание стало серьезным делом при прямом содействии австрийского правительства. По крайней мере, именно оно, в лице канцлера гр. Андраши, первое реагировало на герцеговинские события 1875 года, выступив с планом реформ в соседних с Австрией христианских провинциях Турции. План — его подробности ни для кого теперь не интересны — клонился к тому, чтобы создать перманентный повод для австрийского вмешательства в Боснии и Герцеговине, вмешательства, которое рано или поздно должно было привести сначала к военной оккупации Австрией этих областей, а потом и к аннексии их. Согласие на все это Германии имелось уже с 1871–1872 годов. Англия в этой части Балканского полуострова насущных интересов не имела и относилась к делу безразлично. Оставалась Россия. Когда выяснилось горячее желание тех, кто ею управлял, вмешаться в дело, гр. Андраши сейчас же сообразил, какую из этого можно извлечь пользу. При единоличном действии Австрии дело могло дойти до австро-турецкой войны: к чему так рисковать, когда можно заставить воевать Россию — ив результате русско-турецкой войны получить Боснию и Герцеговину даром, не вынимая шпаги из ножен? На свидании двух императоров, австрийского и русского, в Рейхштадте (26 июня 1876 года) весьма легко пришли к соглашению, по которому Австрия получала Боснию (о Герцеговине, как цинически объяснял потом Андраши, «случайно забыли» упомянуть), а Россия — Бессарабию и Батум в Азии. Ни то, ни другое, скажет читатель, не имеет никакого отношения к балканским славянам, которых стремились освобождать. Подождите, не все славяне были так «случайно забыты», как герцеговинцы. Относительно других было положительно установлено, что они ни в каком случае не могут образовать на Балканском полуострове
одного большого государства. Это, конечно, очень плохо сочеталось со славянофильской фразеологией, но это же лишний раз доказывает, что дело было вовсе не в ней. А так как — генерал Куропаткин в этом прав — в русских правящих сферах встречались все же и «искренние славянофилы», то рейхштадтскую сделку решено было держать в строжайшем секрете не только от публики, но и от русского посла в Константинополе Игнатьева. Так как последний был главным рычагом славянского «освобождения» на Балканах, то удобнее было не повергать его в ослабляющее волю состояние психической раздвоенности. Игнатьев вместе со всем русским общественным мнением продолжал верить, что Австрия — «коварный враг», а на самом деле австрийцы были, вполне формально, нашими союзниками.
Труднее, неизмеримо труднее дело было с Англией. Выборы 1874 года поставили у власти консервативное министерство с Дизраэли, впоследствии лордом Биконсфильдом, во главе. То была первая яркая вспышка английского империализма после многих лет. Экономической почвой был кризис, охвативший всю Европу. Англичанам, до тех пор верившим в свое промышленное первенство, как в закон природы, вдруг стало тесно на европейском рынке: выше мы видели, какие специальные причины еще усиливали тесноту. Перспектива — пусть даже просто мираж — экзотических завоеваний и новых колониальных рынков, перспектива, развернутая Дизраэли, сделала его богом буржуазного общественного мнения (английские рабочие тогда стояли в стороне от политики). Но поддержать такую репутацию было нелегко. Нужны были если не громкие дела, то громкие фразы; если не решительные действия, то резкие, кричащие эффекты. Без континентальных союзников Англия так же мало могла воевать с Россией, как и сорока годами раньше. Единственным возможным союзником казалась Германия — но она была союзницей России
[210]. Вдобавок, в русско-английском конфликте роль наступающего неизменно принадлежала России:
Англия оборонялась. Но как раз к середине 70-х годов условия обороны стали изменяться к большой выгоде англичан. Во-первых, был прорыт — и, как мы видели, попал в английские руки — Суэцкий канал: британские войска на месяц пути оказались ближе к Индии, чем были раньше. Затем индийская железнодорожная сеть, почти не существовавшая в 60-х годах, к середине следующего десятилетия считала уже 6 1/2 тысяч миль, из который на Пенджаб приходилось 664 (против 246 в 1867 году, иными словами, северо-западный, обращенный к России, угол сети вырос в 2 1/2 раза). Нападение России теперь было менее страшно, чем в дни записки Раулинсона; нападение на Россию — менее нужно. Этими двумя соображениями и определялась политика Биконсфильда в восточном кризисе 1875–1878 годов. Он до последней степени поднял
тон разговоров с русским правительством, и это чрезвычайно льстило английскому общественному мнению. В то же время, по существу, он весьма готов был «выжидать событий» — и дождался, наконец, такого момента, когда русское положение было хуже, чем оно могло бы быть после двух сражений, проигранных в Афганистане, Англия же была поставлена так выгодно, как никогда. В результате без прямого участия в войне Англия добилась не меньшего, чем ей дала бы война. Но она обязана была этим отнюдь не одному только дипломатическому искусству Дизраэли: еще более помогли ей в этом беспримерные неискусство и неловкость его противников. Пословица «На ловца и зверь бежит» никогда еще так не оправдывалась, как в англорусских отношениях этих лет. Русские дипломаты делали все, от них зависящее, чтобы дать пищу громким фразам английского империализма, и ничего не делали такого, что могло бы в самомалейшей степени служить ему серьезной угрозой.
Слухи о воинственных намерениях России относительно Турции несомненно обеспокоили английское правительство. Война с Россией казалась неизбежной — а мы знаем, что вести эту войну для Англии было совсем нелегко. Затруднительность положения англичан нашла себе выражение в донельзя странных советах, которые они сочли себя обязанными давать Турции. Ей рекомендовали из Лондона «как можно скорее подавить» начавшееся между балканскими славянами движение. Турки поняли это, как только они могли понять, — и целый болгарский округ был вырезан башибузуками. В Англии это произвело такое впечатление, что Дизраэли на несколько месяцев сделался почти непопулярен, а его либерального противника Гладстона, обличившего турецкие зверства, публика носила на руках. При таких обстоятельствах Британский кабинет должен был очень обрадоваться, узнав, что русское правительство и с ним готово договориться относительно своих действий на Балканском полуострове. В «секретной» депеше, содержание которой стало, конечно, сейчас же известно англичанам хотя бы через того же Бисмарка, кн. Горчаков шел так далеко, что соглашался ограничить русские военные операции северной Болгарией — не переходя, стало быть, Балканского хребта. Официально было обещано, что русские войска ни в каком случае не войдут в Константинополь. Понять эти обещания можно, только припомнив тот наивный византинизм, которым сопровождалась хивинская экспедиция. Хотели «усыпить внимание» соперника — и дали ему возможность вставить нам палку в колесо в самую критическую минуту. В самом деле: псевдосекретная депеша Горчакова гласила, что русские не перейдут Балканы,
если султан обратится к императору Александру с просьбой о мире ранее, нежели военные операции подойдут к Балканам. Для того чтобы аннулировать это условие, передовой отряд генерала Гурко и был командирован занять балканские проходы немедленно после переправы через Дунай. Турки были лишены физической возможности просить мира ранее, чем русские спустились в долину Тунджи. Но удержаться там Гурко не смог, военного значения его набег не приобрел, а Дизраэли получил превосходный повод декламировать на тему о русском вероломстве. Когда после этого английский флот сначала был сконцентрирован у входа в Дарданеллы, а потом появился перед Константинополем, у Принцевых островов, все это были шаги формально строго оборонительные и вполне законные, как ни негодовало на них русское правительство. Никто не обязан верить обещаниям державы, которая систематически свои обещания нарушает.
Но Англия была врагом — по отношению к врагам допускаются военные хитрости, хотя, может быть, тот тип хитростей, который применен был русской дипломатией с кн. Горчаковым во главе, и являлся для второй половины XIX века несколько устарелым. Гораздо удивительнее, что эта дипломатия считала позволительными для нее аналогичные шаги относительно держав, связанных с Россией союзными договорами.
Выше мы говорили, что еще летом 1876 года между Россией и Австрией было заключено соглашение, обеспечивавшее Россию от всяких сюрпризов со стороны ее соседки на случай войны с Турцией. Собственно, только это соглашение и делало войну физически возможной: имея австрийскую армию с тыла, русские, как показал опыт кампании 1853–1854 годов, не смогли бы предпринять поход в Болгарию. Вот почему император Александр II и медлил с началом военных действий до тех пор, пока австро-русская конвенция не была выработана во всех деталях — а это отняло много времени. Рейхштадтское соглашение лета 1876 года было только принципиальным. Когда дело дошло до конкретной формулировки русских требований, Андраши обнаружил крайнюю недоверчивость, сильно оскорблявшую кн. Горчакова: последствия показали, что Андраши был более чем прав. Благодаря ожесточенным спорам из-за каждой мелочи, текст конвенции был готов только в марте следующего 1877 года (хотя датировали ее зачем-то 3 (15) января). Когда она была, наконец, подписана, Александр Николаевич двинул свою армию против Турции (манифест о войне был дан 12 апреля 1877 года). Казалось бы, совершенно ясно, что австро-русская конвенция — вещь серьезная. Полный текст ее напечатан только теперь, но и русские, и австрийские дипломаты признавали в общих чертах точным изложение, появившееся в австрийских газетах ровно десять лет спустя после событий, в 1887 году
[211]. Седьмой, и последний, пункт конвенции гласил: «Не должно быть устроено на Балканском полуострове значительное славянское государство в ущерб неславянским племенам». О том, как гармонировал этот пункт с официальными славянофильскими лозунгами нашей дипломатической кампании, уже говорили выше. Теперь дело не в этом. Как никак, Россия обязалась не создавать больших славянских государств из обломков европейской Турции, — на этом условии ей позволили вести войну. А когда война кончилась полной, хотя и достаточно-таки дорого купленной победой России, последняя, Сан-Стефанским трактатом от 19 февраля 1878 года, превратила почти всю европейскую Турцию именно в
одно огромное славянское государство, Болгарское княжество, занимавшее, по Сан-Стефанским условиям, пространство от Дуная до Эгейского
моря с севера на юг, и от Черного моря до Охридского озера в Албании с востока на запад. Один из русских дипломатов, участников Берлинского конгресса, и через 30 лет после событий недоуменно спрашивал: «Если Россия хотела остаться верной конвенции с Австрией, зачем же было забывать об этом при заключении Сан-Стефанского договора? Были ли и какие даны по этому поводу инструкции Н. П. Игнатьеву?»
[212]. Что Игнатьев
лично не знал ничего о конвенции, об этом мы упоминали. Но Сан-Стефанский трактат не был личным соглашением Игнатьева с Турцией. Он был утвержден русским правительством — тем самым, что заключило соглашение с Австрией. Единственное возможное объяснение заключается в том, что вера в прусские штыки, якобы готовые прийти на помощь России, пережила и плевненские неудачи, и победоносный переход через Балканы. И под Сан-Стефано в ушах стояли слова Мантейфеля: «Мы вас не покинем»! И эти слова, которые сказал
сам генерал-адъютант германского императора, затмевали в сознании русских дипломатов всякую писаную бумагу — тем более, что писали эти дипломаты так много, что и сами едва ли могли упомнить все написанное. Что удивительного, в самом деле, что забыли какую-то статью какой-то конвенции: по уверению того же участника Берлинского конгресса, русская дипломатия запамятовала о существовании на Балканском полуострове целой страны, именуемой Грецией. Спасибо, французы напомнили. Тогда начались хлопоты, стали бросаться друг к другу за справками: но оказалось, что никто ничего не знает, как же решено в Петербурге насчет Греции. Горчаков, может быть, и знал — но забыл. Так и положено было оставить Грецию за французами… Они первые заговорили — значит им есть что сказать…
Сан-Стефанский трактат — он стал известен австрийскому правительству еще ранее своего официального утверждения, в виде проекта — произвел в Вене впечатление разорвавшейся бомбы. Еще не далее, как в июне — июле 1877 года Горчаков заверял Андраши, что Россия останется верна принципам рейхштадтского соглашения. Австрийские разговоры о вероломстве России были теперь едва ли не энергичнее английских. И — это нетрудно было предвидеть — Англия поспешила использовать положение. По статье 2-й все той же австро-русской конвенции, по окончании войны никакие новые порядки на Балканском полуострове не должны были быть устанавливаемы «помимо участия великих держав, гарантировавших целость Турецкой империи». Берлинский конгресс был предусмотрен, таким образом, до войны, и позднейшее ламентации славянофилов насчет якобы западни, в которую заманил Россию Бисмарк с англичанами, могут быть объяснены только тем обстоятельством, что русско-австрийская сделка от славянофилов была скрыта. Но русская дипломатия, с характеризующим ее на всем протяжении рассматриваемого нами кризиса наивным лукавством, пыталась истолковать эту статью так, что «новые порядки» касаются только Константинополя и проливов — о всем же прочем Россия может договариваться с Портой tête-a-tête. Само собою разумеется, что эта военная хитрость удалась не лучше всех остальных. Австрия начала мобилизацию — и положение Биконсфильда сделалось блестящим как никогда. Наконец, Англия имела то, что ей так давно не хватало: континентального союзника! Военное одушевление английских консерваторов достигло размеров бреда. Хорошо знакомые всем читателям газет термины «джинго» и «джингоизм» родились именно в те месяцы и обязаны своим происхождением одной песенке, распевавшейся во всех music-hall’ax Лондона, где это словцо
[213] повторялось в каждом куплете, подчеркивая ультравоинственное настроение поющего. В Константинополь был послан самый энергичный из дипломатов «раулинсоновского» направления — Лейард. Парламент был созван на две недели ранее обычного срока. Тронная речь королевы с грозной неопределенностью говорила о «неожиданных событиях, которые могут сделать необходимыми меры предосторожности». Канцлер казначейства потребовал кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов на чрезвычайные военные и морские расходы. В газетах печатались подробные известия о составе английской армии, предназначавшейся для действий против России (ее исчисляли в 150 000 человек), сообщались имена главнокомандующего и его штаба. Словом, такой военной шумихи Великобритания не переживала с тех месяцев, которые предшествовали Крымской войне.
Предшествовал ли теперь этот шум чему-нибудь серьезному? Политические противники лорда Биконсфильда все время видели во всем этом одну комедию. Никакой 150-тысячной армии в распоряжении английского правительства не было. Был сосредоточен на о. Мальте корпус англо-индийских войск, где имелись образчики контингентов и «независимых» раджей Индостана, но эти живописные отряды годились более для феерии, нежели для военных действий; солдаты Сулейман- или Осман-пашей, только что разбитые русскими, были сравнительно с этим серьезной боевой силой. Шесть миллионов фунтов (60 млн р. золотом) были ничтожной суммой для войны с Россией — сулившей издержки в сотни миллионов. В одном отношении, правда, война могла казаться менее опасной, чем, например, в 30-х годах: тогда у Николая Павловича был внушительный флот, в 70-х годах у России, в общности, никакого флота не было. Были одни крупный броненосец, два-три броненосных крейсера да несколько наскоро вооруженных коммерческих пароходов, которым дали пышное название Добровольного флота. Но даже и эти ничтожные силы могли более навредить английской морской торговле, нежели весь великобританский флот — русской, по той простой причине, что последней вовсе не существовало. Словом, с какого конца ни взять, у противников консервативного министерства были основания считать все дело грандиозным ЫеАРом. Далее большой военной демонстрации Биконсфильд едва ли собирался идти. Можно сказать больше: производя неслыханный джингоистский шум, руководители английской политики превосходно сознавали, вероятно, что практически никакая война невозможна — ибо Россия уже истощила на борьбе с Турцией все свои военно-финансовые ресурсы. «Прибыв в Петербург 30 апреля, — рассказывает официозный историк царствования Александр II, — Шувалов (русский посол в Лондоне, о котором будет сейчас речь ниже) нашел высшие правительственные круги утомленными войной и единодушно расположенными в пользу мира. Средства государства были истощены, боевые запасы израсходованы. В трудности, едва ли не в полной невозможности продолжать войну уверяли посла высшие государственные сановники, гражданские и военные»
[214]. Сановники были совершенно правы. Война стоила уже около миллиарда рублей. Половина этого расхода была покрыта печатанием бумажных денег — что уронило курс кредитного рубля с 87 до 63 копеек золотом. Внутренний кредит был исчерпан — внешнего не оказывалось: попытки заключить заем за границей не удались. Золотые пошлины 1877 года были не только меркой политического влияния крупной индустрии, но и попыткой достать во что бы то ни стало необходимого для заграничной кампании золота, которое естественным путем не притекало в страну, а уплывало из нее. За пятилетие 1871–1875 годов наш средний вывоз составлял всего 470 млн р. против 565 млн р. ввоза. Если русско-турецкая война только угрожала, банкротством — угрожала, по мнению таких компетентных людей, как министр финансов Рейтерн, — то русско-англо-австрийская вела к такому банкротству неизбежно. России все равно пришлось бы сдаться — и даже форма капитуляции, пересмотр Сан-Стефанского трактата на Международном конгрессе, была подсказана русско-австрийской конвенцией. Но Биконсфильду нужно было показать, что Россия сдалась именно перед военной угрозой Англии, и судьба, в образе русской дипломатии, распорядилась так, что у него в руках оказались даже документальные доказательства для такого, в сущности, совершенно неисторического утверждения.
Как это ни странно, но в Петербурге Англию считали и более вероятным, и более грозным противником, нежели Австрию. Относительно этой последней упорно продолжали верить в магическую силу прусских штыков — как ни явственно говорил Бисмарк о несбыточности такой надежды. «Русская дипломатия все еще рассчитывала на содействие князя Бисмарка для образумления Австрии», — говорит тот же сейчас цитированный нами официозный историк. В то же время тот факт, что у Англии никаких штыков не было и что одна она была, пожалуй, менее страшна для России, чем даже Турция, как-то не вмещался в воображение тех, кто ведал русской внешней политикой. Гипнотизировало могущество английского флота, и картина появления английских броненосцев перед Кронштадтом заставила умолкнуть все здравые стратегические и дипломатические соображения: хотя английский флот перед Кронштадтом едва ли был бы страшнее в 1878 году, чем в 1854–1855 годах, когда обещание Непира взять русскую крепость бессильной угрозой повисло в воздухе. Как бы то ни было,
решили сдаться именно Англии. Посредником явился гр. Петр Шувалов, русский посол в Лондоне. По своей предыдущей карьере — граф был сначала петербургским обер-полицеймейстером, а потом шефом жандармов — он, быть может, не был наиболее из русских дипломатов подготовленным для переговоров о Восточном вопросе: злые языки уверяли потом, что ему случалось путать Босфор с Дарданеллами, для разъяснения какового географического казуса пришлось командировать из Петербурга особого чиновника, так как все переговоры с англичанами ради большей конспирации велись изустно. Но по тому доверию, каким пользовался бывший шеф жандармов в Петербурге, едва ли можно было найти более подходящее лицо. Английский министр иностранных дел — тогда Салисбер — оценил это, и поставил разговор с Шуваловым на вполне деловую почву. Шувалов не без крайнего удивления узнал от него, что, собственно, Англия ничего не имеет против честного выполнения Россией конвенции от 3 января 1877 года. Поморщились англичане только по поводу Бессарабии, но, в конце концов, Бисмарк и тут оказался прав, что здесь английские интересы имеют минимальное значение. Зато они очень охотно соглашались на аннексию Россией Батума и на превращение северной Болгарии, до Балкан, в полунезависимое княжество что, впрочем, они сами, по собственной инициативе, предлагали добиться от султана еще до войны. Когда в Петербурге — где, очевидно, мерещилось чуть не требование восстановления Парижского трактата — узнали об английской умеренности, там ее поняли не так, как только следовало и возможно было понять: что англичане воевать не хотят и не могут. Там в первую минуту не поверили даже пользовавшемуся безграничным доверием сфер гр. Шувалову. Решили, что он что-то путает. А когда Шувалов сообщил, что англичане не прочь облечь свои условия в письменную форму, как было не ухватиться за эту неожиданно упавшую с неба благодать? Шувалову немедленно были посланы все необходимые полномочия, — и 18 мая в Лондоне был подписан ряд протоколов, в сущности закреплявших согласие Англии на русско-австрийскую сделку. В Лондоне Россия вновь изъявила согласие на то, на что она однажды уже согласилась в Рейхштадте, но о чем она позабыла под Сан-Стефано. Ничего ровно нового в англо-русских конвенциях от 18 мая (они официально были «секретными», но чуть ли не тотчас же были оглашены лондонской консервативной печатью) не было. Но Биконсфильд мог теперь показать своим поклонникам осязательные плоды империалистской политики. «Биконсфильд сказал: русские не войдут в Константинополь! И не вошли», — в упоении восклицали «джинго». А разбираться в истории дипломатических трактатов было не их дело: управлявший Англией великий антрепенер знал свою публику.
По существу, лондонскими конвенциями от 18 мая дело было кончено. Но для поставленной Биконсфильдом политической феерии это был слишком скромный конец: ему нужен был апофеоз его политики перед всей Европой. С другой стороны, его противникам тоже было бы приятнее чувствовать себя побежденными всей Европой, а не одной Англией: так для самолюбия было легче. Наконец, и Бисмарку не могла не быть приятна роль суперарбитра англо-русского спора, притом купленная по такой дешевой цене — не потратив не только костей ни одного померанского гренадера, но даже ни одного миллиона марок на мобилизацию. Ко всеобщему удовольствию, таким образом, и решено было покончить дело, гласно и официально, на Всеевропейском конгрессе, который и собрался в Берлине 1 июня 1878 года. Он не дал, и не мог дать, ничего нового, кроме второстепенных деталей, но так, как «показала себя» русская дипломатия именно на нем, то нельзя не дать его краткой характеристики, причем мы можем пользоваться подлинными словами одного из его участников. Приехав в Берлин, этот участник пошел представляться кн. Горчакову, назначенному первым уполномоченным России, — так сказать, по собственному выбору: предполагалось, собственно, первым послать Шувалова, но Горчаков захотел непременно ехать, и нельзя же было его подчинить его вчерашнему подчиненному. В ту минуту, когда был допущен к русскому канцлеру автор цитируемых нами воспоминаний, Горчаков был занят оживленной беседой с черногорцами, которых он уговаривал быть умереннее и не настаивать на приобретении во что бы то ни стало Антивари. «Если вам так понравилось Антивари, то отдайте Австрии за это хоть Спицу», — говорил Горчаков. «С удовольствием, — ответил ему черногорский уполномоченный. — Да жаль, что она и без того австрийская». Присутствующие были бы очень рады провалиться сквозь землю, но глава русской дипломатии нисколько не чувствовал себя смущенным своей маленькой обмолвкой. Он продолжал вести свою линию и убеждал черногорцев отвести границу «к вершинам гор». «Но здесь никаких гор нет, а лежат пахотные земли», — возражали все более и более приходившие в отчаяние братья-славяне. Настроение же русского канцлера становилось с каждой минутой лучше. Он мило шутил и все продолжал уговаривать своих собеседников не спорить с Австрией. «Развяжитесь с ней: она покровительствует теперь Сербии, вы и отдайте сербам Подгорицу». «Все мы, — говорит автор, — в замешательстве переглянулись»… Горчаков это, наконец, заметил и спросил: «В чем дело»? «Нельзя отдать Подгорицу, — ответили ему: — она лежит на противоположной границе». «А нельзя отдать Подгорицу, так отдайте Спуж». «Спуж еще дальше в глубь страны». «Что-нибудь надо отдать, — сказал канцлер, — я слаб в географии этих мест. Для меня существуют только основные линии»
[215]. Нам становится понятно, почему Бисмарк пришел в отчаяние, узнав, что первым русским уполномоченным будет Горчаков, и собрался даже вместо того, чтобы председательствовать на конгрессе, уехать в Киссинген. Большее доверие чувствовал германский канцлер к Шувалову, который, в трудные минуты, по крайней мере, ясно и отчетливо сознавал свою беспомощность. Вот какую речь держал этот фактически главный русский уполномоченный (читатели догадались, конечно, что с Горчаковым никто серьезно не считался) перед своими коллегами перед началом работ конгресса: «Меня учили на медные деньги. Я знаю очень, очень мало. Прежде всего позаботились научить меня иностранным языкам, и я говорю по-французски, по-немецки и по-английски, может быть, лучше, чем по-русски, но этим и ограничиваются мои положительные знания — вне языков ничего не знаю, и прошу вас, господа, помочь мне вашими знаниями. Научите меня всему, что сами знаете и что в настоящем случае необходимо. Мы сделаем так: каждый раз перед заседанием конгресса — или когда понадобится — мы будем собираться у меня: я укажу предметы обсуждения и попрошу вас высказаться. Поверьте, что выслушаю вас внимательно и
постараюсь понять (sic!). Затем, если не потребуется для меня разъяснения чего-либо неусвоенного, я передам вам резюме наших суждений прямо по-французски, как буду говорить потом на конгрессе. Любезный барон Жомини согласился присутствовать на наших совещаниях, чтобы следить, не употребляю ли я когда-нибудь в моих объяснениях, какого-либо недипломатического выражения или оборота. Заметит что-либо подобное или какой грех против французского языка — он поправит. Итак, господа, помогите и начнемте». «Любезный барон Жомини», очевидно, был величайшим дипломатическим авторитетом в глазах Шувалова: полезно, поэтому, оговорить, что и этот великий дипломат не знал точно, где находится Филиппополь, к северу или к югу от Балкан… Фактически судьба России была в руках «столоначальников» — подтверждая известное изречение, вырвавшееся в минуту отчаяния у императора Николая I. Но и положение этих последних было не из завидных. «Когда мы (военные) узнали, что на нас будет возложено проектирование границ, — пишет наш автор, — мы обратились в путевую канцелярию канцлера за необходимыми для нас картами.
Никаких карт для подобных занятий не оказалось. У меня решительно ничего не было с собой, так как меня схватили на дороге, Бобриков имел карту Сербии, а Боголюбов — Черногории. Бросились в магазины — тоже нет полного экземпляра австрийской карты Балканского полуострова.
Пришлось явиться на первое заседание без всяких карт». Потом карты выписали из Вены. Любопытнее всего, что фактом защиты русских интересов против Австрии по австрийской карте автор уже и не смущается. Что могла бы быть
русская карта Балканского полуострова, ему просто не приходит в голову. Где уж тут!
[216].
Биконсфильд мог торжествовать над Россией еще раз — теперь уже на самой большой сцене, какую только можно было найти на земном шаре. Через 10 дней после открытия конгресса Шувалов должен был донести в Петербург. «Обстоятельства настолько выяснились, что теперь мы ясно видим против нас всю Европу, за исключением Германии. Европа ничего не сделала для нас, но произведет репрессию, чтобы поддержать противу нас Австрию и Англию. Если бы только нашлась возможность без войны — которой не хотят — отнять у нас все нами достигнутое, то отняли бы охотно. Германия с нами, но ничего сделать не может для нас, и князь Бисмарк преспокойно уедет в Киссинген, оставив нас драться с Англией и Австрией, а может быть, и еще с кем-нибудь. Что мы можем выиграть? — а) в нравственном смысле: 1) независимость Румынии, но это мало нас занимает; 2) независимость Сербии, но ей хотят дать больше, чем мы желаем; 3) образование княжества Болгарского
(NB: в тех пределах, которые англичане наметили, в сущности, до войны.); б) в материальном: Бессарабию, часть Малой Азии с Карсом и Батумом. Об остальном думать невозможно»
[217]. При этом действительно и пришлось, в конце концов, остаться. Не только на св. Софии не был снова водружен православный крест, но не удалось добиться даже открытых ворот в Средиземное море: Берлинский трактат 1878 года давал меньше, чем Хункиар-Искелесский договор 1833 года. Козлом отпущения для славянофильской печати явился Бисмарк, будто бы «предавший» и «продавший». На самом деле Бисмарк не хвастал, когда говорил, что он сделал для защиты интересов России больше, чем все ее уполномоченные, вместе взятые. Но было бы ошибкой думать, что для Биконсфильда его успех прошел совсем «даром». Непосредственным результатом событий 1877–1878 годов было то, что поход русских на Индию, раньше бывший чем-то вроде навязчивой галлюцинации «знатоков» азиатских дел, вроде Раулинсона, теперь вдвинулся в сферу практических возможностей, и последние годы царствования Александра II отмечены первым шагом в этом направлении. Русская операционная линия в Средней Азии резко переместилась. До сих пор о предвидевшейся Раулинсоном параллели Мерв — Герат никто не думал: ахалтекинским походом Скобелева (1880–1881) Россия начинает наступать со стороны Каспийского моря, и на конце линии ее наступления оказывается именно Герат — «ворота в Индию».
Проект похода на Индию, собственно, старше не только Берлинского конгресса, но даже войны России с Турцией: он связан с именем генерала Скобелева, и письмо последнего из Кокана, где он был военным губернатором, излагающее этот проект, датировано январем 1877 года; но это — хронология чисто литературная, так сказать; в уме автора письма война с Турцией и участие, прямое или косвенное, в этой войне Англии — дело решенное, и он пишет так, как если бы оба факта уже были налицо. «Как бы счастливо ни велась кампания в Европе и азиатской Турции, на этих театрах войны трудно искать решения Восточного вопроса, — говорит Скобелев, ссылаясь на авторитеты Мольтке и Паскевича. — Не лучше ли воспользоваться нашим новым могущественным стратегическим положением в Средней Азии, нашим сравнительно гораздо лучшим против прежнего знакомством с путями и со средствами, в обширном смысле этого слова, в Азии, чтобы нанесть действительному нашему врагу смертельный удар, в том случае (сомнительном), если ясные признаки того, что мы решились действовать по самому чувствительному для англичан операционному направлению, не будут достаточны для того, чтобы побудить их к полной уступчивости»
[218]. По мнению будущего победителя турок под Шипкой и Адрианополем, Россия смело могла бы ограничиться на Дунае и в азиатской Турции
оборонительной кампанией: но зато выдвинуть 30-тысячный корпус к Астрабаду, который оттуда двинулся бы через Герат к Кабулу, — в то время как 18-тысячный отряд, выделенный из войск Туркестанского военного округа, двинулся бы в том же направлении от Самарканда, через Гиндукуш. Этот горный поход настолько практически занимал Скобелева, что он предпринял в этом направлении ряд опытов, убедивших его в возможности перейти Гиндукуш с артиллерией даже в феврале, когда горные проходы завалены снегом. Раулинсон, как видим, географически и стратегически не фантазировал, когда говорил о возможности появления русских штыков в Пенджабе, раз уже они стояли на Амударье. То, что ему грезилось до 1877 года, было
политически неосуществимо, т. е. не входило в политические расчеты русского правительства. Этих политических расчетов сначала не изменила и записка Скобелева. Вопреки его советам, активную кампанию вели по старым путям, через Дунай и Балканы в Европе, на Карс и Эрзурум в Азии. Но когда выяснилось, что
здесь борьба с Англией ни к чему привести не может, план бывшего кокандского губернатора вновь всплыл наверх. Хотя опубликовавшие письмо Скобелева и рассматривают его как чисто литературный документ, интересный для личности автора, но не имевший влияния на события эпохи, бросается в глаза, что две существенные черты письма нашли себе конкретную реализацию в 1878-м и следующих годах. «Когда последует объявление войны с Англией, то в Туркестане следовало бы начать с того, что послать немедленно
посольство в Кабул, — пишет Скобелев. — Цель посольства: втянуть в союз с нами Шир-Али (афганского эмира) и войти в связь с недовольными в Индии». «Период дипломатических переговоров с Афганистаном» является в его проекте неизбежным прологом всей кампании. А затем — со слов одного английского автора — Скобелев очень тешится мыслью о
железной дороге, связывающей Среднюю Азию с европейской Россией. И вот, летом 1878 года мы находим в Кабуле русское посольство Столетова (отозванное в результате заключения Берлинского трактата), а два года спустя, по следам наступающего по линии Герата отряда Скобелева, начинает строиться Закаспийская железная дорога. Трудно видеть во всем этом только случайные совпадения.
Теперь становится понятно и то, почему Скобелев, занявший после войны 1877–1878 годов одно из самых почетных мест в русской армии, не погнушался два года спустя таким скромным постом, как начальник над небольшим отрядом (и Скобелев находил еще, что отряд слишком велик!), посланным расправляться с текинскими «разбойниками», грабившими, впрочем, не Россию, а Персию. Это была «усиленная рекогносцировка» будущего главнокомандующего перед самой блестящей кампанией, которая могла только пригрезиться русскому военному. Что мысль об Индии не оставляла его и
после текинского похода, свидетельствуется его письмом к Каткову, написанным в августе 1881 года. «Без серьезной демонстрации к Индии, по всей вероятности, к стороне Кандагара, немыслимо себе представить войны за Балканский полуостров», читаем мы здесь. Но за этими строками, напоминающими письмо 1877 года, следует совершенно неожиданное заключение:
«Всю Среднюю Азию можно было бы отдать за серьезный и прибыльный союз с Англией». И хотя дальше опять развивается любимая мысль о походе через Герат на Индию, но она переплетается с другою, совершенно новою: пожеланием, чтобы Россия не стала «Липпе-Детмольдом или княжеством Монако, или Швейцарией», но была «Россией настолько грозной, чтобы не отдать немцам на поругание колыбель своей веры, всю славу исторического прошлого, миллионы кровных, братских сердец»! В последние два года жизни Скобелева мечты о войне с Германией — и, по его всегдашнему обычаю, практическая тренировка солдат в этом направлении — совершенно вытесняют прежние англо-индийские планы. Он пишет и говорит о немцах, и только о них. Англо-русский конфликт дал еще одну яркую вспышку — в начале 1885 года. Но это был последний рикошет по инерции катящегося ядра, на самом деле давно утратившего силу. «Враг» был теперь не в Лондоне, а в Берлине, — в Лондоне же был возможный союзник.
Так, уже в 80-х годах наметился кризис, разрешение которого суждено было увидеть следующему поколению. Обстоятельства, осложнившие конфликт позднее, выходят за хронологические рамки этой части «Русской истории». Но основной
смысл конфликта,
соперничество русского и прусского помещика в борьбе на хлебном рынке, было только подчеркнуто лишний раз самым последним из эпизодов, предшествовавших русско-германской войне: введением в России пошлин на германскую рожь. Как ни мелок кажется этот факт, но именно он должен был окончательно убедить более чуткую часть публики, что роковая развязка близится. Русско-французский союз был неизбежным
политическим выводом из этой экономической схемы: как в 60-х годах быть с Пруссией — значило быть против Франции, так в 80-х быть против Германии — значило быть с Францией.

Глава XVIII
Конец XIX века

80—90-е годы
Господство народнической точки зрения ♦ Аграрный кризис середины 90-х годов ♦ Приток в Россию иностранного капитала ♦ Группа «Освобождение труда» ♦ Положение рабочего класса ♦ Первые рабочие социалистические организации ♦ Реставрированное крепостное право воскресило крепостные бунты ♦ Ухудшение экономического положения студенчества ♦ Консервативность буржуазной оппозиции
Реакция 80-х годов, казалось, отнимала у России всякую надежду стать когда-нибудь «буржуазной» страной. К концу этого периода народническая точка зрения безусловно господствовала в нашей экономической и исторической литературе. То впечатление катастрофы, которое получилось от первых выступлений «легального марксизма» середины 90-х годов, главным образом объясняется полным отвыканием русской публики от иных, ненароднических, точек зрения: а между тем, как близок был к «экономическому материализму» еще Лавров, не говоря уже о Чернышевском! А с экономическим из русской литературы исчез и всяческий вообще материализм. Около 1890 года Владимир Соловьев становится самым популярным философом среди молодежи: к нему ходят толпами спрашивать «как жить?» — и остаются очень недовольны, когда скромный автор «Оправдания добра» уклоняется от навязываемой ему роли светского пророка и внецерковного исповедника. Можно ли было тогда представить себе, что всего через десять лет в устах такой же молодежи, младших братьев и сестер тех, кто ходил исповедоваться к Соловьеву, слово «идеалист» будет равносильно самому грубому философскому ругательству?
Начало поворота современники, почти единогласно, связывают с неурожаем 1891 года. «Неурожайный 1891 год перед всеми обнаружил то, что раньше замечали только профессиональные ученые, статистики и экономисты: он показал, что крестьянство разорено, что блестящий государственный бюджет покоится на зыбкой почве. Неурожай вызвал голодовку в 20 губерниях. Правительственная ссуда на продовольствие и обсеменение достигла 150 млн рублей… Массовые известия о широко разлившемся голоде несколько всколыхнули спавшую интеллигенцию… Добросердечная учащаяся молодежь, еще чуждая определенных политических взглядов, откликнулась на призыв о помощи голодающим. Начался сбор денег, подготовка к отъезду в деревню. В 1892 году многие вернулись из деревни с определившимся революционным настроением»
[219]. Сам же автор статьи, откуда мы цитируем этот отрывок, рассказывает перед этим о ряде проявлений рабочего движения
раньше 1891 года. Первые, и очень большие, студенческие беспорядки имели место в 1887 году: созданное ими среди учащейся молодежи настроение было если и не очень определенным, то революционным, во всяком случае. Те формы, в которые постепенно отлилось движение — «легальный марксизм», с одной стороны, нелегальные «союзы борьбы за освобождение рабочего класса», с другой, — никакой, ни внутренней, ни внешней связи с крестьянской бедой 1891 года не имели. Наконец, неверно и утверждение автора, будто крестьянского разорения до этого года никто, кроме «профессиональных ученых», не замечал: мы видели, что, напротив, вся революционная программа 70-х годов была построена на предполагавшемся разорении деревни и отчаянии крестьянства, как последствии этого разорения. И тем не менее автор выражает мнение подавляющего большинства своих современников, русских интеллигентов, переживших сознательно 1891 год. Это была своего рода массовая галлюцинация, лишний раз подтвердившая безраздельное господство народнической идеологии в предшествующие непосредственно годы. Так привыкли представлять себе, что всякое революционное движение
должно идти из деревни, что не могли отрешиться от этой исходной точки, даже став самыми ортодоксальными марксистами в Европе. На самом деле, именно в деревне в 90-х годах не происходило ничего нового. Аграрный кризис, достигший своего апогея в 1894–1896 годах (в эти годы цена ржи на берлинском рынке упала до 117–118 марок за тонну против 140 марок 1885 года), продолжал «крепостить» русскую деревню — делая крепостником помещика и полукрепостным полуосвобожденного в 1861 году крестьянина. Только с 1897 года хлебные цены начинают отвердевать — и только после 1906 года начинается новый их подъем: учитывая буржуазные настроения нашего среднего землевладения перед 1905 годом, быстрое разложение общины под влиянием указа от 9 ноября следующего, 1906 года, не надо упускать из виду этого факта. Но когда сказались его последствия, «общественное движение» уже было налицо: его создало, очевидно, что-то другое. Что было нового в 90-х годах, сравнительно с предшествующим десятилетием, лучше длинных рассуждений покажут несколько цифр. В 1888 году русскими мануфактурами было переработано 8 362 000 пудов хлопка; в 1898 году — 16 803 000 пудов; в первом году русскими заводами было выплавлено 40 716 000 пудов чугуна: в 1898 выплавка дошла до 135 636 000 пудов, в 1900 году последняя цифра поднялась до 1777
2 миллиона. «В то время, как Франция» увеличила свою выплавку чугуна за 1890–1900 годы на 58 %, Великобритания на 13 %, С. Штаты на 76 %, Германия на 61 %, в России она возросла на 220 %»
[220].
В начале 80-х годов народникам даже Маркса удалось убедить в незыблемости «устоев» русской экономики и в том, что «общинное землевладение в России может послужить исходным пунктом коммунистического движения». Представлять себе какое бы то ни было будущее для России вне аграрных отношений казалось прямой бессмыслицей. Пятнадцать лет спустя даже и немарксисты стали говорить о «предрассудке — считать Россию земледельческой страной». Мы теперь одинаково далеки от обоих этих конечных пунктов размаха нашего исторического маятника. Русская община для нас — не зачаток коммунистического строя, а только пережиток «первобытного землевладения» (Маркс и Энгельс были бы ближе к истине, употребив термин «феодального»), но и Россия в наших глазах все же — страна прежде всего земледельческая, и без решения аграрного вопроса мы не можем себе представить развязки назревшего к первым годам XX века кризиса. Но именно с точки зрения современного понимания промышленный взлет земледельческой страны, именуемой Россией, в 1890-х годах, не может быть принят так просто, как принимали его современники (т. е. мы же сами в начале XX века). Отношение промышленности к земледелию вульгарно представляется так: процветание земледелия создает
рынок для обрабатывающей промышленности; оттого первое — необходимое условие для развития последней, если не рассчитывать на заграничные рынки, представляющиеся вульгарному взгляду как нечто экономически противоестественное, — хотя никогда и нигде в мире не было капитализма без внешних рынков. Но и эти внешние, противоестественные, как и «естественный» внутренний рынок, капитализм создает себе сам, ничьего процветания для этого ему не нужно, — наоборот, пролетаризация крестьянства, например, очень выгодна. Но для чего, казалось бы, действительно необходимо было процветание земледелия — это для самой возможности быстрого развития капитализма в земледельческой стране. Рынок является следствием по отношению к капиталистическому хозяйству, но
капитал является его причиной. Без накопления капитала все дальнейшее, если брать процесс изнутри, оказывается загадкой. Но
накопление туземного капитала в России прямо пропорционально хлебным ценам. Достаточно присмотреться к следующей табличке:
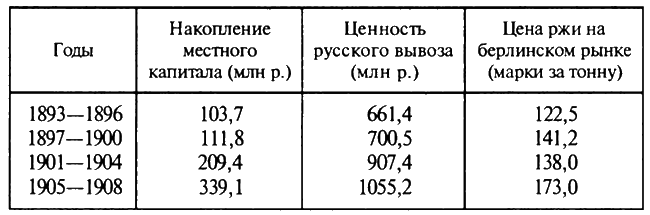
Характерное исключение — 1901–1904 годы — только подтверждает правило: на эти годы, как увидим ниже, падает промышленный кризис. К началу этого периода были реализованы результаты предшествующего промышленного подъема 90-х годов, но капитал не шел в дело, выжидая в банках новой благоприятной конъюнктуры. Зато промышленный кризис не в силах был остановить дальнейшее накопление: несмотря ни на войну, ни на революцию, великий чародей новейшей русской истории — хлебные цены — делал свое: поднимались они — раздувалась и мошна русского капитализма
[221]. Но как раз в начале рассматриваемого периода, в 80-х годах, чародей отсутствовал. Хлебные цены слабели, дойдя к началу 90-х годов до своего минимума за все XIX столетие. Накопление туземного капитала должно было идти очень туго, и все время, с середины 70-х годов до середины 80-х, мы видим кризис, денежный и промышленный, прервавшийся только на два-три года, непосредственно после русско-турецкой войны, когда российскому капитализму было впрыснуто возбуждающее в виде подрядов и поставок, связанных с войною, и обусловленных ею же выпусков новых кредитных билетов не на одну сотню млн руб. Но очень скоро возбуждающее перестало действовать, — и российское предпринимательство вновь сникло, как покажет читателю пара выразительных цифр. В 1880–1884 годах капитал вновь возникших в России акционерных компаний составлял 231 млн руб., тогда как сумма капиталов акционерных предприятий, основанных в следующие четыре года, 1885–1889 годы, равнялась только 175 млн руб. И вдруг в последние годы этого четырехлетия произошло нечто чудесное: сухая история народного хозяйства явно начинает принимать романтический оттенок. «До 1887 года на юге
России работало только два железоделательных завода — Юза и Пастухова. С этого года заводы начинают расти, как грибы. За короткое время возник целый ряд чудовищных чугуноплавильных заводов — Александровский, Каменский, Гданцевский, Дружковский, Петровский, Мариупольский, Донецко-Юрьевский, Таганрогский и пр. Количество рабочих на чугуноплавильном заводе Юза — около 10 тысяч человек, на прочих — немногим меньше. В 1899 году на юге было 17 больших чугуноплавильных заводов с 29 действующими доменными печами и 12 вновь строящимися»
[222]. Чудесный характер явления исчезает, как только мы вспоминаем, что 1887–1889 годы отмечены в русской финансовой истории знаменитыми
конверсиями Вышнеградского — фактически сводившимися к переводу русских долговых обязательств за границу: благодаря понижению процентов, платившихся по русским государственным займам, русские бумаги стали невыгодны для русских держателей, привыкших к проценту более высокому. По расчету одного новейшего исследователя, такой перевод долгов на заграницу освободил не менее
полутора миллиарда рублей, которые и были затрачены, преимущественно, в промышленность: только в одно четырехлетие — 1897–1900 годы — поступило из этого источника в русские промышленные предприятия 915,6 млн руб. — более 43 %, всего капитала, вложенного за этот период времени в русскую промышленность
[223]. Производительность этой последней, оценивавшаяся в 1887 году в
один миллиард триста миллионов, в 1900 году оценивалась
к три миллиарда двести миллионов рублей золотом. Пусть эти цифры преувеличены — в обоих случаях преувеличение было одинаково, и сравнение все же получается достаточно рельефное. Но само собою разумеется, что иностранцы не по доброте душевной оказали нам эту услугу:
капитал никогда еще не был так дешев на Западе, как в 90-х годах XIX столетия. В 1895–1897 годах учетный процент в Париже и Лондоне был не выше 2–2 1/2, в Берлине — 3 с небольшим, а французская трехпроцентная рента стояла выше пари. При таких условиях русские бумаги 4 %-ные номинально, а на деле 4 1/2 %-ные, были явно выгодным помещением капитала. Но еще более выгодно было, очевидно, для иностранцев помещать деньги в русские промышленные предприятия. Столь близкое к бирже министерство Вышнеградского предвидело и эту комбинацию, сделав со своей стороны все, чтобы ее облегчить. Таможенным тарифом 1891 года пошлины на чугун были подняты с 7 к. до 45–52 к. за пуд, на листовое железо — с 74 к. до 7 р. 20 к., косы и серпы — с 65 к. до 2 р. 8 к., бумажную пряжу — с 4 р. 81 к. до 7 р. 20 к. и т. д.
[224]. Барыши русских предприятий повысились в соответствующей прогрессии, и западноевропейские капиталы обильно потекли в русскую промышленность: за то же четырехлетие 1897–1900 годов из этого источника перешло 762,4 млн р. — 35,9 % всей затраченной суммы. Рядом с этим роль туземного накопления, давшего 447,2 млн р. — 21,1 %, представляется очень скромной.
Завоевание России иностранным капиталом имело громадные экономические последствия. Только этим фактом объясняется, например, колоссальный взлет железнодорожного строительства в России в конце XIX века. «Как казна, так и частные общества строили дороги с лихорадочной быстротой. Министерство финансов было буквально завалено проектами новых железнодорожных линий. В продолжение 7 лет (написано в 1900 году) наша железнодорожная сеть выросла более чем на половину. Ни в одной европейской стране, в период самого оживленного железнодорожного строительства, постройка дорог не шла так энергично. Так, за последнее пятилетие средняя длина ежегодно открываемых железных дорог в России составляла 2812 верст, а в Германии, в период железнодорожной горячки 1870–1880 годов, открывалось в среднем 1496 км, во Франции за то же время — 873 км, в Англии за 1840–1850 годы — 931 км и т. д. Еще недавно наша железнодорожная сеть уступала по протяжению французской и английской, не говоря уже об американской и немецкой. Теперь же наша сеть уступает только американской»
[225]. Железнодорожная горячка 90-х годов была гораздо интенсивнее той, которую переживала Россия в 60—70-х: тогда рекордным годом был 1870 год, в течение которого было открыто 2960 верст новых линий, а в 1899 году, например, было открыто 4692 версты. Но современники видели, главным образом, не это. Экономический подъем ценился не сам по себе — тут народническая традиция была слишком крепка и живуча: что возить по железным дорогам мужику, когда ему есть нечего? Но с точки зрения общественной теории, явившейся в России прямой реакцией на неудачу народнической революции 70-х годов, новые экономические факты сулили совершенно новые и необыкновенно привлекательные политические перспективы. «Русское революционное движение, торжество которого послужило бы прежде всего на пользу крестьянства, почти не встречает в нем ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания», — констатировала в 1885 году группа «Освобождения труда» — по своему личному составу почти прямая наследница «Черного передела», т. е. той группы революционеров-народников, которая заранее отказалась от террора и от сближения с либералами. «Главнейшая опора абсолютизма заключается именно в политическом безразличии и умственной отсталости крестьянства. Необходимым следствием этого является бессилие и рабство тех образованных слоев высших классов, материальным и действенным интересам которых противоречит современная политическая система. Возвышая голос во имя народа, они с удивлением видят, что он равнодушен к их призывам. Отсюда неустойчивость политических воззрений, а временами уныние и полное разочарование нашей интеллигенции». Итак, мужик был виновен даже в трусости российской буржуазии («образованные слои высших классов»): такого полного и совершенного мужикофобства мы не встретим и в позднейшей марксистской литературе, — с этой точки зрения, «проект программы» «Освобождения труда» навсегда остался наиболее решительным и последовательным памятником русского марксизма. Но глубочайшими пессимистами выйдя из русской революции через одну дверь, первые русские марксисты неменьшими оптимистами возвращаются в нее через другую. «Такое положение дел было бы вполне безнадежно, если бы указанное движение русских экономических отношений (выше мы читаем «старая система натурального хозяйства уступает место товарному производству и тем самым открывает огромный внутренний рынок для крупной промышленности») не создавало новых шансов успеха для защитников интересов трудящегося класса. Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитой, класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население. Между тем, как идеал общинника лежит назади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития». Группа «Освобождения труда» не говорила, станет ли от выступления рабочего буржуазия более революционной: в этом пункте параллель между «отсталым крестьянством» и «подвижным, восприимчивым промышленным пролетариатом» оказывалась недоделанной. Но о чем мудро умалчивали основоположники русского марксизма, то не возбуждало никаких сомнений среди их ближайших учеников. Мы не будем загромождать наш очерк выписками из писаний легальных марксистов 90-х годов (развивавших применительно к условиям русской цензуры те самые идеи, которые десятью годами раньше были формулированы группою «Освобождения труда»): для таких выписок у нас не хватило бы и места, — а иллюстрировали бы они факт, в сущности, общепризнанный. Мы возьмем резюме, принадлежащее очень известному марксистскому же автору. «Литературные представители новой марксистской группы (во главе с П. Струве) в своих первых произведениях выступают прежде всего как
защитники русского капитализма от народнических обличений и как
обличители некапиталистических экономических отношений, идеализируемых народничеством. Они доказывают прогрессивность капиталистического развития и убожество, неспособность к развитию и невыгодность для самих трудящихся отсталых форм производства… Защита капитализма, подкрепляемая аргументами, взятыми у Шульце-Геверница или Брентано, превращалась в почти абсолютную его идеализацию, внутренняя противоречивость защищаемого от народнических обличений капиталистического строя затушевывалась, и антагонисты народничества вплотную подходили к той границе, за которой временное совпадение некоторых интересов капитала и труда (в лице пролетариата капиталистической промышленности) начинало приобретать вид прочной и длительной их гармонии»
[226]. Автор усваивает эту аберрацию, главным образом, той части русских марксистов, которые довольно скоро совсем перешли на позицию Шульце-Геверница или Брентано, но объективность историка заставляет его признать, что к нашему «буржуазному марксизму» «снисходительно относились» и сами бывшие члены группы «Освобождения труда». Г. В. Плеханов «поправляет П. Струве с его призывом «идти на выучку к капитализму», но оправдывает эту заключительную тираду «Критических заметок», как естественное «благородное увлечение западника», аналогичное тем, которые совершал Белинский». Провести разграничительную черту между «апологетическим отношением к русскому
капитализму, освобождающему страну от крепостничества», и «апологетизмом по отношению к
буржуазии» удалось с достаточной отчетливостью, по мнению нашего автора, только Тулину (Н. Ленину): но, прибавим мы от себя, и Тулин не предвидел того, что дала русская действительность, — что при известной конъюнктуре, на рынке в особенности, крупная промышленная буржуазия может стать вернейшей опорой политической реакции — не менее надежной, чем крупное землевладение. Оптимистическое настроение группы «Освобождения труда» действовало сильнее, чем ее логика: на палитре всех теоретиков российского капитализма 90-х годов были одни розовые краски, когда дело заходило о
политическом будущем. Буржуазия казалась классом, самою природою предназначенным для того, чтобы быть либеральным: заранее предполагалось, что она в известный момент «изменит», и что к ее слишком купеческому либерализму придется вносить поправки в демократическом духе; к этому и должна была готовиться рабочая партия: но к тому, что в самый критический момент буржуазия громко и внятно выразит свое сочувствие военно-полевым судам — к этому решительно никто не готовился. В недолгой тогда еще истории германской социал-демократии таких эпизодов не было, — а далеко за пределы этой истории тогдашний кругозор не шел. Казалось бы, имелся довольно свежий пример — Парижская коммуна 1871 года, но по-французски читали мало, французской историей интересовались еще меньше. А главное, свойственная русскому интеллигенту международная скромность мешала делать какие бы то ни было сопоставления ближайшего
политического будущего России
с ближайшим же политическим прошлым западноевропейских стран. Когда рисовали себе русскую революцию, образцом был 1789-й, самое новое — 1848 год: что в первом из них на всю Францию была
одна паровая машина, а во втором на всю Германию две тысячи верст железной дороги, что в революционной Франции крупный промышленный капитализм почти не существовал и в зародыше, а в революционной Германии было не много больше зародыша, — на это как-то не обращали внимания, хотя бы, казалось, для «экономических материалистов» анализ экономической действительности должен был стоять в центре всего прогноза. Быть может, эта скромность по отношению к «буржуазной революции» была искуплением переходившей всякие границы самоуверенности старых народников в вопросе о социализме: как бы то ни было, предвидели и меньше, и больше того, что случилось; остроту классовых противоречий в России 1900 года считали меньшей, нежели она была на самом деле, а потребность буржуазии в политической свободе далеко большей, чем действительная. И тут уже не хватало наблюдательности прямо в кругу русских отношений: достаточно было присмотреться к тому,
кто делает русскую экономическую политику, чтобы понять, что в «парламентском образе правления» русские фабриканты и заводчики нуждаются не так уже жгуче — особенно, когда парламент приходилось покупать ценою 8-часового рабочего дня, приличного фабричного законодательства и прочих неприятностей. При полной, официально, бесправности «общества» в делах его касающихся — причем самое упоминание публично о возможности каких-либо прав каралось как преступление — фактически ни один закон, задевавший интересы русских предпринимателей, шло ли дело о таможенном или о фабричном законодательстве, не проходил без их согласия, не говоря уже о том, что им же нередко принадлежала и инициатива. Так, пошлины на каменный уголь (с 2 копеек за пуд золотом в 1884 году до 4-х в 1892-м) были прямым ответом на ходатайства съездов южных горнопромышленников, — самостоятельность правительства выразилась только в том, что оно позволяло себе «торговаться»: копевладельцы просили 3 1/2 копейки — им давали 3; просили 6 — получали 4. Но когда речь заходила о металлургии, даже и торг становился весьма робким: пошлина в 15 копеек золотом с пуда чугуна аккуратно отвечала заявлениям 5-го — 8-го съездов, причем последний заявил свое «прошение» в 1883 году — а уже в 1884-м оно было полностью удовлетворено. Немедленно же следующий съезд пожелал получить 25 копеек: помявшись года три, Министерство финансов уступило и в этом пункте — в 1887 году горнопромышленники получили свой четвертак. Представитель министерства строго держался пределов истины, когда он заявлял на торгово-промышленном съезде 1896 года (том самом съезде, по поводу которого газета «Волгарь» писала, что купечество в России «все может»): «Министерство финансов признало нужным ознакомиться со взглядами представителей торгово-промышленного класса по вопросам, наиболее их интересующим.
Так поступало оно и прежде. Свыше сорокалетняя деятельность моя по Министерству финансов дает мне право и основание засвидетельствовать, что министерство всегда чутко прислушивалось к голосу промышленников и купечества». А когда речь заходила о сюжетах, не особенно приятных сердцу предпринимателя, вроде рабочего законодательства, в голосе представителей правительства слышались иной раз прямо-рыдающие ноты. В комиссии, вырабатывавшей в 1897 году проект закона о нормировании рабочего дня, председатель ее, В. Ковалевский, держал такую речь: «Я должен обратить внимание господ присутствующих здесь на то почти невозможное положение, в которое ставят нас, представителей Министерства финансов, некоторые из находящихся здесь промышленников. Они направляют свои возражения не только против существа проекта, но и против самого способа его выработки… Мы пригласили в совещание 20 декабря минувшего года больше 30 представителей промышленности; нам говорили, что этого мало. Теперь мы вызвали около 200 человек и снова слышим, что этого также недостаточно»
[227].
Итак, политически отсутствие оппозиционного настроения среди русских капиталистов совершенно понятно: в этой, политической, области купец имел полное основание находить, что стражники и жандармы гораздо лучше оградят его «материальные и умственные интересы», нежели это мог бы сделать парламент. «Выборные учреждения для России вообще новы, — говорил в 1882 году Крестовников, — и вряд ли могут считаться хорошо привившимися, а потому полагаю, что польза от сих учреждений
сомнительна по отношению к интересам промышленности и торговли…»
Если мы сопоставим эту позицию русских
капиталистов 80—90-х годов с тем, что выше говорилось о происхождении русского промышленного
капитала, экономический базис «благонамеренности» «Крестовниковых и К
0» будет для нас совершенно ясен. Если бы русский предприниматель зависел исключительно или хотя бы главным образом от туземного накопления, он не мог бы оставаться равнодушным к режиму, который ставил всяческие препятствия на пути развития производительных сил России. Усилившееся значение туземного капитала в первое десятилетие XX века не осталось без влияния на — весьма, конечно, относительное — «полевение» крупной буржуазии после 1910 года. В предыдущие десятилетия всего приходилось ожидать не от роста национального богатства, — при данной конъюнктуре на хлебном рынке этот рост мог быть лишь очень медленным, — а от заграничного кредита. Но посредником в сношениях с заграницей было правительство — и чем прочнее было оно, тем надежнее был кредит: играть в оппозицию при таких условиях значило подрубать тот сук, на котором сам сидишь, — и российское купечество было слишком умно для этого. С другой стороны, тот же заграничный кредит делал это правительство не зависимым от туземной буржуазии более, нежели в какой бы то ни было другой стране: отношение правительства и туземных капиталистов было в России диаметрально противоположным тому, какое установилось, например, с XVII века в Англии. Там буржуазия держала в руках кошелек правительства, у нас последнее держало в руках кошелек буржуазии. Не нужно забывать и того, что в классовом смысле правительство это было чужое — дворянское. Протекционизм был нужен для фабрикантов, — для помещиков, напротив, он был убыточен, заставляя их втридорога покупать необходимые им фабрикаты, начиная с сельскохозяйственных машин. По существу дела, отказаться от протекционизма русское дворянство не могло все из-за того же заграничного кредита: но этот кредит был нужен опять-таки для поддержания
существующего порядка. Русские либералы искони были фритредерами, — отступление от этой вековой традиции наблюдается только в XX столетии. Переход власти в руки либеральной оппозиции ничего доброго не сулил купечеству, и недаром сама эта оппозиция так твердо держалась народнических, т. е. антикапиталистических теорий. Словом, с какого бы конца мы ни подошли к вопросу, политическая позиция русской буржуазии конца XIX века всегда будет представляться нам диаметрально противоположной классическим образцам в западной истории. Революционный, как и на Западе, в области народного хозяйства, крупный капитал был у нас политически консервативной силой: чудо, которое осталось бы необъяснимым, если бы Российская империя конца XIX века представляла собою нечто столь же архаическое, как французская монархия старого порядка, например. На самом деле в городе и в кругу отношений городского типа — на фабрике, в амбаре, на железной дороге и пароходной пристани — у нас и после реакции 80-х годов продолжали господствовать те минимально-буржуазные порядки, которые были закреплены реформами 60-х годов. От этих порядков почти ничего не осталось в деревне, в кругу отношений сельского типа между помещиком и крестьянином: это делало город европейским островом среди азиатского океана. Но на фоне промышленного подъема островитянам жилось недурно, и они старались не думать, что когда-нибудь азиатские, крепостнические волны могут снести их наскоро сколоченную европейскую постройку. Напротив: наиболее оптимистически настроенным казалось, что море сохнет, и они с радостью спешили возвестить это всей «городской» Руси. За это легкомыслие пришлось заплатить довольно дорого: волны морские, правда, начали опускаться, но лишь после такого — будем надеяться, финального — прилива, который поставил перед несчастными островитянами давно забытый ими вопрос — в Европе они или в Азии? Захват города крепостным режимом, как и то «дерзновение» города, которое дало повод к этому захвату — вне хронологических рамок нашего изложения. Но и то, и другое необходимо все время не выпускать из виду, если мы хотим понять относительные позиции русских общественных классов в период, предшествовавший 1905 году.
Лет за десять до этой знаменательной даты взаимная ситуация классов была такова: в деревне развитие буржуазных отношений не только приостановилось, но очень заметно пошло назад, к status-quo ante 1861 года; в городе крупная капиталистическая буржуазия, именно благодаря сверхъестественно быстрому развитию русского капитализма за счет чужих сбережений, оказывалась прикрепощенной к помещику — и вынужденной его поддерживать вопреки своей собственной, буржуазной, сущности; благодаря тому же катастрофическому развитию капитализма, мелкая — ремесленная — буржуазия исчезала, не успев даже образоваться как следует: вернейший оплот демократической революции на докапиталистическом Западе у нас отсутствовал; в деревне, правда, возрождение дореформенных отношений воскрешало и дореформенные, «пугачевские», настроения среди крестьянства; но от пугачевщины до демократической революции была дистанция гораздо большего размера, чем казалось народникам 70-х годов; практически революции в России не на что было опереться, кроме рабочего
класса: он и оказался единственным действительно революционным классом на всем протяжении новейшей русской истории; но его революционность была своеобразного типа, — игнорирование этого своеобразия привело к ряду ошибок, если и не определивших собою победы «деревенских» отношений над «городскими» в 1905–1907 годах (эта победа заранее определялась фактическим соотношением сил), то все же сделавших эту победу более легкой, нежели она могла бы быть при большей сознательности руководящих элементов движения.
Положение рабочего класса в России 70—80-х годов определялось, главным образом, двумя условиями: во-первых, почти непрерывной промышленной
депрессией, дошедшей к началу 80-х годов до размеров настоящего
кризиса, во-вторых, тем способом, каким было произведено «освобождение» крестьян в 1861 году. Мы помним, что «освобожденного» крестьянина поостереглись сделать пролетарием, — его пролетаризация, напротив, была даже искусственно затруднена. Крестьянин был сделан «принудительным владельцем» небольшого клочка земли, недостаточного, чтобы с него существовать не приарендовывая барской земли или не прирабатывая в барской экономии, но юридически привязывавшего крестьянина к деревне. На первых порах это «освобождение с землею» как будто вредно отразилось на интересах русского фабриканта: ему стало чуть ли не труднее находить рабочих, нежели до 19 февраля, когда этих рабочих можно было нанимать прямо от барина. За пятилетие 1863–1867 годов количество рабочих (на фабриках и заводах, не обложенных акцизом) увеличилось крайне незначительно: с 358 тысяч до 407 тысяч
[228]. Но нет худа без добра: привязанный к земле рабочий обходился зато хозяину гораздо дешевле, нежели его пролетаризованный собрат за границей.
Денежная заработная плата рабочего Московской губернии в 80-х годах прошлого столетия была
вчетверо ниже, чем в Англии, и
впятеро ниже, чем в Соединенных Штатах. Уже с первого взгляда видно, что
реальная плата никоим образом не могла быть равна у нас и в Англии или Америке: ибо цены на продукты у нас и в этих странах не могли различаться так сильно. Детальные вычисления автора, у которого мы заимствуем эти данные, показывают, что если «первый взгляд» грешит чем-нибудь, то разве излишним оптимизмом по отношению к русским ценам и пессимизмом по отношению к ценам английским и американским. В общем, последние выше первых были тогда не вчетверо или впятеро, а самое большее
в полтора раза, причем по главной статье питания, хлебу, английские и американские цены были выгоднее русских (не забудем, что мы в разгаре аграрного кризиса). Цитируемый нами автор считает себя вправе заключить, что
реальная заработная плата в Московской губернии была в 1884 году
втрое ниже, чем в Массачусетсе
[229]. Как бы низко ни ставили мы потребности московского рабочего той поры сравнительно с американским, такую колоссальную разницу мы можем объяснить только специфическими особенностями русского рабочего рынка. В то время, как американский или английский рабочий
всецело существовал на свой фабричный заработок, его русский собрат покрывал им только
часть своих расходов: другую часть он — или его семья — находили в своем принудительном деревенском хозяйстве, опять-таки не достаточном, чтобы жить только им одним, но вместе с фабрикой кое-как заполнявшим бюджет. Детальное обследование положения рабочих на московской фабрике Цинделя в 1898 году показало, что почти для 3/4 всех эксплуатируемых им «пролетариев» фабрикант имеет это «подспорье»: 11,9 % цинделевских рабочих сами уходили ежегодно на полевые работы, и 61,4 % вели сельское хозяйство при помощи своих семей. А если прибавить к этому 12,3 %, сдавших свои наделы в аренду, т. е. тоже кое-что получавших из деревни, — то фабрикант оказывался «разгруженным» от необходимости платить своим рабочим полным рублем почти на 9/10 всего своего персонала
[230]. Промышленный кризис 80-х годов толкал в том же направлении еще дальше:
заработная плата русского рабочего не только была ниже заграничной, но ниже даже той, какую получали русские рабочие в предшествующую эпоху. Тот же автор составил сравнительную таблицу средней месячной платы рабочим в Шуйском уезде во второй половине 50-х годов и в 1883 году. За исключением квалифицированных рабочих, главным образом кузнецов и столяров, плата которых повысилась в 2 1/2 раза, остальные получали в среднем лишь на 50 % больше прежнего, а некоторые разряды — механические ткачи, например, всего на 4 %. Между тем цена хлеба в Шуйском уезде повысилась за то же время на 95 %. Отсюда автор сделал заключение, что «реальная заработная плата рабочих на хлопчатобумажных фабриках Шуйского уезда понизилась, в общем, не менее чем на 20–30 %». Немудрено, если, по отзыву одного местного автора-фабриканта, во Владимирской губернии в это время замечалась обратная тяга — с фабрики в деревню: «начинается опять поворот к земледелию». То же было и в Московской губернии. Но если рабочему центрального района сравнительно легко было произвести такой «поворот», — его деревня, откуда он пришел на фабрику, была тут же, рядом, — то гораздо труднее было превратиться снова в крестьянина рабочему Петербурга или юга России, за тысячи верст ушедшему от родного угла и часто сохранившему лишь номинальную связь с родиной. Особенно трудно было проделать эту операцию «заводскому» рабочему — с машиностроительного, литейного и тому подобных заводов. Уже в Московской губернии лишь ничтожный процент машиностроительных рабочих (по вычислениям д-ра Дементьева, 2,7 %) уходил на лето на полевые работы. В Петербурге дело шло, конечно, еще дальше. Вот как описывает эту среду, по личным воспоминаниям, Г. В. Плеханов, работавший среди петербургских «заводских мастеровых» в качестве пропагандиста в середине 70-х годов: «Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут нисколько не хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем каждый из них зарабатывал от 1 р. 25 к. до 2 р. в день. Разумеется, и на этот сравнительно хороший заработок нелегко было существовать семейным людям. Но холостые, — а они составляли между знакомыми мне рабочими большинство — могли расходовать вдвое больше небогатого студента… Все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а главное, опрятнее, чище нашего брата студента»… «Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя и критически отнестись к окружающему, они были
горожанами в лучшем смысле этого слова. Многие из нас держались тогда того мнения, что «спропагандированные» городские рабочие должны идти в деревню, чтобы действовать там в духе той или иной революционной программы. Мнение это разделялось и некоторыми рабочими… Господствовавшие в среде революционной интеллигенции народнические идеи, естественно, налагали свою печать также и на
взгляды рабочих. Но
привычек их они переделать не могли, и потому настоящие городские рабочие, т. е. рабочие, совершенно свыкшиеся с условиями городской жизни, в большинстве случаев оказывались совершенно не пригодными для деревни. Сойтись с крестьянами им было еще труднее, чем революционерам-«интеллигентам». Горожанин, если только он не «кающийся дворянин» и не совсем проникся влиянием дворян этого разряда, всегда смотрит сверху вниз на деревенского человека. Именно так смотрели на этого человека петербургские рабочие. Они называли его
серым, и в душе всегда несколько презирали его, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям»
[231]. Между тем, уже в первой половине 70-х годов положение и этого верхнего слоя рабочего класса должно было идти не в гору, а под гору. Мировой кризис 1873 года совпал с сокращением железнодорожного строительства в России около того же времени. Выплавка чугуна — верный показатель положения металлургического производства — за 10 лет, с 1862 по 1872 год, поднявшаяся с 15 до 24 миллионов пудов, застыла на этой цифре, с небольшими колебаниями, до 1878 года. Крах следовал за крахом: в округе одного московского коммерческого суда за 1876 год было 113 несостоятельностей с общим пассивом в 317
2 млн р.
[232]. Правда, больше всего доставалось от кризиса мануфактурным предприятиям: но отмечаемая единогласно всеми современниками связь кризиса с приостановкой в постройке железных дорог сама по себе уже достаточно показывает, что на заводах дело не могло идти в обратном направлении, и что знакомый нам крах начала 80-х годов
[233] давно здесь подготовлялся. Мануфактуры были лишь точкой наименьшего сопротивления; здесь прежде всего начали распускать рабочих, понижать заработную плату, вводить более тяжелые условия труда — и здесь же, в Петербурге на новой бумагопрядильне, у Кенига, Шау и т. д., начались первые
забастовки, то есть первые исторически известные: стачечное движение до 90-х годов прошлого века не привлекало к себе ничьего особенного внимания, редкая стачка попадала даже в газеты, и написанная по архивным документам история забастовок в России времен Александра II, несомненно, сулит много «открытий». Если мартовская забастовка 1878 года (на новой бумагопрядильне в Петербурге) сразу была в центре внимания тогдашней петербургской публики, на это был целый ряд специальных причин. «Зимой 1877/78 года «интеллигенция» находилась в крайне возбужденном состоянии, — говорит близкий свидетель событий Г. В. Плеханов: — процесс 193-х, этот долгий поединок между правительством и революционной партией, в течение нескольких месяцев волновал все оппозиционные элементы. Особенно горячилась учащаяся молодежь. В университете, Медико-хирургической академии и Технологическом институте происходили огромные сходки, на которых «нелегальные» ораторы «Земли и воли», нимало не стесняясь возможным присутствием шпионов, держали самые недвусмысленные речи… Когда среди петербургской интеллигенции разнесся слух о стачке, студенты немедленно собрали в пользу забастовавших очень значительную сумму денег». Впрочем, прибавляет автор, «деньги давали не одни студенты. Все либеральное общество отнеслось к стачечникам весьма сочувственно. Говорили, что даже г. Суворин разорился для их поддержки на три рубля. За достоверность этого слуха не могу, однако, поручиться»
[234]. Сочувствие «либерального общества» выражалось в формах иногда комических, но оно спасло питерские стачки 1878–1879 годов от забвения, в котором безвозвратно потонула масса их современниц и предшественниц.
Сначала движение отнюдь не носило революционного характера: достаточно сказать, что самым эффектным моментом первой стачки была подача прошения рабочими наследнику-цесаревичу Александру Александровичу. Попытки интеллигентов разагитировать их на первый случай не дали никаких результатов: «Сначала рабочие совсем не понимали, чего хотят от них «интеллигентные» собеседники и совершенно нелицемерно поддакивали людям противоположных мнений»
[235]. Но уже и тогда, по словам того же автора, на забастовавшей фабрике был «небольшой революционный кружок». Из записок Кропоткина мы знаем, что революционная пропаганда среди петербургских ткачей велась чайковцами еще в самом начале 70-х годов. А среди механических рабочих у чайковцев была целая небольшая школа — человек в 30. Но, по словам того же Кропоткина, к практическим результатам вся эта пропаганда и агитация не приводили
[236]:
стачечное движение началось только тогда, когда его вызвали объективные условия. И благодаря этим последним, совершенно не зависимо от «внушений» со стороны, движение
должно было принять революционный характер: участие «бунтарей» было здесь только случайностью. Петербургские стачки 1878–1879 годов были чисто
оборонительными: это была самооборона против
ухудшения условий труда, а не борьба за
их улучшение. Но ухудшение вызывалось причинами в пределах буржуазного хозяйства неотвратимыми: благодаря кризису падала предпринимательская прибыль, и благодаря тому же кризису предпринимателю не на чем было возместить свои убытки, кроме заработной платы его рабочих. Нужно было или распустить часть этих последних (в Московском районе так именно и поступали), или уменьшить плату всем — иногда и то, и другое сразу. Так или иначе, налицо оказывалась масса безработных или недорабатывающих, масса озлобленных и не видящих выхода из своего положения. Стачки не улучшали его, как это бывает со стачками
наступательными, в период благоприятной промышленной конъюнктуры. В сущности, в пределах буржуазного хозяйства, повторяем, результат этот неотвратим: предпринимателю «не из чего» уступать рабочим — иначе говоря, он мог бы уступить только путем уменьшения своей прибыли ниже обычного минимума, — а какой же предприниматель захочет это сделать? Если же предприниматель ведет дело в кредит, то ему и фактически «не из чего» уступать иногда, ибо проценты кредиторам он должен платить прежние, и уменьшившейся прибыли может на это и не хватить: уступи он рабочим — его ждет банкротство. Забастовки на почве кризиса дают в руки пропагандиста единственные по своей силе аргументы против буржуазного строя вообще. Мы не знаем, насколько воспользовались этим случаем тогдашние «бунтари»-народники. Кажется, они использовали положение довольно плохо: более активные их элементы уже тогда тяготели к
политической агитации, а менее активные просто ничего не умели сделать именно в силу малой своей активности. Но предшествующая пропаганда, тянувшаяся не один год, и ясное, как кристалл, экономическое положение сделали свое, не зависимо от уменья или неуменья вращавшейся среди рабочих интеллигентной молодежи. Именно конец 70-х годов видел появление в русской рабочей среде первых и, для первого случая, очень ярких проблесков
социализма.
История первых рабочих социалистических организаций в России чрезвычайно типична для эволюции нашего рабочего движения. Первым, из успевших оформиться был
Северный союз русских рабочих, возникший, может быть, уже в 1877 году — хотя выступил на сцену он только в декабре следующего, 1878 года, параллельно с упоминавшимся нами выше стачечным движением в Петербурге, а свою программу он опубликовал в январе 1879 года. Почти немедленно после этого Союз пал жертвою провокации, которая свила себе гнездо в его среде с самых первых дней его существования. Не приходится говорить поэтому о деятельности Союза, — была лишь
попытка организации, что, однако, не лишает Союз крупного исторического значения. Характерно, прежде всего, то, что оба его основателя принадлежали к крайнему левому крылу тогдашних революционеров: Виктор Обнорский был очень близок к набатовцам, Степан Халтурин явился потом одной из самых ярких фигур народовольческого террора, — ему принадлежит устройство взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Вы ждете поэтому призыва к решительной борьбе, к непосредственным выступлениям самого революционного характера — и встречаете вместо того призыв «опоясаться духовным мечом истины» и заняться мирной пропагандой («идите проповедовать свое учение по городам и селам»). Напоминание о «великих словах Христа», сравнение с апостолами, «простыми поселянами», приглашение «не стыдиться поругания» (как будто ничто хуже не могло ждать в тогдашней России рабочего-пропагандиста!) — все это придает программе Союза такой сентиментальный характер, что сочетать ее с «Набатом» и взрывом Зимнего дворца кажется необычайно мудреной задачей. Тогдашние революционеры-народники остались очень недовольны малой революционностью программы, составленной рабочими-революционерами. Автор статьи о Северном союзе в «Земле и воле» был очень рад, что хоть стачки-то допускают в качестве орудия борьбы эти подражатели апостолов. Но последователи «первых христиан» были, в сущности, очень практичными людьми — и прекрасно понимали, что никакая борьба немыслима
без организации. В первых же строках программы они и ставят целью Союза — «сплачивая разрозненные силы городского и
сельского рабочего населения и поясняя ему его собственные интересы, цепи и стремления, — служить достаточным оплотом в борьбе с социальным бесправием и давать ему ту
органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешного ведения борьбы». Упоминание наряду с «городским» и «сельского рабочего населения» (разумелся, очевидно, не сельский пролетариат, а
крестьяне) было единственной данью официальному тогда народничеству русских революционеров; центральный орган этих последних в упоминавшейся выше статье «Земли и воли» горько жалуется на эту скупость: «аграрные вопросы оставлены втуне». Фактически это неверно — программа содержит в себе пункт об «уничтожении поземельной собственности и замене ее общинным землевладением». Но автор статьи правильно, со своей точки зрения, реагировал на
дух программы: она действительно имела в виду, прежде всего,
городского рабочего, и когда она говорила, что «в члены Союза избираются
только рабочие», то это значило, разумеется, что Союз представлялся составителям программы как
организация чисто пролетарская. Сквозь народничество петербургские рабочие «своим умом дошли» до классовой точки зрения. Это был, несомненно, более крупный успех, чем обыкновенно выдвигаемое на первое место усвоение тою же программой социал-демократической («энгельсовской», можно бы сказать, применительно ко времени, когда была выработана программа) точки зрения на конституционные «свободы», как необходимое условие успешной борьбы за интересы рабочего класса. Земледельцев всего больше огорчал именно этот пункт, а социал-демократические авторы всего более им довольны. Очень интересно, конечно, что первыми социал-демократами «энгельсовского» типа были в России не интеллигенты, а рабочие: но как раз в этом пункте мы имеем определенное указание на влияние, идущее из интеллигентской среды. «Лекции полковника А. Н. Фалецкого о немецкой социал-демократии, проходившие в Петербурге в 1873–1874 годах, несомненно, отразились на взглядах многих из рабочих, впоследствии вошедших в Союз», — констатирует историк этого последнего
[237]. С точки же зрения той задачи, которую
непосредственно ставили себе Обнорский и Халтурин — организации рабочей массы — конституция являлась, само собою разумеется, очень облегчающим дело фактором. Но основатели Союза не давали обещаний, что рабочие будут действовать исключительно конституционными средствами и после того, как они сорганизуются. Поставленная Союзом рабочему движению конечная цель была бы не конституционной и в тогдашней Германии, с ее исключительным законом против социалистов (принятым рейхстагом 19 октября 1878 года — как раз в те месяцы, когда вырабатывалась программа Союза). Мы не знаем, сыграло ли какую-нибудь роль в выработке воззрений Союза позорное поведение германского народного представительства в этом случае: но характерно, что как раз
парламентаризма программа-minimum Союза не требует. В ней есть свобода слова, печати, собраний, сходок, передвижения, уничтожение сословий, отмена косвенных налогов, замена постоянной армии милицией; но требования созыва народных представителей в ней нет. А пункт 2 программы-maximum — «Учреждение свободной народной федерации общин» — так далек от классического социал-демократизма, как только можно… Ни Бакунин, ни Энгельс не признали бы программы своей, а в ней есть и от того, и от другого: и это потому, что она была отражением не той или иной
теоретической линии,
апрактических требований
русского пролетариата конца 70-х годов, и в осуществлении этой программы пролетариат не рассчитывал ни на кого, кроме самого себя.
То немногое, что известно о Южнорусском рабочем союзе, возникшем почти ровно через год после «провала» Северного, не позволяет судить, была ли эта позднейшая организация в какой-либо идейной связи с более ранней. Можно только сказать, что не было никакой организационной связи: Южный союз развился из кружка, основанного интеллигентами-анархистами (Е. Ковальской и Н. Щедриным), вышедшими из рядов «Черного передела»
[238]. Сопоставление программ производит такое впечатление, как будто автор южной программы имел перед глазами северную: но как последовательный анархист он вытравил в ней все, что было «от Энгельса», и оставил лишь то, что было «от Бакунина». Программа очень выиграла в смысле логичности и стройности, но связать ее с практическими задачами рабочего движения оказывается уже почти невозможно. То, что прекрасно понимали Халтурин и Обнорский — необходимость, прежде всего другого, организовать рабочую массу, — по-видимому, не только не сознавалось интеллигентами чернопередельцами, руководившими Южным союзом, но едва ли не отрицалось ими сознательно.
Универсальнее средство для достижения цели они видели в
терроре — аграрном, «промышленном или фабричном», «военном» и политическом. Первая же прокламация, выпущенная Союзом, давала «трехнедельный срок начальнику (киевского) арсенала, полковнику Коробкину, для выполнения требований рабочих, из которых главные были: увеличение платы и уменьшение рабочего дня. В случае отказа ему грозили смертным приговором». Помещик
Левандовский теснил меньшевиков, сидевших на его земле: Союз потребовал, чтобы Левандовский разделил между ними всю землю и вознаградил их за все потери, которые они потерпели по его вине «В случае же, если г. Левандовский не подчинится вышеизложенным требованиям, Общество приговорит его к смертной казни»
[239]. Непосредственный эффект такой тактики был оглушительный: «Спустя четыре дня главная, существенная, часть требований рабочих (киевского арсенала) была удовлетворена». «После такого успеха первой прокламации рабочие повалили к нам в таком количестве, что мы не знали, где найти место для собраний», — пишет Е. Ковальская.
Союз в короткое время собрал (никак нельзя сказать «сорганизовал») до 700 человек. Но читатель догадывается, что никакого «рабочего движения» таким путем вызвать было нельзя. Напротив, внушив рабочим мысль, что одного смелого человека с бомбой или револьвером достаточно для осуществления какой угодно программы, можно было совсем отучить их двигаться самостоятельно: после ареста руководителей (опять-таки через провокатора) крупнейший рабочий союз тогдашней России (в Северном было не более 200 человек, здесь — 700) перестал существовать, потому что «была потеряна связь у рабочих с интеллигенцией». Какого-либо успеха от экономического террора, кроме указанного случая в арсенале (собственно, значит, не в промышленном предприятии), по-видимому, не получилось. Но что анархическая пропаганда и позже легче всего прививалась на
юге России, имело, вероятно, свои причины, — детальная история русского рабочего движения, еще не написанная, должна их раскрыть.
Как бы то ни было, симптомом революционного брожения среди рабочих был и Южный союз не меньше, чем Северный. И главный стимул этого брожения — кризис — чем дальше, тем давал себя чувствовать больше. Рассказав, как голодают крестьяне и рабочие в провинции, «Рабочая газета», издававшаяся в Петербурге в конце 1880 года народовольцами для рабочих, дает такую петербургскую картину: «Первым делом зайдешь на какой-нибудь завод либо фабрику; всюду только и слышишь, что рассчитывают. Например у Голубева, у Лесснера рассчитали четвертую часть всех рабочих; у Путилова, у Нобеля, на Балтийском — третью часть; у Растеряева, на Патронном, у Петрова — половину; завод Берда совсем стал, а было в нем 1500 рабочих. То же и на фабриках. Выходит, значит, что и постоянным питерским рабочим некуда деться, а тут на несчастье неурожай нагнал из провинции немало рабочего люда. Как теперь поглядишь на все это, так тебе и видно станет, почему на некоторых улицах проходу нет от нищих, почему полиция, хоть и высылает нищих тысячами из города, все же не может очистить улиц от них». «Оборонительные» забастовки продолжались — «хоть рабочий и понимает, что теперь не время тягаться с хозяином, забастовку делать, а все же иной раз и невтерпеж». Газета перечисляет и несколько случаев самодельного фабричного террора. Раз народовольцы писали об этом — значит видели это. Казалось: что могло быть соблазнительнее совпадения революционного брожения среди рабочих с революционной атакой, которую как раз в эти самые дни «Народная воля» вела против правительства? И однако — нам приходилось об этом говорить в своем месте — никакой попытки вызвать в Петербурге рабочее движение мы не видим, и не за недостатком желания, а за полным отсутствием сколько-нибудь широких рабочих организаций. Почему же среди революционно настроенных рабочих революционеры-народовольцы не имели сколько-нибудь заметного успеха? Почему их силы в этой среде ограничивались отдельными рабочими-революционерами, да и то распропагандированными, преимущественно, в предыдущий период? В социал-демократической литературе народовольцев обвиняли в «преступной небрежности» своего рода: не вели пропаганды, стремились только к тому, чтобы «завербовать в среде рабочих подходящих для террористической борьбы лиц». Народовольческая литература с негодованием опровергла обвинение; работали усердно, кружков было много, пропаганда, ведшаяся «на широких политических и экономических началах», отчасти заложила даже фундамент для позднейшей социал-демократической. Но ведь совсем не к этому стремились, и не это было нужно: оправдание только подчеркивает неудачу. Фатальная неизбежность этой последней вскрывается маленьким фактом, который сообщает упоминавшаяся нами выше Е. Ковальская. «Киевские народовольцы, — говорит она, — вошли с нами в переговоры насчет нашего вступления в «Народную волю». Но так как они ставили условием отказаться от экономического террора, то мы отказались присоединиться». Вы радуетесь: вот, наконец, нашлись умные люди, которые поняли, что бомбой рабочего вопроса не разрешишь. Вовсе нет: народовольцы были против экономического террора, потому что он, «по их словам,
отпугивал либералов». Воспользуйтесь этим лучом света, осветите при его помощи «Программу рабочих членов партии Народной воли» — вы поймете, почему этих членов было так мало. Программа вся построена на систематическом затушевывании
классовых противоречий: для нее. есть угнетатели — «правительство, помещики, фабриканты, заводчики, и кулаки», и угнетенные — крестьяне, рабочие и интеллигенция. «Во многих случаях он (народ) найдет поддержку в отдельных лицах из других сословий, в
людях образованных, которым также хотелось бы, чтобы в России жилось свободнее и лучше»; «рабочий народ не должен отвергать этих людей:
выгодно добиваться расширения свободы рука об руку с ними»[240]. Не надо отталкивать от себя образованную буржуазию: и вот, ради того, чтобы «не оттолкнуть», сначала смягчают аграрный вопрос, потом рабочий… Не нужно, чтобы температура рабочего движения доходила до красного каления, — надо, чтобы было так градусов 60, — не то буржуазия обожжется и убежит. Но температуру революции нельзя регулировать по термометру — либо есть рабочая революция, либо нет ее; и если она есть, она может питаться только классовыми противоречиями: чем они острее, тем она сильнее и тем неизбежнее превращается она в борьбу пролетариата с предпринимателями. Никакой общественный класс не может делать революции за другой класс, и никогда история не видала
сознательного пролетариата, делающего буржуазную революцию. Бессознательный бывал иногда слепым орудием в руках буржуазии — но, конечно, не народовольцам было обращать рабочих в слепое орудие: от этого упрека они чисты.
Но если на бессознательности рабочих не могли играть народовольцы, от этого не отказались их противники справа. Единственные мероприятия правительства Александра III, которые не сводятся к влиянию аграрного кризиса, это фабричные законы, градом посыпавшиеся, начиная уже с 1882 года. Закон от 1 июня этого года запретил работу малолетних до 12 лет и ввел
фабричный инспекторат; законы от 12 июня 1884 года и 3 июня 1885 года развили дальше первый закон и сделали попытку урегулировать работу женщин и подростков; наконец,
закон от 3 июня 1886 года был настоящим фабричным регламентом, впервые «европеизировавшим» русскую фабрику: «патриархальному быту», сводившемуся к формуле «захочу — держу, захочу — прогоню и подохнешь с голоду», был положен конец. Наиболее неприятным для фабрикантов нарушением «обычного права» было обязательство расплачиваться с рабочими наличными деньгами в определенные сроки: в былое время расплата натурой, купонами дальних сроков и т. п., притом тогда, когда хозяину удобнее, была едва ли не таким же важным источником дохода, на мелких фабриках в особенности, как и само производство. Другим не менее важным источником были произвольные штрафы. Теперь и они попали под контроль правительственной инспекции. Что все это било, главным образом, мелкого и отсталого фабриканта, помогая, таким образом, конкуренции с ним крупных, европейски обставленных предприятий, что фабричное законодательство Александра III юридически доделывало то, что экономически подготовил кризис, губящий сотни мелких фабрик в пользу немногих фабричных гигантов, — это не подлежит никакому сомнению. Но этим лишь подтверждается банальная истина — что никакое законодательство в мире не может идти
против экономического течения, всякое оперирует на той экономической почве, какую дает ему исторический момент.
Мотивы же, которыми сознательно руководилось правительство, не имели ничего общего с интересами крупнейшей буржуазии, которая являлась для министров Александра III, с этой точки зрения, случайным попутчиком. Эти мотивы достаточно вскрываются уже хронологическим сопоставлением фактов: крупнейший из законов, 3 июня 1886 года, непосредственно следовал за крупнейшими забастовками, 1884–1885 годов, из которых забастовка на морозовских фабриках в Орехове-Зуеве, давшая повод к громкому судебному процессу и снова на минуту приковавшая внимание образованного общества к рабочему вопросу, осталась одной из важнейших дат русского рабочего движения. Но вдохновитель законодательства Александра III, его министр внутренних дел гр. Толстой избавил нас от всякой надобности прибегать к методе «косвенных улик», оставив совершенно ясное письменное изложение тех мотивов, которые руководили им (а Толстой и правительство были тогда понятиями, покрывавшими друг друга) в издании закона 3 июня, лишь номинально шедшего от Министерства финансов, фактически же созревшего в Министерстве внутренних дел (еще точнее — в департаменте полиции, во главе которого тогда стоял Плеве). «Исследование местными властями причин означенных стачек рабочих, — писал Толстой министру финансов Бунге, 4 февраля 1885 года, — обнаружило, что они грозили принять размеры серьезных волнений и произошли, главным образом,
вследствие отсутствия в нашем законодательстве общих постановлений, на основании коих могли бы определяться взаимные отношения фабрикантов и рабочих. Такой пробел в законодательстве, обусловливая разнообразные порядки на фабриках, открывал широкий простор произвольным, клонящимся к ущербу рабочих, распоряжениям фабрикантов и ставил первых в крайне тяжелое положение: несоразмерно высокие штрафы, ввиду временного упадка промышленной деятельности, часто служили в руках фабрикантов способом искусственного понижения заработной платы до того, что рабочий лишался возможности уплатить лежавшие на нем повинности (!) и прокормить свою семью; высокие цены в фабричных лавках и недобросовестность приказчиков вызывали
справедливый ропот и недовольство рабочих, а недостаток точности при составлении условий с малограмотными людьми порождал постоянные споры в расчетах задельной платы… Совокупность всех изложенных и многих других причин влекла за собою, как показал опыт, возникновение беспорядков, а необходимость для прекращения их прибегать к содействию войска в достаточной степени свидетельствовала о настоятельности приступить к составлению в развитие действующего фабричного законодательства таких нормальных правил, которые,
ограничивая в известной степени произвол фабрикантов, способствовали бы устранению в будущем прискорбных случаев, имевших место в Московской и Владимирской губерниях»
[241]. Если припомнить, что фабричное законодательство входило уже в программу Лорис-Меликова, картина будет совершенно закончена: мы имеем несомненный опыт — осуществить на русской почве «социальную монархию», о которой любил помечтать тогда и Бисмарк, и — в дни своей юности — Вильгельм II. «Мы знаем нужды рабочих не хуже ваших социалистов, — самодовольно говорил знаменитый Судейкин еще в 1881 году попавшему к нему на допрос рабочему, — мы сами социалисты, но социалисты мирные…»
[242]. Несомненный упадок революционного рабочего движения в середине 80-х годов показывает, что контрмина под революцию была подведена довольно удачно. Дело стояло хуже, чем не только в дни расцвета «Народной воли», но едва ли не хуже даже, чем во времена чайковцев. Работавшая в 80-х годах в Петербурге преимущественно среди металлистов, «благоевская» группа, теоретически, по словам очень к ней расположенного историка социал-демократической партии, ухитрилась отстать даже от Северного рабочего союза: а мы знаем, что как раз теоретическая выдержанность отнюдь не составляла сильной стороны этой последней организации. Практическое положение достаточно характеризуется тем, что группа «состояла исключительно из одних интеллигентов» и дальше связей с
отдельными рабочими не шла. И Плеханов, вероятно, был прав, когда он явно беспокоился в те дни: устоят ли рабочие перед соблазном «социального» миража? «Без политических прав вы никогда не добьетесь экономической независимости», — писал он в издававшейся «благоевскою» группой газете «Рабочий». Но моральные увещания не изменили бы дела, если бы не пришла на помощь
та экономическая революция, о которой мы столько говорили в начале этой главы. Промышленный подъем сразу вырвал почву из-под ног у «мирных социалистов».
Борьба между рабочими и предпринимателем из-за уровня заработной платы, с одной стороны, уровня прибыли — с другой, происходит и при подъеме так же, как и во время кризиса: но условия этой борьбы иные. По мере подъема прибыль растет, и растет всегда
быстрее заработной платы. Предпринимателю есть с чего «спустить», и хотя он старается присвоить себе возможно большую долю прибавочного продукта, но в случае надобности он может увеличить плату своим рабочим и не терпя «убытков», т. е. не понижая своей прибыли ниже обычного уровня и не рискуя стать банкротом. Теперь для рабочих открывается возможность борьбы за улучшение условий существования даже и в пределах буржуазного хозяйства. Борьба эта облегчается еще тем, что предпринимателю при подъеме крайне невыгоден малейший перерыв в производстве: не говоря уже о прямом убытке от остановки течения золотой реки, льющейся в его карман. При подъеме новые предприятия растут, как грибы, — стоит потерять рынок на минуту, как на нем появились уже десятки конкурентов. Оттого в минуты наиболее интенсивного подъема предприниматель готов примириться даже с существованием рабочих организаций, лишь бы не терпеть разорительных остановок в производстве — предупредить
стояки: на промышленном подъеме выросла «фабричная конституция» Англии. Рабочие, само собою разумеется, смотрят на предмет с другой стороны, и для них подъем всюду бывает периодом стачек особенно интенсивных и победоносных, —
стачек наступательных в противоположность оборонительным стачкам периодов упадка. Промышленный подъем 90-х годов был и у нас временем
повышения заработной платы. На фабрике Цинделя средний годовой заработок рабочего-мужчины в 1886 году составлял 235 р., а в 1896 году — 270 р.: между тем цена хлеба за этот промежуток времени понизилась, так что реальная заработная плата должна была увеличиться еще значительнее, чем номинальная. Повышение продолжалось и в следующие годы: средняя поденная плата на той же фабрике Цинделя в 1895–1896 годы равнялась приблизительно 60 к., а в 1898–1899 годах — уже 67–68 к. На Юзовском заводе Екатеринославской губернии в 1884–1885 годах минимальная заработная плата была 30–40 к. в день, а максимальная 3 р. 70 к.; в 1897-м первая не спускалась ниже 70 к., а вторая поднялась до 6 р.
[243]. Но те же 90-е годы отмечены в то же время интенсивным
забастовочным движением[244].
Всего менее можно отнести это последнее на счет пропаганды. Она, правда, не прекращалась ни на минуту, но район ее влияния был крайне незначителен, и, что более важно, по характеру своему она отличалась чрезвычайной скромностью и умеренностью. Когда, согласно решению Международного социалистического конгресса в Париже (в 1889 году), 1 мая стало официальным праздником рабочих всего мира, на русской территории это решение было проведено в жизнь только поляками: целый ряд варшавских фабрик стоял 1 мая 1890 года; была демонстрация, были, разумеется, аресты. В Петербурге было все тихо. Только год спустя петербургские пропагандисты решились напомнить миру, что есть рабочие и в столице России. «В мае того же (1891) года состоялось первое в Петербурге
тайное собрание рабочих, посвященное празднованию первого мая, — рассказывает современник. — Устроено оно было центральным кружком…
Факт собрания хранился в глубокой тайне. Только осенью один из рабочих решился дать текст речей знакомой учительнице воскресной школы за Невской заставой. От учительницы речи попали в руки только что образовавшегося народовольческого кружка и тотчас изданы на гектографе, к большому неудовольствию социал-демократической петербургской интеллигенции. Затем речи были перепечатаны за границей «Группой освобождения труда»
[245]. Нет надобности говорить, что если полицейские условия Петербурга чем-нибудь отличались от таковых же Варшавы времен Гурко, то разве к лучшему, а никак не худшему. И все-таки пропагандисты были бы не прочь, чтобы «манифестация» осталась тайною ото всех, кроме них самих и кучки собравшихся рабочих… речи, которые держались на собрании этими последними, вполне гармонировали со скромностью самого выступления. «Нам стоит только вооружить себя сильным оружием, — а это оружие есть знание исторических законов развития человечества, — тогда мы всюду победим врага, — говорил один из них. — Никакие его притеснения и высылки на родину, заточение нас в тюрьмы и даже высылки в Сибирь не отнимут у нас этого оружия». «В настоящее время, — говорил другой, — нам остается только возможность заняться развитием и организацией рабочих, — возможность, которою, надеюсь, мы и воспользуемся, несмотря ни на какие препятствия и угрозы. А для того, чтобы наша деятельность была как можно плодотворнее, нам необходимо стараться умственно и нравственно развивать себя и других, и более энергично действовать для того, чтобы окружающие нас смотрели на нас как на людей умных, честных и смелых и потому с большим доверием относились бы к нам и ставили нас в пример себе и другим». Автор, у которого мы заимствуем цитаты
[246], совершенно правильно говорит о «религиозной торжественности и глубоком идеализме», которыми дышали эти речи: кроме нескольких бранных слов по адресу правительства (произносившихся, не забудем этого, под покровом глубочайшей тайны), в них нельзя найти даже отдаленного намека на революцию. Что касается стачечной борьбы, то вот как относились к ней даже еврейские рабочие — гораздо лучше организованные и более сознательные, чем русские. На маевке 1892 года одна виленская работница говорила: «Мы должны устраивать стачки. Но — устроить стачку! Нас пугает самое это слово. Мы из-за этого можем совсем лишиться места! Да, друзья, я это вполне чувствую и понимаю. Я знаю, что значит для нашего брата рабочего лишиться места. Но у нас не должны опускаться руки при первой неудаче. Мы должны преследовать нашу цель до конца жизни»
[247].
Один тогдашний петербургский пропагандист оставил чрезвычайно живую и наглядную картину первой забастовки, какую ему пришлось в 1894 году наблюдать — в качестве зрителя — с империала трамвайного вагона. Как вылитые перед нами и разгромленная контора Семянниковского завода, с выбитыми стеклами, и обступившие завод тысячи рабочих, и скачущие казаки. Пропагандист честно признает, что во всем этом своеобразном зрелище он и его лекции об «исторических законах развития человечества» были совершенно ни при чем. «Я должен прибавить, что во всей этой истории «наши» рабочие не принимали ровно никакого участия», — говорит он
[248]. «Вся история» возникла совершенно стихийно, на чисто экономической почве: затягивали расчет, подходило, между тем, Рождество — и рабочие рисковали остаться к празднику без денег. Но финал «всей истории» должен был заставить задуматься и пропагандистов, по крайней мере, тех из них, в ком билась политическая жилка. Победа семянниковских рабочих привела к тому, что
«жандармские офицеры в ту же ночь выдавали рабочим давно требуемую получку». «Мирные социалисты» не дремали — а стихийные забастовки шли, как волны, одна за другой. В декабре 1894 года «отбунтовали» семянниковцы, — а на масленице следующего года был столь же грандиозный «бунт» в порту нового адмиралтейства. Потом пришла очередь бумагопрядилен. «Среди кружков рабочих наступает пора новых веяний. Совершается перелом. Все сильнее и сильнее укрепляется мысль, что действительно сознательный рабочий должен ближе стоять к окружающей жизни, должен активнее относиться к нуждам и требованиям массы рабочих и к повседневным нарушениям всяких человеческих прав; что сознательный рабочий должен участвовать в этой окружающей жизни, а
не сторониться от нее, как он делал до сих пор… Весною 1895 года оттенки нового направления становятся гуще. Раздается уже довольно резкий протест против прежнего способа ведения дела… Начинается явное неудовлетворение «кружковщиной» и «саморазвитием». Является жажда новой плодотворной работы…». Кружковая интеллигенция уступала не сразу:
«После горячего спора представителей группы рабочих района Невской заставы с представителем от группы интеллигентов, «старых социал-демократов», иначе «литераторов», было решено начать применять новую тактику массовой агитации на основании насущных потребностей рабочих той или иной фабрики»
[249]. В Западной России процесс шел быстрее, — там переход к агитации назрел уже в начале 1894 года, и на совещании виленцев с москвичами возникла идея известной брошюры «Об агитации»
[250].
Разрешения той задачи, которую ставила себе эта брошюра, пришлось ждать довольно долго. Забастовочная волна, поднимаясь все выше в течение зимы 1895/96 года (за эту зиму в одном Петербурге приходится отметить: «бунт» папиросниц на табачной фабрике Лаферма, стачку на фабрике «Товарищества механического производства обуви», забастовку на ткацкой фабрике Торнтона, ткацкой же Лебедева, у Кенига, на Сампсониевской мануфактуре, на бумагопрядильне Воронина, в Новом Адмиралтействе, на Александровском чугунном заводе, на Сестрорецком оружейном, на Калинкинской мануфактуре, в мастерских Варшавской железной дороги, на Балтийском судостроительном и т. д., — не считая нескольких повторных
[251]), достигла своего апогея в мае и июне 1896 года, когда стали все ткацкие и прядильные фабрики Петербурга и число бастовавших одновременно рабочих достигло 30 000. Стачке предшествовала майская прокламация только что возникшего Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Борьба шла уже не так стихийно, как раньше, но все же, по признанию близкого свидетеля, «Союз был еще слишком слаб, чтобы руководить таким широким движением», а повод к этому «широкому движению» был опять-таки чисто экономический: требование заработной платы за дни коронации, когда фабрики стояли не по вине рабочих. Материально движение, длившееся почти месяц (с последних чисел мая до 18 июня), питалось не средствами какой-либо организации (в кассе Союза борьбы было всего 3000 рублей!), а, главным образом, щедрой поддержкой небастовавших рабочих (преимущественно с механических заводов). Правительственное сообщение не было так неправо, когда оно говорило, что политическая агитация воспользовалась «уже совершившимися стачками»: без агитации стачка прошла бы более хаотически, менее сознательно, но она все-таки имела бы место. Правительство (фактически Витте) открещивалось от агитаторов, главным образом, ради спасения собственного достоинства: ибо стачки 1896 года вынудили его обещать
сокращение рабочего дня. Признав, что «агитаторы» вызвали стачку, пришлось бы признать, что правительство сделало уступку «политической агитации»! Но чтобы добиться реализации обещания, рабочим пришлось еще раз бастовать (зимние стачки 1896/97 года): результатом явился
закон от 2 июня 1897 года, установивший в России, теоретически, 11 1/2-часовой рабочий день. «Практическое значение закона 1897 года не подлежало бы спору, — говорит историк русской фабрики, — если бы постановления закона о предельной норме рабочего дня не парализовались отсутствием мер наказания и разрешением сверхурочных работ. Циркуляр министра финансов от 14 марта 1898 года, разрешивший в неограниченном размере сверхурочные работы, почти лишает закон от 1897 года всякой силы»
[252].
Уступка была, таким образом, только принципиальной, но и принципиальные уступки могли внушить мысль, что стачечной борьбой можно многого добиться
даже в условиях русского политического строя. Это и высказала всеми буквами «Рабочая мысль» — орган петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса (в передовице своего 4-го номера, вышедшего в октябре 1898 года): «Нет! довольно той лжи, по которой рабочее движение оттого развивается, что уже налицо политическая свобода… Нет! настоящая свобода оттого развивается, что рабочее движение двинулось и неудержимо стремится вперед! Истина в том, что всякая стачка, всякая касса, всякий рабочий союз только тогда становится «законным», когда стал делом обычным».
В результате успешной наступательной стачечной борьбы 90-х годов складывалось настроение не революционно-социалистическое, а реформистское. На русской почве этот своеобразный реформизм в обстановке самодержавной монархии получил название «экономизма». В нем было, несомненно, две здоровых мысли: что основой всякого серьезного рабочего движения должна быть широкая
массовая организация, и что вовлечь массы в такую организацию можно только на почве их повседневных, будничных нужд и требований. Но «экономисты» были убеждены, что этого и достаточно, — остальное само приложится; ближайшее же будущее готовило им жестокое разочарование.
Последним годом промышленного подъема был 1898-й. Показателем наступавшей реакции было повышение учетного процента на западноевропейских биржах (в Париже с 2,20 в 1898 году до 3,06 в 1899-м, в Лондоне до 3,75, в Берлине даже до 4,98, тогда как в 1895 году берлинский учетный процент был 3,15). «Зима 1899–1900 года была посвящена ликвидации предшествовавшего промышленного подъема. Из всех концов России приходили известия о застое торговли, банкротствах, безработице». В Иваново-Вознесенске «фабрики и заводы с 1 октября (1899 года) сократили свою работу, и лишний контингент рабочих увольняют на все четыре стороны…» «Иди, мол, батюшка, — спокойно приговаривает богатый фабрикант, — ты мне теперь не нужен, дела тихи». В Нижнем той же осенью «усиленно сокращали штат рабочих на Сормовских заводах и на заводе Доброва и Набгольц: сокращение это продолжалось до доброй половины зимы. Рассчитывали рабочих и на заводе Курбатова». В Туле к весне следующего года «положение рабочего населения становилось все более и более тягостным. Фабрики и заводы, писали оттуда, сокращают или вовсе приостанавливают свою деятельность, уменьшается точно так же спрос на рабочие руки; напротив, количество последних увеличивается. Многие рабочие давно уже перезаложили свои более или менее ценные вещи, даже кое-что из домашнего скарба, чтобы только не остаться без хлеба»
[253]. Дальнейший ход кризиса характеризуют следующие данные:
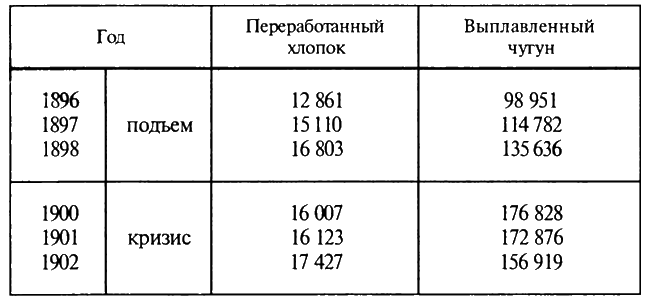
А вместе с кризисом формировалось и революционное настроение рабочих. Уже харьковская маевка 1900 года не имела ничего общего с теми тайными собраниями, где говорилось о пользе наук, как это мы видели в Петербурге в 1891 году. Десятитысячная толпа рабочих, с красными знаменами, прошла весь город от одного конца до другого, выдержав целый ряд схваток с казаками. А в 1901 году дошла очередь и до Петербурга. Попытка отпраздновать 1 мая на Обуховском заводе привела к репрессиям, а репрессии вызвали забастовку (с чисто принципиальным требованием — 8-часового рабочего дня: такие принципиальные требования, столь отличные от требований «практических», выставляемых рабочими во время обычных экономических забастовок, сами по себе характеризуют уже движение как революционное) и демонстрацию. Толпа в несколько тысяч человек вышла на Шлиссельбургский тракт и здесь, по словам обвинительного акта, повела себя «крайне вызывающим образом, осыпала бранью и насмешками чинов полиции, по адресу же патрульных раздавались площадная ругань и крик, что ни полиция, ни солдаты ничего не значат. Скоплением народа окончательно было прекращено всякое уличное движение и остановлен проезд конных патрулей, которым толпа опускала на головы брусья шлагбаума; подошедший же вагон конной железной дороги с чинами полиции был засыпан градом заранее заготовленных камней. Заперев и забаррикадировав изнутри ворота кирпичной фабрики, толпа стала бросать камни и кирпичи; жандармы и конная стража вынуждены были отступить. Захватив пеших городовых, полицеймейстер Полибин трижды тщетно пытался подойти к воротам с целью их выломать: большинство сопровождавших его городовых получили ушибы, а сам он был сбит с ног ударами камней. Вытребовав эскадрон жандармов, две роты пехоты и отряд городовых, Полибин выстроил прибывшую на место морскую команду и открыл огонь вдоль проспекта»
[254]… «Мирные социалисты» и после таких событий не теряли еще надежды, но грубость средств, пускавшихся теперь ими в ход, сама по себе достаточно ясно показывала, как много воды утекло с 80-х годов и наверху, и внизу, в рабочих массах. Тогда, в дни фабричных законов 1882–1886 годов, были реальные
уступки рабочему классу — уступки, останавливавшиеся, правда, весьма рано, но манившие перспективами на дальнейшие уступки, уже гораздо более крупные. А теперь была одна видимость, шитая белыми нитками: в московские организации, связанные с именем Зубатова, рабочих заманивали обещаниями «самодеятельности», которой пелись дифирамбы на страницах «Московских ведомостей», а в проекте устава Общества рабочих механического производства города Москвы рабочие могли прочесть: «В списки избирателей (совета «общества») имеет право быть записан всякий рабочий механической производства города Москвы, уплачивающий установленные для сего членские взносы.
В случае протеста со стороны собрания рабочих механического производства или со стороны
московского обер-полицеймейстера данный кандидат к зачислению в списки не допускается… Совет рабочих механического производства гор. Москвы
составляется из лиц, принадлежащих к числу рабочих этого производства, избранных собраниями общества и
утвержденных московским обер-полицеймейстером… Совет обязан, по требованию московского обер-полицеймеистера, способствовать администрации в разъяснении и улажении мирными и законными средствами недоразумений, возникающих между рабочими и хозяевами на фабриках и заводах». На «самодеятельность» это было похоже так же, как «бараний парламент» 1881 года на конституцию. И несмотря на «зубатовщину», политические требования все чаще и чаще встречаются в первомайских воззваниях этих лет, эволюционируя притом весьма быстро — от «участия народа в управлении» (харьковская прокламация 1900 года) к «политической свободе, созыву выборных от народа для управления государством и контролю над министрами» (воззвание 1901 года) и «народному полновластию» (петербургская прокламация 1903 года). А социал-демократическая партия, возникшая — более номинально — в марте 1898 года как результат объединения нескольких союзов борьбы и еврейской рабочей организации «Бунд», становится все более и более «рабочей» не только по названию, — и внутри ее самой «экономическое» направление, господствовавшее в «Рабочей мысли», сменяется революционно-политическим, представительницей которого явилась заграничная «Искра».
Мы не претендовали на то, чтобы дать сколько-нибудь полное изображение русского рабочего движения конца XIX — начала XX века: для этого слишком мало было бы нескольких заключительных страниц общего исторического курса. Мы хотим лишь дать читателю понятие об
условиях, которыми это движение определялось и если читатель вынес из этого беглого очерка представление, что характер рабочего движения той или иной эпохи зависел не от каких-либо внешних наносных влияний, а диктовался объективными, экономическими условиями, — наша цель достигнута. Этот характер не был привит извне российскому пролетариату 90-х годов, — он не мог не быть иным. Но революционен в эти годы был не один пролетариат. Мало того: хотя рабочие были главной революционной силой эпохи, хотя типическая форма рабочей борьбы, забастовка, отразилась на формах революционной борьбы всех без исключения общественных групп, — идеологию движения дали не они. Гораздо раньше, чем городской «остров» был затоплен волнами «деревенского» мира физически, гораздо раньше, чем русский «город», русская Европа должны были согнуть выю под игом крепостных порядков русской Азии, — деревня идейно уже взяла верх над городом, навязав городской революции деревенские идеалы. Экономически этот факт был, нужно сказать, глубоко закономерен: напротив, было бы совершенно противно всяким «законам истории», если бы вчера родившийся промышленный пролетариат сразу стал руководящей политической силой в стране, глубоко и исконно земледельческой. Но его закономерность не мешает ему быть роковым: ибо, как-никак, все стремившиеся к революции в России имели в виду европеизацию русских отношений, а никак не «азиатирование» их. Между тем передвижка борьбы в плоскость отношений крестьянина и помещика способствовала именно этому последнему процессу. В деревенской революции, первые шаги которой отмечены циркуляром Министерства внутренних дел от 17 июля 1898 года, впервые упоминающем о
«ряде крестьянских беспорядков» и о движении
«целых деревень», совершающих «вооруженные нападения на экономии и усадьбы землевладельцев»
[255], отчетливо выступают две стороны. Одна из них — экономическое движение, напоминающее рабочее движение 90-х годов, между прочим, тем, что, как и это последнее, оно было известной реакцией крестьянства на
аграрный подъем, намечавшийся уже с последних лет XIX века. С подъемом хлебных цен читатели уже знакомы
[256]: им соответствовал
подъем арендных цен в черноземных губерниях — в Полтавской, например, с 6 р. 85 к. за десятину под озимое в 1896 году до 14 р. 46 к. за такую же десятину в 1902 году (для посева под яровое соответствующими цифрами будут 6 р. 26 к. и 13 р. 58 к.). Аграрный капитализм, совсем сникший в 80-х годах, снова подает признаки жизни: мы слышим, что помещики начинают сдавать в аренду «только плохую, выпаханную землю», предпочитая землю получше обрабатывать самостоятельно, притом не по-старому, при помощи крестьян с их первобытным инвентарем, а «при помощи годовых рабочих и машинной обработки». Сельскохозяйственное предпринимательство опять, как в начале 80-х годов, начинает глубоко захватывать и крестьянскую массу: раньше, рассказывает один современный наблюдатель, «хлеборобов было мало», а теперь «самый бедный купил себе лошадку за 15 руб. и вспахал (железным плугом) свою земельку, лошадку на зиму продаст за 3 руб., он и в барышах». «Вся рабочая сила накинулась на хлебопашество», — пишет другой. При таких общих условиях в деревне должна была начаться та же
борьба за повышение заработной платы, какую пятью годами раньше мы видели в городе. И действительно, начиная с 1902 года, всюду на черноземе, особенно в «колониях», где процесс возрождения аграрного капитализма шел особенно интенсивно, проходит волна
забастовок сельскохозяйственных рабочих: в Ставропольской губернии, в Кубанской области, где «число участников стачки доходило до 10 000», позже в Киевской, Подольской и других юго-западных губерниях
[257]. Это статечное движение, еще несравненно шире развившееся в 1905–1906 годах, было наиболее «европейской» формой нашей деревенской революции, — и притом революции-то здесь было всего меньше, как и в чисто экономических забастовках городского пролетариата 90-х годов. Кое-что от «азиатского» примешивалось, однако, уже и сюда; в известной анкете Вольного экономического общества мы находим такой, например, факт: при забастовке в Данковском уезде, в Рязанской губернии, в мае-июне 1906 года «некоторые крестьяне требовали, чтобы хлеб убирался косами, а не конными жнеями, молотился цепами, а не паровой молотилкой»; при разгроме усадеб паровые молотилки ломали. Фабричный русский пролетариат уже в 70-х годах перерос эту стадию рабочего движения, — даже анархисты-рабочие юга не ломали машин и не предлагали вернуться к ручному производству. Но это — отдельный случай: гораздо ярче проступает реакционная струя крестьянского движения в
борьбе из-за земли. «Земля — Божий дар и должна принадлежать тем, кто на ней трудится, а не господам», — говорили нередко восставшие крестьяне, и слушавшая их интеллигенция, переводя крестьянские речи на свой язык, утверждала, что среди крестьянства существует сильное тяготение к «национализации» или «социализации» земли. Сами крестьяне едва ли вкладывали тот же смысл в свою общую формулу. «Помещичьи крестьяне старались прежде всего добыть землю своего помещика», говорит цитированная нами выше анкета Вольного экономического общества.
«О претензиях крестьян на землю своих прежних помещиков пишут корреспонденты всех губерний. В Саратовском уезде крестьяне «добывали землю бывшего своего крепостного барина». В Макарьевском и Горбатовском уездах Нижегородской губернии крестьяне рубили лес у «своего» помещика и считали себя «вправе» это делать. В Пензенской губернии, Инсарском уезде, крестьяне ожидают общего передела частновладельческих земель, но считают, что земля бывшего их помещика принадлежит пока им, и этой земли они никому до всеобщего передела не уступят: «Этого барина земля наша, и пока мы не отдадим ее никому ни арендовать, ни покупать»
[258]. В истории «городской» революции были случаи объявления фабрик «общественной собственностью», но нигде рабочие не требовали, чтобы фабрика «ихнего» фабриканта была отдана именно им, с исключением всех других. И уж, конечно, нигде они не требовали, чтобы в их собственность были отданы продукты этой фабрики — даже не ставя вопроса о праве собственности на эту последнюю. Между тем захват и истребление продуктов помещичьего хозяйства был самой обычной формой нашей деревенской революции. Уже во время первого большого движения (в Полтавской и Харьковской губерниях, весною 1902 года, когда в первой из этих губерний было «разобрано» 54 поместья, а во второй 25) население
«отобрало в целом ряде имений весь хлеб, запасы сена и соломы. Крестьяне действуют спокойно, с полным сознанием своей правоты, — писал по этому случаю корреспондент «Искры». — Часто со старостами и сотскими во главе подъезжают они к усадьбе и требуют ключей от амбаров и складов. Обыкновенно владелец предупреждается за день, что у него назначен разбор хлеба. Если владелец не дает ключей, то замки срываются, повозки нагружаются хлебом, и все разъезжаются по домам. Крестьяне объясняют, что «царству панов пришел конец» и что «велено забирать по 5 пудов на душу». Один помещик отвесил эту пропорцию 80 крестьянам, явившимся к нему, и у него больше ничего не тронули»
[259]. В 1905–1906 годах не было и следа «мирного» характера движения, но его экономические задачи очень часто оставались те же самые. Корреспондент Вольного экономического общества из Бобровского уезда Воронежской губернии дает такую картину — классическую не для одного этого уезда и этой губернии: «Ход погромов почти во всем уезде одинаков: сначала шли ребятишки, девки и бабы, бросались в сад на фрукты, а затем уже подходили взрослые и начинали грабеж, причем большинство владельцев уходили или уезжали из хуторов при первом появлении грабителей, которые говорили, что за ними идут «600 стюдентов с пушкой» и «все равно все сожгут». Уже от «600 стюдентов с пушкой» веет на нас чем-то очень архаическим: но соседняя Курская губерния видела картинку еще более, если можно так выразиться, «стильную»: парень из соседней деревни, бывший смотрителем на бурачных плантациях одной из разграбленных экономии и почему-то рассчитанный и оштрафованный на 3 рубля, явился в полушубке, поверх которого были надеты синие и красные ленты. Он сидел на кресле и распоряжался разгромом»
[260]. Едва ли этот парень видел картину Перова и соблазнился случаем воспроизвести ее в такой подходящей обстановке. Если в борьбе с паровыми молотилками перед нами Англия начала XIX века, то здесь мы видим русский XVIII век, подлинный, без всякой примеси.
Воскрешенное в 80-х годах крепостное право воскресило и крепостную идеологию во всех ее чертах — в том числе и идеологию крепостного бунта. Поджоги 1905–1906 годов
[261] были жестоким ответом за попытку лишить крестьянина и той жалкой «воли», какую дали ему в 1861 году. Но стремление к
воле нашло здесь, как видим, реакционный или, чтобы избежать неприятного синонима, —
реставрационный характер: желали восстановить то, что было, а не установить что-нибудь новое. О «воле» в том смысле, как понимала это слово интеллигенция в лозунге «земли и воли», крестьянство думало весьма мало — вызвав у одного наблюдателя горькое замечание, что девиз «земля и воля» можно бы и укоротить — только «земля»
[262]. Просмотрите все два тома анкеты Вольного экономического общества, — вы едва найдете дюжину случаев смены местного, сельского и волостного начальства и замены его «революционным»: случаев введения революционного самоуправления в целом уезде
мы не имеем в самой России
ни одного. Кругозор революционного крестьянина, если у него не было интеллигентного руководителя, не шел дальше околицы его деревни, самое дальнее — его волости. Все, что выше, было уже не крестьянское дело. И что всего любопытнее: более общую постановку хотя бы земельного вопроса можно было встретить как раз не у того элемента деревни, на который возлагала все надежды революционная интеллигенция, не у «деревенской бедноты», а у ее социального противника — у так ненавистного интеллигенту-народнику сельского
кулака, которого этот интеллигент готов был зачислить в первые друзья исправника и помещика. Уже так хорошо знавший русскую деревню Энгельгардт в начале 80-х годов
предостерегал от этой ошибки поверхностного народничества.
«Богачи-кулаки, это — самые крайние либералы в деревне, — писал он, —
самые яростные противники господ, которых они мало того, что ненавидят, но и презирают, как людей, по их мнению, ни к чему не способных, никуда не годных. Богачей-кулаков хотя иногда и ненавидят в деревне, но как либералов всегда слушают, а потому значение их в деревне в этом смысле громадное. При всех толках о земле, переделе, о равнении кулаки-богачи более всех говорят о том, что вот-де у господ земля пустует, а мужикам затеснение, что будь земля в мужицких руках, она не пустовала бы, и хлеб не был бы так дорог»
[263]. Двадцать пять лет спустя мы застаем в деревне ту же самую картину. Один балашовский, Саратовской губернии, помещик писал Вольному экономическому обществу в начале 1908 года: «Верхний зажиточный слой крестьянства овладел аграрным движением. «Чумазый», который так недавно хватал «сицилистов» и представил по начальству, теперь почти целиком записался в ряды революционеров». Балашовский помещик, как видим, разделял общенароднический предрассудок о реакционности «кулака», — ему наблюдаемое казалось свежей новостью, хотя деревенские пропагандисты, и социал-демократы, и социалисты-революционеры, еще лет за пять согласно отмечали то же самое явление. Но продолжим выписку, — вот
что говорил «чумазый»: «Купцу и барину земля без надобности: сами земли не пашут и за хозяйством не доглядывают. А
бедному мужику земля и совсем ни к чему: он и с наделом управиться не может. Неурожаи от непропашки; нужны хороший скот, сбруя, семена, плуг, хороший ремонт, да денег в кармане на случай неурожая. А бедный мужик только царским пайком и дышит.
Безземельных да малоземельных наделять — это все барские затеи: надел изгадили и банковскую землю изгадят. Банк землю должен хозяйственным мужикам определять, да не по 13 десятин на двор, а по 50, по 100». «Таковы речи, которые мне чуть не каждый день приходится слышать от хозяйственных мужиков,
причисляющих себя обыкновенно к левым партиям», — резюмирует корреспондент Вольного экономического общества
[264]. Единственный элемент деревни, у которого интеллигенция могла встретить политическое понимание, оказывался «по ту сторону баррикады» в социальном отношении. Ибо, не нужно этого забывать, наша крайняя левая интеллигенция и в начале XX века продолжала оставаться
социалистической, какой она была в 70-х годах XIX столетия; и причина была та же: по-прежнему главный корпус этой интеллигенции составляло
студенчество.
Читатель-интеллигент, быть может, обидится на такое отождествление революционной интеллигенции с «возрастной категорией», столь ядовито отмеченной в свое время буржуазной публицистикой. Но клевета (или ошибка: мы не беремся судить — чужая душа потемки) буржуазного публициста заключалась в том, что он, сознательно или бессознательно, выдавал
часть за целое. Ни рабочую, ни крестьянскую революцию не приурочишь к определенному возрасту: и тут молодежь была подвижнее и решительнее, но, поскольку движение было массовым, в нем смешивались все поколения. Что касается третьей струи революционного движения, интеллигентской, то тут старшие поколения появились на сцене необыкновенно поздно. Только зима 1904/05 года увидела
массовое движение «третьего элемента» и представителей свободных профессий: до этого в данной среде движение не выходило из
кружковой стадии, масса даже не без пугливости сторонилась «радикалов», с которыми еще беды наживешь… Но к этому времени студенчество «бунтовало» уже лет пять, — а если считать «академический» период движения, то и лет пятнадцать. Беспристрастная история должна свидетельствовать, что в
пределах интеллигентской революции буржуазный публицист был прав, если не для того именно момента, когда он писал (осенью 1905 года под ружьем были уже все возрасты русской интеллигенции), то вообще: а если этот публицист не заметил ни крестьян, ни рабочих, так на то он и был
буржуазный публицист, а не пролетарский или крестьянский. Студенческое движение, предшествовавшее 1905 году, не нуждается в подробном описании для своего понимания: ибо и в своих причинах, и в своей форме, и в своих исходных требованиях оно было точной копией движений 60-х и 70-х годов, отличаясь от них только
размерами: тогда участвовали сотни, теперь тысячи. Почва была та же самая. Экономическое положение студенчества, всегда в России неважное, к 90-м годам заметно ухудшилось от целого ряда причин: увеличение платы за ученье, сокращение стипендий, введение формы, вызвавшей лишние расходы, более тяжелой конкуренции в поисках заработка — благодаря быстрому росту числа слушателей и слушательниц высших учебных заведений и т. д. В 1880 году плата за слушание лекций в среднем на каждого студента составляла 28 р. в год; в 1894 — 37 р. В то же время расход на стипендии, в 1880 году составлявший в среднем на слушателя 62 р., в 1884 году упал до 37 р., а в 1891 году до 23 р. 30 к. В 1884 году было освобождено от платы 26,3 % всех студентов, в 1891 году — 16,5 %. Число студентов всех русских университетов выросло с 8193 человек (1880 год) до 13 944 в 1894 году, причем в столичных университетах оно росло быстрее, нежели в провинции: Московский, например, университет, имевший в 1880 году 1881 слушателя, в 1894 году считал уже 3761 — вдвое более; в первом названном году московские студенты составляли 22,9 % всех русских студентов, в последнем процент повысился до 27,5
[265]. На ухудшение своего материального положения студенчество с конца 80-х годов начинает реагировать, как это раньше бывало, попытками взаимопомощи: и не случайно именно в Московском университете, где замечалось наибольшее скопление студентов, начинают быстро расти
землячества, — к 1894 году их считалось 43, с общим числом членов до 1700 — почти половина всего числа студентов Московского университета. Объединявший эти землячества Союзный совет, в глазах московской публики того времени был таинственным учреждением, чуть не вроде исполнительного комитета партии Народной воли. На самом деле это была организация в высокой степени мирная и благонамеренная, стремившаяся «рассеять ходячие ложные представления в обществе о студенческой организации и вызвать его сочувствие, заставить администрацию считаться с ней, понять ее неизбежность, целесообразность, справедливость ее требований, безопасность ее существования для общественного спокойствия и порядка…»
[266]. Если ей приходилось прибегать к конспирации, то только потому, что устав 1884 года, рассматривавший каждого студента как «отдельного посетителя университета», не допускал и мысли о возможности каких бы то ни было студенческих организаций, хотя бы самого «академического» типа. Хор и оркестр — и то под неусыпным наблюдением субинспекторов — это был максимум того, что допускалось начальством; собираться вместе для чтения научных рефератов можно было уже только на конспиративных началах. Тем более страшна была организация, имевшая свою
кассу (подумайте только!): начальство — нужно сказать, правильно ценившее свою репутацию — было убеждено, что если молодежь собирает деньги, то не иначе, как с революционными целями; ибо уже если молодежь не даст ли копейки на революцию, то кто же тогда даст? На этом маленьком примере мы можем видеть, как полицейская тактика всегда ровно на поколение отставала от событий. Свирепое преследование студенческих касс вдохновлялось, очевидно, воспоминаниями о Народной воле, материально обеспечивавшейся, действительно, только теми весьма скудными средствами, которые притекали к ней из «общества»; того, что у революционного движения 90-х годов вырастает под ногами почва гораздо более твердая в виде все более и более возбуждавшихся рабочих и крестьянских масс, начальство просто не замечало до тех пор, пока эти массы не хлынули в те самые аудитории, где начальство «содержало» своих «отдельных слушателей». Тогда начальство, наверно, с глубоким сожалением вздохнуло о гнавшихся им за десять лет перед тем академических организациях. А эти последние так далеки были от того, чтобы создавать боевые кассы для революции, что лишь к 1901 году, когда «политика» уже царила в университетах, петербургская касса взаимопомощи додумалась до «пожертвования каждым студентом 5 % месячного дохода на революционные цели». Да и это была скорее угроза, чем реальное практическое предложение. «Если бы мы протестовали каждый раз таким способом, то этим скорее добились бы исполнения наших требований, чем отбыванием воинской повинности», говорила «касса взаимопомощи». К этому времени начальство давно уже трактовало студенческое движение как разновидность революционного: «Временными правилами» от 1899 года постановлено было за участие в студенческих «беспорядках» отдавать в солдаты без очереди. Но сами студенты еще весною этого года ни о чем так не заботились, как о том, чтобы в своих выступлениях не нарушить полицейского порядка. В официальном докладе Банковского по поводу студенческих волнений 1899 года в Петербурге мы находим такие, например, строки: «В текущем году студенты подавляющим большинством решили 8 февраля не устраивать никаких шествий, увеселительных заведений вечером и ночью этого дня не посещать, выходить из университета по окончании акта не толпою, а отдельными группами и
избегать всяких столкновений с полицией». А когда благодаря бестактности министра народного просвещения Боголепова, пожелавшего непременно «пригрозить» ничего еще на этот раз не сделавшим студентам, бестактности, усугубленной ректором Сергеевичем, вывесившим в университете нарочито вызывающее объявление, «беспорядки» все-таки начались, собралась сходка, на ней еще раз «было подтверждено о необходимости соблюдать в день акта порядок на улице и избегать всяких столкновений с полицией». Для осуществления этого решения были приняты особые меры: «В дверях университета были поставлены особые счетчики из студентов, которые с часами в руках выпускали на улицу через каждые 1–2 мин 6–8 товарищей; некоторые пробовали запевать песни на улице, но тотчас были останавливаемы другими… По удостоверению свидетеля-очевидца, поручика жандармского дивизиона Марковича, студенты выходили чинно; по словам проф. Введенского, — никогда еще студенты не выходили из университета в таком порядке». Но никакая «чинность» не помогла, — охранка желала, чтобы непременно были «беспорядки», и ей удалось их провоцировать. Только приведение в действие диких «Временных правил» 1899 года (студенчество долго хотело думать, что это лишь пустая угроза), отдача в солдаты 183 студентов Киевского университета в 1901 году, окончательно погубило идею легальной борьбы за профессиональные студенческие нужды. Московская сходка 9 февраля 1902 года приняла такую резолюцию: «Считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего русского бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований…»
[267]. И, хотя демонстранты 9 февраля тщетно ждали появления перед Московским университетом «кадров рабочих» (в Москве тогда ходил слух, что этот абсентеизм рабочих не был случайностью: все пути от фабричных окраин к центру города были в этот день заняты усиленными нарядами полиции и казаков), упоминание о них в резолюции не было фразой: именно наличность революционного рабочего движения сделала движение студенческое окончательно и бесповоротно революционным.
Из этого, казалось бы, само собою вытекало, что идеология рабочего движения должна была стать идеологией и студенческого, что передовыми студенческими группами должен был быть усвоен марксизм, в его революционном аспекте (т. е. учение самого Маркса, а не приспособление этого учения к германской конституции, например). Это, однако, случилось только отчасти. Правда, руководящий состав социал-демократических кружков 90-х годов и социал-демократической партии начала 90-х пополнялся преимущественно из рядов учащейся молодежи; но масса этой последней, несомненно, чем далее, тем более тяготела к революционному народничеству, в отдельных кружках пережившему разгром «Народной воли» ив 1901 году официально возродившемуся в партии социалистов-революционеров. Причины этого тяготения студенчества к народническому социализму в основе были те же, что и в 70-х годах, — они уже выяснены нами ранее, и мы не будем возвращаться к этому вопросу
[268]. Разница только в том, что теперь у народнического социализма как будто была под ногами недостававшая ему за двадцать лет перед этим почва в лице разгоравшегося с каждым годом крестьянского движения. Говорим «как будто», потому что на самом деле, как мы видели, политически наиболее сознательные элементы крестьянства всего дальше были от какого бы то ни было социализма. Но революционное народничество 1900-х годов далеко не было только повторением 70-х: народовольческая стадия движения не прошла бесследно, и молодежь привлекала к социалистам-революционерам не только, лучше сказать, не столько вера в общину и другие залоги своеобразного российского коммунизма, сколько острый политический интерес, сказавшийся всего сильнее в террористической тактике этой партии, с этой стороны являвшейся формальным возрождением народовольчества. В этом пункте социалисты-революционеры даже отрывались от только что обретенной народничеством реальной почвы: мы помним, что террор народовольцев был заменой отсутствовавшего массового движения; «герои» потому и понадобились, что не было «толпы». Теперь последняя была налицо — в образе волновавшегося крестьянства: казалось, что оставалось делать другого, как не организовывать это крестьянство, стремясь отдельные «бунты» довести до размеров и сознательности народного движения, — словом, что оставалось делать, как не то, к чему безуспешно и безнадежно стремились «бунтари» 70-х годов? На самом деле, образование революционного «крестьянского союза» пришло лишь в последний час, когда движение само собою начинало уже превращаться в революцию. Задолго до этого работала уже «боевая организация партии с.-p.», и совершались террористические выступления, по большей части не имевшие никакого отношения не только к народническому социализму (таких, конечно, вовсе не было), но даже и к крестьянскому движению вообще (таким было только одно: неудачное покушение Фомы Качу-ры на жизнь «усмирителя» харьковских крестьян, харьковского губернатора кн. Оболенского). Попытка сочетать народовольчество с землевольчеством на практике, таким образом, не удалась, — и народовольчество победило. Но и у той, и у другой фазы народнического социализма теоретически был различный классовый фундамент: землевольчество надеялось опереться на крестьянство, народовольцы мечтали использовать оппозиционную буржуазию.
Социалисты-революционеры в обоих отношениях оказались счастливее своего старшего поколения: к их услугам было не только не фантастическое, а вполне реальное крестьянское движение, но и не фантастическая, а вполне реальная буржуазная оппозиция. И так как последняя была ближе, виднее, ее поддержка была осязательнее, ее понимания было легче добиться, то искушение, в которое впала революционная молодежь, вполне понятно: а что в дальнейшем обе социальные базы народнического движения могут стать на дыбы друг против друга, что именно крестьянская революция может отбросить направо (и как далеко!) буржуазную оппозицию — это предусматривал в 1879 году Желябов, но не предусмотрели в 1904–1905 годах социалисты-революционеры. Менее счастливые их предшественники обнаружили больше политической проницательности.
Буржуазная оппозиция, о которой идет речь, не охватывала собою промышленной буржуазии. Эта последняя, в силу глубоких экономических оснований, была консервативной, и в 90-х годах, и еще более в 1900-х — кризис, как всегда, оттолкнул ее еще дальше вправо. Только лет 10 спустя, с новым промышленным подъемом и с увеличившимся значением национального накопления в промышленности, фабриканты и заводчики стали леветь, — и то очень медленно, не дальше «прогрессизма», иначе говоря, либерализма недемократического даже в теории. В 1904–1905 годах только панический ужас перед надвинувшейся революцией мог заставить их пойти на уступки, взятые назад тотчас же, как только ужас прошел. Вот почему глубоко не историческим является то объяснение, в силу которого «отказ» буржуазии от революции был последствием «неумеренности» социал-демократов: умеренны или неумеренны были рабочие и их партия, они обращались со своими требованиями к такому «союзнику», который ни о чем другом не мечтал, как только о том, чтобы дезертировать при первой возможности. Та часть буржуазной публицистики, которая пришла в ужас после октябрьской забастовки 1905 года, смотрела на вещи слишком «из города», в этом отношении вполне разделяя ошибку своих антагонистов, социал-демократов: как тем казалось, что в городе вся сила, так этим чудилось, что здесь все зло. А на самом деле как раз такой силы, которая смогла бы причинить «все зло», здесь и не было. Иначе стояло дело в деревне. Как это ни странно покажется на первый взгляд, но добившееся, в пределах мыслимого, восстановления дореформенного права земельное дворянство очень скоро оказалось в оппозиции к тому правительству, которое провело столь благодетельные для помещиков «реформы» 80-х годов. Экономическую подоплеку этой оппозиции помещики назвали сами — нет надобности о ней гадать. На Всероссийском съезде сельских хозяев в 1895 году держались такие речи: «Наш сельскохозяйственный кризис есть последствие колоссального нарушения равновесия между обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством, в привилегиях первой и угнетении в ее пользу второго. Если высшая державная власть, в доброжелательстве и заботливости которой мы нимало не сомневаемся, не придет к нам на помощь, то нам останется одно: с ясным сознанием причин подавляющего нас критического положения идти к неминуемому и общему разорению»
[269]. Исторически нельзя было сказать большего вздора: критическое положение русских землевладельцев зависело от мирового кризиса, в свою очередь, вовсе не зависевшего от русского правительства. Это правительство, учреждением крестьянского и дворянского банков и разными иными воспособлениями давным-давно «пришло на помощь» землевладельцам в максимальной степени. На разные неприятные для этих землевладельцев меры, вроде высокого таможенного тарифа, правительство пошло поневоле, так как иначе невозможно было добыть из-за границы денег, необходимых для поддержания того же дворянского государства. Словом, сердиться на правительство было совершенно не за что, но обозленный своим личным разорением дворянин не разбирал и, впервые после пятнадцатилетнего промежутка начинал опять прислушиваться к голосу оппозиции, слабо, гораздо слабее даже, чем в 1880 году, но все еще звучавшему изредка в земских собраниях. В начале того же 1895 года этой оппозиции удалось добиться от целого ряда губернских земских собраний (Тверского, Тульского, Уфимского, Полтавского, Саратовского, Тамбовского, Орловского, Курского и Черниговского) подачи адресов, доходивших до весьма прозрачных намеков на желательность совещательного народного представительства
[270]. Все на свете относительно, и после дикого разгула черносотенства в предшествующее десятилетие даже такое пожелание, особенно высказанное устами
дворян, хотя и одетых в «земский» костюм, говорило многое. В частных беседах говорилось, конечно, гораздо больше, и немудрено, что уже в те годы нашлась группа интеллигентов, проповедывавшая «отказ от социализма» (приблизительно наподобие народовольцев), дабы опереться на земскую оппозицию в попытке серьезного политического переворота. За этой партией Народного права земцы, однако, не пошли, ограничившись верноподданническими адресами, — а так как и более серьезная часть революционной молодежи к ней не примкнула, то попытка дальнейших последствий не имела, и «провал» народоправцев, арест их главного штаба полицией, положил конец существованию всей партии. Но влияние оппозиции в земских собраниях становилось все больше, а ее программа все шире, и тут мало-помалу между самодержавно-буржуазным правительством и его дворянством стало намечаться уже действительно принципиальное расхождение. Аграрный кризис проходил мало-помалу, аграрный капитализм возрождался, возрождение аграрного капитализма означало собою и возрождение дворянского «манчестерства». Уже в адресах 1894–1895 годов, как их толковала оппозиция (едва ли это было толкованием большинства тех земских собраний, которые принимали адреса), была
гражданского равноправия крестьянства: новое крепостное право оказывалось уже невыгодным, а потому нежелательным и несимпатичным. «Комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (1902–1903) показали, что возродившееся дворянское «манчестерство» захватило очень широкие круги. Земские съезды, начиная с 1902 года, все определеннее усваивают себе конституционную точку зрения. Аналогичный партии Народного права Союз освобождения (в котором вопрос о социализме не устранялся, а просто замалчивался) делает уже гораздо более успешную попытку опереться на «левых земцев», которые под давлением «освобожденской» интеллигенции (преимущественно из земского «третьего элемента») доходят до программы почти демократической. А под давлением самих «левых земцев» «Частное совещание земских деятелей» 6–9 ноября 1904 года, представлявшее собою если не «большую часть русского общества», как оно само о себе думало, то все же очень широкие земские круги, подавляющим большинством приняло резолюцию о необходимости уже не совещательного, а настоящего народного представительства: за совещательный Земский собор высказалось меньшинство, — что было максимумом в 1894 году, стало минимумом в 1904 году. То, чего тщетно ждали народовольцы, буржуазное политическое движение, несомненно, существовало уже в России в начале XX столетия и, как ни тщательно отгораживало оно себя от революции
[271], волей-неволей, на ближнем этапе до конституции, это были попутчики. Но поместное дворянство, добиваясь в лице земцев упразднения самодержавия, вовсе не добивалось самоупразднения: и когда крестьянское движение обнаружило явную тенденцию взяться сначала не за политическую вершину дворянского государства, а за его экономическое основание, единственный буржуазный попутчик революции быстро отстал и прибег даже снова к весьма оригинальной форме правительственного «воспособления», арендуя на льготных условиях казенные пулеметы для защиты своих имений от тех самых, на ком строила все свои надежды народническая революция. Буржуазия сомкнулась в одну сплошную реакционную массу, которая, навалившись всей своей тяжестью, задавила бы при современных средствах борьбы движение и более серьезное, чем наша деревенская революция. А охваченному кольцом «усмиренных» деревень городу ничего другого не осталось, как сдаться…

Синхрометрические таблицы
IV век
Главные события всемирной истории
Западная Римская империя (со столицей в Римс) начинает разлагаться; ее провинции занимаются понемногу «варварами» (германцами — предками теперешних немцев, голландцев, англичан, швейцарцев и т. д.). На первое место начинает выдвигаться
Восточная Римская империя, со столицей в Константинополе (Византия), на греческой основе.
Территория, занятая русским племенем
Первые упоминания об
антах (славянах) между низовьями Дуная и Доном.
Главные события внешней истории
Набеги антов на Восточную империю.
Главные события внутренней истории
Ничего не известно.
V–VII века
Главные события всемирной истории
Расцвет Восточной империи, которая при Юстиниане (527–565) завладевает почти всем бассейном Средиземного моря; на основе рабского и крепостного труда возникает яркая и блестящая
византийская (греческая)
культура.
Территория, занятая русским племенем
«Бесчисленное множество»
антов у Азовского моря.
Главные события внешней истории
Набеги славян на империю Юстиниана; византийское правительство устраивает против них оборонительную линию по Дунаю.
Главные события внутренней истории
Рассказы византийских писателей о славянах как дикарях; бродячее земледелие и лесные промыслы; живут
родами, т. е. большими семьями.
VIII–IX века
Главные события всемирной истории
В Западной Европе вновь образуется Западная империя из разрозненных ранее германских племен; в нынешней Персии и Азиатской Турции образуется огромная империя арабов (халифат), которая начинает теснить Византийскую империю.
Территория, занятая русским племенем
Кочевники оттесняют понемногу славян от Черного и Азовского морей, но славяне распространяются севернее, в бассейне р. Днепр (до верховьев Волги и Оки к северо-востоку).
Главные события внешней истории
Появление на русской равнине
варягов (норманнов) в качестве разбойников, поставлявших на восточные, византийские и арабские рынки живой товар — невольников, а также предметы роскоши, меха. 862 год условно долго считался годом «основания русского государства».
Главные события внутренней истории
Славянские роды смыкаются в племена (славяне, кривичи, дреговичи, древляне, поляне, дулебы и бужанс, или волыняне, тиверцы и уличи, радимичи, вятичи, северяне), с
князьями во главе. Племенные
веча.
X век
Главные события всемирной истории
Византия в борьбе с арабами начинает искать помощи между прочим и у русских славян; с ними завязываются тесные сношения; византийские миссионеры стараются подчинить их влиянию византийской культуры, сталкиваясь при этом с пропагандой западных миссионеров из Рима и Западной империи. Славяне принимают азбуку
греческого образца, чем технически обеспечивается перевес Византии.
Территория, занятая русским племенем
Славяне, организуемые норманнами, начинают вести успешную борьбу с кочевниками, вновь пробиваясь к берегам Черного и Азовского морей. С другой стороны, славянская колонизация спускается вниз по Оке и верхней Волге (Ростов, Муром, Суздаль), оттесняя
финские племена и пробиваясь к странам
арабской культуры (волжские болгары).
Главные события внешней истории
Образование варяжских княжеств, смыкающихся — не очень тесно — в большую варяжскую державу, с центром в Киеве. Оживленные дружеские и враждебные соприкосновения киевских князей с Византией. Первые
исторические князья, известные нам по именам (Олег, Игорь, Святослав, Владимир). Первые
исторические события русской истории, годы которых нам известны (набег Олега на Константинополь 907 года, первый договор Киевской державы с Византией 911 года и т. д.).
Главные события внутренней истории
Племенной быт переходит в
городской; туземные славянские князья сменяются норманнами, которые правят не из старых племенных центров, а из своих стоянок по речному пути «из варяг в греки», превращающихся мало-помалу в города (Киев, Чернигов, Переяславль, Любеч, Смоленск, Полоцк, Новгород). Над сельским населением вырастает городская рабовладельческая аристократия (бояре и старцы градские), стремящаяся резко отделиться от массы «смердов» и принимающая вслед за князьями византийскую культуру (так называемое «крещение Руси» при Владимире, в 987–989 годах, с внешней стороны — как результат формального
союза Византийской империи и киевского князя). Первая запись судебных обычаев (древнейшая редакция «Русской правды»).
XI век
Главные события всемирной истории
Западная империя распадается на ряд мелких государств, слабо объединяющихся в группы по
национальному признаку (королевства: французское, английское, германское и т. д.). Развитие торговых сношений и образование
торговых центров — ранее всего в Италии, потом в Западной Германии, Франции и т. д. Под влиянием торговой буржуазии и главного центра первоначального накопления той эпохи, папского Рима (церковной столицы всего Запада), набеги западных норманнов на Византийскую империю превращаются в
крестовые походы (Клсрмонский собор в 1095 г.), на словах — для «освобождения Гроба Господня», на деле — для захвата в руки итальянцев, французов и западных немцев торговли с Востоком, ранее бывшей в руках греков и арабов.
Территория, занятая русским племенем
Славяне все более плотно заселяют междуречье Оки и Волги, где возникает целый ряд новых городов (Владимир и пр.) и княжеств. Движение на юг приостановлено новой волной кочевников (половцы).
Главные события внешней истории
Первая половина века отмечена окончательным разгромом старого кочевого населения южнорусских степей
(печенегов киевским князем Ярославом в 1034 году). Вторая — появлением новой, гораздо более сильной орды кочевников,
половцев, в свою очередь разгромивших сыновей Ярослава (1068). Конец века наполнен борьбой с половцами.
Главные события внутренней истории
Образование в городах многочисленного торгово-ремесленного населения, которое эксплуатируется ростовщическим капиталом в лице городской аристократии. Начало классовой борьбы. Первая киевская революция 1068 года. Сборники судебных обычаев — «Русская правда» второй и дальнейших редакций, отражающая уже следы классовой борьбы.
XII век
Главные события всемирной истории
Византийская империя разлагается, вес более и более оттесняемая на второй план «крестоносцами», то есть западноевропейским торговым капиталом. Передвижка мировых торговых путей из Восточной Европы в Западную (путь Константинополь — Западная Европа через Днепр сменяется путем Средиземное морс — альпийские проходы — Рейн).
Территория, занятая русским племенем
Продолжающаяся колонизация северо-восточной (суздальской) Руси, где окончательно складывается
третий славянский центр на русской равнине, равносильный двум более старым — киевскому (то, что в то время именно и называлось Русью) и новгородскому. Первое упоминание о Москве (1147). Образование в Москве узлового пункта одного из новых княжеств (постройка московского кремля в 1156 году). Продолжение колонизации на восток в 1181 г. Новгородцы основывают Хлынов (Вятку).
Главные события внешней истории
Продолжение борьбы с половцами, все менее и менее удачной, по мере постепенного развала киевской державы, под влиянием противоположных интересов различных городов, что выражается рядом междугородских войн (так называемой «усобицы князей»). Старый центр, Киев, опустошив все вокруг себя, падает жертвой нового северо-восточного центра, Владимира (разгром Киева войсками суздальско-владимирского князя Андрея Боголюбского в 1169 году).
Главные события внутренней истории
Расцвет городской демократии на юго-западе и начало демократического движения на севере и северо-востоке. Вторая киевская революция (1113). Ограничения произвола ростовщического капитала; князь Владимир Мономах; «Мо-номахова правда». Духовенство пытается спасти княжескую власть, идеализируя ее (легенда о призвании князей), но это не мешает тому), что
киевское вече становится рядом с князем (1146–1147). Революция на северо-востоке: убийство Андрея Боголюбского и двукратное восстание Владимира против княжеской власти (1175 и 1177). Зарождение новгородской демократии (1126 — первый выборный посадник). Расцвет дружинной поэзии и церковно-публицистической литературы («Слово о полку Игореве» и летописные своды).
XIII век
Главные события всемирной истории
В начале столетия во главе стоит еще старое гнездо торгового капитала — Италия. Папа Иннокентий III (1198–1216) организует 4-й крестовый поход, во время которого французские рыцари, руководимые итальянскими (венецианскими) купцами, берут и грабят Константинополь (1204). Византийская империя фактически перестает существовать с этого времени. Одновременно в южной Италии возникает первое
национальное государство торгового капитала (Неаполитанское королевство Фридриха II Гогенштауфена, около 1230–1250 годов). Но очень быстро торговый капитал создаст и другие национальные объединения, раньше всего во Франции (крестовый поход короля Людовика «Святого», 1249). К XIV веку всюду на основе торгового капитала начинает складываться
централизованная бюрократическая монархия. (Кроме Англии — «хартия вольностей», 1215, первый парламент, 1265). Церковное ростовщичество начинает вызывать отпор народных масс, особенно более развитых горожан, — отпор, облеченный также в религиозную форму: учения, что церковь «не настоящая» (так называемые «средневековые ереси», катары или альбигойцы, патарсны, тиссераны (ткачи). Церковь душит «еретиков» со зверской жестокостью («крестовые походы на альбигойцев», 1209–1229;
инквизиция).
Территория, занятая русским племенем
Земли вокруг Киева («Русь» в собственном смысле слова) все более пустеют и после татарского нашествия (см. соседний столбец справа) совсем выходят из русской истории до XV столетия. На сцене остаются северо-западный и северо-восточный центры (Новгород и Суздальская земля, где руководящие городские центры меняются — сначала Владимир, затем Тверь, наконец, Москва). Новгородцы в погоне за мехами и серебром все дальше углубляются на восток, в
Заволочье (страну по ту сторону «волока» — водораздела между бассейном Сев. Двины, с одной стороны, бассейном волжским и Балтийского моря — с другой). Заволочье — это нынешние Архангельская, Ссвсро-Двинская, отчасти Вятская и Пермская губернии.
Главные события внешней истории
Падение Византии окончательно обессмысливает торговый путь «из варяг в греки» и уничтожает последнюю спайку былой Киевской державы. Русь дробится все более и более («удельный период»). И раньше плохо выдерживая борьбу с половцами, отдельные княжества оказываются совершенно бессильны объединиться для борьбы с новой и еще более страшной степной ордой —
татарами (битва на Калке, 1224, нашествие Батыя, 1237–1240). Юго-западная Русь была опустошена более всего и окончательно добита; северо-западная отделалась признанием власти хана и уплатой дани (татарское «число» в Новгороде, 1259). Северо-восточная, сильно опустошенная, была подчинена татарам, фактически сделавшись предметом эксплуатации восточного «ордынского» капитала, что клало зерно ее будущего объединения под властью главного ханского приказчика, каким стал в следующем столетии князь московский.
С этого времени направление внешней политики северо-западного и северо-восточного центров резко разделяется: Новгород наступает на северо-востоке и отбивается на западе (разгром шведских «крестоносцев» на Неве, 1240, и немецких на Чудском озере, 1242), Москва смотрит на юг и юго-восток.
Главные события внутренней истории
Однообразное развитие русского города в сторону демократии, наблюдавшееся вами в предшествующем столетии, дробится: юго-западные вечевые города исчезают, в северо-восточной Руси, после ряда неудачных восстаний (в Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле в 1262 и 1289 гг.), князья при помощи татар решительно берут верх над вечем, но, не опираясь более на городскую силу, вынуждены поделиться властью с крупным землевладением: северо-восточная Русь, начиная с XIII века, окончательно
феодализируется, подобляясь Западной Европе X–XI веков. В Новгороде, наоборот, демократическое развитие продолжается беспрепятственно (1209 — новгородская революция, аналогичная киевской 1113 года; 1218 — выборные городской общины становятся несменяемыми для князя; 1265 — первая писаная новгородская конституция, грамота, по которой присягал князь Ярослав Ярославин, брат Невского). Попытка Александра Невского (1236–1263), пользуясь затруднительным положением Новгорода в борьбе с западными «крестоносцами» и опираясь на татарскую помощь, провести и здесь суздальские порядки, успеха не имела. Новгород становится фактически
вечевой республикой: князь опускается до положения наемного главнокомандующего.
Ближайшие соседи русского племени
Шведы завоевывают Финляндию (основание Выборга — 1293) и подходят вплотную к новгородской земле. На восточных берегах Балтийского моря развивается немецкая колонизация (орден «меченосцев»; основание Риги — 1201). Пользуясь ослаблением южной Руси, Литва, которая раньше была предметом русских набегов, начинает отчасти из обломков южной Руси образовывать самостоятельное государство (князь Миндовг, умерший в 1263; Витовт, 1293–1316).
В середине века образуется союз севере- и западногерманских городов (Любек, Гамбург, Бремен и вестфальские города, так называемая Ганза, 1256), втянувший в сеть своих торговых операций и Новгород, где была одна из ганзейских контор. Для Ганзы Новгород был главным источником
пушного товара и рынком сбыта западноевропейской мануфактуры, главным образом
сукна. В 1261 году греки прогоняют «крестоносцев» из Константинополя, и Византийская империя возрождается в виде маленького государства; Константинополь сохраняет значение церковной столицы православия, экономически он остается в руках итальянских купцов.
XIV век
Главные события всемирной истории
В Западной Европе окончательно складывается национальное государство торгового капитала в виде централизованной бюрократической монархии, раньше всего во Франции (Филипп «Красивый», 1285–1314), поднимающее знамя восстания против старых «накопителей» (борьба Филиппа с папой Бонифацием VIII; процесс
тамплиеров — одного из последних рыцарских орденов, образовавшихся в Палестине: истребление остатков «крестоносцев»). Но гнет торгового капитала, выражающийся в неслыханной прежде эксплуатации сельских и городских масс, вызывает, в свою очередь, восстания против новорожденной бюрократической монархии (восстание парижских горожан под предводительством Этьена Марселя, 1355–1358; «жакерия» — французская пугачевщина, 1358). В Англии аналогичные явления связаны с царствованием Эдуарда III (1327–1377), но орудием торгового капитала становится там не бюрократическая монархия, а парламент (так называемое «рабочее законодательство Эдуарда III»), массы ответили и на эту форму гнета тем же (восстание Уста Тайлера — 1381). Начало
борьбы за рынки: Столетняя война между Англией и Францией из-за Фландрии, мануфактурного центра тогдашней Европы (фландрские сукна, 1337–1453). В этой войне впервые появляется новый род оружия — огнестрельного (артиллерия).
Территория, занятая русским племенем
Приблизительно та же, что и в предыдущем столетии: давление татар с юга и юго-востока мешало движению в эту сторону. В Заволочье новгородцы, достигнув, с одной стороны, берегов Ледовитого океана, с другой — бассейна Печоры и Уральского хребта, не имели перед собой пространства, пригодного для колонизации. Далее на восток проникают только экспедиции за пушным товаром; одна из таких новгородских экспедиций, 1364 года, достигла берегов р. Оби; в погоне за мехами русские впервые вступили в Сибирь.
Главные события внешней истории
Основной факт — образование Московского великого княжества, охватывающего сначала бассейн р. Москвы (Можайск и Коломна), потом Москвы и Клязьмы, т. с. державшего в руках как связи западной Руси с восточной (Смоленска и Чернигова с Нижним-Новгородом), так и Новгорода с тогдашним югом России (Рязань). Узловое положение давало перевес городу Москве и московской буржуазии над остальными городами северо-восточного центра: Москва конца XIV века — вероятно, уже крупнейший город России после Новгорода и Пскова. Благодаря тому же узловому положению Москва становится центром
заграничной торговли с южными странами и Средней Азией, как Новгород — с Западной Европой (среднеазиатская торговая колония в Москве — улицы «Ордынки» — и русская на низовьях Волги; «сарайская епархия» еще в 1265; 1356 — «гости-сурожане», генуэзские купцы из Крыма в Москве). Внешним выражением этих торговых связей были политические связи московских князей с Ордой (Юрий Данилович, 1303–1324, женатый на сестре хана; Иван Калита, 1324–1341, главный ханский приказчик; «Симеон Гордый», 1341–1351, которому хан отдал «под руки» всех князей русских; Иван II, 1353–1359). Главным соперником Москвы была Тверь (бассейн верхней Волги — другая, более кружная, но более удобная дорога с запада на восток и из Новгорода на юг). Но Тверь, непосредственно командуя выходами из новгородской земли, являлась ближайшим соперником новгородской торговой аристократии, — последняя была естественным союзником Москвы; только разгромив Тверь, московская буржуазия решается сама выступить соперником Новгорода (первое столкновение Новгорода и Москвы из-за Заволочья, 1397–1398). Ранее этого, найдя точку опоры в ранних формах туземного «первоначального накопления» (церковь — ср. предыдущее столетие западноевропейской истории), Москва пытается стряхнуть власть ордынского капитала (Дмитрий Донской, 1362–1389; Куликовская битва, 1380), но неудачно (разгром Тохтамышем Москвы, 1382).
Главные события внутренней истории
Главной прогрессивной силой является
церковь, роль которой как представительницы
первоначального накопления начинается в России как раз тогда, когда в Западной Европе она заканчивается. Поднимается к этой роли церковь сначала в союзе с Ордой (ордынские «ярлыки» митрополитам Петру, Алексею [1357] и др.). Но уже очень скоро она начинает тяготиться этой зависимостью и подталкивать московского князя, превращенного ею в своего клиента (митрополит Алексей правит Московским княжеством в малолетство Дмитрия Донского), на борьбу с татарами (роль игумена Сергия в куликовском походе). Отождествляя свои интересы с интересами Москвы, церковь помогает этой последней
громить ее противников (Тверь, Нижний Новгород) и начинает поддерживать се в борьбе с Новгородом, где образовалась своя автономная церковь, связанная с новгородским торговым капитализмом и зреющая еще быстрее московской. Церковные вымогательства и здесь, как в Западной Европе, создают почву для «ересей» того же типа, что и западноевропейские («стригольники» стригали сукна — во Пскове, новгородском пригороде, который в 1348 году становится самостоятельным). Восстание московской буржуазии в 1382 году во время набега Тохтамыша.
Ближайшие соседи русского племени
Литовское государство продолжает расти за счет обломков старой «Руси» и все более превращается в «литовско-русское» (Гедимин, 1316–1341, завладевает Минском и Пинском; Ольгерд, 1345–1377, — Киевом, Черниговом, Волынью и Подолией; его племяник Витовт в 1395 году — Смоленском). Общая опасность от немецких «крестоновцсв», грабивших Литву и запиравших польской торговле дорогу к морю, повела к «унии» Польши и Литвы в 1386 году. На запад от Московского великого княжества вырастает огромная польско-литовская держава — союзница Твери и Новгорода против Москвы. На востоке Орда понемногу разваливается, но выделяющиеся из нее ханства — главным образом Казанское, Астраханское и Крымское — оказываются еще на первое время довольно сильными для Москвы противниками. Зато всякое политическое влияние утрачивает Византия, духовенство которой старается, по старой памяти, восстановить свое былое влияние на Руси, но безуспешно: русская церковь все более и более
национализируется.
XV век
Главные события всемирной истории
На Западе является классическим веком Возрождения, а также веком «изобретений и открытий». И Возрождение (подразумевается — древнего мира), выразившееся в расцвете литературы и искусства, и «открытия и изобретения» одинаково были дальнейшими последствиями развития капитализма. В самой Европе капитал не довольствуется уже эксплуатацией мелкого производителя, а начинает переходить к организации производства, ранее всего в Италии (флорентийские суконные и шелковые мануфактуры). Появляются первые зачатки кредита и биржи: средневековый «меняла» превращается в банкира (Медичи во Флоренции, Жак Кер во Франции и т. д.). Торговый капитал в погоне за прибылью начинает отправляться в далекие страны, ища прямой, непосредственной связи с Индией и Китаем (в поисках этого пути, теоретически разработанного уже тогдашними географами, Колумб открыл в 1492 году Америку; а шесть лет спустя португалец Васко де Гама нашел и сам морской путь в Индию). Промышленное предпринимательство создаст почву и для технических изобретений (самым важным был
типографский станок, 1450, сделавший промышленным предприятием изготовление книг, раньше бывшее в руках кустарей-переписчиков). Одновременно все больше и больше разваливается цитадель старого «первоначального накопления»; сжегши в 1415 году Яна Гуса, западная церковь празднует свою последнюю победу над «еретиками», но гуситы, восставшие крестьянские и мещанские массы, держатся целых полстолетия. В то же время попытки пап возобновить крестовые походы (против
турок) для спасения Константинополя, в 1439 году признавшего главенство западной церкви, терпят полное крушение. Константинополь в 1453 году взят турками; Византийская империя окончательно сходит с исторической сцены.
Территория, занятая русским племенем
Положение, в общем, прежнее. Распадение Орды дает временно некоторую возможность для движения на восток (московская рать на средней Волге, в «Булгарах» — 1431), но образование Казанского царства вновь останавливает движение. В последний год века москвичи переходят Уральский хребет на севере (из бассейна Печоры, 1499), продолжая новгородские движение предыдущих столетий.
Главные события внешней истории
Неудачная попытка сбросить Орду в 1380-х годах возвращает московских князей на привычную колею союза с татарами: Василий I (1389–1425) при их помощи захватывает Нижний Новгород — узел двух конкурировавших до тех пор торговых путей — тверского и московского. Северо-восточный центр и Московское великое княжество с этих пор почти сливаются. Последний спор двух путей разрешается уже в форме усобицы
внутри потомства Калиты (войны сына предыдущего, Василия Васильевича Темного, 1425–1462, с его дядей Юрием Галицким [Костромским] и сыновьями последнего — Васильсм Косым и Дмитрием Шемякой). Спор окончательно решается в пользу Москвы, только набеги татар (главные в 1408 и 1445, когда был взят в плен сам Василий Темный) напоминают Москве, что она не полная хозяйка. Успешнее идет начавшаяся еще в предыдущем столетии борьба с Новгородом из-за Заволочья. Москва теперь экономически господствовала над Новгородом, она могла не пустить к нему хлеба с «низу», т. с с юга, но в се же руках был весь рынок сбыта новгородских товаров. Ряд московско-новгородских войн (1417, 1441, 1456) кончаются формальным подчинением Новгородской республики московскому великому князю (вечевые грамоты действительны лишь с печатью великого князя, который получает право облагать новгородцев податью — «черным бором»). Последний удар Новгороду наносит сын Василия Темного, Иван III (1462–1503; с 1471 года Новгород становится в вассальные отношения к Москве, а его область оккупируется московской армией. Еще раньше (в 1456 г.) в такие же отношения попадает Рязань, а в 1485-м — Тверь. Год спустя эта старая соперница Москвы становится частью непосредственных владений Московского великого княжества, чем уже с 1463 года был другой верхне-волжский центр — Ярославль. Московское княжество превращается в
государство Московское. Его «самодержавность» закрепляется формальным прекращением отношений к Орде (падение монголо-татарского ига, 1480), что имело мало значения, ибо настоящими противниками были не Орда, а Казань и Крым.
Главные события внутренней истории
В Новгороде торговый капитализм окончательно складывается и переходит к эксплуатации массы населения (подобно тому, как это было в Западной Европе XIV в.), которое реагирует на это так же, как и на Западе (новгородское восстание, 1418). Но в первое время это идет лишь на пользу более отсталой Москве, которая опирается на новгородские раздоры при покорении Новгорода. В самой Москве начинает намечаться расслоение феодального общества: ниже крупного
вотчинного землевладения старых бояр и бывших князей просвечивает более широкий слой мелкого, но
честного землевладения (будущего дворянства). В раздел между ним идут конфискованные земли новгородского боярства, и оно является уже политической силой (совещание Ивана III со «всеми воями» в 1471 году перед походом на Новгород). Усиление влияния московской буржуазии сказывается в разгроме новгородской торговли (1494 — закрытие немецкого двора в Новгороде, что означало переселение центра заграничной торговли в Москву). Превращение Московского княжества в государство, охватывающее оба старых центра, северо-западный и северо-восточный (в юго-западном утверждается Литва, см. соседний столбец), создаст новую
идеологию: после «измены» Константинополя, признавшего в 1439 г. власть папы, московская церковная интеллигенция начинает учить, что центр православия отныне Москва — «третий рим»; отсюда логически вытекало, что московский великий князь есть наследник византийских императоров (внешнее выражение это нашло в женитьбе Ивана III на византийской принцессе Зое — у нас названной Софией — Палсолог в 1472 году). Новая идеология осмысливает такие факты, как захват Новгорода, облеченный в форму крестового похода, прекращение подчинения Орде и т. д. Комбинация «московский князь — церковь» сохраняется, но приобретает иной смысл: наверху становится князь, а церковь — его служебная сила. Попытки отдельных представителей власти обойтись вовсе без церкви (ересь «жидовствующих») оказываются преждевременными, но делают церковь еще более смирной и послушной.
Издание Судебника фиксирует право нового государства (1497).
Ближайшие соседи русского племени
Союз Литвы и Польши против Немецкого ордена даст блестящие результаты в начале века (1410 — разгром «крестоносцев» при Танненберге). Но затем Литва быстро подпадает под влияние экономически более развитой Польши, которая вытесняет литовцев из юго-западной Руси и полонизирует саму Литву. На месте литовско-русского государства начинает складываться польско-литовское (соглашение в Городно, 1413, — общий литовско-польский сейм). Поворот польско-литовской политики на запад и юг ослабляет Литву на востоке, где бывшие черниговские княжества переходят к Москве. Война Литвы против Москвы (1499) кончается поражением литовцев. Одновременно Москва, начиная пробиваться к берегам Финского залива, вступает в борьбу с другим остатком немецких «крестоносцев», Ливонским орденом (постройка Ивангорода против Нарвы в 1492).
XVI век
Главные события всемирной истории
Открытие Америки и морского пути в Индию имеет следствием новую передвижку мировых путей, несравненно крупнее той, которую произвели крестовые походы. «Средиземные» моря (южное, собственно так называемое, и Балтийское, «Средиземное» море Северной Европы), с впадающими в них реками, отступают на второй план и сохраняют лишь местное значение. Настоящей всемирной торговой дорогой становится океан, и руководящее значение сохраняют или приобретают лишь страны, владеющие выходами на океан. Из передовых стран средневековья в таком положении оказывается лишь
Франция, рядом с ней выдвигаются не игравшие до тех пор большой международной роли
Англия и
Испания. Напротив,
Германия, с се Рейном и балтийскими портами, центр средневекового торгового оборота, занимает уже второе место. И совсем теряет какую-либо руководящую экономическую роль
Италия — колыбель европейского торгового капитализма XI–XIII веков, еще в XV веке во многом показывавшая дорогу другим странам (банки и мануфактуры Флоренции, венецианская и генуэзская торговля; Америку открыл итальянец Колумб, действуя по плану итальянского географа Тосканслли; итальянское искусство эпохи «Возрождения» носит мировой характер и т. д.). Упадок Италии сделал совершенной бессмыслицей господство
римской церкви над всей Западной Европой. Оттого описанный экономический переворот сопровождается на всем Западе завершением того процесса образования
национальных церквей, который начался для Франции и Англии еще в XIV веке и продолжался для центральной Европы гуситскими войнами XV века. Причем для идеологического обоснования своей борьбы с Римом реформаторы (Лютер, 1483–1546, в Германии, Кальвин, 1509–1564, в романских странах и др.) в большей или меньшей степени пользовались идеями Возрождения, возникшими в мелкобуржуазной ремесленной среде и сводившимися в основе к
индивидуализму, требованию свободы личного суждения, критики и т. д.
На деле «свобода» нужна была лишь, пока шла борьба со старой церковью: как только возникала новая национальная государственная церковная власть (монархическая в лютеранской Германии и Англии, по большей части республиканская, но узкобуржуазная у кальвинистов), она к своим противникам применяла все приемы инквизиции. Наивнее поняли «свободу» народные массы, которые увидели в
реформации свержение всякого гнета, не только староцерковного, для массы в это время уже и не очень тяжелого (Крестьянская война в Германии, 1524–1525, Фома Мюнцер; анабаптисты в западной Германии, в Мюнстере, в 1536-м; и то и другое восстания были подавлены имущими классами с варварской жестокостью).
Территория, занятая русским племенем
Образование крупного государства в средней России (Московское государство к XVI веку охватывало приблизительно теперешние губернии: Московскую, Тверскую, Новгородскую, Череповецкую, Псковскую, восточную часть Смоленской (город Смоленск перешел в московские руки в 1522 году), северные части Калужской и Тульской, Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую, Иваново-Вознесенскую, Костромскую, Ярославскую, Вологодскую, большую часть Северо-Двинской и Архангельской) дало сильный толчок возобновлению колонизации в южном и юго-восточном направлениях, остановившейся с XIII века. Московское государство начинает наступать, с одной стороны, в Поволжье (постройка Свияжска — 1550, взятие Казани, 1552, Астрахани, 1556, постройка Самары, Саратова, Царицына и Уфы, 1580), с другой — в южнорусские степи (граница, проходившая в XV веке по Оке, берег которой для москвичей был «берегом» вообще, и ес верхнему притоку, Угре, передвигается на линию Рязань — Тула — Одосв — Мцснск, с рядом форпостов еще южнее: Орел, Новосиль, Данков в 1560-х годах, Ливны, Воронеж, Елец, Кромы в 1580–1590 годах; самым южным был Белгород). Вся эта колонизация носит
государственный характер и руководится из центра; еще южнее захлестывают волны нелегальной,
казацкой колонизации (первые упоминания о донских, волжских и уральских — «яицких» — казаках в 1540 году). На востоке эта «вольная» колонизация, под непосредственным руководством торгового капитала (Строгановы), начинает
завоевание Сибири (поход Ермака, 1581–1582); государственная колонизация здесь идет уже по ее следам (закладка Тюмени — 1585, Тобольска — 1587, Нарыма — 1596 и Томска — уже в 1604).
Главные события внешней истории
На внешней политике московских государей XVI века (Василий III, 1505–1533, Иван IV «Грозный», 1533–1584, Федор Иванович, 1534–1598) уже определенно начинают отражаться интересы начинающего концентрироваться в Москве
торгового капитала (ср. Францию и Англию XIV века). Московское правительство все более и более сознательно стремится к разрешению двух задач: 1) захватить в свое монопольное обладание речной путь из Европы в Азию (Балтийское море — Волга — Каспийское море) и 2) непосредственно связаться с «океанскими» западными странами. Кульминационного пункта эта политика достигает при Грозном в 1550-х годах, когда, с одной стороны, Москва становится хозяйкой всего волжского пути до самого Каспия, с другой — устанавливаются прямые сношения Москвы с Англией (Ричард Ченслер в Холмогорах и Москве в 1553 году, посланник Ивана IV, Непея, в Лондоне в 1557). Попытка выпрямить слишком кружной (Волга — Северная Двина — Белое морс — Ледовитый океан — Атлантический океан) на полгода запертый льдом путь, захватив один из балтийских портов (Нарву, в 1558 году), привела к
ливонской войне сначала с государством, основанным некогда крестоносцами (Ливонский орден), позже с Швецией и
Польшей, которая в руках Стефана Батория (1576–1586) и оказалась противником, неодолимым для Московского государства. Нарва была потеряна, и неудача первой попытки пробиться к берегам Балтики закреплена перемириями с Польшей (1582) и Швецией (1583). Возобновление наступления в 1590 году несколько сгладило впечатление ливонской неудачи, но не имело дальнейших последствий. Успешнее шла борьба на юге и на востоке, где не было таких противников, как Польша (см. соседний столбец слева). Но и тут крымские татары отвечали на московское наступление довольно жестокими ударами: особенно памятны остались москвичам набеги 1521 года и еще более 1571 года, когда крымцы сожгли весь московский «посад», не успев взять только Кремля. Но закрепить результаты этих набегов татары уже не могли и не задержали даже ими сколько-нибудь серьезно московского наступления (см. соседний столбец слева).
Главные события внутренней истории
Основным фактом внутренней истории Московского государства XVI века является
закрепощение крестьян, развертывающееся в форме длительного процесса, корни которого уходят еще в XV веке (Псковская судная грамота и
монастырские документы), а результаты закрепляются лишь в следующем — XVII веке. В основе процесса лежало начинавшее развиваться в связи с общим развитием обмена
торговое земледелие. Процесс обостряется во второй половине века, благодаря массовому отливу населения, вследствие колонизации на юг и юго-восток. Обострение выразилось рядом
указов о беглых, один из которых, 1597 года, послужил основанием для легенды о
государственном прикреплении крестьян, имевшем место якобы в 1592 году. Отсутствие формальной правительственной меры не мешает, однако, тому, что именно в это время зависимость крестьян от помещика чрезвычайно возросла (особое значение имели переписи 1590–1593 годов). Другим последствием запустения центральных уездов, наряду с погоней помещиков за рабочими руками, была свирепая
борьба из-за земли между средними и мелкими землевладельцами нового предпринимательского типа (дворянство), с одной стороны, и старыми феодальными вотчинниками (бояре и монастыри) — с другой. При этом обе борющиеся группы старались иметь на своей стороне нарождающуюся буржуазию, и обе одинаково стремились закрепостить крестьянство. Крупная буржуазия держалась сначала союза с боярами (особенно после московского бунта 1547 года) и от боярского правительства добивалась льгот (земские уставные грамоты, первая Важская, Архангельская губернии, 1552, отдача на «веру» сбора налогов крупным капиталистам с 1551. Губные учреждения — полицейский террор для крестьянства, 1539). Но общий реакционный характер боярской политики (Стоглавый собор, 1550, закрепление наследственных прав знатных боярских семей, составление «родословца», около того же времени; тогда же составлен
Царский судебник), а особенно ливонская неудача отбросили ее к дворянству. Переворот 1564–1565 годов (опричнина) дворянство и торговый капитал делают уже вместе. 1566 — первый Земский собор, 1584 — стеснение монастырского землевладения (отмена «тарханных грамот», обеспечивавших за монастырями их имения).
Ближайшие соседи русского племени
1569 — Люблинская уния; юго-западная Русь переходит непосредственно к Польше. 1596 — Брестская церковная уния — отделение «хлопской веры», православия, от «панской» — католицизм и униатство. «Хлопская» становится знаменем крестьянско-мещанского движения, опирающегося
на казачество. 1499 — первое упоминание о запорожцах; 1572 — попытка подчинить запорожцев польской администрации; 1595–1596 — начало больших казацких восстаний — бунт Наливайки и Лободы.
XVII век
Главные события всемирной истории
Продолжается эволюция, начавшаяся в предшествовавшем столетии. На первом плане остаются «океанские державы», Германия падает все более и более, став уже в первой половине века объектом борьбы опередивших ее стран (Тридцатилитняя война, 1618–1648). Но в этой борьбе рядом с Испанией (действующей через посаженную сю в Австрии династию наследников короля испанского и императора германского, Карла V, 1500–1558) и Францией выступает как решающая сила и северная «средиземноморская» неокеанская держава Швеция (Густав Адольф, 1594–1632); мировые захваты торгового капитализма океанских стран дают новый толчок в балтийской торговле, связывающей «океанские» государства с Восточной Европой, откуда к ним идет сырье (железо и лее из Швеции, хлеб из Польши и т. д.). Здесь до уровня «великих держав» поднимаются раньше других Польша и Швеция (см. последний столбец справа), позже Пруссия (Фридрих Вильгельм, «великий курфюрст», 1640–1688), составившаяся из остатков Немецкого ордена на нижней Висле и колонизованных немцами в середине века славянских областей к востоку от Эльбы, и
Россия. Но соотношение между самими океанскими странами меняется. Ранее всех выступившая и захватившая обширнейшие колонии Испания, величайшая держава XVI века, господствовавшая до начала XVII века и в военном, и в культурном отношении (испанская литература — Сервантес, — испанское искусство приобретает мировое значение), после ряда неудач, начинавшихся катастрофой грандиозной испанской экспедиции против Англии (так называемая «непобедимая армада», 1588), сходит на второй план, а к началу следующего столетия падает до положения Германии, становясь объектом англо-французской борьбы («война за испанское наследство» начинается в 1701). Великими океанскими державами становятся Франция и Англия притом в XVII века более первая, чем вторая (ей принадлежала большая часть доступной тогда для европейцев Северной Америки колонии в Индии и т. д., но и в Англии уже с 1602 года действует Ост-Индская кампания). Быстрое развитие капитализма в этих двух странах приводит к окончательной ликвидации феодальных отношений и в той, и в другой, но в диаметрально противоположных направлениях: в Англии после «Великого Бунта», являющегося одновременно последним взрывом «народной реформации» (1642–1649, см. предыдущую таблицу), окончательно утверждается парламентаризм (вторая революция — 1688). Во Франции после ряда неудачных восстаний дворян и отчасти буржуазии окончательно складывается централизованная бюрократическая монархия (Людовик XIV, 1643–1715). То же развитие капитализма дает в Англии, во Франции и в следующей за ними на третьем месте Голландии могучий толчок развитию научной и философской мысли (Декарт, 1696–1650, и Спиноза, 1632–1677, наносят смертельные удары средневековому богословию; Ньютон, 1642–1727, устанавливает первый научный закон, начиная тем ряд открытий, которые делают всякое вообще богословие невозможным).
Территория, занятая русским племенем
На Востоке, почти не задерживаемый событиями, разыгрывавшимися в это время в центре (см. ближ. столбцы справа), продолжается
захват русскими Сибири (1618 — основание Енисейска, 1628 — Красноярска, 1632 — Якутска; 1646 — Поярков достигает берегов Охотского моря, 1648 — Дежнев проходит будущим Беринговым проливом из Ледовитого океана в Тихий).
На юге эти события на четверть века задерживают наступательное движение и даже отодвигают границу назад, сметя наиболее южные форпосты. Но уже к 1636 году вновь закрепляется «Белгородская черта», в Тамбове (построенном в том же 1636 году) смыкающаяся с «Симбирской чертой». К 1650-м годам к последней примыкает «Закамская черта», далее на восток заканчивающаяся Мензелинском. На западе колонизация идет уже с Украины; украинцы в те же десятилетия заселяют Полтавскую, Харьковскую, южную часть Курской и западную — Воронежской губерний. К концу столетия правительственная колонизация
достигает берегов Донца, за казацкой вольной колонизацией остается только среднее и нижнее течение Дона.
Главные события внешней истории
Фронт русской внешней политики окончательно поворачивает на запад; набеги крымцев, в XVI веке еще серьезно беспокоившие центр, в XVII веке интересуют только население южного рубежа и становятся местным явлением. Вопросы жизни и смерти русского торгового капитализма решаются на берегах Балтийского моря и на Днепре. Здесь в первой половине столетия продолжается тот «отлив», который наметился к концу Ливонской войны (см. предыдущую табл.). Торговый капитал и выдвигаемые им правительства (Борис Годунов, 1598–1605; Василий Шуйский, 1606–1610; Михаил Романов, 1613–1645), схваченные с тыла восстанием эксплуатируемых масс или связанные необходимостью ликвидировать последствия такого восстания, не только вынуждены отказаться от наступления, но сдают одну позицию за другой. К 1610 году поляки занимают Москву, шведы — Новгород; на московском престоле оказывается на пару лет польский королевич. По Столбовскому миру с Швецией (1617) Московское государство получает обратно Новгород, но оказывается совершенно отрезанным от берегов Балтийского моря. По Деулинскому перемирию с Польшей (1618) Москва теряет Смоленск; с этой стороны государство Романовых возвращается к границам XV века. Первая попытка реванша кончается неудачей (нападение на Смоленск и Поляновский мир, 1634). Дела начинают поправляться, когда восстание эксплуатируемой массы охватывает восточные области Польско-Литовского государства (восстание Хмельницкого, см. последний столбец справа). Московские войска быстро завладевают всей Белоруссией и доходят до Вильни (1654); одновременно возобновляется борьба и с Швецией, причем двух фронтов для Московского государства оказывается слишком много; после неудачной осады принадлежавшей тогда шведам Риги здесь дело кончается вничью (Кардисский мир, 1661). Зато Польша, в то же время разгромленная Швецией, не только должна была возвратить Смоленск, но и уступить весь левый берег Днепра и даже Киев (Андрусовское перемирие, 1667). Конец века отмечен опять поворотом на юг, но уже более против Турции, чем против Крыма (взятие Азова, 1696).
Главные события внутренней истории
Отлив населения на восточные и юго-восточные окраины, в связи с хищническим хозяйством первых «предпринимателей» — помещиков, приводит к быстрому истощению земли и колоссальному сокращению пашни в центральной России. Непосредственным результатом были неурожаи и голод, 1602–1604. На их основе развиваются, с одной стороны, безудержная хлебная спекуляция (где в последний раз ярко выступает церковный капитализм) и самые дикие формы закрепощения голодающего населения, с другой — массовый побег более стойких элементов крестьянства на «вольные» земли. Отношения между московским правительством и вольной казацкой колонизацией обостряются, как никогда раньше. Попытка «взять в руки» казаков (постройка Царева-Борисова у самой окраины донских поселений) ускорила взрыв. Казацкая революция пошла под знаменем «настоящего царя» Дмитрия Ивановича (будто бы сына Грозного) против узурпатора Годунова, 1604). Смерть Бориса (13 апреля 1605) и гибель его династии открывают эру новой политики («крестьянское законодательство» Димитрия — ограничение кабального холопства и смягчение указов о беглых). Боярско-купеческий заговор обрывает ее (убийство Димитрия 17 мая 1606), но новое правительство Василия Шуйского (реакционное — 15-летний срок для отыскания беглых) оказывается лицом к лицу уже не с одними казаками, а со всей восставшей массой (октябрь 1606 — Болотников под Москвой, октябрь 1607 — падение Тулы и смерть Болотникова, но уже в 1608 второй Димитрий в Тушине). Ни поддержка городов, охваченных демократической революцией (наивысший подъем во Пскове — август 1608), ни союз со шведами (1609) не могут спасти Шуйского, но союз со Швецией втягивает его в войну с Польшей. Имущие классы в безвыходном положении ищут помощи у последней и низлагают Шуйского в пользу польского королевича (февраль — август 1610). Выяснившееся бессилие Польши придаст смелости «национальному» капиталу (нижегородское ополчение — 1612), но восстановить «порядок» удастся лишь ценой еще пяти лет войны, приняв нового царя из рук казаков (тушинская кандидатура Романовых). К 1640-м годам удается прикрепить к местам сельское население (отмена сроков для отыскания беглых — 1645) и приручить мелкими поблажками казачество, не слишком прочно (1668–1670 — восстание Степана Разина). Последние всплески городского движения улеглись также лишь к концу века (новгородские и псковские волнения 1650 года, московские — 1648, 1662 [медные рубли], перерождаясь в «стрелецкие бунты» конца столетия). Тем не менее уже в середине века-второй Романов (Алексей Михайлович, 1645–1676) находит возможным закрепить право окончательно сложившегося крепостнически-бюрократичсского государства («Уложение царя Алексея», 1649). Как и в Западной Европе, торговый капитал создает себе национальную, подчиненную государству, церковь (суд над патриархом Никоном, 1666), что вызывает резкий отпор со стороны части духовенства, верной традиции XVI века (раскол).
Ближайшие соседи русского племени
Попытка польско-литовского правительства прибрать к рукам днепровское казачество, подобно тому как правительство Бориса Годунова хотело этого относительно донского (1635 — постройка Кодака в начале Запорожья, 1638 — отмена казацкого самоуправления), приводит в западной России к тем же результатам (1648–1649 — начало кретьянско-мещанско-казацкой революции Хмельницкого). Но восстание здесь идет успешнее благодаря лучшей организованности горожан и казаков, в пользу которых оно и оканчивается, и благоприятным внешним условиям (поддержка Крыма, Швеции, воевавшей с Польшей из-за Балтийского моря, и
Москвы). Украина, в лице гетмана Хмельницкого, становится в вассальное подчинение царю Алексею (1654), скоро превращающееся в окончательное подданство (но остатки автономии сохраняются до середины следующего, XVIII века, как и самостоятельность Запорожья). Крестьяне снова попадают в крепостную зависимость от нового туземного (а не польского, или ополяченного, как раньше) дворянства, вышедшего из рядов
казацкой старшины. Польша не могла более оправиться от двух ударов — казацкой революции, стоившей ей самых хлебородных провинций, и вторжения шведов, занимавших одно время Варшаву и Краков. С середины XVII века начинается упадок Польши.
XVIII век
Главные события всемирной истории
Вес столетие наполнено прежде всего продолжением начавшейся еще в предыдущем ожесточенной борьбы между Англией и Францией из-за
колоний. Война за
испанское наследство (1701–1713) кончилась тем, что Франции удалось посадить на испанский престол «своего» короля, внука Людовика XIV, но Англия захватила Гибралтар), затем война за
австрийское наследство (1741–1748; кончилась вничью), потом
Семилетняя война (1756–1763; Франция теряет свои лучшие колонии в Северной Америке [Канада] и в Индии), наконец, участие Франции в войне за независимость Америки (1775–1783), которая кончилась образованием Соединенных Штатов, но колониального положения Франции не восстановила. Удар, нанесенный колониальному капитализму Франции, потряс все государство торгового капитала. Его диктатура, отлившаяся в самодержавие Людовиков XIV и XV (1715–1774), стала бессмыслицей. Среди буржуазии начинается движение против нее, идущее от либерализма и увлечения парламентскими порядками побеждавшей Францию Англии (Монтескье, 1689–1755; «Дух Законов») до идеологий последовательно демократических (Руссо, 1712–1778; Общественный договор) и увлечения порядками только что народившейся американской республики. В то же время городские и деревенские низы все нетерпеливее переносят гнет того же торгового капитала, восставая против наиболее к ним близкой и осязательной формы этого гнета, в виде
феодальных привилегий землевладельцев в XVIII веке, игравших уже только роль пресса, при помощи которого из мелкого самостоятельного производителя выжимался прибавочный продукт. Между тем войны разорили Францию, королевская казна была пуста, и для ее пополнения пришлось воззвать к помощи «общественного мнения», созвав (1769) собрание представителей имущих классов (государственные чины). Это совпало с неурожаем и безработицей в городах, явившейся опять-таки следствием неудачной конкуренции с Англией. Для этой последней XVIII век был не только веком великих колониальных завоеваний, но также и веком быстрого расцвета
обрабатывающей промышленности (первые шерстяные мануфактуры в Англии еще с XVI века); «промышленная революция XIII века» характеризуется тремя моментами: 1) ростом пролетариата под влиянием «первоначального накопления», 2) обилием ценного колониального сырья (хлопок, краски), 3) применением науки — выше всего стоявшей тогда в Англии — в промышленности (плавка чугуна на каменном угле — раньше плавили на древесном — 1735, литая сталь — 1750, прядильная машина — 1767, паровая машина Уатта — 1769, механический ткацкий станок — 1785). Во Франции также начал уже складываться промышленный капитализм (были и свои изобретения — паровой котел Папина — еще в 1680 году), но развитие его шло медленнее. Когда неудачные войны вынудили Францию заключить с Англией торговый договор, открывший французский рынок английским товарам, это вызвало закрытие во Франции фабрик и массовую безработицу. Столкновение короля Людовика XVI, 1774–1792, с государственными чинами и развитая на этой почве буржуазией агитация были искрой в порох; летом 1789 года в Париже произошло восстание, часть войск перешла на сторону народа, что обеспечило победу последнему (взятие Бастилии, парижской Петропавловки, 14 июля). Следом за парижскими рабочими и ремесленниками восстало крестьянство, начавшее громить помещичьи усадьбы. Испуганная результатами собственной агитации буржуазия быстро справилась с еще более перепугавшейся королевской властью, в первую минуту отменила феодальные привилегии (4 августа), но так как капитал был в них заинтересован, то под разными предлогами уступку взяли назад, заставив крестьян
выкупить привилегии. Это вызывало все новые и новые восстания в провинции, а в Париже продолжали свирепствовать голод и безработица. Революция продолжалась, несмотря на попытку буржуазии ввести ее в русло (конституция — 1791) и даже подавить открытой силой (расстрел парижан на Марсовом поле 17 июня того же года). Наконец, крупнейшее из парижских восстаний (10 августа 1792) сбросило королевскую власть и вместе с ней буржуазное «законодательное собрание». Но пролетариат во Франции был еще слишком слаб и совершенно неорганизован. Движением овладела мелкая городская буржуазия, преимущественно парижская. Было созвано второе учредительное собрание (Конвент, 1792–1795; первым учредительным собранием объявили себя государственные чины 1789 года). Только к лету 1793 года удалось изгнать из него крупнобуржуазные партии (жирондисты — соответствовали нашим «кадетам»). Диктатура мелкой буржуазии держалась немного более года (2 июня 1793 — 27 июля 1794). Она довела до конца ликвидацию «старого режима», уничтожив без выкупа феодальные привилегии и провозгласив демократическую республику. В то же время она подавила контрреволюционное движение внутри страны при помощи
террора и победоносно отбила нападение Австрии и Пруссии, вмешавшихся в пользу Людовика XVI; непобедимой осталась только Англия, продолжавшая добивать свою соперницу под предлогом борьбы с революцией. Измены и раздоры вождей мелкой буржуазии (Дантон, Робеспьер, Эбер, Шометт) создали благоприятную почву для буржуазной контрреволюции (заговор 9 термидора — 27 июля 1794). После этого гниение и распад демократической революции продолжались еще 5 лет, пока переворот 18 брюмера (9 ноября 1799) не привел к установлению военной диктатуры в лице Наполеона Бонапарта (1769–1821). Запоздалая попытка пролетариата захватить власть и установить социалистическую республику (Бабеф, 1760–1797) была последним отпором нараставшей буржуазной реакции. Начавшееся в XVII веке развитие научной философии в XVIII веке сосредоточивается главным образом во Франции, отливаясь в цельную систему материалистического «просвещения» и облекшись в популярную
форму Энциклопедии (1751–1772).
Территория, занятая русским племенем
В первой половине века колонизация продолжается главным образом на
восток (постройка Екатеринбурга, 1723, перенесение «закамской» линии к Самаре, 1730, и постройка Самарско-Оренбургской линии в 1734–1744; русская колонизация доходит здесь до границ степей, отделяющих Поволжье и Приуралье от Туркестана), во второй — на
юг и юго-восток. В 1731–1735 правительственная колонизация не шла еще дальше линии Верхнеднепровск — Змиев, то есть вне границ «империи» оставалась еще Екатеринославская губерния. 40 лет спустя «днепровская» линия спускается уже к берегам Азовского моря. После «первой турецкой войны» (1769–1774, см. столбец справа) вне границ остался только Крым; с его захватом — 1783 — границей России на юге стало Черное море. С конца 70-х годов начинается колонизация северного Кавказа («кавказская линия» по рекам Кубани и Тереку, 1779–1799). Вольная, казацкая колонизация с окончательным подчинением Дона (Булавинский бунт, 1708) и ликвидацией Запорожья (1775) сменилась колонизацией
беглыми, формально уже внутри государственной границы, но с молчаливого согласия местных властей; так была колонизована
Новороссия при Потемкине между 1-й и 2-й турецкими войнами Екатерины II (см. столбец справа). Запорожские казаки частью переходят на Кубань, частью выселяются за пределы России, в Турцию («некрасовцы»).
Главные события внешней истории
Внешняя политика России в XVIII веке отчетливо делится на 2 периода. До 1760-х годов она решительнее, чем когда-либо, ориентируется на Запад; столкновения с Турцией остаются эпизодами, еще более — попытки проникнуть в Среднюю Азию и завязать сношения с Дальним Востоком. С 1760-х годов, не оставляя западной ориентации, эта политика в то же время не менее решительно поворачивается к югу: борьба за Балтийское морс сменяется борьбой за Черное морс. Новый «западный» перерыв, до начала XX столетия последний, падает уже на первые годы XIX века. Интересы торгового капитала на всем протяжении XVIII века остаются господствующими: в этом отношении Россия, с опозданием на столетие, точно повторяет историю «океанских» держав XVII века. Первая война (так называемая Северная, 1700–1721, в союзе с Данией и Польшей против Швеции) выполняет в пользу русского и насчет шведского торгового капитала шведскую программу 1650-х годов: перенесение торговли с Белого моря на Балтийское, что означало увеличение торгового барыша вдвое, если не втрое. Швеция ожесточенно отстаивала свою балтийскую монополию (разгром русской армии под Нарвой — 1700), но после Полтавского поражения (27 июня 1709 года) должна была сдать русским почти все свои позиции на восточных берегах Балтики. По Ништадскому миру (1721) Россия получила не только Нарву, Ревель и Ригу, но и стариннейший шведский форпост на границе Новгородской области — Выборг. За шведами осталась только (до 1809 года) северо-западная (большая) часть Финляндии. С этого момента начинается политическое падение Швеции, как раньше, с середины XVII века, Польши. За этой последней остается до конца века Курляндия, с дальнейшими, уже незамерзающими, балтийскими гаванями — Либавой и Виндавой. Ради приобретения этих гаваней Россия вмешивается в Семилетнюю войну (см. 1-й столбец слева и последний справа) на стороне Франции, но в конечном счете, несмотря на отдельные победы русских войск над союзниками Англии — пруссаками, битва при Кунерсдорфе — 1759; набег на Берлин — 1760), неудачно. Дальнейшие захваты на Западе предпочитают делать поэтому в союзе со своей противницей Семилетней войны, Пруссией
(раздел Польши, 1772, когда Россия получила Белоруссию, 1793 и 1795 годы, когда ей достались сохранившиеся еще в руках поляков остатки Украины [Волынь и Подолия; восточную Галицию получила Австрия], большая часть Литвы [меньшую получила Пруссия] и давно желанная Курляндия). Самостоятельно Россия вела политику на юге, эпизодически уже в первой половине века (Прусский поход Петра, 1711, взятие Очакова Минихом, 1737), систематически с 1768 года (Первая турецкая война, закончившаяся Кучук-Кайнарджийским миром, открывшим России выход в Средиземное море, то есть наиболее прямую и удобную дорогу на Запад, 1775, и Вторая турецкая война, 1787–1791, закончившаяся миром в Яссах). Без будущности осталось пока движение на юго-восток, открывшееся персидским походом Петра (1722–1723) и экспедицией Бековича-Черкасского в Хиву (1716). Основная цель его для того времени — захватить в русские руки начало торгового пути Каспий — Волга — Балтийское морс из Азии в Европу фактически была достигнута — на Каспии не было другого флота, кроме русского. Захват же
колоний входил еще только в
проекты, но не в реальные ближайшие цели русского
меркантилизма XVII–XVIII веков. Остатками борьбы за северный конец того же пути, Балтийское морс, были две войны со Швецией (1741–1743 и 1788–1790), лишний раз подчеркнувшие бесповоротный упадок шведского влияния к востоку от Балтики и послужившие прологом к окончательной потере Швецией всех се забалтийских владений (Финляндии в 1809). Последний год века отмечен участием России в коалиции против революционной Франции (1799) — первый акт формального русско-английского союза, намечавшегося в течение всего столетия, особенно на почве общих интересов русского и английского торгового капитала в Черноморье.
Главные события внутренней истории
Во внутренней жизни царствование Петра (1682–1725) было последней и чрезвычайной яркой вспышкой русского торгового капитализма первоначального типа, аналогичного западноевропейскому XIV–XVI веков. Никогда в России, ни раньше ни после, торговые интересы и торговая буржуазия не играли такой роли. Но русский торговый капитал оказался слишком слаб, чтобы выдержать прямую конкуренцию с западноевропейским. Европейский капитал (преимущественно англо-голландский) больше выиграл от «реформы», чем туземный, русский, и оттеснил последний на второй план. На такой почве неизбежна была
реакция, которая должна была принять
антибуржуазный характер, поскольку неудачу потерпела диктатура торговой буржуазии. Этой
дворянской реакцией наполнены все следующие за Петром царствования: Екатерины I (1725–1727), Петра II (1727–1730), Анны (1730–1740), Ивана VI (1740–1741), Елизаветы (1741–1761) и Петра III (1761–1762). Перелом наступает с 1760-х годов, когда, под влиянием дифференциации населения, развития отхожих промыслов, начинает расширяться
внутренний рынок, наряду с усилением русского вывоза, главным образом сырьевого, но отчасти и в виде полуфабрикатов (железо) и даже фабрикатов (холст). Обрабатывающая промышленность, которая, несмотря на все «поощрения», чахла в первой половине века, начинает развиваться во второй, сначала как придаток к крепостному имению. Настоящего промышленного капитализма Россия XVIII века, таким образом, еще не знала. Тем не менее в 1725 году в России было всего 195 фабрик и заводов, кроме горных, а в 1796 году уже 1161 (главнейшими датами развития русской крупной промышленности могут служить: 1612 — первый железоделат. завод, 1634 — первый стеклянный завод, 1650 — первая суконная фабрика (мануфактура), 1712 — указ Петра «о размножении заводов», 1714 — первая шелковая мануфактура, 1717 — первая игольная мануфактура, 1721 — разрешение покупать деревни к фабрикам). Создание буржуазной администрации в центре и на местах приходится на 1698 (первый указ о ратуше) — 1700 годы; в 1703 году ратуша (собрание крупных купцов) получило право контроля над употреблением собранных ею денег. Но уже в 1707–1708, с возникновением губерний, на первый план выступило военное, т. е. дворянское, начальство. Контроль остался за буржуазией дольше всего (1711, фискалы «из какого чина ни есть»), но фактически, по мере того как с катастрофической быстротой росло государство торгового капитала, власть переходила к бюрократии (1711 — сенат, 1718 — коллегии, 1722 — генерал-прокурор). Главнейшие даты дворянской реакции: 1730 — попытка навязать Анне дворянскую конституцию, 1762 — манифест «о вольности дворянства» (освобождение от повинностей, особенно тяжелых в
эпоху Северной войны), 1785 — жалованная грамота дворянству; но это лишь позднее осуществление пожеланий, высказанных дворянством еще в 1767 году («Комиссии для сочинения нового Уложения»). На деле с промышленным оживлением второй половины века во главе дворянства становятся экономически прогрессивные элементы («дворянская буржуазия»; основание Вольного экономического общества, 1765), а политически
пугачевщина (восстание казаков, уральских горнорабочих и крестьян восточной России в 1773–1774 годах, как ответ на усилившуюся капиталистическую эксплуатацию), вместо ограничения самодержавия, поставила на очередь
полицейскую диктатуру, первым представителем которой явился фаворит Екатерины II (1762–1796), Потемкин (умер в 1791). При продолжавшем ту же политику Павле, сыне Екатерины (1796–1801), гнет становится невыносим для самого дворянства. Основной мерой Павла было почти полное упразднение дворянского самоуправления, служившего единственной сдерживающей силой бюрократии на местах (1775 — положение о губерниях). Еще раньше полицейская диктатура вызывает отпор со стороны зарождающейся
интеллигенции (Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790). К числу общих мер, заканчивающих в XVIII веке образование централизованной бюрократической монархии, принадлежат уничтожение внутренних таможен (1753) и конфискация правительством Екатерины II монастырских имений (1764); еще раньше, при Петре, было закончено образование
государственной церкви учреждением Синода, фактически заведывавшегося чиновником — обер-прокурором (1721).
Ближайшие соседи России
В XVIII веке окончательно падает великая держава XVI столетия, Польша. Слегка оправившись от своих неудач середины XVII века (царствование Яна Собеского, 1673–1696), она была вновь расшатана ударами Северной войны, доставшимися более всего на се долю. Для развития польского
торгового капитализма было роковым отсутствие выходов к морю; в то время как Россия складывалась около большого торгового пути, постепенно завладевая веем его протяжением, поляки лишились выходов к Черному морю, не владея вполне и выходами на Балтийское. Политически уже в 1730 году Польша стала так низко, что вопрос о польском короле решался в Париже, Вене и Петербурге, а не в Варшаве (так называемая «война за польское наследство»). В 1760-х годах русский и прусский резиденты в Варшаве распоряжались в Польше как в своей провинции, держа на своем жалованье группы польских помещиков. Попытка Франции вмешаться в дело (Барская конфедерация — 1768) только ускорила первую катастрофу — раздел 1772 года. Лишь под самый конец века буржуазия, крупная (конституция 3 мая 1791) и мелкая (восстание Костюшки — 1794), пытается взять дело в свои руки, но слишком поздно: Польша была уже не в силах бороться с коалицией России и
Пруссии. Эта последняя вместе с
Австрией, то есть пестрой кучей земель, теми или иными путями сосредоточившихся в руках Габсбургской династии (потомство брата Карла V, см. XVII век; Австрия, Венгрия, Богемия, Тироль, южнославянские земли и пр.), и выдвигаются теперь на место ближайших соседей Российской империи, сменяя Польшу и Швецию. В XVIII веке между Австрией и Пруссией уже начался тот спор за первенство в центральной Европе, который закончился только в следующем столетии (1866). Во время «войны за австрийское наследство» (1741–1748) Пруссия (Фридрих II, 1740–1786) захватила Силезию — центр текстильной промышленности тех дней. Попытка Австрии отнять Силезию обратно во время Семилетней войны (см. 1-й столбец слева), где она была на стороне Франции, не имела успеха. К концу столетия, увеличившись еще обломками Польши, Пруссия становится на то место одной из великих восточноевропейских держав, которое в XVII веке занимала Швеция. Во внутреннем управлении Пруссия Фридриха II представляла попытку приспособить бюрократическую монархию к потребностям быстро растущего капитализма: Фридрих успешнее боролся с остатками феодализма, чем, например, современная ему Франция. Еще решительнее по этому пути пошла его неудачная соперница Австрия при Иосифе II (1780–1790), ограничивавшем крепостное право, боровшемся с влиянием духовенства и т. д. Австрии и на этом пути не повезло: реформы Иосифа II («просвещенный деспотизм») не имели успеха, но Пруссии ее приспособляемость очень помогла в следующем, XIX столетии.
XIX век
1801–1830 годы
Главные события всемирной истории
Первая треть века является продолжением и заключением последних десятилетий предыдущего столетия. Французская революция продолжается в другой форме. Лишенная после разгрома мелкой буржуазия и пролетариата своей демократической сущности, отлившись в форму наглой и циничной диктатуры крупного капитала, быстро росшего на почве военных подрядов, поставок и т. д., она нисколько не утратила своего антифеодального смысла, закрепив юридическую ликвидацию «старого порядка» в «Гражданском кодексе» (иначе — Кодекс Наполеона, 1804). Что военная диктатура в том же году была увенчана императорской короной, не изменило дела, так как солдатская империя генерала Бонапарта, ставшего Наполеоном I, отнюдь не была восстановлением старой монархии и управлялась бывшими членами конвента и генералами революции, пошедшими на службу к капиталу.
Франция начала XIX века была первым чисто буржуазным государством Европы, опередив в этом отношении Англию, где крупное землевладение с наследственными привилегиями продолжало играть командующую роль. Более буржуазные порядки можно было найти только в Америке, — в Европе Франция была охвачена кольцом полуфеодальных держав, противоречие которых с французской революцией было безвыходное. Этим пользовалась сама полуфеодальная в эти дни Англия, организуя против Франции одну коалицию за другой (война Англии и Франции лишь на очень короткое время была прервана Амьенским миром, 1802): Россию и Австрию, 1805, Пруссию и Россию, 1806–1807, одну Австрию, 1809, одну Россию, 1812, Россию, Пруссию, Австрию и Швецию, 1813–1814. Громя эти коалиции (Аустерлиц, ноябрь 1805, Йена, октябрь 1806, Фридланд, июнь 1807, и так далее), армии Наполеона невольно разносили по всей Европе идеи «Гражданского кодекса»; их появление сопровождалось всюду, где почва была сколько-нибудь подготовлена падением «старого порядка» (полнее всего в западной Германии и северной Италии, но косвенно и в Пруссии, и в Польше, см. последний столбец справа). Англия имела успех сначала исключительно на морс (Трафальгар, 1805), на что Наполеон ответил
континентальной блокадой (1806), запершей континент для английских товаров. Но не прерывавшаяся в сущности война и русская катастрофа (1812, см. справа) настолько истощили Францию, что в 1814 году она вынуждена была сдаться, а после новой вспышки, 1815, окончательно разгромлена (Ватерлоо, 18 июня). После этого феодальная реакция завладела на короткое время и самой Францией
(реставрация старой монархии в лице Бурбонов, 1814–1830, «Редкостная палата», 1815–1816, из черносотенных помещиков). Но экономическое развитие Франции брало свое:
июльская революция 1830 года, окончательно закрепила буржуазный режим (Луи-Филипп, 1830–1848). Общее экономическое развитие (нс только Франции) выразилось, между прочим, и в целом ряде научно-технических открытий, падающих на первую треть XIX века (1807 — пароход Фультона, 1810 — скоропечатная машина, 1827 — гребной винт, 1830 — локомотив Стефенсона; специально французские изобретения: усовершенствованный ткацкий станок Жаккара — 1802, механическое льнопрядение Жирара — 1810).
Территория, занятая русским племенем
XIX век уже не знает вольной колонизации, правительственная же принимает форму аннексии (захвата) чужих земель, не столько экономически нужных русскому племени, сколько политически и стратегически необходимых Российской империи. В самом начале века эта последняя переходит Кавказский хребет (присоединение Грузии, 1801, Мингрелии, 1803, Имеретии, 1810, восточного Закавказья до Аракса и Каспия по полистанскому [1813, Баку] и турк-манчайскому [1828, Эривань] договорам с Персией — после почти 20-летних войн). Немного позднее ликвидируются последние владения Швеции на восточном берегу Балтийского моря (присоединение Финляндии до р. Торнсо, 1809) и Турции на север от Черного моря (Бессарабия, 1812, и Анапа, 1829). Еще позже захватывается, в лице царства Польского, переделанного из созданного Наполеоном герцогства Варшавского (частичное восстановление Польши, 1806–1813), плацдарм, дающий русской армии командующее положение в центральной Европе (1815). Во все эти места не происходит никакого переселения русских народных масс, русское племя представлено там только чиновниками и солдатами.
Главные события внешней истории
Вес тридцатилетие заполнено
русско-английским союзом, завязавшимся еще в конце предыдущего — разрыв его стоил жизни Павлу 1(1801) — и начавшим ослабевать лишь к самому концу, по мере развития в России промышленного капитализма. В основе политического союза лежал союз английского промышленного и русского торгового капитала: последний выкачивал из России необходимое английской промышленности сырье (лее, пеньку, сало, несколько позже пшеницу), из Англии Россия получала все необходимые ее командующим классам фабрикаты. Союз прерывался лишь на 5 лет (1806–1812) из-за военных неудач русско-английской коалиции, принудивших Александра I (1801–1825) заключить
Тильзитский мир (1807) и подчиниться условиям «континентальной блокады» Наполеона (см. первый столбец слева). Ужс в 1810 году экономическая необходимость принудила русские правительство нарушить блокаду, так как Франция могла доставлять только предметы роскоши: массовый привоз товаров исключался отсутствием между Россией и Францией дешевого водного пути (морс было заперто англичанами). Политически Александр I использовал тильзитский мир, захватив в этот пятилетний промежуток Финляндию и Бессарабию (см. столбец слева). Нависшая с 1810 года война разразилась в 1812 (так называемая Отечественная война), закончившись лишь в 1814 взятием русскими Парижа. Вся война велась на английские субсидии. Война сделала Александра «царем царей» «Агамемноном Европы» и так далее, а фактически хозяином
центральной Европы, ибо русская армия с берегов Вислы одинаково могла нанести удар и на Берлин, и на Вену. Это положение вещей было закреплено «Венским конгрессом» и «Священным союзом» (1815), фактически объединением восточноевропейских держав под гегемонией России (Англия не присоединилась к «Священному Союзу», Франция в это время потеряла международное значение). Политическая гегемония России была лишь подготовкой к установлению экономической гегемонии русского торгового капитала над веем бассейном Черного мора, для чего нужно было утвердиться в
Константинополе. Попытка использовать и для этого Тильзит (на так называемом Эрфуртском свидании Александра и Наполеона в 1808 году) не удалась, что обессмыслило
турецкую войну, ведшуюся 6 лет (1806–1812). Дело было отложено до 1820-х годов, когда восстание греков против турецкого владычества дало новый повод для открытия восточного вопроса. Войну за Константинополь пришлось вести уже Николаю I (1825–1855). Вмешательство в греческо-турецкие дела началось в союзе с Англией и Францией (Наваринская битва, октябрь 1827, уничтожение турецкого флота английской, французской и русской эскадрами), но саму войну (1828–1829) пришлось вести одной России, и для захвата Константинополя ей не хватило сил. По Адрианопольскому миру (1829) Россия должна была удовольствоваться аннексиями в Азии.
Главные события внутренней истории
Основным фактом тридцатилетия является возникновение в России
промышленного капитализма (число фабрик сукно-ткацких: 1804 — 155, 1825 — 324, бумаготкацких: 1804 — 199, 1825 — 484, чугунолитейных и железоделательных заводов: 1804 — 26, 1825 — 170, первая мануфактурная выставка — 1829), который получает сильный толчок от
континентальной блокады (см. 1-й столбец слева) и приносит с собой новую
идеологию — буржуазную, напоминавшую идеологию французской революции. Официальными кругами усваивались при этом идеи уже наполеоновской Франции, а передовой интеллигенцией — французские идеи предшествующего периода. Из первых вышли проекты
Сперанского (более умеренный 1803 год, более радикальные 1809–1810 годы), из второй — проекты
декабристов (см. ниже).
Общей их чертой было отрицательное отношение к крепостному праву и стремление освободить крестьян на условиях, обеспечивавших быстрый рост в России необходимого промышленному капиталу пролетариата. Обстановка, обусловившая первый взрыв буржуазно-промышленной идеологии в России (изоляция России от иностранной конкуренции благодаря континентальной блокаде и резкое вздорожание хлеба под влиянием роста английского пролетариата и наполеоновских войн, что давало объективную возможность перехода к вольнонаемному труду в земледелии), была кратковременной: с 1819 года вновь начинается ввоз английских товаров, а цены на хлеб начинают падать. Барщинный труд опять оказывается выгоднее батрацкого, а промышленность начинает испытывать острую нужду в сильной центральной власти для охраны интересов промышленного капитала от иностранной конкуренции («покровительственные» таможенные тарифы, начиная с 1823 года, и войны Николая I, завоевавшие для русских товаров турецкие и персидские рынки). Такой поворот дела заранее осуждал на неудачу замыслы
тайных обществ (1814 — Орден русских рыцарей, 1816–1817 — Союз спасения, 1818 — Союз благоденствия, с 1821 начинается
заговор декабристов, разразившийся восстанием 14 декабря 1825, на юге — 31 декабря), скомпрометированные к тому же нерешительностью их тактики. В результате все свелось к
окончательному закреплению бюрократически полицейского строя (начало еще в 1802 — учреждение министерств): создание
корпуса жандармов и Третьего отделения императорской канцелярии (июнь — июль 1826). Воспоминаниями о противоположных тенденциях остались: закон о «вольных хлебопашцах» (1803) и учреждение Государственного совета (1810), Мануфактурный Совет (1828).
Ближайшие соседи России
Пруссия после разгрома ее Наполеоном (1806–1807) попадает в почти вассальную зависимость от Франции и косвенно втягивается в сферу действия Гражданского кодекса (реформы Штейна и Гарденберга: освобождение крестьян и т. п.). После падения Наполеона зависимость от Франции сменяется зависимостью от России (Фридрих Вильгельм III, 1797–1840, «друг» Александра I). Больше самостоятельности сохранила Австрия, хотя также разгромленная французами, и даже дважды (1805 и 1809) воевавшая — как и Пруссия — вместе с Францией против России в 1812 году. Австрия совершенно не попала в сферу влияния «Гражданского кодекса» и представляет собой, после 1815 года, тип чисто реакционного государства торгового капитала, с полицейщиной, крепостным правом и т. д. (канцлер Меттерних, 1773–1859). На ней держалась реакция и Германии (карлсбадскис постановления, 1819), а она сама при этом опиралась на Россию, но сохраняя гораздо большую независимость по отношению к последней, чем Пруссия. Более всех стран Восточной Европы подверглась французскому влиянию Польша, непосредственно зависевшая от Наполеона в период герцогства Варшавского и сохранившая особую конституцию при переходе под власть Александра I; систематические нарушения этой конституции вызвали восстание поляков в ноябре 1830 года.
XIX век
1831–1866 годы
Главные события всемирной истории
Промышленный капитализм, распространившись на всю Европу, завладевает ее западом и центром; Франция и Германия становятся такими же индустриальными странами, какой в XVIII веке была одна только Англия. Франция после
июльской революции (1830) окончательно освободившаяся от остатков «старого порядка» вместе с династией Бурбонов, при Орлеанской династии (Луи-Филипп, 1830–1848) принимает форму цензовой парламентской монархии, все время подмываемой снизу не прекращающимся с 1830 года движением пролетарской и пролетаризуемой массы. В 1848 году движение достигает силы и размеров новой революции
(Февральская революция), но буржуазии при помощи кулацкого крестьянства удастся разгромить центр рабочей революции («июньские дни», 1848) — Париж, после чего снова устанавливается режим начала столетия («Вторая империя» племянника Наполеона I, Луи-Наполеона III, с конца 1848 года президента провозглашенной в феврале республики, после переворота 2 декабря 1851 года утратившей парламентскую форму, в 1852 превратившейся в монархию типа «Первой» империи). Вторая империя идет по следам Первой и в области внешней политики (участие Франции в Крымской войне против России, 1854–1856, война с Австрией, 1859, экспедиция в Китай, 1860, и в Мексику, 1862–1866; еще раньше, с 1830 года, Франция завоевывает Алжир), но чем дальше, тем больше натыкается на сопротивление других государств промышленного капитала, раньше всего складывающихся под гегемонией Пруссии, Германии (Таможенный союз германских государств, 1831–1835). В борьбе промышленной буржуазии разных стран за рынки развивается
национализм, который Наполеон III старается использовать (объединение Италии под властью экономически наиболее развитого Пьемонта, 1859–1861, при помощи французов). В Англии победа промышленной буржуазии выразилась в ликвидации политической монополии крупного землевладения (парламентская реформа, 1832) и торжестве свободы торговли (отмена пошлин на хлеб, 1846). Широкое рабочее движение
(чартизм — от «народной хартии» — 1838 г.) и здесь потерпело неудачу, хотя и не такую кровавую, как во Франции. Рабочее движение создало популярность для
социалистической литературы, которая сама по себе, до Маркса, еще не была прямым его отражением, а продолжала развивать идеи Просвещения XVIII столетия (Оуэн в Англии, 1771–1858, С.-Симон, 1760–1825, и Фурье, 1772–1837, во Франции). По мере обострения классовой борьбы зарождается чисто пролетарский
коммунизм (Коммунистический манифест, 1847) и складывается международное рабочее движение (Первый интернационал, 1864).
Территория, занятая русским племенем
В Европе, в общем, окончательно складывается к началу 2-й трети XIX столетия (частичное колебание — потеря Бессарабии в 1856 году, возвращенной в 1878). Завоевание
Кавказа (1864) спаивает старую «кавказскую линию» с аннексированным в начале века Закавказьем и начинает собой серию азиатских захватов (Средняя Азия: Ак-Мечсть [Перовск], 1853, Ташкент, 1865. Дальний Восток: берега Амура, еще при Николас I, окончательно Амурский и Уссурийский край, 1858–1860). Разведки проникают еще дальше (1836 — русская миссия в Афганистане, 1853–1854 — русская экспедиция в Японию и т. д.); уже с конца VIII века русская компания эксплуатирует так называемые российско-американские владения — полуостров Аляску и Алеутские острова, в 1864 году проданные Соединенным Штатам.
Главные события внешней истории
По мере приближения к 1848 году разваливается «Священный Союз». Николай I, после известия об июльской революции, собиравшийся двинуть свою армию на Париж, по отношению к революции 1848 года должен был занять уже чисто оборонительную позицию. В частности, Пруссия при Фридрихе-Вильгельме IV (1840–1857) совершенно выбивается из-под русской опеки. Россия пробует опереться на Австрию, почти развалившуюся благодаря революции 1848 года (см. последний столбец справа), но, оправившись при содействии Николая I, Австрийская империя немедленно «изменяет» ему на почве
Восточного вопроса. Этот последний стоит в центре всей русской внешней политики данного периода. Не добившись Константинополя Адрианопольским миром (см. предыдущую таблицу), Николай пытается косвенно наложить руку на проливы (Хункиар-Искслесский договор, 1833), но наталкивается на решительное противодействие Англии (лондонская конвенция о проливах, 1841). Русско-английская война носится в воздухе уже с 1830-х годов. После неудачной попытки столковаться с англичанами и своих «побед» в Венгрии (1849) Николай вновь решается напасть на Турцию (1853), но встречает на своем пути не только Англию, а и Францию и даже Австрию. Начавшаяся с двумя первыми война приводит к сдаче Севастополя (27 августа 1855), потере черноморского флота и к праву вновь его построить по Парижскому миру (1856 — уже при Александре II, Николай умер 18 февраля 1855). Одновременно обнаружилось полное отпадение от России Пруссии, и на сцене вновь появилась даже Швеция, о которой с 1809 года забыли и думать. Полный разгром восточной политики рядом с полной утратой всех западных позиций заставили резко переменить направление: Константинополь временно оставляется в стороне, на Западе ищут не клиентов, а союзников. Сначала находят такового в лице Франции (русско-французский союз во время 1859), но с ней, как и после Тильзита, не удастся наладить экономической связи. Таковая завязывается
с Пруссией по мере развития прусской промышленности: Пруссия сменяет с 1860-х годов Англию как потребительница русского хлеба и как поставщица фабрикатов. На этой почве русско-французский союз в 1863 году (поводом было неловкое вмешательство Наполеона III в польские дела, см. последний столбец справа) сменяется русско-прусским, направленным прямо против Австрии, но косвенно и против Франции. Русско-английский конфликт принимает тем временем более притупленный характер, перенесясь с ближнего Востока в Среднюю Азию, где с 1864 года начинается движение в Туркестан. Одновременно с этим заканчивается начавшаяся еще в первой четверти века война на Кавказе, высшим моментом которой была борьба с военно-теократической державой Шамиля (1832–1859; мюридизм).
Главные события внутренней истории
Центральный пункт — ликвидация барщинного хозяйства, или, как тогда говорили, «освобождение крестьян» (термин, явно неверный при сохранении политического самодержавия). Задержанная в начале периода продолжавшимся аграрным кризисом (см. предыдущую таблицу), она получает экономическую почву с конца 40-х годов, когда начинается повышение хлебных цен. Основным стимулом продолжали быть интересы обрабатывающей промышленности (см. там же), которая и ликвидировала у себя крепостной труд (закон 18 июня 1840 о посессионных фабриках). Попытки ликвидации этого труда в земледелии терпели неудачи до 1850-х годов (6 декабря 1826 — первый Секретный комитет Николая, занимался крестьянским вопросом; 2 апреля 1842 — указ об «обязанных крестьянах», пытавшийся провести компромиссную точку зрения, создав полуфермера, полукрепостного, и оставшийся мертвой буквой). Рескриптом Александра II виленскому генерал-губернатору Назимову был поставлен вопрос об
освобождении крестьян без земли (20 ноября 1857), то есть в направлении, наиболее выгодном для промышленного капитала. Одновременно началось образование
губернских комитетов (1-й Нижегородский, декабрь 1857). Но уже через год (резолюция Главного комитета 18 октября и 4 декабря 1858) берет верх идея
освобождения с землей, т. с. с сохранением мелкого крестьянского хозяйства в неприкосновенности. Так как при этом крестьяне не получили всех прав «свободы сословий» и была сохранена опека дворянства над ними (мировые посредники), то «освобождение» стало весьма условным. Для проведения в жизнь этой новой линии были созданы, в сущности параллельно с комитетами,
редакционные комиссии (действовали в 1859–1860 годах). Окончательно испортила реформу предпринятая под давлением черноземных помещиков
отрезка части крестьянских наделов (местами до 40 %). Обрезанное такими способами «освобождение» (манифест был подписан Александром II 19 февраля 1861 года) вызвало резкий отпор крестьян, «терпеливо ждавших воли» в предшествующие годы (более 2000 волнений в 1861–1862 годах и отказ крестьян подписать «уставные грамоты» в 50 % всех случаев). Это вызвало революционные надежды у левой интеллигенции (Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Михайлов) и несколько напугало правительство, которое, чтобы привлечь на свою сторону буржуазию, решительнее пошло по пути буржуазных реформ (20 ноября 1864 — судебные уставы, 1 января 1864 — земское положение, 17 апреля 1863 — отмена телесных наказаний, 6 апреля 1865 — отмена [условная] предварительной цензуры), не брезгуя провокацией для ее устрашения (петербургские пожары лета 1862) и жестоко расправляясь с революционерами (ссылка Чернышевского и Михайлова). Крестьянские волнения, вопреки ожиданиям, не слились в общий революционный пожар, интеллигентское движение осталось изолированным, найдя отклик только среди учащейся молодежи (первые студенческие волнения осенью 1861 года). Из се рядов вышло первое революционное выступление царствования Александра II — покушение на него Каракозова (4 апреля 1866 года).
Ближайшие соседи России
Польская революция ноября 1830 года, спасая Западную Европу от вмешательства Николая, сама быстро была ликвидирована последним (взятие Варшавы 26 августа 1831). Польша потеряла конституцию 1815, но царство Польское сохранилось как особое целое («Органический статут» 26 февраля 1832). Фактически там во все царствование Николая была военно-полицейская диктатура наместника Пасксвича. Франко-русский союз после Крымской воины заставил пойти на уступки, неискренние и половинчатые («Без мечтаний!» — слова Александра II представителям польского дворянства и буржуазии при первой встрече в 1856 году), только дразнившие польскую массу, в городах гораздо более политически развитую, чем русская. Манифестации этой массы (в феврале — марте 1861 года) были расстреляны. Революционное настроение нарастало и в январе 1863 разразилось вооруженным восстанием. Но надежды поляков на помощь Западной Европы не оправдались, благодаря помощи, которую оказала России Пруссия («конвенция Альвенслебена» 8 февраля 1863). Восстание было подавлено, члены революционного правительства («Ржонда народового») постепенно арестованы и казнены. Польша превратилась в ряд русских губерний («Привислинское генерал-губернаторство»). Февральская революция 1848 года не оставалась изолированной во Франции, как революция 1789 года: теперь общественные условия Западной и Центральной Европы, благодаря развитию промышленного капитализма, были ближе друг к другу. 15 марта вспыхнула революция в Вене, 18-го — в Берлине. И там и тут монархия, в первом испуге, капитулировала, отказалась от абсолютизма и ввела конституцию, но ни там ни тут власть не перешла в руки народной массы. Мало-помалу реакция собралась с силами, в октябре была бомбардирована и взята правительственными войсками Вена, а в ноябре Фридрих-Вильгельм IV разогнал народное собрание. Общегерманский парламент во Франкфурте оказался бессильной говорильней. Восстания в Саксонии и в Бадене были подавлены прусскими войсками (1849). Объединению Германии под властью Пруссии помешала Россия, поддерживая готовую развалиться Австрию («Венгерская кампания» Паскевича, 1849). Но национальное объединение, начавшееся
таможенным союзом (1831–1835), под влиянием экономических причин неудержимо идет вперед, и гегемония Пруссии окончательно утверждается после войн 1864 (с Данией за Шлезвиг и Голштинию) и 1866 (с Австрией, поражение австрийцев при Садовой 3 июля) годов.
XIX век
1867–1896 годы
Главные события всемирной истории
Франко-прусская война (июль 1870 — январь 1871) кладет конец существованию «Второй империи» и дает толчок новой французской революции, четвертой по счету (Парижская коммуна, март — май 1871) и первой, которая проходит под социалистическими лозунгами. Революция, хотя и неудачная (расстрел 130 тыс. чел.), делает невозможным простое восстановление старого порядка: Франция становится «республикой без республиканцев», что закрепляет конституция 1875 года. В промежутке 1877–1879 республиканская партия (Гамбетта) завладела властью. Рабочее движение, придушенное разгромом Коммуны, вновь оживает уже с 1876 (первый рабочий конгресс, с 1877 выходит газета «Равенство» Ж. Гада — возрождение франц, социализма; 1879–1880 — амнистия коммунарам) и к середине следующего десятилетия заставляет считаться с собою правительство (закон о свободе союзов — 1884). С 1880 года вновь возникают социалистические партии (объединившиеся только к 1905), с 1893 они начинают играть видную роль в парламенте.
-Англия в течение этого периода заканчивает свое превращение в буржуазную демократию (избир. реформы Гладстона 1867 и 1884–1885 годов). Рабочее движение, начавшееся чартизмом (см. предыдущую таблицу), притуплено благодаря монополии на всемирном мануфактурном рынке, завоеванной английской промышленностью, быстрому росту английских колоний (Австралия, Канада, Южная Африка): это позволяло предпринимателям поддерживать высокую заработную плату при низкой цене съестных припасов. В Англии развивается преимущественно не революционная, не социалистическая форма рабочего движения — трэдюнионизм. Более радикальное движение начинается с промышленного кризиса 80-х годов (1886–1887 — митинги безработных, 1889 — стачка рабочих в доках). 1892 — первые рабочие социалисты в английском парламенте. Первый Интернационал распадается в 1872 году, начало Второго — 1889 (первый международный конгресс социалистических партий в Париже), 1883 — умер Маркс, 1895 — умер Энгельс.
Территория, занятая русским племенем
Завоевание Ферганы (Коканд, 1876), движение в Закаспийский край с 1880; 1884 — занят Мерв. Россия в востоку от Каспийского моря становится непосредственной соседкой Персии и Афганистана. В Закавказье по берлинскому трактату 1878 года к русским владениям присоединяются Батум и Карская область. За исключением Туркестана, куда еще направляется очень слабая струя русской колонизации, остальное увеличивает собою количество земель нерусского языка и культуры, входящих в состав Российской империи.
Главные события внешней истории
Почти весь период проходит под знаком русско-германского союза и русско-английского конфликта; только в течение последнего десятилетия замирает второй, а первый сменяется союзом русско-французским. Наивысшего развития и прочности русско-германский союз достиг во время франко-прусской войны, когда правительство Александра II оказало Пруссии огромную услугу, помешав Австрии вмешаться в пользу Франции. Россия в вознаграждение немедленно же потребовала и добилась отмены наиболее стеснительных для нее статей Парижского трактата (1871). А в 1873, одновременно с возникновением почти открытого «союза трех императоров» (Австрия, Германия, Россия), заключается секретная военная конвенция с Германией, гарантирующая вооруженную поддержку этой последней России, в случае «нападения» какой-либо третьей державы. На самом деле Александр II имел намерение сам напасть на Турцию, возобновляя прерванную Крымской войной политику своего отца. Это должно было его, как в свое время Николая, столкнуть лбами с Англией, не допускавшей мысли о том, чтобы какая-нибудь из «великих держав» утвердилась в восточной части Средиземного моря, на путях в Индию. Опасение за последнюю подготовляло конфликт издалека: к русскому движению в Туркестан Англия относилась крайне подозрительно с самого начала. Когда, подготовив новую русско-турецкую войну движением балканских славян (герцеговинское восстание, лето 1875, сербско-турецкая война и болгарское восстание 1876) и секретными соглашениями с Австрией (рейхштадтская сделка, июнь 1876, окончательная конвенция, март 1877), Александр II двинул армию на турок (19 апреля 1877), Англия стала помогать последним почти открыто. А когда Россия после ряда поражений (8 и 18 июля, 30–31 августа — три «Плевны») добилась сан-стефанского мира, почти ликвидировавшего европейскую Турцию (19 февраля 1878), она оказалась на пороге войны не только с Англией, но и с Австрией, секретная конвенция с которой была нарушена этим миром. Россия должна была сдаться (18 мая 1878 — «лондонские протоколы», 1 июня — Берлинский конгресс). На неудачу в Европе Россия ответила ударом в Азии: Скобелев взятием Геок-Тепе (12 января 1881) открыл поход на Герат, «ворота Индии». Дальнейшее движение по этому пути повело к новой, и последней, вспышке конфликта, когда Россия и Англия снова очутились на пороге войны (1885). Но к этому времени был налицо уже русско-германский конфликт, внешним образом из-за Болгарии, по существу из-за экономических трений (хлебные пошлины). На этой почве возникает
франко-русский союз (1890 год, военная конвенция 1893 года).
Главные события внутренней истории
Хронология событий, подробно изложенных в тексте книги;
революционное движение: 1868–1869 — агитация Нечаева; 1870 — первые большие петербургские стачки, напугавшие правительство; 1872–1875 — «хождение в народ»; 6 декабря 1876 — демонстрация у Казанского собора в СПб.; 1877 — большие процессы пропагандистов; 24 января 1878 — выстрел В. И. Засулич в петербургского градоначальника Трепова; 1878–1879 — «Земля и воля»; 2 апреля 1879 — Соловьев стреляет в Александра II июнь — воронежский съезд — ликвидация «Земли и воли», «Народная воля»; 19 ноября — взрыв царского поезда на Курской дороге, 5 февраля 1880 — взрыв Зимнего дворца; 1 марта 1881 убит Александр II; 1883 — группа Освобождения труда; 1884 — ликвидация Исполнительного Комитета Народной воли; 1885 — морозовская стачка; 1887 — покушение на Александра III (1881–1894) Ульянова и др.; 1892 — первые с.-д. кружки; 1895 — Союз борьбы за освобождение рабочего класса; 1896 май — июнь — большие петербургские забастовки;
Правительственная реакция 24 апреля 1881 — манифест Александра III о незыблемости самодержавия; 14 августа — положение об охране; 1882 — крестьянский банк (ставка на кулака); 1885 —дворянский банк; 1882–1886 — фабричные законы (попытка подкупить рабочих), 1886 — закон о найме на сельскохозяйственные работы (уголовная ответственность рабочего за уход); 1889 — земские начальники (упразднение мировых судей в деревне), ограничение суда присяжных (преступления по должности перед судебной палатой), 1890 — новое земское положение (сословный ценз); 1892 — новое городовое положение (города отданы домовладельцам).
Ближайшие соседи России
Франко-прусская война создала
Германскую империю под главенством Пруссии (18 января 1871). Фактический ее основатель, Бисмарк (1816–1896), демагогически использовал демократические течения, оставшиеся от революции 1848 года (рейхстаг со всеобщим избирательным правом). Это, а также блестящие успехи внешней политики и быстрое развитие германской промышленности совершенно примирили массу буржуазии с прусской реакцией. Единственной оппозицией оставалась рабочая с.-х. партия (1869 — съезд в Эйзенахе; 1875 — слияние «эйзенахцев» с «лассальянцами» [Лассаль, 1825–1864, основание всеобщего германского рабочего союза]; Готская программа), протестовавшая против условий Франкфуртского мира
с Францией (1871, насильственное присоединение к Германии Эльзаса и Лотарингии). Попытка Бисмарка бороться с ней при помощи исключительных законов (1878–1890) привела только к увеличению популярности с.-д. и колоссальному росту партии (на выборах 1890 г. 1 1/2 млн голосов). Этому способствовало и ухудшение положения рабочего класса благодаря растущей дороговизне: падение хлебных цен заставило Бисмарка под давлением помещиков ввести хлебные
пошлины (1880, 1885 и 1887). Все это, вместе взятое, побудила Бисмарка пойти на соглашение с Россией (торговый договор 1894), чем закончилась 1-я фаза русско-германского конфликта. Австрия, с 1867 года превратившаяся в Австро-Венгрию, — последняя была признана равноправной с немецкой половиной империи, — окончательно сходит на 2-е место и идет в хвосте за Германией (союз 1879 года против России, превратившийся в 1887 году с присоединением Италии в Тройственный союз). 1888 — основание Австрийской с.-д. партии (Гайнфельдская программа).
INFO
По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13
Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, ACT — «Книги по почте»
Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.01.2002. Формат 84х108 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,32. Тираж 5100 экз. Заказ 525.
Покровский М. Н.
П48 Русская история: В 3 т. Т. 3 / М. Н. Покровский. — СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. — 367 с. — (Историческая библиотека).
ISBN 5-89173-141-X (Т. 3)
ISBN 5-89173-151-7 (Общ.)
УДК 94.47
ББК 63.3(2)
Научно-популярное издание
Покровский Михаил Николаевич
РУССКАЯ ИСТОРИЯ
Том 3
Главный редактор Н. Л. Волковский
Редактор И. В. Петрова
Художественный редактор О. Н. Адаскина
Технический редактор И. В. Буздалева
Компьютерная верстка С. А. Елисеева
Компьютерный дизайн Ю. Ю. Мироновой
Корректоры Е. Б. Иванова. А. Ю. Ларионова, И. С. Миляева
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953004 — книги, брошюры
Гигиеническое заключение № 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.
ЛР ИД № 03073 от 23.10.2000 г.
ООО «Издательство «Полигон».
194044, С.-Петербург. Б. Сампсониевский пр., 38/40.
Тел.: 320-74-24; тел./ факс: 320-74-23.
Е-mail: polygonfTspb.cityline.ru
Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»
При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 10.01.01.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.
…………………..
FB2 — mefysto, 2023

Примечания
1
См. по этому поводу расчеты Ростопчина в его записках (Русская Старина, т. 64): он находил вполне возможным — и, повторяем, кампании 1813–1814 годов оправдали его вычисления — к концу 1811 года иметь под ружьем 640 тысяч человек. На деле собрали менее 300 тысяч.
(обратно)
2
В записках Стурдзы, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны.
(обратно)
3
См. письмо Александра к Екатерине Павловне от 29 января 1812 года (Correspondance de l’Empereur Alexandre I avec sa soeur la grande duchesse Catherine. — St.-Petersbourg, 1910.)
(обратно)
4
Точное показание фрейлины Стурдзы.
(обратно)
5
Политические и общественные идеи декабристов. — С-Пб., 1909.
(обратно)
6
Выше говорилось, как плохо приходилось Польше от этой «любви».
(обратно)
7
«Национализма, — говорит г. Семевский по поводу «Русских рыцарей», — не чужды были и некоторые другие декабристы». Многие ли были ему чужды?
(обратно)
8
Семевский, цит. соч., с. 206. (Курсив наш.)
(обратно)
9
Его не следует смешивать с упоминавшимся выше Александром Николаевичем Муравьевым, впоследствии нижегородским губернатором в конце 50-х годов, известным по участию в реформе 19 февраля.
(обратно)
10
Некоторые мелкие имения были экспроприированы на устройство военных поселений, и это уже вызывало ропот.
(обратно)
11
При введении военных поселений в Чугуевском уезде, например, было, по весьма точным показаниям, засечено насмерть несколько десятков человек.
(обратно)
12
Записки
И. Д. Якушкина. Изд. 2-е, М., 1905, с. 29–32, 35–37 и 71. Цитаты из «Духа журналов» в цит. соч.
Семевского, с. 276 и «Русской фабрики»
Туган-Барановского, с. 274–281.
(обратно)
13
Семевский, цит. соч., с. 618, ср. с. 623.
(обратно)
14
Общественные движения в России в первую половину XIX века, т. 1, с. 242. Читатель заметил, конечно, что Оболенский стыдится предпринимательства своих товарищей — стыдится, разумеется, совершенно напрасно — и старается подменить искание прибыли борьбой за повышение заработной платы. Для этого он пытается уверить своего читателя, что литературный труд тогда почти вовсе не вознаграждался, что неверно: люди, приобретшие «славу и известность», зарабатывали тогда не меньше, чем теперь, Карамзину за 2-е издание «Истории государства Российского» предлагали 75 тысяч рублей.
(обратно)
15
Семевский, цит. соч, с. 528.
(обратно)
16
В 1834 году — очень скоро после эпохи, нами изучаемой, так что данные годятся — в России считали 1453 помещика, имевших более 1000 душ каждый (в среднем 2461 душа на каждого), 2273, имевших каждый более 500 душ (в среднем по 687), и 16 740, имевших более, нежели по 100 душ (в среднем 217). Эти последние и должны были составить главную массу избирателей, по проекту Н. Муравьева. См.
Schiemann, цит. соч., т. 1, с. 392 (по Васильчикову).
(обратно)
17
Шильдер напрасно приписывает свою остроту Милорадовичу: тот, как сейчас увидим, выразился проще.
(обратно)
18
Последние шли, как известно, в таком порядке: в 1814 году — орден «Русских рыцарей», в 1816–1817 годах — Союз спасения, развернувшийся к 1818 году в более широкий и почти открытый Союз благоденствия. В 1821 году последний был закрыт, и с этого момента собственно, датируется «заговор декабристов». См. ниже, отдел «14 декабря».
(обратно)
19
Семевский, цит. соч., с. 421–422.
(обратно)
20
Опубликована впервые
Семевским в журнале «Былое» (1907, февраль) с небольшими пропусками из-за цензурных, вероятно, соображений.
(обратно)
21
См. об этом у
Семевского (Былое, с. 91 и 115–117).
(обратно)
22
Различие между Северным и Южным обществами было, как известно, чисто организационное, хотя классовый,
помещичий оттенок был в планах северян гораздо заметнее; южане были демократичнее. Но члены Южного общества имелись и в Петербурге (см. записки Завалишина) — резкой демаркационной черты и здесь провести нельзя.
(обратно)
23
Рассказ о том, что
Александр не умер, а «ушел» и обьявится десять лет спустя в Сибири под видом старца Федора Кузьмича, имеет значение лишь как образчик психологии, не столько народной, сколько тех кругов, где рассказ сложился и живет доселе. Никаких документальных данных в его пользу не имеется. Напротив, документов, касающихся предсмертной болезни императора, вскрытия и бальзамирования его тела, перевозки последнего в Петербург, сколько угодно. Для науки поэтому существует лишь один факт: Александр I умер в Таганроге 19 ноября 1825 года.
(обратно)
24
Golovine. Souvenirs, особенно с. 118; обществ, движения, т. 1, с. 439, прим. 1.
(обратно)
25
Сборник русского исторического общества, т. 98, с. 37–38, цитаты из кавалерских «журналов» в оригинале по-французски, курсив наш.
(обратно)
26
Из собственноручных записок Николая от 14 декабря —
Шильдер. Николай I, с. 149—150
(обратно)
27
Впоследствии официальная традиция, чтобы изгладить малопочетное для Николая Павловича воспоминание, усвоила версию, согласно которой он ничего не знал будто бы о манифесте. Несостоятельность этой версии превосходно доказана Шиманом, но действительную связь фактов понимал уже Шильдер, в ближайше же осведомленных кругах никогда и сомнений на этот счет не было.
(обратно)
28
Переписка императора Николая I с цесаревичем Константином Павловичем
И Сборник Русского исторического общества, т. 131.
(обратно)
29
«В период времени с 14 декабря до нового года назначены были 20 новых генерал-адъютантов и 38 флигель-адъютантов»;
Шильдер. Николай I, т. 1, с. 356.
(обратно)
30
«Прибыв на площадь вместе с приходом Московского полка, я нашел Рылеева там, — пишет Оболенский. — Он надел солдатскую суму и перевязь и готовился стать в ряды солдатские».
(обратно)
31
Николай в своих воспоминаниях приписывает эту сомнительную честь Васильчикову. Но воспоминания Николая вообще не являются очень надежным источником. Их основная тенденция — показать, что были исчерпаны «все меры кротости», прежде чем пущено было в ход оружие. Согласно с этим, атака конногвардейцев, например, изображается, как одно из последних решительных действий, предшествовавших канонаде. Между тем, и декабристы (бывший все время на площади М. Бестужев), и их противники (экскадронный командир конной гвардии Каульбарс) сходятся в том, что атак в течение дня было несколько, все одинаково неудачные. Другая отличительная черта «воспоминаний» — явное стремление затушевать роль немцев в усмирении восстания: называются, по возможности, «истинно русские» имена. Например, о присутствии принца Евгения по рассказу Николая нельзя и догадаться, но зато тщательно отмечено, что посланного с каким-то поручением рейткнехта (конюха) звали Лон-дырев. «Народность обязывала…»
(обратно)
32
Marquis de Custine. La Russie en 1839. — Paris, 1846, p. 287 suiv.
(обратно)
33
В своих записках Бенкендорф уверял, что ему никогда и в голову не приходило стать начальником тайной полиции, этим-де и объясняются промахи его по этой части при организации корпуса жандармов. Для характеристики правдивости записок Бенкендорфа стоит привести одно место из записок декабриста Волконского. «В числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству, — пишет последний: рассказ относится ко времени до 1812 года, — был Александр Христофорович Бенкендорф, и с этого времени мы были сперва довольно знакомы, а впоследствии — в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Ал. Хр. осуществил при восшествии на престол Николая». (Записки, с. 135–136). Дальнейшие рассуждения Волконского о чистоте души Бенкендорфа больше свидетельствуют о таком же качестве его панегириста, нежели отражают объективную истину. Лучше знавший кулисы николаевского великолепия Корф рассказывает, что не было промышленной компании в России 30-х годов, пайщиком которой, явным или тайным, не состоял бы шеф жандармов. Когда Бенкендорф заболел, среди мира капиталистов началось настоящее волнение, и скорбь об их умиравшем «благодетеле» было, надо думать, вполне искренней: сколько нужно была опять денег потратить, чтобы купить новую «чистую душу»!
(обратно)
34
Кюстин рассказывал, со слов знакомых ему русских помещиков, конечно, что Николай, принимая депутацию крестьян одного имения, купленного удельным ведомством, в ответ на слова мужичков, что все завидуют их счастью, сказал будто бы, что он охотно всех крестьян так же облагодетельствовал бы, да не от него это зависит. Крестьяне поняли это так, что царь охотно их всех сделал бы своими, да помещики не пускают, и на этой почве был ряд волнений…
(обратно)
35
Новосильцев и Кочубей при Николае были председателями Государственного совета.
(обратно)
36
Николай и говорил, как командовал. «Я был приготовлен ко многому в манерах императора, — писал Кюстин, — но что было для меня совершенной неожиданностью — это его голос». Совет Марии Феодоровны не кричать, очевидно, совсем не пошел впрок.
(обратно)
37
Отражение салонной болтовни на эту тему можно найти, например, в донесениях французских дипломатов, отрывки из которых были опубликованы проф. Тарле.
(обратно)
38
Семевский. Крестьянский вопрос, т. 2, с. 342.
(обратно)
39
1912 год.
(обратно)
40
Hansen. Untersuchungen über d. Preis d. Getreides». — Jena, 1887 (Eisters Staatswirtschafiltche Studien, I Band); и
Beaurieux. Les prix du bié en France au XIX-me siècle. — Paris, 1909.
(обратно)
41
Русская история, т. 3, гл. XIV, отд. «Денежное хозяйство».
(обратно)
42
Общее обозрение Тверской губернии // Журнал Министерства внутренних дел, ч. 27, с. 449.
(обратно)
43
Пелчинский В. Мануфактурная Россия, или Состояние российских мануфактур в 1827 году // Журнал мануфактур и торговли, 1827, Ns 10.
(обратно)
44
Что это не было официальное самохвальство, показывает отзыв того же отчета о суконных фабриках: «Российские сукна до сих пор не могут выдержать совместничества с иностранными. Дешевые наши сукна не хороши, а хорошие дороги в сравнении с иностранными».
(обратно)
45
Реформа 1839 года рассматривается нашими финансистами обыкновенно как восстановление
металлического обращения в России. Это было не совсем так даже и с формально-юридической точки зрения: размен кредитных билетов на золото был неограниченным лишь в Петербурге, в других городах не разрешалось выдавать в одни руки более известной суммы звонкой монетой (в Москве —3000 рублей, в провинциальных казначействах даже более 100 рублей). Само по себе уже это не свидетельствует о сильном желании николаевского правительства видеть металлическую монету в повсеместном обращении: совершенно определенное нежелание этого засвидетельствовано теми прениями по вопросу о минимальном размере кредитных билетов, какие происходили в заседании секретного комитета 17 февраля 1843 года (см. Сборник Русского исторического общества, т. 98, с. 194 и др.). Канкрин очень хотел пустить в действительное, а не номинальное только, обращение по крайней мере целковики — и остановился поэтому на трехрублевых билетах, мельче не было. Николай, опираясь на подавляющее большинство комитета, настоял на рублевках: таким образом, бумажные деньги продолжали циркулировать наравне с металлическими до самых мелких платежей. Между тем, особенностью стран, имеющих настоящее, не показное только, металлическое обращение, является именно отсутствие
мелких банковых билетов: в таких странах, как Англия или Франция, они явились только с 1914 года.
(обратно)
46
Туган-Барановский. Русская фабрика, с. 126 и 135.
(обратно)
47
Журнал Министерства внутренних дел, 1844, № 7.
(обратно)
48
Schiemann. Geschichte Russlands unter Kaiser Niokolaus I, t. 2, c. 395.
(обратно)
49
Статья — по всей вероятности, Уркуорта — в «Portfolio», т. 5, с. 87, франц, издания 1837 года.
(обратно)
50
О торговом контроле, которым обладает Англия по отношению к России // Portfolio, т. 2.
(обратно)
51
Афганский эпизод русской политики 30-х годов подробно разобран у
Шимана (цит. соч., т. 3, с. 296–300).
(обратно)
52
ibid., с. 284.
(обратно)
53
В русской исторической литературе долго держалась легенда (от влияния которой не ушел в свое время и пишущий эти строки), приписывавшая Николаю I чрезвычайно агрессивное отношение ко Второй французской республике 1848–1851 годов и, по крайней мере, враждебное отношение к Наполеону III. Новейшие архивные изыскания — особенно книга
Edm. Bapst («Les origines de la guerre de Crimée», Paris, 1912) совершенно разрушили эту легенду. Февральской революции в Петербурге, правда, в первую минуту сильно испугались; но когда первый испуг прошел, о нападении на Францию не было речи. Император Николай неоднократно высказывался даже, что республике он сочувствует больше, нежели монархии Луи Филиппа. А после июньских дней 1848 года симпатия эта так возросла, что русский государь счел возможным полуофициально (через посредство Министерства иностранных дел) засвидетельствовать свои дружественные чувства правительству ген. Кавеньяка. Смена этого последнего принцем Луи Наполеоном сначала поразила неприятно — напоминанием о Наполеоне I. Но после 2 декабря 1851 года и он примирил с собою петербургский двор. Споры из-за титула и т. п., которым придавали прежде такое большое значение, на самом деле были лишь симптомом все ухудшавшихся по другим причинам отношений. А главной из этих причин были упорные симпатии Наполеона III к Англии, с которой он все время шел рука об руку и ради которой он не задумался нанести даже личную обиду Николаю Павловичу, не без грубости отклонив его приглашение французской военной миссии в Россию. Определяющим моментом являлся, таким образом, англо-французский союз, экономические основания которого см. выше в тексте.
(обратно)
54
Не менее показателен рост торговли Марселя в 1827 году — 849 тыс. т., в 1847-м — 2932 тыс. т., в 1862-м — 3473 тыс. т.
(обратно)
55
Заблоцкий-Десятовский. Гр. П. Д. Киселев и его время, т. 4, приложения, с. 281–283.
(обратно)
56
Журнал мануфактур и торговли, 1837, Ne 11–12.
(обратно)
57
Хлебная торговля в черноморских и азовских портах Южной России//Журнал Министерства внутренних дел, 1854, ч. 4.
(обратно)
58
О внешней торговле России 1838 года
И Журнал мануфактур и торговли, 1839, № 8.
(обратно)
59
Но на первых порах и в Петербурге толчок почувствовался сильно: «Цена на хлеб возвысилась почти вдвое».
(обратно)
60
Hansen, цит. соч.
(обратно)
61
Rubinow. Russia’s wheat trade. — Washington, 1908. (Бушель пшеницы — около полутора пуда, 62 фунта.)
(обратно)
62
Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 9, с. 305–308.
(обратно)
63
Кошелев. Записки, с. 81–82.
(обратно)
64
Версия
самоубийства Николая I находит себе почти решающее подтверждение в том, что рассказывает в своих воспоминаниях П. П. Семенов со слов в. кн. Елены Павловны (Вестник Европы, 1911, март, с. 21–36).
(обратно)
65
Воспроизведенная у г.
Попелъницкого в статье «Секретный комитет в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости» (Вестник Европы, 1911, февраль, с. 63–64).
(обратно)
66
См. у г.
Попелъницкого, цит. статья, passim.
(обратно)
67
Кошелев. Записки, с. 91.
(обратно)
68
Все цитаты о деятельности секретного комитета — по статье г.
По-пельницкого, впервые опубликовавшего о нем подробные данные.
(обратно)
69
Кавелин. Соч., т. 2, с. 45;
Кошелев. Записки, приложения, с. 96.
(обратно)
70
Скребницкий. Крестьянское дело, т. 2, ч. 1, с. 46 и др. (На с. 60 см. таблицу, несколько поправляющую холерические выводы Хрущева и Шретера: из нее видно, что бесхозяйные крестьяне составляли в Харьковской губернии около
трети.)
(обратно)
71
Соч. Т. 2, с. 665–667.
(обратно)
72
Письма к Герцену, с. 47–48, 51–52, 56, 60, 76, 82. Соч., т. 2, с. 1178–1179.
(обратно)
73
«Пугачевский бунт доказал, до чего может доходить буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, помощью Божией, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда».
(обратно)
74
См. у
Попельницкого, цит. статья, «В. Е.», 1911, февраль.
(обратно)
75
Из брошюры «Депутаты и редакционная комиссия по крестьянскому делу». Перепечатана в «Записках», приложения, см. с. 191–192.
(обратно)
76
См. журналы Главного комитета 18 октября, 19, 22 и 29 ноября 1858 года.
(обратно)
77
Все цитаты из писем Милютина и Самарина — по Leroy-Beaulieu «Un homme d’Etat russe», Paris, 1884. Некоторые из писем опубликованы впоследствии и в русском оригинале, но у нас был под руками только французский текст.
(обратно)
78
Цифры по
Скребицкому, т. 4, с. 1232. Мы не различали
большинства и
меньшинства комитетов — так как в данном случае это неинтересно.
(обратно)
79
Они заимствованы нами из ст. г.
Попелъницкого «Как принято было Положение 19 февраля крестьянами» (Современный мир, 1911, март, с. 187). Данные ниже оттуда же.
(обратно)
80
Первые цифры взяты нами у
Beaurieux, вторые — у
Hansen, цит. соч.
(обратно)
81
Блиох. Влияние железных дорог на экономическое состояние России, т. 2, с. 42. (Мы несколько округлили подсчет Блиоха, вычисленный с точностью до 0,01 %, и пропустили трехлетие 1854–1856 годов — годы Крымской войны.)
(обратно)
82
Nicolason. Histoire du développement économique de la Russie». — Paris, 1902, p. 154–155. (Французское издание полнее русского издания «Очерков».)
(обратно)
83
Первая табличка составлена нами по данным, приложенным к 1-му тому известной книги «Влияние урожаев и хлебных цен». Вторая — заимствована у
В. Ильина (Развитие капитализма в России», 1-е изд., с. 186).
(обратно)
84
Скотник получал в год «60 рублей деньгами, 6 кулей, 6 мер ржи, 2 куля овса, 1 1/2 куля ячменя», кроме того, держал на хозяйском корму корову и овцу, получал землю для огорода и для посева одной мерки льна и одной осьмины картофеля и т. д.
(обратно)
85
Обе таблицы см. у
Ильина, цит. соч., с. 133–134.
(обратно)
86
Дворянство в России // Вестник Европы, 1887, т. 2.
(обратно)
87
Земледелие в России // Вестник Европы, 1904, январь.
(обратно)
88
«Выкупная операция», с. 16. (Мы опустили цены земель 50-х годов (второй столбец таблицы г. Лосицкого), которые сам автор не признает «реальными» — в чем он совершенно прав, конечно: помещики имели все разумные основания требовать за землю то, что она стоила бы
после «освобождения», а не то, что стоила она при крепостном праве.)
(обратно)
89
Лосицкий. Надел и выкуп // Современный мир, 1911, март.
(обратно)
90
Из «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», напечатанной в 1858 году. Цитируем по ст.
Г. В. Плеханова «Освобождение крестьян» (Современный мир, 1911, февраль).
(обратно)
91
См. гл. XVI. Революция и реакция.
(обратно)
92
Блиох. Влияние железных дорог, т. 1, с. 29.
(обратно)
93
Nicolason, цит. соч., р. 4.
(обратно)
94
Воропанов Ф. Сорок лет тому назад // Вестник Европы, 1904, июль.
(обратно)
95
Барсуков, цит. соч., кн. 21, с. 80–82.
(обратно)
96
Барсуков, ibid., 19, с. 36–37. Цитата из Погодина оттуда же, с. 12 и 20.
(обратно)
97
Воропанов, цит. воспоминания. (Вестник Европы, 1904, август.)
(обратно)
98
Для всех приведенных фактов см. воспоминания
Колмакова «Старый суд» (Русская старина, 1886, т. 52).
(обратно)
99
Головачев. А. Десять лет реформ. 1861–1871, с. 323.
(обратно)
100
Цит. по
И. Гессену (Судебная реформа, с. 50).
(обратно)
101
Цит. по книге г.
Гессена, с. 105–106.
(обратно)
102
Что прокуратура составляла у нас особую разновидность полиции, — это положение, ясное, впрочем, для всякого, не чуждого юридической точки зрения, с особенной ясностью развито в цит. соч.
А. Головачева, с. 310 и др.
(обратно)
103
Головачев, цит. соч., с. 337.
(обратно)
104
Энгельгардт. Письма из деревни, с. 146.
(обратно)
105
Воспоминания
Кони, ср.
И. Гессена, цит. соч., с. 133.
(обратно)
106
Татищев. Александр II, с. 613.
(обратно)
107
Головачев, цит. соч., с 197 и 205.
(обратно)
108
Барсуков, цит. соч., т. 19, passim.
(обратно)
109
Цитаты по ст. г.
Лемке о деле Чернышевского, (Былое, 1906).
(обратно)
110
Нижеследующий текст, как и вся глава XVI, появляется перед публикой впервые теперь, но написан он был одновременно со всеми предыдущими в 1912 году. Переработка его при свете всем доступного теперь — а тогда «секретного» — архивного материала потребовала бы не одного года времени. Чтобы не задерживать издания, текст издается таким, каким он был уничтожен царской цензурой десять лет тому назад.
(обратно)
111
«Русский народ и социализм», письмо к Мишле, 1851 года. Курсив, как вообще в цитатах из Герцена, наш.
(обратно)
112
Книга «Екатерина Романовна Дашкова». Курсив Герцена.
(обратно)
113
См. очерк г.
Лемке — «Депо о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» (Былое, 1906, сентябрь — декабрь).
(обратно)
114
«Романов, Пугачев или Пестель?»
(обратно)
115
Связь сверху вниз, нужно прибавить. Нет монарха без дворянства — но дворянство без монарха можно себе представить.
(обратно)
116
В упомянутой статье г.
Лемке.
(обратно)
117
«Укоряющая тень Серно-Соловьевича прошла мимо нас печальным протестом… Последний маркиз Поза, он верил своим юным девственным сердцем, что
их можно вразумить, он человеческим языком говорил с государем и… умер в Иркутске, изможденный истязаниями трехлетних казематов. Враги, заклятейшие консерваторы по положению, члены Государственного совета, были поражены доблестью, простотой, гсрииством Серно-Соловьевича. Человек этот был до того честен, что «Московские ведомости» не обругали его, не донесли на него во время следствия, не сделали намека, что он поджигатель или вор… Это был один из лучших весенних провозвестников нового времени в России… И он убит».
(обратно)
118
Часть этого письма сохранилась и приведена г.
Лемке; мы можем, таким образом, судить о стиле.
(обратно)
119
Борьба партий во Франции // Современник, 1858, № 8 и № 9. (Перепечатано из ПСС, т. 4, с. 156–158.)
(обратно)
120
Лемке. Дело Н. Г. Чернышевского // Былое, 1906, март — май.
(обратно)
121
«Я поступал иначе, — рассказывал бывший петербургский ген. губернатор Суворов, нам отчасти знакомый, в разгар террора, последовавшего за каракозовским выстрелом: — «Мне доносят, что подготовляется движение. Я посылаю за Чернышевским, говорю ему: «Пожалуйста, чтобы этого не было». Он дает слово мне, и я иду к государю и докладываю, что все будет спокойно. Вот как я поступал!»
(обратно)
122
Для специальной характеристики петрашевцев, к сожалению, не нашлось места на этих страницах. Николаевских сыщиков очень поражала социальная пестрота последователей Петрашевского. «Обыкновенно заговоры бывают большею частью из людей однородных, более или менее близких между собою по общественному положению, — писал Липранди. — Например, в заговоре 1825 года участвовали исключительно дворяне и притом преимущественно военные. Тут же, напротив, с гвардейскими офицерами и с чиновниками Министерства иностранных дел рядом находятся не окончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком».
(обратно)
123
Цитаты см. у
Барсукова, цит. соч., т. 19, с. 133.
(обратно)
124
«Мы еще верим в вас, вы дали залоги (Герцен имеет в виду декабристов), наше сердце их не забыло, вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим… чтобы сказать им: ну, братцы, к топорам теперь…» («Юрьев день»), «Мы посмотрим, какое действие произведет наше приглашение на образованные классы. Мы обращаемся к ним, как обещали. Но если мы увидим, что они не решаются действовать, — нам не останется выбора: мы должны будем действовать на простой народ… народ неудержимо поднимется летом 1863 года. Отвратить это восстание патриоты будут не в силах» (Великорусс, № 3).
(обратно)
125
На 8 месяцев — окончательно их запретили в 1866 году.
(обратно)
126
«Записки»
Кропоткина. Мы привели эти выдержки лишь как образчики
настроения, почему и не находим нужным исправлять фактические неточности. Писарев, например, был тогда не «в крепости», а уже на том свете.
(обратно)
127
Исторические письма, 1906, с. 301, 353.
(обратно)
128
«Концы и начала».
(обратно)
129
В № 3 от 15 января 1879 года.
(обратно)
130
Письма из деревни, с. 320.
(обратно)
131
Мы на считаем, разумеется, Чигиринского дела: крестьян там сколько угодно, конечно, — но где же там социализм?
(обратно)
132
Воспоминания, с. 37–38.
(обратно)
133
3-е изд., с. 345.
(обратно)
134
Автобиография // Былое, 1906, июнь.
(обратно)
135
Исторические письма, с. 43.
(обратно)
136
Дебагорий-Мокриевич. Воспоминания, с. 35–36.
(обратно)
137
Автобиография.
(обратно)
138
Волков. Н. Из жизни саратовских кружков // Русская историческая библиотека, № 5. (Перепечатано из заграничного «Былого».)
(обратно)
139
См. в апрельской книжке «Былого» за 1906 год воспоминания бывшего защитника Ишутина — фактического вождя «Организации» — Д. В. Стасова и приложенные к этим воспоминаниям документы.
(обратно)
140
Богучарский. В. Я. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах XIX века. Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. — М., 1912. (Фразы в кавычках заимствованы оттуда.)
(обратно)
141
Шишко. Л. С. М. Кравчинский и кружок чайковцев. — СПб., 1906, с. 24–25.
(обратно)
142
См. этот каталог там же, с. 26. Мы не приводим его, не желая затруднять читателя выписками.
(обратно)
143
Шишко, цит. ст., с. 15.
(обратно)
144
Это рабочее движение будет нами рассмотрено отдельно — в главе XVIII.
(обратно)
145
Воспоминания, с. 240–248.
(обратно)
146
Лукашевич. А. О. В народ! // Былое, 1907, март.
(обратно)
147
Дебагорий-Мокриевич, с. 136.
(обратно)
148
Лукашевич А. О. В народ! (курсив автора).
(обратно)
149
Бремковская Е., Воспоминания пропагандистки.
(обратно)
150
Дебагорий-Мокриевич, с. 205 и др.
(обратно)
151
Тэн. История революционного движения в России.
(обратно)
152
Устав одной из «общин» — московского кружка, где действовала Бардина и др., — приведен в выдержках в обвинительном акте по делу 50-ти, приведен, по словам одного из участников, вполне правильно.
(обратно)
153
Читателю едва ли нужно напоминать, что настоящие
якобинцы времен Великой французской революции никогда не были заговорщиками.
(обратно)
154
Цит. по
Серебрякову, «Земля и воля».
(обратно)
155
Д. Михайлов — впоследствии знаменитый народоволец.
(обратно)
156
Плеханов Г В. Русский рабочий в революционном движении. (Полемику между народниками и марксистами см. в цит. брошюре
Серебрякова и предисловии
Плеханова к его переводу книги
Тэна.)
(обратно)
157
Семнюта Ц. Из воспоминаний об А. И. Желябове // Былое, 1906, апрель.
(обратно)
158
Попов М. Р. «Земля и воля» накануне ворон, съезда // Былое, 1906, август.
(обратно)
159
Первым террористическим покушением был, как известно, выстрел В. И. Засулич в петербургского градоначальника Трепова (24 января 1878 года), но это было чисто индивидуальное выступление, не связанное ни с какой партийной тактикой. Но
киевские покушения февраля — мая того же года (Осинский стрелял в прокурора Котляревского, а Попко убил жандармского офицера Гейкинга) носили характер уже организованного террора и были освещены соответствующими прокламациями, где впервые упоминается Исполнительный Комитет, (см. г.
Богусарского, цит. соч., с. 13). 4 августа того же года Кравчинский Степняк убил шефа жандармов Мезенцева — и это был первый случай организованного террора в Петербурге.
(обратно)
160
Серебряков, цит. соч., с. 54. (Аргументация землевольца антитеррориста хорошо показывает, как наивно обычное объяснение террора — от преследований, «ожесточивших» «мирных пропагандистов». Что террор вызовет преследования вдесятеро худшие — это великолепно сознавали гораздо раньше, чем перешли к террористической тактике. Знали, что вместо ссылки на поселение или даже административной ссылки будут вешать или замуровывать на всю жизнь в казематы. Но террористические удары в Центр казались единственным средством вызвать в России революцию, не дожидаясь «вырождения нации». Ради этого шли на все, отлично зная, что большинство погибнет в этой буквально «мертвой» схватке с врагом.)
(обратно)
161
Письмо Маркса приведено у г.
Богучарского, с. 470. Комментарии к этому письму с противоположной точки зрения см. в ст.
Г. В. Плеханова «Неудачная история «Народной воли»», в майской книжке «Современного мира» за 1912 год.
(обратно)
162
Народная воля., № 8–9, 1882, 5 февраля.
(обратно)
163
Назв. соч., с. 44.
(обратно)
164
Богучарский, с. 236 и др.
(обратно)
165
Ашенбреннер М. Ю. Военная организация партии «Народной воли» // Былое, 1906, июль; «Из истории народовольческого движения среди военных», там же, август.
(обратно)
166
Литература партии Народной воли, с. 869. (В программе Исполнительного комитета сюда присоединяются еще — как агитационные средства — «сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адресы, отказ от уплаты податей», и пр.). Ibid, с. 165.
(обратно)
167
Цит. воспоминания
М. Р. Попова (Былое, 1906, август).
(обратно)
168
Политические письма социалиста // Народная воля, Nq 2,1879, ноябрь
(обратно)
169
Конституция гр. Лорис-Меликова. — Лондон., с. 22–23. (Курсив наш.)
(обратно)
170
Богучарский, цит. соч., с. 211. Нам, к сожалению, записка была доступна только в тексте, изданном Кеннаном.
(обратно)
171
Цитату из воспоминании Дебагория-Мокриевича см. там же, с. 402.
(обратно)
172
2 августа 1878 года в Одессе расстрелян Ковальский; 20 апреля 1879 года в Петербурге казнен Дубровин; 14 мая в Киеве — Осинский, Антонов (псевдоним) и Брандтнер; 28 мая в Петербурге — Соловьев; 18 июня в Киеве — Бельчанский, Горский и Федоров; 10 августа в Одессе — Чубаров, Лизогуб и Давиденко; 11 августа в Николаеве — Виттенберг и Логовенко; 7 декабря в Одессе — Малинка, Майданский и Дробязгин (Народная воля, Ns 2 и 3).
(обратно)
173
Г. Богучарский почему-то очень нервно относится к вопросу об образе жизни и костюме народовольцев (см. назв. книгу, с. 239), но несомненно, что в этом, весьма частном, конечно, вопросе, его противник, «баснословящий»
Л. Мартов, совершенно прав. Вот как описывает, например, в своих воспоминаниях, С. А. Иванова «хозяина» первой народовольческой типографии, Буха: «В тех случаях, когда господин Лысенко (под таким именем он был прописан) выходил на улицу, вид у него был настолько внушителен, шуба настолько хороша, и золотое пенсне так удобно помещалось на носу, что дворник издали приподнимал шапку и отвешивал ему почтительный поклон» (Былое, 1906, сентябрь).
(обратно)
174
См. на этот счет «Воспоминания»
Дебагория-Мокриевича.
(обратно)
175
Былое, 1906, апрель, с. 224–225.
(обратно)
176
Всех террористических покушений на жизнь Александра II, удачных и неудачных, осуществленных или только подготовлявшихся, было 10. Из них лишь одно покушение Соловьева было совершено при помощи револьвера. Ранее этого, в августе 1878 года, хотели взорвать динамитом пристань в Николаеве, куда должен был сойти император. В июле следующего года в Симферополе готовились бросить динамитную бомбу и делали опыты. Вся осень того же года наполнена необычайно упрямыми и энергичными попытками взорвать царский поезд, — под Одессой и под Александровском безуспешно, под Москвой дело дошло до взрыва, но взлетел на воздух не царский, а свитский поезд, так как расписание было изменено из предосторожности, 5 февраля 1880 года Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце. В мае того же года был опять подкоп в Одессе, а в августе закладывали мины в Петербурге под Каменный мост. Затем, в январе 1881 года, начали рыть мину под М. Садовой.
(обратно)
177
Листок «Народной воли», № 2, 1883, 15 октября.
(обратно)
178
Одесский и Киевский ген. — губернаторы, вешавшие особенно беспощадно.
(обратно)
179
Желябов, как известно, был арестован еще до 1 марта, Михайлов — еще раньше. Фактическим организатором последнего покушения была С. Л. Перовская. О ней см.
воспоминания Ивановой в «Былом» за 1906 год, март, и
С. Иванова «Из воспоминаний о 1881 годе», там же, апрель.
(обратно)
180
От латинского глагола
errare «блуждать» и «ошибаться», в то же время в геологии валуны называются «эрратическими камнями».
(обратно)
181
Богучарский, цит. соч., с. 274–275.
(обратно)
182
См. в неоднократно цит. книге г.
Богучарского главы 10–12.
(обратно)
183
См. подробный отчет об этом совещании в «Былом», 1906, январь, где только оно ошибочно названо «заседанием Государственного совета».
(обратно)
184
Щеголев П. С. После 1 марта 1881 г. // «Былое», 1907, март.
(обратно)
185
Данные заимствованы у г.
Туган-Барановского (Русская фабрика, 2-е изд., с. 313).
(обратно)
186
Глядя на эту последнюю цифру, читатели не забудут колоссальный русский неурожай 1891 года, сразу вздувший цену.
(обратно)
187
Карышев. Крестьянские вненадельные аренды // Итоги экономического исследования России по данным земской статистики, т. 2. — Дерпт, 1892, с. 332. (Курсив наш.)
(обратно)
188
Ильин В. Развитие капитализма в России, с. 92, 99 и др. (Для «разложения крестьянства» см. всю 2-ю главу.)
(обратно)
189
Ст.
Анненского в сборнике «Нужды деревни», т. 2, с. 564.
(обратно)
190
Взяты из очерка г.
Семенова во т. 2 изд. Девриена «Россия, полное географическое описание нашего отечества», с. 201.
(обратно)
191
Этот удивительный пример читатели могут видеть на с. 791, т. 2, собр. соч. Кавелина.
(обратно)
192
Страховский И. М., в сборнике «Крестьянский строй», т. 1, с. 437.
(обратно)
193
Цейтлин С. Я. Земское самоуправление и реформа 1890 года // История России в XIX в. — Гранат, т. 5, с. 86–87.
(обратно)
194
В уездных земских управах дворян и чиновников было 55,7 %, в числе гласных губернских и земских собраний те и другие составляли 81,5 %, в составе губернских управ — 89,5 %. См. цит. ст.
Цейтлина.
(обратно)
195
Из «Записок земского начальника», г.
Новикова — цит. в ст.
С. М. Блеклова (История России в XIX веке, т. 5, с. 153). Другие цитаты см.:
Розенберг. Земские начальники // Нужды деревни, т. 1.
(обратно)
196
Цитаты из г.
Туган-Барановского (Фабрика, с. 523, 2-е изд.).
(обратно)
197
Теперь, после опубликования Филипповичем секретной английской переписки по поводу польского восстания 1863 года, не может быть сомнения, что коалиция, которую пытался организовать в этом году Наполеон III, была направлена своим острием не против России, но против Пруссии: заступничество за Польшу было лишь предлогом начать войну на Рейне. Комбинация сорвалась на нерешительности Австрии, побоявшейся попасть в клещи между Пруссией и Россией; за эту минуту трусости Австрия жестоко поплатилась три года спустя при Садовой.
(обратно)
198
Подлинные дипломатические документы различных европейских держав, — не исключая Англии и Франции, — если они моложе примерно 1850 года (для различных государств сроки различны), доступны для пользования только с особого разрешения, которое дается очень скупо и лишь вполне «надежным» людям.
(обратно)
199
Слова г.
Гулишамбарова о Хивинском ханстве. (Экономический обзор Туркестанского района, обслуживаемого среднеазиатской железной дорогой. — Ашхабад, 1913, с. 165.)
(обратно)
200
Мартенс. Россия и Англия в Центральной Азии, с. 42, англ. пер.
(обратно)
201
Татищев. Александр II.
(обратно)
202
Martens, цит. соч., с. 66.
(обратно)
203
Татищев. Александр II, ср.:
Мартенс, op. cit., с. 82–83.
(обратно)
204
Речь идет о
промышленной Англии XIX века.
Банкирская Англия в начале XX века держалась в своей внешней политике иных принципов.
(обратно)
205
Вышеприведенный цифровой материал заимствован из следующих изданий: Statesman’s yearbook — за соответствующие годы;
Гулишамбаров. Европейская торговля XIX в. и участие в России;
Mittschewsky. Russlands
Handelspolitik. — Berlin, 1905;
Туган-Барановский. Русская фабрика;
Baicoiano. Handelspolitische Bestrebungen Englands zur Erschliessung d. unteren Donau. — München, 1913.
(обратно)
206
Богучарский. Активное народничество.
(обратно)
207
Куропаткин А. Н. Россия для русских. Задачи русской армии. — СПб., 1910, т. 2, с. 444 и др. (Курсив наш.)
(обратно)
208
Ibid., с. 447. Курсив наш.
(обратно)
209
Горяйнов. Босфор и Дарданеллы, с. 316, фр. пер.
(обратно)
210
Может быть, уже в это время малонадежной. Поддержка, оказанная Россией Франции в 1875 году, очень раздражила Бисмарка, и он — есть известия — предлагал Англии свою поддержку в обмен за союз
против Франции. Английский министр отказался, сославшись на то, что такого союза английское общественное мнение не потерпит.
(обратно)
211
Анучин Д. Г. Берлинский конгресс 1878 г. // Русская старина, 1912 (для данного случая особенно
январь, с. 44–45).
(обратно)
212
Там же,
май, с. 35.
(обратно)
213
Джинго — значит «черт».
(обратно)
214
Татищев. Александр II.
(обратно)
215
Русская старина, 1912, январь, с. 55–56.
(обратно)
216
Для приведенных цитат см.:
Анучин. Берлинский конгресс // Русская старина, 1912, январь — май.
(обратно)
217
Ibid.,
май, с. 227.
(обратно)
218
Исторический вестник, 1884, кн. 12. Ср.:
Edwards. Russian Project against India. — London, 1885.
(обратно)
219
Александров М. С. Группа народовольцев (1891–1894), т. 5 // Былое, 1906, ноябрь.
(обратно)
220
Финн-Енотаевский А. Промышленный капитализм в России за последнее десятилетие; предыдущие цифры взяты у
Туган-Барановского (Фабрика, с. 313).
(обратно)
221
Первые три столбца таблицы заимствованы нами из статьи
С. Н. Прокоповича «Задачи таможенной политики» (Современник, 1912, июль). Некоторые дальнейшие цифры оттуда же.
(обратно)
222
Туган-Барановский, цит. соч., с. 337–338 (по
Брандту. Иностранные капиталы).
(обратно)
223
Назв. ст. г.
Прокоповича.
(обратно)
224
Заимствуем цифры из цит. ст. г.
Финна-Енотаевского.
(обратно)
225
Туган-Барановский, цит. соч., с. 344–346.
(обратно)
226
Мартов Л. Общественные движение и умственные течения, в период 1884–1905 гг. //
История русской литературы XIX века. Изд. тов. «Мир», т. 5, с. 18–19.
(обратно)
227
Ерманский А. Крупная буржуазия до 1905 года // Общественное движение в России в начале XX века, т. 1).
(обратно)
228
Туган-Барановский, цит. соч., с. 313. Для сравнения отметим, что за пятилетие 1893–1897 годов крайние цифры будут 860—1100 тыс.
(обратно)
229
Дементьев Е. М. Фабрика, 2-е изд., с. 164–183.
(обратно)
230
Цит. соч.
Туган-Барановского, с. 449. У автора в этом месте очень резко сказался марксистский «оптимизм» 90-х годов, но факт он все же признал и вывод из него сделал (с. 450).
(обратно)
231
Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении, с. 9—11.
(обратно)
232
Туган-Барановский, цит. соч., с. 328.
(обратно)
233
См. выше, с. 225.
(обратно)
234
Русский рабочий, с. 45–46.
(обратно)
235
Ibid., с. 51.
(обратно)
236
Пропаганда среди петербургских рабочих в начале 70-х годов // Былое, 1900, вып. 1.
(обратно)
237
Бурцев В. Л. Северно-русский рабочий союз // Былое, 1906, январь.
(обратно)
238
О более ранней рабочей организации на юге известно еще меньше — и само существование ее оспоривается, см. ст. Е. Ковалевской и в «Былом».
(обратно)
239
Русская историческая библиотека, вып. 5, с. 151 и 159.
(обратно)
240
Программа эта была, как известно, в руках К. Маркса, который «испещрил» ее своими отметками. Издатель программы в заграничном «Былом» усмотрел здесь признак
сочувственного внимания Маркса; не было ли это скорее признаком противоположного?
(обратно)
241
Туган-Барановский. Фабрика, с. 411. (Курсив наш.)
(обратно)
242
Панкратов В. Из деятельности среди рабочих в 1880–1884 гг. // Былое, 1906, март.
(обратно)
243
Туган-Барановский. Фабрика, с. 440–441.
(обратно)
244
Для наглядности приводим следующие цифры:
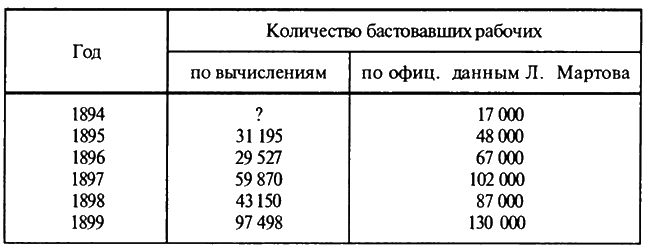
См.:
Мартов Л. Развитие промышленности и рабочее движение с 1893 по 1904 год // История России в XIX в. — Изд. «Гранат», т. 8, с. 69.
(обратно)
245
Александров М. С. Группа народовольцев (1891–1894) // Былое, 1906, ноябрь. (Курсив наш.)
(обратно)
246
Акимов-Махновец В. П. Первое мая в России. Ibid., октябрь.
(обратно)
247
Ibid., с. 170.
(обратно)
248
Тар К. М. Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов, изд. 2-е, с. 15.
(обратно)
249
Ibid., с. 17 и 21. (Курсив наш.)
(обратно)
250
Об этой брошюре и различных точках зрения на нее у
М. Лядова, цит. соч., с. 85–87.
(обратно)
251
См. цит. соч.
К. Тара.
(обратно)
252
Туган-Барановский, цит. соч., с. 429–430.
(обратно)
253
Цитаты из газетных корреспонденций см. у г.
Туган-Барановского, с. 355 и др.
(обратно)
254
Акимов — Махновец В. Л. 1-е мая в России // Былое, 1906, ноябрь.
(обратно)
255
Полностью см. этот циркуляр в статье
В. Горна, в т. 1. Общественное движение в России в начале XIX века, с. 241–242.
(обратно)
256
См. выше.
(обратно)
257
Фразы в кавычках — из цит. выше ст.
В Горна.
(обратно)
258
Труды Вольного экономического общества, 1908, № 3,с. 95–96 — из введения к обзору аграрного движения в средневолжских губерниях, составленному
И. В. Чернышевым. Для других губерний см. там же, с. 51, 59, 62, 67, 80 и др. (Курсив наш.)
(обратно)
259
Цитата в назв. выше ст.
В Горна.
(обратно)
260
Труды Вольного экономического общества, с. 57.
(обратно)
261
Подлинное крестьянское выражение: во время 2-й Думы крестьяне Рязанской губернии говорили между собой: «Коли и эту думу разгонят, тогда одно останется — такую
иллюминацию устроить, чтобы небу было жарко» (Труды Вольного экономического общества, ibid., с. 67).
(обратно)
262
Ibid., № 4–5, с. 53.
(обратно)
263
Письма из деревни, с. 515.
(обратно)
264
Труды Вольного экономического общества, № 3, с. 105, прим.
(обратно)
265
Цифровые данные заимствованы нами из ст.
П Н Милюкова «Университет», в Энцикл. словаре Брокгауза и Ефрона, полутом 68.
(обратно)
266
Из «письма» Союзного совета от 14 ноября 1894 года — цит. в «Общественном движении в России в начале XX века», т. 1, с. 264.
(обратно)
267
«Общественное движение», ibid., с. 281.
(обратно)
268
См. выше.
(обратно)
269
Из речи В. П. Муромцева. Цит. по «Общественному движению» т. 1, с. 301.
(обратно)
270
Мирный С. Адресы земства 1894–1895 годов и их политическая программа. — Женева, 1896.
(обратно)
271
До того тщательно, что заседания устраивались тайно не от полиции, — она, напротив, любезно провожала заблудившихся членов по надлежащему адресу, — а от студентов и рабочих. См. статью бар.
Будберга «Съезд земских деятелей 6–9 ноября 1904 г.» (Былое, 1907, март).
(обратно)
Оглавление
Глава XIII
Декабристы
Тайные общества
14 декабря
Глава XIV
Крестьянская реформа
Социальная политика Николая I
Кризис барщинного хозяйства
19 февраля
Глава XV
Шестидесятые годы
Пореформенная экономика
Буржуазная монархия
Глава XVI
Революция и реакция
Социализм 70-х годов
«Народная воля»
Аграрный вопрос
Глава XVII
Внешняя политика буржуазной монархии
60-е — конец 70-х годов
Глава XVIII
Конец XIX века
80—90-е годы
Синхрометрические таблицы
IV век
V–VII века
VIII–IX века
X век
XI век
XII век
XIII век
XIV век
XV век
XVI век
XVII век
XVIII век
XIX век
1801–1830 годы
XIX век
1831–1866 годы
XIX век
1867–1896 годы
INFO
*** Примечания ***