Газета «Голос Вселенной» № 9 (1996)
Информационно-публицистическая и литературно-художественная газета
Россия – Вселенная Духа и последняя обитель Вседержителя посреди Черной Пропасти, разверзнутой в ад
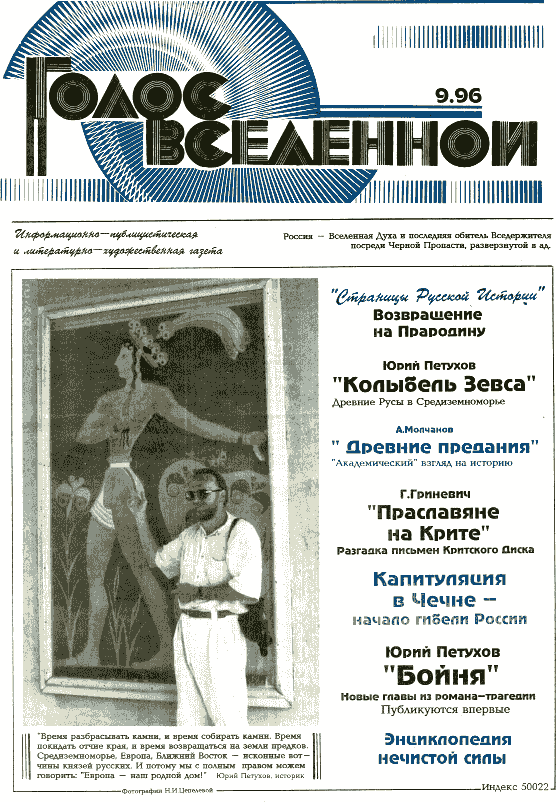
А. А. Молчанов
Возвращение на Прародину
Древние русы на Крите
Научная сенсация и древние предания
В летний сезон 1908 г. итальянская археологическая экспедиция, с середины 80-х годов предыдущего столетия работавшая в южной части греческого острова Крит, вела раскопки царского дворца на акрополе древнего города Феста. И вот вечером 3 июля Луиджи Пернье, исследуя культурный слой в одном из подсобных дворцовых помещений, обнаружил вместе с табличкой, исписанной известным уже тогда критским линейным письмом – так называемым линейным А, замечательный образец неведомой дотоле письменности.
Это был небольшой по размерам диск из хорошо обожженной глины, имевший диаметр 15,8-16,5 см. и толщину 1,6–2,1 см. Сформованный от руки без помощи гончарного круга, он имел форму геометрически не совсем правильную. С обеих сторон его покрывала подобно причудливому узору спирально идущая надпись, составленная из множества аккуратно нанесенных на керамическую поверхность рисуночных знаков. Знаки эти объединялись в группы, выделенные прямоугольными рамками или, точнее, заключенные в отдельные ячейки. Под последними знаками в некоторых группах имелась странная косая черта, напоминавшая вираму – особый значок индийского слогового письма. Богатая древностями земля Крита подарила исследователям новый уникальный памятник и одновременно загадала им очередную загадку, причем пока самую трудную.
Фестский диск сразу же породил массу вопросов. И первым был, конечно, вопрос о его происхождении. Специалисты ломали головы над тем, где было место изготовления таинственного диска: на самом острове или за его пределами?
Ясно было только одно: исходя из имевшихся к моменту его обнаружения в распоряжении ученых данных не приходилось сомневаться, что этот памятник в принципе вполне мог появиться на Крите.
Античные авторы сохранили сведения о могучей критской державе царя Миноса, силе ее флота, когда-то безраздельно господствовавшего в водах Восточного Средиземноморья, о мудром законодательстве критян, послужившем, в частности, образцом для законодательства одного из самых известных государств Древней Греции I тысячелетия до н. э. – прославленной Спарты.
По словам «отца истории» Геродота, Минос, установив владычество на Эгейском море, подчинил своей власти его многочисленные острова, покоренные жители которых принуждены были служить гребцами на быстроходных критских кораблях, и затем совершил поход в далекую Сицилию. Величайший древнегреческий историк Фукидид сообщает, что на многих из завоеванных Миносом островах были основаны колонии критян, причем управление ими было поручено царским сыновьям, а для обеспечения безопасности морских торговых путей велась активная борьба с процветавшим до того пиратством.
Глубоко врезавшиеся в народную память эллинов представления о могуществе владык Крита и отдельные эпизоды сложных и разнообразных взаимоотношений их с обитателями греческого материка, иногда дружественных или даже родственных, а иногда и резко враждебных, отразились во многих передававшихся из поколения в поколение исторических преданиях и стихотворных эпических сказаниях.
Следующие строки посвятил Криту в «Одиссее» гениальный Гомер:
Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный.
Тучный, отвсноду объятый водами, людьми изобильный;
Там девяносто они городов населяют великих.
Разные слышатся там языки: там находишь ахеян.
С первоплеменной породой воинственных критян; кидоны
Там обитают, дорийцы кудрявые, племя пеласгов,
В городе Кноссе живущих. Минос управлял им в то время,
В девятилетие раз общаясь с великим Зевесом…
В другой бессмертной гомеровской поэме – «Илиаде» – о внуке легендарного Миноса, предводительствовавшем во время знаменитой Троянской войны 80-ю кораблями с Крита, говорится:
Там, среди критских дружин, возвышается, богу подобный,
Идоменей, и при нем предводители критян толпятся…
Критян же Идоменей предводил, знаменитый копейщик;
В Кноссе живущих мужей, в укрепленной стенами Гортине.
Ликт населявших, Милет, и град белокаменный Ликаст,
Ритий обширный и Фест, многолюдные, славные грады.
И других, населяющих Крита стоградного земли,
Был предводителем Идоменей, знаменитый копейщик…
Многим хорошо знакомы древнегреческие мифы, сюжеты которых тесно связаны с Критом. Вот изложенные вкратце некоторые наиболее популярные из них.
Из богов первым правителем мира был Уран. Он был побежден и свергнут собственным сыном Кроном. Крон, опасаясь быть также свергнутым одним из собственных сыновей, стал пожирать подряд одного за другим всех рождавшихся у него детей. Когда очередь дошла до шестого из них, Зевса, мать его Рея поднесла мужу вместо новорожденного сына завернутый в пеленки камень, который и был проглочен не подозревавшим обмана Кроном.
Зевс, появившийся на свет в одной из горных пещер на Крите, был вскормлен здесь молоком чудесной козы Амалтеи (сломанный рог Амалтеи, он же «рог изобилия», способный дать все, что ни пожелаешь, вошел в поговорку), воспитан местными нимфами и жрецами-куретами. Если младенец начинал плакать в своем тайном убежище, куреты, постоянно охранявшие в полном вооружении вход в пещеру, чтобы заглушить его плач, ударяли копьями в щиты. Когда Зевс вырос, он одолел в упорной борьбе своего жестокого отца и, став царем богов, поделил с братьями владычество над миром: ему самому вместе с верховной властью досталось небо, Посейдону – море, Плутону – подземное царство.
Полюбив однажды финикийскую царевну Европу (древняя страна Финикия располагалась на восточном побережье Средиземного моря, в основном на территории нынешнего Ливана), Зевс явился к ней в образе прекрасного быка, когда она пришла с подругами на берег моря. Прельстившись красотой и кротким нравом животного, мирно улегшегося у ее ног, царевна доверчиво уселась ему на спину. Вдруг бык вскочил на ноги и, стремглав бросившись в море, быстро поплыл от берегов Финикии на запад.
Вскоре они достигли острова Крит. Здесь Европа родила от Зевса трех сыновей, Миноса, Сарпедона и Радаманта, которых воспитал как собственных детей повелитель критян Астерий (в действительности «астериос», что по-гречески значит «звездный», был эпитетом того же Зевса на Крите). По имени же Европы, ставшей критской царицей, была названа одна из трех частей света, известных древним грекам, в которой жили они сами и которая лежала к западу от Азии и к северу от Африки. Когда братья выросли и возмужали, возникшее между ними соперничество переросло в открытую войну. В этой борьбе победителем вышел Минос, а побежденные Сарпедон и Радамант были изгнаны с острова.
После смерти царя Астерия Минос стал правителем Крита. Получить власть над критянами ему помогло утверждение, что боги могут выполнить любую его просьбу. Желая доказать это, он стал молить владыку моря Посейдона выслать из пучины вод быка, обещая принести затем быка ему в жертву. Но когда бык появился, Миносу стало жаль расставаться с ним, и он подменил его при жертвоприношении другим животным. За это разгневанный Посейдон наслал на своего быка бешенство. Позднее «критского быка» сумел одолеть величайший герой древнегреческой мифологии Геракл (седьмой из его двенадцати знаменитых подвигов).
Минос не только захватил власть на Крите. Он установил морское господство над всем Восточным Средиземноморьем. Ему подчинились почти все острова Эгейского моря. Со своим флотом он осадил город Мегары на восточном побережье Средней Греции. Правившему там царю Нису было предсказано, что он погибнет тогда, когда будет вырван растущий у него на макушке пурпурный волос. Дочь Ниса, Скилла, воспылав любовной страстью к Миносу, вырвала у отца из головы заветный волос и тем самым погубила его. Захватив Мегары, Минос приказал стены города разрушить, а предательницу Скиллу утопить в море.
После этого критский флот направился к берегам близлежащей области Аттики, и Минос принялся осаждать ее главный город Афины, мстя его царю Эгею за вероломное убийство своего сына Андрогея. Побежденный афинский царь был вынужден, подобно Мегарам, подчиниться могучему владыке Крита и согласился регулярно выплачивать ему тяжелую дань.
Прославился Минос не только своими успешными морскими походами, но и государственной мудростью и справедливостью. Миносу и Радаманту приписывалось создание первых законов для жителей Крита (именно поэтому, как справедливейшие из людей, они, по представлениям древних греков, стали после смерти судьями в подземном царстве Плутона).
В царствование Миноса ни один чужеземный корабль не мог беспрепятственно приблизиться к побережью Крита. Медный гигант Талое каждый день трижды обегал кругом весь остров. Замечая подплывающий к берегу корабль, он бросал огромные камни в непрошенных гостей; а если кто-либо из них осмеливался высадиться на сушу, Талое сначала раскалялся на огне, а потом заключал пришельцев в свои губительные объятия. Среди прочих диковин Миносу принадлежали неутомимый в погоне охотничий пес и не знающее промаха копье.
При Миносе на Крите жил и трудился замечательный изобретатель, искусный зодчий и прославленный скульптор Дедал, который первым ввел в употребление множество полезных инструментов и других ремесленных новшеств, создал искусство ваяния, построил в столице Миноса, городе Кноссе, знаменитый Лабиринт, представлявший собой грандиозное по масштабам здание с массой запутанных ходов, откуда не мог выбраться никто из вошедших внутрь.
В центре Лабиринта жил чудовищный Минотавр (буквально – «бык Миноса»), питавшийся человеческим мясом. К нему попадали на съедение те юноши и девушки, определенное число которых присылалось критскому владыке в качестве дани из покоренных им городов материковой Греции, в частности из Афин и Мегар. Желая освободить свой город от столь страшной и позорной дани, сын афинского царя Эгея, Тесей, добровольно отправился на Крит. Здесь его полюбила дочь Миноса, Ариадна. Чтобы спасти Тесея от неминуемой гибели, она по совету Дедала дала ему клубок ниток. Пробираясь по закоулкам Лабиринта, Тесей разматывал нить, а когда нашел и убил Минотавра, с ее помощью легко отыскал обратную дорогу. Однако, плывя домой в Афины, он забыл заменить черные паруса корабля на белые, как у него было заранее условлено с отцом на случай благополучного возвращения. Увидев корабль сына под черными парусами, старик Эгей в отчаянии бросился в море, которое с тех пор стало называться Эгейским. После него афинским царем стал Тесей, позднее женившийся на другой дочери Миноса, Федре.
Разгневавшись на Дедала за помощь Тесею, Минос заточил его вместе с юным сыном Икаром в Лабиринте. Тогда Дедал смастерил из перьев и воска крылья для себя и для сына, чтобы улететь с Крита. Во время полета Икар неосторожно поднялся слишком высоко, и воск, скреплявший перья, растаял на солнце. Крылья юноши рассыпались, он упал вниз и утонул в волнах моря, получившего название Икарийского (юго-восточная часть нынешнего Эгейского моря). Дедал же сумел добраться до острова Сицилия, где его радушно принял местный царь по имени Кокал.
С целью узнать местопребывание Дедала Минос пошел на хитрость. Он пообещал богатую награду тому, кто сумеет пропустить тонкую нитку через спиральный внутренний ход морской раковины, будучи совершенно уверен, что сделать это будет по силам только Дедалу. Дедал по просьбе Кокала без труда решил эту задачу, заставив муравья с привязанной к нему ниткой проползти через раковину насквозь. Таким образом Миносу удалось наконец выяснить, где скрывается беглец, разыскиваемый им, и вскоре многочисленный критский флот подошел к сицилийскому городу Камику – столице Кокала. Испуганный Кокал не посмел отказать могущественному владыке Крита в выдаче Дедала. Он принял Миноса как самого дорогого гостя, но во время купания Минос был коварно умерщвлен дочерями Кокала, налившими в ванную с находившимся в ней критским царем крутой кипяток. Флот же критян неожиданно уничтожила сильная буря.
На Крите Миносу наследовал его старший сын Катрей, которому было предсказано, что он будет убит собственным сыном. Единственный сын Катрея, Алтемен, узнав об ужасном предсказании и надеясь избежать такого несчастья, переселился с Крита на остров Родос (у юго-западного побережья полуострова Малая Азия). Со временем состарившийся Катрей захотел передать царскую власть Алтемену и приплыл за ним с Крита на корабле. Но жители Родоса по ошибке приняли прибывших критян за пиратов и напали на них. В завязавшейся схватке брошенное рукой сына копье поразило Катрея насмерть. Узнав о совершенном им против воли отцеубийстве, Алтемен взмолился богам, и его поглотила расступившаяся земля.
После этого власть над Критом перешла ко второму сыну Миноса, Девкалиону, а затем к сыну Девкалиона, Идоменею. Прославившийся во время Троянской войны как храбрый воин и искусный предводитель дружин, Идоменей вместе со своим племянником Мерионом (сыном Мола, внуком Девкалиона) был одним из главных вождей греческого войска под стенами Трои, после взятия которой он благополучно вернулся на Крит с богатой добычей.
Не только в сообщениях античных историков и в древнегреческих мифах сохранились воспоминания о критском владыке Миносе и его могучей морской державе. По всему Восточному Средиземноморью еще во второй половине I тысячелетия до н. э. – начале I тысячелетия н. э. встречались географические названия, происходящие от имени легендарного царя Миноса. Это весьма многочисленные Миной, известные на Крите, на нескольких островах Эгейского моря, в материковой Греции, на острове Сицилия и побережье Сирии. Таким образом, и данные исторической топонимики красноречиво свидетельствуют о необычайной широте сферы военно-политического и торгово-экономического влияния державы Миноса (или Миносов, ибо некоторые древние авторы говорили о том, что критских правителей с таким именем было на самом деле несколько). Но окончательное и наиболее полное подтверждение этому дала археология.
Г. С. Гриневич
Праславяне на Крите
Сторона А
Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их. Все вместе. Что вам послал еще господь? Место в мире божьем. Распри прошлые не считайте. Место в мире божьем, что вам послал господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днем и ночью: не место – волю. За мощь его радейте. Живы еще чада Ее, ведая, чьи они в этом мире божьем.
Сторона Б
Будем опять жить. Будет служение богу. Будет все в прошлом – забудем кто есть мы. Где вы побудете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь – забудем кто есть мы. Чада есть – узы есть – забудем кто есть. Что считать, господи! Рысиюния чарует очи. Никуда от нее не денешься, не излечишься. Ни единожды будет, услышим мы: вы чьи будете, рысичи, что для вас почести; в кудрях шлемы; разговоры о вас.
Не есть еще, будем ее мы, в этом мире божьем.
Фестский диск, остров Крит, XVII в. до н. э. Дешифровка и перевод (с праславянского) Геннадия Гриневича
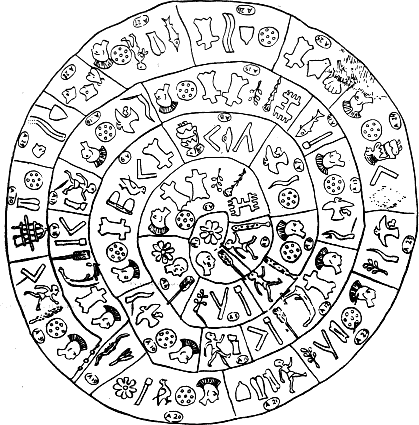 Фестский диск (лицевая сторона)
Фестский диск (лицевая сторона)
Кто такие пеласги?
По Гелланику (V в. до н. э.), «этруски» – это ответвление эгейских пеласгов, а пеласги – это догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крита, т. е. те самые «минойцы», которыми правил царь Минос.
«Отец истории», великий Геродот, сообщает, что Эллада именовалась ранее Пеласгией, т. е. страной пеласгов; что пеласги говорили на варварском (т. е. негреческом) наречии, что греки позаимствовали у пеласгов даже некоторых богов. Другой знаменитый историк античности, Фукидид говорит в первой книге своей Истории: «По-видимому, страна, именуемая ныне Элладой, прочно заселена не с давних пор. Раньше происходили в ней переселения, и каждый народ легко покидал свою землю, будучи тесним каким-либо, всякий раз более многочисленным народом». Больше того, по словам того же Фукидида, сама страна Эллада, «вся, как таковая, не носила еще этого имени… название ей давали по своим иные племена (не греки), главным образом пеласги».
О пеласгах сообщается и в гомеровских поэмах «Илиаде» и «Одиссее». В первой из них они упоминаются как союзники троянцев; во второй называются среди многочисленных народов, населяющих остров Крит. Говорят о пеласгах и многие другие античные авторы.
Их свидетельства были собраны воедино и тщательно проанализированы в книге «Пеласги», вышедшей в Вене в 1960 году и написанной Ф. Лохнер-Хюттенбахом. Ему удалось убедительно показать, что пеласги обитали на Балканах, в северной части острова Пелопонес (не говоря уже о центральной Греции), на Крите, в Трое, а также и на других островах Эгейского моря и эгейском побережье Малой Азии.
Кто же такие пеласги? Болгарский ученый академик Владимир Георгиев доказал, что прежде всего язык пеласгов был индоевропейским. Но какой именно? Чтобы ответить на данный вопрос, хотя бы в плане предположения, самое время вернуться к высказыванию Гелланика (V в. до н. э.) о том, что «этруски – это ответвление эгейских пеласгов». По мнению Гелланика, пеласги, изгнанные греками, приплыли к устью реки По, продвинулись в глубь страны, захватили город Кротон (Кортону) и поселились в местности, получившей название «Тиррения». «Этрусками» этрусков называли римляне (латиняне); греки называли этрусков «тирренами», а сами этруски, согласно Дионисию Галикарнасскому, называли себя
расена, и это все при том, что «совершенно безоговорочно этруски названы славянским племенем в словаре Стефана Византийского». Сказанное можно представить в виде схемы: пеласги = этруски = славянское племя (расены) и сделать предположительный вывод, что пеласги – это славянское племя, т. е. праславяне.
Об этом же, но в несколько ином плане говорит и известный советский этрусколог А. И. Немировский, анализируя исторические данные о появлении пеласгов в Италии (точнее, в Этрурии): «…пеласги – народ не грекоязычный, а говорящий на языке, близком к греческому. Они родственны иллирийцам, фракийцам, фригийцам и, возможно, праславянам».
Откуда родом пеласги?
Чтобы ответить на этот вопрос или хотя бы приблизиться к его разрешению, я предлагаю пройти той дорогой, по которой, кажется, еще никто не ходил. Для этого необходимо вспомнить, что наиболее древней на сегодняшний день надписью, исполненной письмом типа «черт и резов», расшифровке которого посвящена первая часть настоящей работы, является надпись на пряслице из Лецкан – 348 год н. э.
То обстоятельство, что надпись выполнена обыкновенной деревенской пряхой, наводило на мысль о еще более глубокой древности славянской письменности, а IV век н. э. – это лишь ее расцвет, когда она была доступна всем, в том числе и простолюдинам в самых глухих уголках славянских земель. Но как глубоко уходят ее корни? Дело осложняется тем, что следы славянских культур археологи просматривают на уровне первых веков нашей эры. А глубже? Глубже только тьма и неизвестность. И все же…
Советский археолог А. Я. Брюсов в «Очерках по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху», нанеся на карту Европейской части СССР и сопредельных стран распространение археологически близких друг другу культур конца III и начала II тысячелетия до н. э., обратил внимание на совпадение этих границ с границами языковых группировок, исторически засвидетельствованных для несколько более позднего времени (по письменным данным и по данным топонимики).
Так, вся северная половина, включая волго-окское междуречье, оказалась занятой археологическими культурами с различными вариантами ямочно-зубчатой керамики. На этом большом пространстве можно было легко различить несколько отличающихся друг от друга культур: урало-камская с зубчато-струйчатой керамикой; окско-верхне-волжская – с ямочно-зубчатой; северо-западная, или белорусская, – с зубчатой; южно-балтийская – с ямочной.
К юго-западу, к западу и в клязьминско-волжском междуречье находилась серия фатьяно-образных культур.
Крайний юго-запад занимала трипольская культура, входящая в число культур с расписной керамикой, распространенных в Придунавье и значительной части Балканского полуострова.
И, наконец, черноземная область к востоку от Днепра оказалась занятой близкими в общем друг другу «степными» культурами – катакомбной, полтавкинской, северокавказской.
Как ни приблизительны совпадения этих границ с языковыми границами более позднего времени, они тем не менее оказались весьма интересными. Группы археологических культур III–II тысячелетий хорошо сопоставлялись с позднейшим распределением славянских по Днепру, Висле и западнее; фракийских на юго-западе и скифских языков в черноземной степной полосе к востоку от Днепра. Это сопоставление подтверждало предположение о том, что к III тысячелетию до н. э. на европейской территории СССР сложились уже те этнические единства, с которыми имеет дело позднейшая история.
Определенность вывода приводила к совершенно определенным представлениям о том, что создателями так называемой трипольской культуры являлись славяноязычные племена. Хорошо известен тезис Б. В. Горнунга о том, что трипольцы входили в число языковых предков славян.
Границы расселения трипольцев в пределах СССР в общих чертах совпадали с границами полноценного чернозема (по Д. В. Докучаеву). Благодатный климат, богатые почвы позволяли им заниматься как скотоводством, так и земледелием. Племена Триполья были многолюдны, о чем свидетельствует большое число огромных трипольских поселений.
По единодушному мнению всех специалистов, «трипольцы в культурном отношении значительно превышали своих соседей». Имели они и письменность. Пространных текстов или хотя бы отдельных трипольских надписей пока не найдено, но отдельные знаки, имеющие абсолютное сходство со знаками письменности типа «черт и резов», имеют место на обломках трипольской керамики. Это серьезное основание для того, чтобы считать, что славянская письменность зародилась в Триполье, на берегах Днепра или Дуная по крайней мере не менее 5 тысяч лет тому назад.
Но почему возник и существует такой огромный разрыв во времени между трипольской культурой и гораздо более поздними славянскими культурами этих мест, той же Черняховской (именно с ней, как вы помните, связана надпись на пряслице из Лецкан)? Объяснение этому найдено.
В начале II тысячелетия до н. э. произошло внезапное прекращение развития трипольской культуры, носившее катастрофический характер. Восточные соседи, представители так называемой катакомбной культуры, сумевшие приручить лошадь и достигшие совершенства в металлургии меди, обрушились на трипольцев и оказались победителями.
Нам, конечно, неизвестны не только детали, но и общий ход этой борьбы и ее продолжительность. Но археологические памятники красноречиво свидетельствуют, что трипольцы покидали свои поселения, расположенные на правобережье Днепра с такой поспешностью, что бросали в своих домах массу вещей и даже домашних идолов. Мы видим также, что в этой борьбе значительное участие приняли северные племена (представители среднеднепровской и волынской культур). Иными словами, против трипольцев выступили различные племена, со всех сторон, и это делает еще более понятным предполагаемый разгром трипольцев, по-видимому, в краткое время.
Исход трипольцев из Среднего Поднепровья, где потом, почти через 2,5 тысячи лет, возникнет государство восточных славян – Киевская Русь, по времени точно согласуется со временем появления на Балканах, в догреческой Греции, на островах Эгейского моря, в том числе на Крите, пеласгов.
Еще одна дорога, ведущая на Крит
Путь, которым прошли трипольцы-пеласги из Триполья на Крит, отмечен археологами. Им известно, что «около 2500 года до н. э. в Фессалии возникает так называемая культура Димини, родственная культурам придунайских племен, и, в частности трипольской. Эта культура постепенно распространяется на юг, вплоть до Крита: образцы характерной для этого периода керамики были обнаружены в древнейших слоях Трои и на Крите».
Но есть еще одна дорога, один путь, которым я прошел в одиночку, в поисках истоков письменности типа «черт и резов». Путь был сложным и долгим, но поскольку мои собственные трудности вряд ли могут кого-то заинтересовать, то я ограничусь лишь схемой этого движения.
При сопоставлении письменности типа «черт и резов» с кириллицей было выявлено 10 знаков, идентичных в графическом отношении 10 кириллическим буквам. Все десять кириллических букв из этих десяти – буквы греческого алфавита. Десяти из двадцати четырех (двадцать четыре – это количество букв греческого письма) вполне достаточно, чтобы говорить о каком-то родстве двух письменностей: греческой и письменности типа «черт и резов». Но какова иерархическая связь этих двух «родственников»? Общеизвестно, что буквенное письмо, а таковым является греческое, представляет собой более высокую ступень развития письменности, нежели слоговое. Следовательно, слоговое письмо, в нашем случае письмо типа «черт и резов», на «древе» письменностей располагается ниже греческого, и из него греки могли заимствовать отдельные знаки для своего алфавита, и никак не наоборот. Но греческое письмо – это также общеизвестно – ведет свое начало от финикийского, а двадцать из двадцати двух знаков финикийского «алфавита» соответствуют тому же количеству знаков слогового протобиблского письма. Протобиблское письмо, кстати оно до сих пор не расшифровано, некоторые исследователи относят к тому ряду письменностей, для которых характерен особый тип силлибария, именуемый «эгейским». Эгейское письмо, сложившееся на острове Крит в эпоху бронзы, об-разует, как уже сказано выше, особый тип письма среди письменностей мира, для которого характерны знаки, передающие только
открытые слоги. Эта же особенность была присуща и славянскому письму типа «черт и резов», и я позволил себе отнести это письмо к группе эгейских силлибариев, внутри которой, о чем также уже говорилось, наиболее тесно связанными между собой являются три системы письма: критское иероглифическое письмо (в данной работе не рассматривается), линейное письмо класса А и линейное письмо класса Б. Но главное состояло в том, что, сопоставляя знаки линейного письма А и Б со знаками письменности типа «черт и резов», я обнаружил абсолютную и практически абсолютную сходимость начертаний большого числа знаков этих письменностей, и это окончательно утвердило меня во мнении, что линейное письмо А и Б и письмо типа «черт и резов» представляют собой не просто родственные письменности, а скорее всего единую письменность, которой я и присвоил название «праславянская».
И потому, приступая к дешифровке линейного письма А и линейного письма Б, я с достаточным на то основанием в качестве рабочей гипотезы принял сложившееся представление о том, что пеласги, они же минойцы, авторы надписей, выполненных линейным письмом А и Б, являются праславянами, а язык, на котором выполнены эти надписи, – соответственно, праславянским.
Принципиальное же значение для дешифровки текста еще одного критского письменного памятника – Фестского диска – имеет вопрос о языке, на котором он написан. Все данные говорят за то, что этот язык минойский, т. е. язык линейного письма А (а теперь и линейного письма Б. – Г. Г.) и критской иероглифики. Количество слоговых знаков, применявшихся в системе письма Фестского диска (по сравнительно-статистическим данным, их должно было быть около 60) свидетельствует о том, что они передают только открытые слоги, а это характерно именно для звуковой структуры минойского языка (читай: праславянского. – Г. Г.) – Сам диск найден вместе с табличкой линейного А. «Тождественность языка надписи диска и минойского вытекает и из анализа… надписи на вотивной (предназначенной для посвящения божеству) бронзовой двусторонней секире из святилища в пещере Аркалохори… Надпись содержит знаки двух силлибариев – письменность Фестского диска и линейное А. Это служит важным подтверждением того, что оба предназначены для передачи на письме одного и того же языка – минойского». Что и требовалось доказать.
Таким образом, язык критских надписей, чтение которых предлагается в настоящей работе, – праславянский, а разновидности критского письма – линейное письмо класса А, линейное письмо класса Б и письмо Фестского диска – представляют собой единую праславянскую письменность.
Юрий Петухов
Колыбель Зевса
Середина Средиземноморья – остров Крит, земля обетованная древних русов, сказочный край, окруженный и защищенный от недругов окиян-морем. На Крите русы не строили вокруг своих великолепных дворцов высоких каменных стен, не окапывали княжьи хоромы глубокими рвами, на Крите жили привольно и открыто, щедро и весело, нараспашку и не таясь, ибо изначальное имя, данное переселенцами-русами чудесному острову, само говорило за себя – Скрыт, Скрытень – бархатисто-синей водной гладью сокрыта была былинная земля, давшая приют нашим далеким предкам тысячелетия назад и оставшаяся в памяти народной мифическим раем – ирием…
Но обо всем по порядку. Нашему старому читателю не надо пояснять, что не всегда в Средиземноморье, на землях нынешней Италии, Греции, Малой Азии, Северной Африки и Переднего Востока жили греки, итальянцы, турки да иудеи. Бывали времена иные, все изменчиво и непостоянно в нашем тленном мире, народы кочуют с места на место, нарождаются и вымирают, даже великие нации, наделенные, по Л. Гумилеву, сверхпассионарностью, дряхлеют, теряют память и не могут вспомнить по прошествии десятков веков, где они появились на свет белый, где жили и творили тысячелетиями, откуда их злая судьба забросила в края нынешние на прозябание в дряхлости и немощи, беспамятстве и вырождении. Наш добрый старый читатель, по монографии «Дорогами богов», вышедшей в издательстве «Мысль» и публиковавшейся с продолжением в газете «Голос Вселенной», знает, что загадка индоевропейцев – есть этап пройденный, что она разрешена мною (кому-то подобное заявление может показаться нескромным, но факт есть факт, вещи надо называть своими именами, а не играть в прятки) – прародителями почти всех европейских и части азиатских народов были наши прямые и непосредственные предки – русы. Они же стали создателями сказочной, исполинской индоевропейской, арийской цивилизации, которая в своем бурном и вихреобразном развитии разбросала, расчленила первород русов-индоевропейцев, породивших своих меньших братьев – хетто-лувийцев, романцев, германцев, балтов… Русская мифология стала основой мифологий всех народов, вычленившихся из огромного русского этнодрева. Мы не будем повторяться в сей маленькой статье и вновь говорить об очевидном, лишь отошлем нашего молодого любопытного читателя к вышеупомянутой монографии и к статье «Русские боги Олимпа» («Голос Вселенной», № 5 1996 г.) Но напомним, что в нынешних местах своего обитания Народ наш русский живет совсем недавно, не более трех тысячелетий, а до того, на протяжении ста веков водило его по белу свету от арктических широт, через сибирско-азиатские просторы и до Срединного Русского моря, на берегах которого – в Малой Азии, на Ближнем Востоке, на Балканах и Пелопоннесе, Апеннинах и в Палестине, не говоря уже про Срединную Европу и Прикаспийские степи – провел он большую часть своей легендарной и исторической жизни. Практически все боги и герои античной мифологии – русские боги и герои, топонимика перечисленных регионов – в основе своей русская… И если сейчас есть о чем спорить, так это о периодизации русской истории X–I тыс. до н. э. и о пребывании конкретных родов и племен русских в конкретных местах – например, нам еще только предстоит выяснить, какие русы участвовали в знаменитой Троянской войне XIII века до н. э. (а воевали именно русы с русами, представительство так называемых «ахейских греков», чье существование вообще под большим вопросом, было незначительным).
В этой статье я начинаю постепенно переходить к более точной и верной терминологии, отказываясь от прежних терминов «славяне», «славяно-руссы» и т. д., по той причине, что все следует называть не по устоявшейся «научной практике», а просто своими именами. Этноним «славяне», «словени» появился сравнительно поздно, в 1 тыс. н. э. Самоназвание народа «рус», «рос», «рыс» с корневой основой «р-с» существует с незапамятных времен и присутствует уже у протоиндоевропейцев, то есть, у прямых предков наших прямых предков, а следовательно, у наших русских прародителей, живших за пятнадцать и двадцать тысячелетий до нас. Кому-то может показаться странным, что в столь отдаленные времена, когда еще и в помине не было ни германцев, ни кельтов, ни шумеров, ни латинян, ни «древних греков», русы уже жили и творили на нашей Земле-матушке. И тем не менее, это так. Но надо помнить: не русские (производное, как лингвистическое, так и этно-антропологическое), а именно русы, называвшие себя также и «яриями», «ярами», «ариями».
Вот с этим мы в своей рабочей командировке на Крит и столкнулись с первого же дня. Если верить Г. С. Гриневичу, талантливому русскому ученому, расшифровавшему письмена знаменитого Фестского диска, наши предки-трипольцы приплыли на Крит во И-ом тысячелетии до н. э. Нет сомнений, что переселение XVIII–XVII веков до н. э. было реальностью, оно оставило свой внушительный след не только в пластах земли, но и в пластах духовной культуры мира. И все же, изучая древнейшие экспонаты археологического музея Ираклеона (столица Крита), я пришел к выводу, что переселенцы шли на остров Скрытень уже знакомым, проторенным путем. Роспись архаической керамики, характерные формы, переходящие друг в друга спирали декора сосудов III–II тысячелетий до н. э. и все прочие детали, доступные лишь опытному, наметанному глазу специалиста, говорили, что связь Крита с Трипольем, и шире, со всей русской ойкуменой, несомненна, постоянна на протяжении десятков веков и почти неразрывна. То есть, переселение не было единичным. Мы имеем право говорить о множественном, волновом переселении русов на Крит, а также о движении обратном, менее значительном, но бесспорном – континентальные русские племена-роды, разумеется, не все, но какая-то часть их, связанная с Трипольем и родственными ему культурами, имели с Критом постоянную (не в нынешнем понимании) связь. Более того, сам Крит-Скрытень играл какую-то еще не до конца понятую мною, но чрезвычайно существенную, если не центральную роль. И здесь не лишне вспомнить, что по народным верованиям и легендам, сохраненным нынешним населением острова и всей античной мифологией, верховный бог древних русов Зевс, он же Зив, Жив, родился не где-нибудь, а именно на Крите – в сказочном рае-ирии, в земле обетованной, сокрытой за синим морем-окияном. Верховные боги народов, да еще такие как Зевс-Жив, не рождаются где попало. Из этого следует лишь одно, для людей того далекого времени Крит был не просто островом, затерянным в море.
24 августа с. г., минуя Малию с ее знаменитым «малийским дворцом», на развалинах которого мы побывали ранее, полностью доверив свои жизни местному лихому водителю, не снижавшему скорости даже на самых крутых поворотах горного «серпантина», мы поднялись от побережья Крита в его возвышенную часть, перевалили через хребет и, поставив свечи за здравие всех живущих в старинном монастыре Святой Марии Магдалины VI века н. э., выбрались на плато Ласити. Целью нашего путешествия в этот день была знаменитая Диктейская пещера, та самая, в которой скрывался от гнева своего жестокого отца Кроноса новорожденный Зевс. По северному склону горы Дикти пришлось подниматься на мулах… Но наши старания не были напрасными, нам удалось намного обогнать праздных туристов, спешащих к знаменитой пещере и обычно толкущихся возле нее и в ней весь день. Мы успели провести замеры и сделать нужные нам съемки. Проводник нам попался неназойливый и спокойный, без его фонаря даже с нашей осветительной съемочной аппаратурой во мраке пещеры можно было бы заблудиться. Рея родила Зевса у входа в Диктейскую пещеру, только потом он был опущен вниз, рос там, вскармливаемый стекающим молоком волшебной козы Амалфеи… Я не стану пересказывать всех многочисленных деталей мифа. Не в них суть. Важно, что в самой пещере были обнаружены алтари и культовые предметы древнейшего периода, то есть она не была заурядной пещерой, одной из тысяч, по которым путешествуют спелеологи в поисках острых ощущений и новых своих спелеологических данных. Диктейская пещера была насквозь пронизана духом многотысячелетнего присутствия в ней человека.
Именно там, в глубине, над мертвым и тихим подземным озером, во мраке, разрываемом лучом осветителя нашей камеры (проводника по завершению работ мы отпустили наверх), под глухой звон падающих со сталактитов ледяных капель родился в моей голове замысел новой книги – сразу, будто по воле кого-то незримого и потустороннего. Для этого надо было оставить сияющий, шумный, райский поверхностный мир, опуститься в холод и сырость отрешенных, пропитанных историей недр. Посещение Диктейской пещеры выпало на предпоследний день нашего пребывания на острове Скрытне. За предыдущие две недели напряженных, порою утомительных до самоистязания изысканий было познано, впитано в себя столь многое, что нужны были минуты этого мрака, тишины, отрешенности, чтобы накопленное количественно перешло в новое качество. Да, переселенцы шли на Крит волнами. Все началось не с князей Мины и Родамата (в греческой транскрипции, цари Минос и Радамант – по имени первого английским исследователем Артуром Эвансом цивилизация Крита П-го тыс. до н. э. была названа минойской). Эпоха Жива-Зевса предшествовала эпохе князя Мины, Дедала и Икара, Тесея и Минотавра… И, безусловно, Жив-Зевс имел какой-то прообраз – возможно, собирательный, возможно, и нет. Люди эпохи Мины и Родамата хранили память о предшественнике-герое, о русском князе, вожде Живе – уже для них он был богом, небожителем, давно усопшим и обожествленным предком. Мы не можем пока устанавливать датировку событий. Но по всей видимости, надо говорить о конце II-го – начале III-го тысячелетий до н. э. Скорее всего, в те годы, в те века княгиня или царица одного из могущественных племен русов бежала от гнева своего всесильного супруга на Крит, где и произвела на свет Жива, трансформировавшегося позже в Зевса. Мы сейчас знаем точно – древние ничего не сочиняли, не вымышляли, они передавали из уст в уста предания, былины – были, то, что было. И это подтверждается не только археологическими находками, но и самым точным инструментом историка – лингвоанализом.
Ни одна княгиня, ни одна царица даже от самого страшного гнева не побежит в землю незнаемую. Рея со слугами, приближенными, челядью прибыла на Крит, где, наверняка, прежде жили люди ее племени, родня. Дорога на остров, образно выражаясь, была протоптана значительно раньше. Протоптана русами. И если ее царственный муж не знал этой дороги, можно предположить, что он не принадлежал к ее племени, что ее, как это и бывало всегда, выдали замуж за государя иного племени-рода. Это только предположение, ничего не меняющее ни в истории, ни в наших изысканиях. Но надо помнить, что история делалась и делается людьми, живыми людьми. В тишине и сырости нижнего зала пещеры, где ничто не мешает проникновению в толщи тысячелетий, я представлял путанные, извилистые пути этой истории. Я видел прошлое, открывающееся мне здесь, вдали от суеты и шума. И я уже чувствовал, как облекается в плоть замысел, как становятся осязаемыми, живыми сюжеты тех исторических романов, что были задуманы давно. Да, именно романов. Монография, и не одна, дай Бог, будут написаны обязательно – там я изложу все последовательно и досконально, сделаю полный анализ и т. д., это необходимо. Но монографии научные выходят маленькими тиражами, доступны специалистам – а в нынешних условиях они обречены на полное замалчивание или, в лучшем случае, на сокрушительную, но не аргументированную критику в узких кругах. Роман доступен каждому. Да, именно каждый русский, каждый потомок древних русов, создавших самую великую цивилизацию Земли, должен узнать хотя бы малую толику о своих славных предках, о их деяниях – должен узнать Правду! В подавляющем большинстве «исторических» романов правды нет – как пример могу привести то, что чисто внешнее даже описание русского человека X, XII, XV веков, как и любого другого, в романах ложное – везде нам дают образ лубочного «мужичка» конца XIX – начала XX века, не пытаясь даже представить себе, каким был наш предок двести, триста, пятьсот лет назад – это я утверждаю как профессиональный историк и как профессиональный писатель. Про русов, живших до нашей эры, про то величественное и могучее племя предков наших, вообще никто еще не удосужился написать ни строки. Сейчас, когда наша страна разрушена, расчленена, разграблена, когда она утратила свою независимость, да, именно сейчас писать нашу подлинную историю необходимо – потому что может сложиться так, что скоро ее вообще некому будет писать, величайшая нация человечества вырождается, гибнет на глазах – нынешняя наша Россия пропитана духом тления, гниения, смерти.
Совсем иной дух царит над Критом. Даже сокрушительнейшее извержение вулкана Санторин, на котором мы также побывали, извержение обратившее во прах и пепел прекраснейшие русские дворцы минойской цивилизации, не могло выжечь, испепелить того вселенского по мощи поля, что пронизывает остров со стародавних времен, того подлинно русского духа, что вбирает в себя и напояет огромной жизненной силой даже нас, далеких потомков, прибывающих сюда. Ничем иным я не могу объяснить того, что целые дни мы проводили на сорокоградусной жаре, под палящим солнцем, среди раскаленных, слепящих развалин, практически без пищи и питья… и силы не убывали, как в прохладном и уютном московском кабинете, а напротив, умножались. И было такое ощущение, что ты вернулся в эти развалины, в этот дворец-терем после долгого, трехтысячелетнего отсутствия, вернулся в родные палаты, и отчая кровля, возвышающаяся
шатрами над тобой, защищает тебя от раскаленного светила… Нет, никакой кровли не было. Мы почти не заходили под восстановленные своды – там была новая кладка, новый камень, там уже не было того великого духа. Прежние колонны теремов в Кноссе были тоже красными – это любимейший цвет русов: красный, значит, красивый – но они были деревянными, они сгорели. Сгорели давным-давно. Важен сам факт – на Крите, каменном острове, где почти нет дерева, русские зодчие в «период старых дворцов» четыре тысячи лет назад и в «период новых дворцов» три тысячи лет назад по заказу русских князей ставили расширяющиеся кверху деревянные колонны, ставили привычные хоромы… Кносский дворец! Да, за тысячелетия там смешалось многое – стили, декор, нравы, языки. Русы не были единственными жителями Крита-Скрытня. На сохранившихся фресках мы видели белокожих, светловолосых людей и темнокожих, черноволосых. Со временем последних прибывало, русов становилось все меньше, они постепенно растворялись в новой этносреде. Так было и в Палестине, так было и в далекой Индии, куда приходили (также волнами) русы-арии, принося свой язык, свои мифы и легенды, свою культуру, и постепенно растворяясь среди местных племен, несмотря на соблюдение кастовости в средах жрецов, воинов и земледельцев. В Кноссе, во дворце князя Мины, я шел по плитам, по которым ступала когда-то нога Ярослава-Геракла (см. статью «Русские боги Олимпа»), сидел на каменной скамье, где наверняка доводилось сиживать и ему – ведь Хараклеос (так переиначили на свой лад «древние греки» нашего Ярослава) совершил один из своих двенадцати подвигов именно на Крите-Сркытне. Это были плиты и скамья подлинные, древнейшие, туда не пускают простых посетителей, которым, кстати, более интересны раскрашенные «новострои». Я прижимался к древнему камню, к превращающемуся в известняк мрамору ладонями – и не ощущал холода. Я чувствовал тепло рук русских воинов и мастеров, тех, кто прикасался к этим камням, кто ступал по ним, кто опирался на них. Дух русов жил в них, он продолжает жить в них и сейчас – в виде сгустков особой, незримой энергии, и надо только настроиться определенным образом, чтобы уловить его, проникнуться им. Дворец Мины стоит далеко от моря в чаше невысоких гор, в пяти километрах от Ираклеона (столица Крита названа так в честь Геракла, т. е. в русской транскрипции город должен зваться Ярославлем). Дворец совершенно не-защищен. У русов той эпохи не было равных соперников на море, недаром египтяне прозвали русов «народами моря» – любой потенциальный враг уничтожался русским флотом еще на подходе к Скрытню. Именно здесь, в нынешнем Кноссе, было найдено чрезвычайно много нынешних экспонатов археологических музеев не только Ираклеона, материковой Греции, но и прежде всего Англии, США, Франции, Германии… Надо видеть эти экспонаты, чтобы понять, кто их создал. Мы часами простаивали перед глиняными уточками, амфорами-кувшинами, братинами, фигурками коров и бычков, украшенных свастиками-солнцеворотами, восьмиконечными и четырехконечными крестами, перекрещивающимися двойными спиралями… Эти формы, эти узоры и знаки, подобных уточек и бычков, вылепленных из глины или вырезанных из дерева, можно увидеть в российских этнографических музеях – традиции сохранялись вплоть до нашего времени. Ковши в форме утиц, казалось, были взяты из Оружейной палаты, братины тоже. И везде и повсюду, практически на каждом изделии древних критских мастеров был запечатлен во множестве типично русский символ плодородия (магический знак, описанный академиком Б. А. Рыбаковым) – ромб с внутренним перекрестием и четырьмя точками в нем – «засеянное поле». Разумеется, могло быть одно, два, десять совпадений. Но сотни, тысячи совпадений во всем и повсюду имеют уже совсем иное название – одна школа, одна традиция, один народ-созидатель. Съемки и работа в музеях стоили нам особой затраты нервной энергии – экспонатов, доказывающих нашу правоту, было во много раз больше, чем наших сил, времени, фото- и видеоленты. Археологическому музею Ираклеона, как и многим другим музеям Крита и материковой Греции вполне можно было присвоить название «Музей русской традиционной народной культуры» или «Русский этнографический музей». Я сейчас ничего не стану писать про обилие солнцеворотов-свастик (исторического символа индоевропейцев на протяжении двенадцати тысячелетий) на керамикой в древней бронзе, дабы не дать повод нынешним «российским борцам с „русским фашизмом“» нагрянуть в греческие музеи и разгромить их полностью. В Греции, на Крите, положение несколько иное, чем у нас, там нет «антифашистских комитетов» и «антифашистских указов», там бесценные исторические реликвии охраняются государством и подлеца, который посмеет поднять на них руку быстрехонько направят в достойное ему место. О свастиках в «античном наследии» надо писать отдельный огромный труд, для помещения же репродукций всех экспонатов понадобятся тысячи объемных альбомов. Что поделать, русский мастер второго или первого тысячелетия до нашей эры ничего не знал про «антифашистов» и старательно, с любовью вырисовывал свой родовой знак-оберег на горшке, так же как русская крестьянка XIX века вышивала тот же оберег на рушнике, а русский иконописец XVII века украшал им орнамент иконы. Не единожды видели мы в музеях Крита, как шумливые и громогласные немецкие туристы, подходя к стендам с изделиями, украшенными свастиками, смолкали, терялись, отводили глаза и быстро уходили. Это и понятно, «мировое сообщество» выработало у немцев по сей части комплекс неполноценности и вины. Но нам надо понять одно – древние ни в чем не виноваты. И чтобы понять это, не надо быть слишком умным, надо просто не быть злонамеренным или дебилом. Впрочем, не только свастики, кресты, символы плодородия, трипольские спирали-двойники и спирали-солнцевороты. Чрезвычайно-часто на изделиях и на камнях, плитах дворцов встречался нам знак «трезубца» – исконно русский знак-тотем, знак «рарога», присвоенный ныне единолично самостийной Украиной. Княжий трезубец на стенах княжих палат в Кноссе, Фесте, Малии… на братинах, на амфорах, на мечах и щитах… Что ж тут такого? А какой еще знак могли ставить русы на своих вещах и на своих постройках? В самом музее стоят два сокола-рарога, высеченные из камня. Там же висят шиты русских воинов с умбонами в форме голов барса-леопарда, по-русски «рыси». Рысь также тотем русских племен с корневой основой «р-с». Рысь, волк, медведь, бык, утица, петух – русские животные. Они и присутствуют на всех стендах… Но об этом надо писать отдельно, много и основательно.
Да, Зевс родился на Крите-Скрытне. Где еще было родиться верховному русскому божеству, куда еще было бежать русским родам-племенам со своих земель, подвергавшихся нападениям варваров – только к своим, только в место надежное, привольное, богатое, укрытное, огражденное синим морем-окияном.
Хорош дворец русов в Кноссе, величественны даже останки его, развалины. И все же большее впечатление на меня произвел меньший по размерам дворец князя Родамата, что выстроен был в Фесте, за шестьдесят с лишним километров от Кноссоса, на южном побережье Крита, омываемом Ливийским морем. В тот день, когда мы работали на его развалинах, солнце палило особенно яростно. Где-то далеко от нас, по побережью, лежали на песке и купались в теплом, ласковом море десятки тысяч отдыхающих. Скорее всего, они даже не представляли себе, что такое критское солнышко в его чистом виде. И все же ни на одну минуту там, на вершине плоского высокого холма, я не вспомнил о прохладных струях. Что-то необыкновенное пропитывало воздух над Фестским дворцом, будто он находился под невидимым колпаком. Не осталось ни единого камня, который мы не ощупали бы своими руками. И если прочие дворцы были пронизаны древним русским духом, напоены им, то этот являлся его средоточием, будто тысячелетия назад был заряжен некий духовный аккумулятор невероятной мощи, а ныне он вдруг начал отдавать вобранное в себя… Да, русы той эпохи умели выбирать места для своих каменных теремов-крепостей – дворцовый холм стоял посреди прекрасной зеленой долины, окаймленной чередой гор, будто в гигантской чаше. Здесь был найден знаменитый Фестский диск, чьи письмена пытались разгадать сотни ученых – разгадать, исходя из романских языков, германских… всех, кроме русского. У них ничего не получилось. – Почему? Потому что, в те времена, когда был создан этот диск (XVIII век до н. э.) никаких романских, германских и пр. языков, как и самих романцев и германцев, вкупе с «древними греками» не было и в помине – они значительно позже отпочковались от русского этнодрева. А вот русский язык, разумеется, не в нынешнем виде, а в более архаичном, был. Гриневич исходил из русского – и ему удалась расшифровка, иначе и быть не могло. Сам диск хранится в музее Ираклеона за стеклом. Мне не удалось прикоснуться к нему руками, потрогать. За сто лет после его обнаружения желающие прикоснуться к нему истерли бы диск напрочь, тут нельзя не согласиться с хранителями музейными. Я долго стоял перед ним, рассматривал письмена, которые смог бы воспроизвести и по памяти, с закрытыми глазами, присматривался подо всеми углами к знакам… Подлинность диска не вызывала сомнения. Почти четыре тысячелетия пролежал он в земле. Но время не стерло причудливых знаков, выбитых русской рукой: «Хотя горести чьи бывшие в прошлом не сочтешь…» Вот так! А нас учили, помнится, что в седьмом веке нашей эры появились племена славянские, дикие, с соломинами в болотах сидели, носа казать боялись… Появились? В седьмом веке?! Сразу десять миллионов?! И ни разу, ни один из бессчетного множества людей русских не задался простейшим вопросом: «как же это сразу десять миллионов могут объявиться? не было! и вдруг – раз, и объявились!» Ни в одной школе, ни в одном ВУЗе не учат, что писал о древнейшей истории русов М. В. Ломоносов, будто и не писал он ничего. Будто не писали о русах до нашей эры А. Д. Чертков, Ф. Морошкин, Е. И. Классен, Ф. Волянский и др. Умалчивают. Великих русских историков!
Зевс-Жив, обернувшись белым быком, (бык – сакральное критское животное, без быка древний рус не представлял своего существования, бычьих голов-ритонов и бычьих фигурок в музеях Крита хоть отбавляй), похитил финикийскую царевну Европу. Финикия – это искаженное «Виникия» = «Венеция» = «Венедия». Финикийцы – венеды-мореплаватели, русы, «народы моря». Вот вам и разгадка генезиса финикийской письменности… русский князь, прообраз бога Зевса, русская царевна (обратите внимание – Европа– именно русская!), Русское Срединное море, заселенное по берегам русами. Все «древние греки», «древние евреи», «персы», «римляне» появятся позже, много позже, потихоньку заслоняя, затирая старших братьев, отцов-русов, присваивая их культуру, их ремесла, часть их языка, вытесняя из Европы (исконной, подлинно русской Европы) на восток, все дальше.
Все изменится, и, возможно, еще через две-три тысячи лет придет в Диктейскую пещеру, где родился русский бог Зевс, другой историк, другой писатель. Пещера останется неизменной – отрешенной, сырой, потусторонней, хранящей свои тайны. Но наверху все будет иначе. Не останется нынешней Греции, скорее всего, не будет и России. Историю станут писать иные народы, и имена наших богов будут для них непонятны и непереводимы. Время уничтожит музеи и их экспонаты. Но развалины дворцов останутся. И дух, пропитывающий их останется, ибо он часть ноосферы Земли, он не может выветриться. И может быть, на какой-то миг откроется этому историку будущих веков тайна земной цивилизации, может, узрит он незримое и ощутит неосязаемое. А может, и нет. Ведь когда мы подплывали к черному жерлу вулкана острова Санторин, гид напомнил нам: «Он спит, давно спит… но он может проснуться.» Три с лишним часа плыли мы по синему, бархатному морю, чтобы увидеть это черное чудовище, этого монстра. А когда приплыли, поняли – нет, человек страшнее, значительно страшнее. Минойская цивилизация древних русов пережила чудовищное извержение Санторина, выстояла. Наша цивилизация гибнет, убивая себя, забывая себя. Мы сами для себя беспощадный и смертный враг, от которого не скрыться ни на одном острове посреди бархатных морей. Да и не осталось для нас больше таких островов.
Капитуляция
Чеченская война проиграна – гнусно, подло, предательски. Полная капитуляция российских войск перед кучкой бандитов не могла бы быть возможной, если бы на стороне этих бандитов не были президент России, правительство, высшие армейские и банковские чины, совет безопасности и прочие, властвующие над Россией.
Совершено чудовищнейшее преступление. Свершился очередной акт в исполинской трагедии. Россию добивают безжалостно и изощренно. Капитуляцией фактически узаконен тот факт, что в России есть два сорта людей: кавказцы, которым дозволено иметь любое оружие и убивать русских, и русские, которых за хранение перочинного ножа бросают в тюрьмы и лагеря. Фактически уже ныне Москвой и Россией правит кавказская мафия – это видит каждый, у кого есть глаза. Через полгода-год Кавказ отделится от России, вырезав всех русских, обитающих пока на исконных казачьих землях, или обратив их в рабов. Следом отпадут (хорошо, если без кровавой бойни) Татария, Башкирия, Удмуртия, Калмыкия, Тува и пр. Но при этом власть в России и Москве не станет «русской», власть останется в руках кавказской мафии, которой уже ныне принадлежат практически все банки, производства, магазины, рынки и т. д., которая полновластно хозяйничает в силовых и исполнительных структурах. Мы стали свидетелями чудовищнейшего геноцида. Мы будем свидетелями еще более страшной трагедии.
Вместе с тем, я склоняю голову перед мужеством чеченского народа, который не щадя своих жизней отстаивает свою Родину. Это, безусловно, подвиг, если смотреть на жизнь с их позиций. И это наша погибель и полнейшее сокрушение России, абсолютная власть на наших землях «мирового сообщества», если смотреть с наших позиций. Да, чеченцы герои. Они не предали своей земли, своего народа подобно русским, добровольно вдевшим головы в рабское ярмо, продавшим честь, совесть, души, тысячелетнюю Державу свою за право быть проститутками, бомжами, торгашами и лакеями. И если для чеченского народа победа в Чеченской войне это высочайший духовный взлет, заряд невероятной силы, который поднимет весь Кавказ. То для нас, смеющих называть себя русскими, все свершившееся несмываемый позор. Сейчас как никогда ясно стало видно, что русский народ прекратил свое существование, осталось безликое, продажное население колонии, которая исключительно по инерции еще несет свое прежнее имя – Россия. И не удивительно, что нынешние русские парни стыдятся быть и называться русскими, они хотят, чтобы их принимали за кого угодно, за татар, прибалтов, за кавказцев, особенно, конечно, за чеченцев, они видят себя во снах и наяву американцами, немцами, итальянцами… только не русскими. Русским быть нынче стыдно, позорно.
Капитуляция свершилась. Российские войска изгнаны из Грозного, из Чечни. Сотни тысяч русских смертей были напрасными – русских ребят убивали в Чечне просто, чтобы сократить поголовье русских, и все. Сотни триллионов рублей и миллиарды долларов, вытащенные из наших карманов, уплыли в Чечню, на Кавказ, бандитам. Еще миллиарды уплывут с благоволения режима. Россию не просто убивают, над ней измываются – гнусно, подло, страшно.
Юрий Петухов, писатель
Юрий Петухов
Бойня
роман-предостережение
Наш постоянный читатель хорошо помнит о злоключениях, выпавших на долю Чудовища, Умного Пака, Гурыни, папаши Пуго, инвалида Хреноредьева, Бубы Чокнутого и других героев и персонажей романа-трагедии «Бойня».
Сейчас мы впервые публикуем главы второй части пророческого романа. Итак, конец XXI века. Резервация «Россия» заключена мировым сообществом под Купол и отгорожена от него Барьером. Восьмерым мутантам удается проникнуть за Барьер, четверо из них погибают. Четверым удается выжить…
часть вторая
Пак Хитрец
Буба словно заведенный бился лбом о мягкую, упругую стену и тихонько выл. Обрубки отстреленных ушей почти не болели. Зато душа болела. Ох, как болела! Ублюдки! Недоумки безмозглые! Кретины, дерьмом набитые! Разве ж они могут понять?! Ни хрена в них, сволочах, святого не осталось! Таких гадов разве ж к покаянию призовешь?! Нет, не будет им прощения, не будет! И весь мир сгорит в геенне огненной! Туда ему и дорога!
Буба поднялся на полусогнутых, отступил на три шага – и бросился головой в стенку. Отскочил и рухнул на столь же упругий и мягкий пол. Минуты две лежал в обалдении. Потом уселся на корточки и снова завыл.
Дверца в стене отворилась беззвучно. И в проеме появился некто лысый и обрюзгший с жуликовато-добродушным лицом сановного человека. За спиной у него маячила тень с крохотным автоматиком. Но обрюзгший махнул на нее вальяжно рукой, и тень исчезла. Сам же он шагнул вперед. И представился:
– Меня зовут Сол Модроу.
Буба Чокнутый не ответил. Но выть перестал.
– Я советник президента по делам зоны… – продолжил было представляться непрошеный гость.
Буба его осек коротко и ясно:
– Ты жид!
– Ну и что? – ничуть не растерялся советник.
– Жиды Христа распяли! – истово выдал Буба.
– Ну и что?
Буба опешил. Он ждал оправданий и извинений. Но их не было – распяли, мол, и распяли, чего тут такого, ежели надо, мол, и тебя разопнем! Все нормально… Буба тихо и горько заплакал.
– Я слышал ваше выступление, э-э, точнее, вашу проповедь. Она потрясла меня! – прочувствованно сказал советник и шагнул еще ближе. – Вы обладаете блестящим даром оратора, вождя…
Буба насторожился. Мягко стелет лысый, жестко спать будет… однако, правду-матку режет, заслушаешься, наверное, не такой уж он и гад, хотя и жидовская, судя по всему, морда. В Резервации, эти олухи безмозглые и знать не знали, что есть всякие жиды, русские, немчура и прочая братия, они там дураки, но он-то все знал, его-то за Барьер отсюда сослали, он разбирается, еще как разбирается, с этими ухо востро держи, эти в миг облапошат! Однако речи лысого Бубе понравились. И он не утерпел:
– Чего ж такого хорошего в дурдом усадили?!
– Ну-у… – советник развел руками и заулыбался, – какой же это дурдом? Клиника! Первоклассная клиника! – Он приложил отекший палец к губам и прошептал как заговорщик. – Скажу вам по секрету, у моего большого друга, миллиардера, между прочим, тут дочурка курс лечения проходит… прелестная девочка!
– Допилась, небось, до чертиков, – угрюмо пробурчал Буба, – вот и проходит.
– Не говорите, – охотно согласился лысый, – нынче молодежь такая, сами хуже чертей. Но… богатым, знаете ли, все дозволено. Они ведь в таких шикарных клиниках могут и всю жизнь свою прожить, в ус не дуя. А мы с вами, – лысый фамильярно, но заботливо похлопал Бубу по плечу, – люди бедные нас тут долго держать не станут, нас упекут в какую-нибудь клоаку, к буйнопомешанным, знаете ли. Как пить дать – упекут! И пропадут пропадом и божий дар, и таланты все, и молодость!
Буба недоверчиво покосился на лысого. В доверие втирается, подлец! Однако упечь могут запросто. В прошлый раз, еще до выдворения в Резервацию, Буба сидел в каком-то вонючем клоповнике с дюжиной психов, один даже придушить его хотел, насилу отбился. А здесь, в одиночной палате… не так-то уж и плохо.
– Не продажный я! – наконец выдал Буба. И насупился.
– О чем речь, – бодро согласился советник, – нам продажные и не нужны. Вы же почти святой! Проповедник вы!
Буба снова покосился на лысого. Тот говорил все верно. А кто ж он, как не святой? Конечно, святой! Да и, к слову сказать, Буба Проповедник звучит получше, чем Буба Чокнутый. Вот ведь хитрый жид! Только святые да проповедники одному Богу служат, зря лысый соломку стелит.
– Не буду я вам благую весть нести, – отрезал Буба, – грешники вы тут и гады. Я гадам не проповедую!
– И не надо! – тут же согласился лысый. – Не надо гадам! Вернетесь к заблудшим овцам своим и наставите их на путь истинный.
– Чего-о-о?!
Буба вытаращил свои безумные налитые кровью глазища и начал мелко трястись, будто собираясь впасть в падучую. Обратно? К овцам, едрит их в бога-душу! Не-ет уж, куда-куда, а обратно к овцам он не хотел! Лучше в дурдоме до скончания века.
– При полной нашей поддержке! – вкрадчиво заверил лысый. И добавил многозначительно, с пафосом: – Им нужен проповедник. И пророк!
Буба Чокнутый надул щеки. Ежели б он мог, шариком воздушным взвился бы под своды. Как верно усек лысый, как правильно, не в бровь, а в глаз. Пророк! Конечно, он пророк, а кто ж еще?! Только понять это могут одни умные люди, такие, как он сам и этот лысый. А тем выродкам, стаду безмозглому разве оценить его по достоинству? Нет! Им лишь бы пойлом накачаться. Ублюдки! Гореть им всем в геенне огненной! А тутошние, забарьерные, зажрались, их проповедями не возьмешь – сытое брюхо к учению глухо! и легче верблюду в игольное ушко пролезть, чем зажравшейся сволочи и гадам всяким… Буба снова скис. И совсем уныло, еле слышно завыл.
– Не нужен им никто, – выдавил он из себя после того, как нутряная боль излилась в пространство, – обалдуи они все!
– Верно, – согласился советник, – обалдуи. И дураки, каких свет не видывал. Но посудите сами, разве они могут быть такими… мудрыми, скажем попросту, гениальными, как вы? Нет! На то она и паства, овцы заблудшие, что дураки и обалдуи. Вот вы им глаза-то и пооткрываете! Вы их просветите и спасете… аки сам новый мессия, аки Иисус Христос новоявленный, снизошедший с небес к этому быдлу, чтобы отделить агнцев от козлищ да и покарать всех… без разбору!
– Без разбору? – отупело переспросил совершенно очумевший Буба. – Покарать?!
– По делам их и воздается, – уверенно и безапелляционно утвердил лысый, – как и предречено было, буква в букву!
– Как и предречено, – эхом отозвался Буба. Он почувствовал ни с того ни с сего, что у него отрастают новые уши. – А я, стало быть, аки Иисус? Это очень верно вы заметили… Только ведь опять бить будут. А вы… – Буба Чокнутый страдальчески закачал головой и скривился, будто лысый его уже смертельно обидел и приговорил к чему-то, умыв руки, – а вы опять же и разопнете!
– Ну зачем же, – Сол Модроу заулыбался плотоядно и игриво, – нынче времена другие, можно и без распятий обойтись. Мы же с вами культурные люди.
Мяса хватило надолго. Две недели грызли, рвали, жевали его, зажимая носы и дурея от мертвечины. Нажравшись, приставали к Охлябине, уминали ее тут же в подполе, по очереди. Марка похотливо щерилась и материлась. Ей нравилось внимание поселковых мужиков, лишь на один миг она утратила благодушие – когда бестолковый Лука, видно, спутав ее с Эдой Огрызиной, вцепился зубищами в жирный загривок, за эту промашку он получил затрещину прямо в лоб и полдня пролежал прислоненным к дощатой пыльной стене. А так все шло на славу.
До тех пор, пока Доля Кабан, разбухший от дармовой жратвы еще больше, вдруг не завопил в истерике:
– Хватит! Зажрались, суки! Зажрали-ись!
– Чего ты? – тихо поинтересовался Тата Крысоед, хватая Кабана за рукав. – Чего тебе еще не хватает?!
Тот вырвался. И пояснил без воплей и визга, но обиженно, сквозь слезы:
– Правды!
– Чего-чего? – проснулась осоловевшая Марка.
– Правды не хватает! – угрюмо и твердо повторил набычившийся Доля Кабан. – Душа остервенела без правды. Болит!
Доходяга Трезвяк на всякий случай отполз поближе к проходу, чтобы в случае непредвиденности какой улизнуть. Однако, дело обернулось иначе. Зараженные Додиной слезливостью, зарыдали в голос Однорукий Лука и Марка Охлябина. Видно, им тоже невтерпеж захотелось правды. Один Крысоед ничего не понимал.
– Какой еще, на хрен, правды? – недоумевал он. И чесался всеми четырьмя лапами. – Совсем охренели!
– Молчи, обезьяна! – осекла его Марка, окончательно разнюнившись. – В тебе души нету, потому и дурак ты такой… Гляди, мужики-то тебя, гаденыша, уму-разуму научат, обезьяна проклятая, ирод ты поганый!
– Сама ты обезьяна! – завопил как резаный Крысоед. – Сама поганая! У мене души побольше вашего будет! Мне тоже – правда нужна. Позарез! Да где ж ее сыщешь-то? Где?!
– В городе, – вдруг глухо и отрешенно возвестил Додя Кабан.
– Чего-о?!
– В город идти надо, – пророчески и истово произнес Додя.
Первой очухалась Охлябина, оглядела себя хмуро и заключила:
– Мне и надеть-то нечего в город… как я пойду, срам один и стыд.
– Дура! – оборвал ее Крысоед. – Мы тебя еще подумаем, брать или нет.
От подобной наглости Охлябина онемела, только налитые глазища выпучила. Соглашатель Трезвяк, почуяв, что жрать его живьем и на этот раз никто не станет, осмелел, подполз на карачках к Охлябине, прижался щекой к тощей груденке и приторно заверил:
– А мы тебя там, в городе, и приоденем, красавица ты наша.
Теперь Марка утратила дар речи от набежавших чувств. Лишь молча облобызала Доходягу Трезвяка.
Вопрос был решен. В город хотели все.
Лупоглазый черненький мальчуган хихикал, поплевывал через зуб, вертел в вытянутой руке чем-то съедобным в сверкающем красками фантике и пялился на Пака.
Тот уже знал, что там под бумажкой. Сладкое! Приторное! Противное! Но все же съедобное. А голод не тетка. Здесь, в этом поганом зверинце, его не кормили. На пропитание надо было зарабатывать самому. Он знал, чего ждет нагловатый малец. Хочешь есть, надо служить. Ну и ладно, ну и черт с ними! С туристами жить – шакалом быть.
Он скривился, потер клешней отбитый при задержании хобот, вжал голову в плечи. Потом опустился на четвереньки и, прихрамывая, прошкандыбал три круга вокруг фикуса в бадье, что стоял посреди клетки. Потом подбежал к решетке, согнул руки перед собою, подобно служащей болонке и принялся подпрыгивать на полусогнутых, умильно заглядывая в глаза мальчугану.
Тот не хихикал. Тот надменно кривил губы.
И когда Пак протянул к прутьям раскрытую, просящую руку, мальчуган быстро убрал конфету за спину, плюнул в протянутую ладонь. И зашелся в оглушительном хохоте.
Пак отвернулся. Он уже не реагировал на насмешки, плевки и тычки. Слава богу, что не швыряют каменьями, что не стреляют из каких-то дурацких, причиняющих острую боль пистолетиков и рогаток. Чего он только не натерпелся в зверинце Бархуса, куда его сбагрили за гроши продажные легавые, сбагрили, разлучив с ненаглядной подружкой, Ледой-Попрыгушкой. Пак страдал, проклиная всех подряд, проклиная свою жизнь горемычную. Голод и обиды доводили его до умоисступления, до истерики, а потом бросали в безвольную вялость. И тогда Паку грезилось родное Подкуполье – серое, гнусное, мрачное, вонючее, безвылазное как омут, но родное. И Пак тихо и надсадно выл. Сволочи! Все они подлые сволочи… а когда-то казались неземными длинноногими красавцами, самим совершенством, ангелами небесными… Туристы!
В этот день он еще трижды «служил». Трижды ему бросали какие-то тягучие и сладенькие резинки, совсем не похожие на еду. Он жевал их, выплевывал. Ругался. Потом он перестал «служить». Забился в угол. И пролежал, не вставая, еще четыре дня. На пятый пришел мужик в серебристом комбинезоне, высек его колючей, оставляющей глубокие раны плетью, а потом впрыснул под кожу какую-то дрянь.
Всю ночь Пак катался по клетке, скрипел зубами, матерился и беззвучно рыдал. Его трясло, колотило, бросало то в жар, то в холод. Уколотое место на заднице адски болело, будто под кожу запихнули крохотную злющую крысу. Кости выламывало из суставов, жилы тянуло в разные стороны, сердце заходилось в бешеной скачке… и вдруг пропадало совсем. Муки были нестерпимы!
К утру Пак оклемался. Но «служить» он не стал и на этот день. Пускай лучше совсем убьют. Он бы и сам повесился – да не на чем было!
Посетителей в этот день оказалось мало, и все они уходили недовольными, отводя душу швырянием в немыслимого урода каменьями, что услужливо были разложены под их руками служителями зверинца. В основном приходила малышня, и потому скрючившийся в своем углу Пак почти не вздрагивал от ударов, он мог терпеть боль и посильнее. Лишь один раз ему засветили острым осколком прямо в затылок с такой силой, что он чуть не полез на стенку – еле сдержался, зная, что любая подобная слабость вызовет целый шквал камней.
Вечером его снова били. И снова кололи. Ночь превратилась в нескончаемый ад. Измученный, истерзанный, трясущийся, бьющийся в судорогах, он плыл в кроваво-черном мареве, проваливаясь в небытие, возвращаясь из него в клетку, посреди которой стоял почему-то согбенный и страшный трехногий инвалид Хреноредьев, глядел из глубоких глазниц пустыми глазищами и что-то нудно вещал голосом Отшельника. Пак ничего не понимал. Хреноредьев проходил сквозь него будто тень и все спрашивал про Чудовище. И Пак отвечал вслух, хриплым дрожащим голосом, что Чудовище сдохло, что сдохли все кроме него, что он тоже желает только одного – сдохнуть!
А утром его выволокли из клетки в стойло, окатили водой, кричали в лицо какие-то угрозы. Потом усадили на принесенный откуда-то стул. И двое шустрых малых в белых костюмчиках и голубеньких галстучках все допытывались от него чего-то, суля горы златые. Пак соображал туго, почти ничего не понимал, мычал неразборчиво, нечленораздельно. Но малые не сдавались, им что-то было очень и очень нужно. Только к концу бесконечной, изнурительной беседы Пак наконец понял: они хотят упечь его обратно, в Резервацию, они дадут жратвы, пойла, наберут ватагу похлеще былой, они дадут железяк и патронов сколько хочешь… и ничего не попросят взамен, ни-че-го! кроме одного – выполнить пару-тройкуих дружеских просьб и малость потормошить сородичей в Подкуполье. Всего ничего!
– Хрен вам, – просипел Пак, теряя сознание, – больше вы меня служить не заставите!
Два дня его откармливали и отпаивали. Тело от этого болеть не переставало, но мозги понемногу прояснялись. Пак начинал соображать, недаром в поселке его называли Пак-Хитрец или Умный Пак, да, он был потолковее многих, даже тут, в Забарьерье, тут они обленились от жирной жизни, мозги паутиной обросли – Пак злобно ухмыльнулся, и старые, растревоженные раны на хоботе заныли, кольнуло в затылке. Эти гады хотят уничтожить поселковых их же руками, не пачкаясь, они хотят стравить их… и не только поселковых, всех… всех в Подкуполье! Сволочи! Но зачем им это нужно? Зачем?! Кто им мешает? Доходяга Трезвяк, который своей собственной тени боится? Или, может, дура Мочалкина? Нет, Мочалкину уже убили, чего ее бояться, и Бегемота Коко убили, и Хреноредьева, и Пеликана Бумбу, и сиамских близнецов-Сидоровых, и безмозглого и безъязыкого перестарка Бандыру, и коротышку Чука, и Волосатого Грюню… ну кому мешал этот несчастный, вечно спящий, одноглазый Грюня – они поубивали почти всех его парней, они выжгли поселок, они не пожалели распятого на трибуне папашу Пуго, родного отца Пака, передовика-обходчика! Но в Подкуполье не один поселок, и не один город, там тьма-тьмущая народу – больного, увечного, горемычного, живущего своей и только своей, проклятой жизнью. Нет! У них есть тарахтелки и громыхалы, у них есть броневики и железные птицы, бросающие с черных небес растекающиеся огнем бочонки, у них есть пулеметы и пушки, у них есть все… пусть они сами убивают несчастный народец. Сами!
Пак рванул цепь, тянущуюся от его ошейника к стене, разорвал ее. И в это время дверь отворилась. Двое дюжих молодцов подхватили его под руки, поглядели на обрывок цепи, покачали удивленно головами. И предупредили:
– Сейчас мы тебя отведем кое-куда. С тобой будет говорить один большой человек. Гляди, урод! Ежели чего…
– Ты у нас на мушке, понял? Шелохнешься – труп!
Пак поглядел на сказавшего последние слова. И понял – этот шутить не умеет.
Комнатенка, куда его привели, была чистенькой и уютной. Пак огляделся, увидал за спиной и по бокам множество ниш, отдушин, решеток и вообще непонятно чего. Прихлопнуть его смогут с любой стороны, запросто. Но ведь еще проще им прихлопнуть его прямо в лоб. Или просто удавить цепью – надежнее и дешевле. Мудрят, сволочи!
Он не заметил, как в комнату проник вальяжный, улыбающийся отеческой улыбкой тип, как он уселся прямо перед ним в огромном мягком кресле и ощерился еще шире, будто был несказанно рад видеть клешнерукого и хоботастого, четырехглазого пришлеца из-за черты, разделяющей миры.
– Мы их примерно накажем, – сказал тип вместо приветствия. – На самого Бархуса уже заведено дело…
– Чего надо?! – грубо перебил улыбчивого Пак.
– Вот это хорошо, – засуетился тот, ерзая и шевеля кустистыми бровями, – это по-деловому, прямо-таки быка за рога. А надо нам с вами наладить вашу жизнь. Тем более, что за вас просит одна молодая особа, вы понимаете, о ком я говорю?
– Понимаю! – отрезал Пак и поглядел на свои трясущиеся руки, они еле слушались его, иначе бы он давно пришиб этого разговорчивого старикана. – Отпустите меня, мы сами разберемся с этой… с особой!
– Отпустим, – поспешно заверил тип, – честное слово советника президента. Подлечим, подкормим, приоденем и отпустим. Только встретитесь вы с ней там, за Барьером. И не сомневайтесь, Леда согласна, она сама заверила меня – с милым хоть на край света! Это будет вашим коротким и полным приключений свадебным путешествием. Туда и обратно. А потом… райская жизнь, хорошая должность, свой домик, куча детишек и пенсия, да-да, вы еще молодой и не думаете об этом, но только приличная пенсия дает человеку… – советник оценивающе поглядел на мутанта, – …полный покой. Вам будут завидовать! А взамен…

Пак передернулся, скривился и опередил типа:
– А взамен надо будет послужить?
– Да, совсем немножко, – не растерялся тот, – не в службу, а в дружбу, как говорят там, у вас в России.
– Где? – не понял Пак.
– Простите, я и забыл, что в Подкуполье вся эта устаревшая национальная терминология давно отжила свой век, да-да, во многом вы опередили даже нас, во многом… и теперь еще рывок, светлое будущее не за горами, мы вам поможем, надо только немножко потрудиться.
– Я видел ваше светлое будущее, – угрюмо вставил Пак, – очень даже светлое.
– Да? И где же это, когда? – не понял советник.
– Когда наш поселок жгли огнем, – пояснил Пак, – было очень светло. Очень! Я чуть не ослеп. Папанька… – он невольно всхлипнул и потупился, – сгорел папанька, заживо!
Улыбчивый тип тут же нахмурился, стал олицетворением скорби.
– Памятник, – сказал он проникновенно, – мемориал, мы возведем мемориал жертвам. И центральной фигурой будет ваш благородный отец.
– Благородный? – переспросил Пак. И вспомнил, как папаша Пуго лупцевал его – беспощадно, почем зря. – Гад он и падла… но все равно жалко!
Советник развел руками. Он ощутил, что еще немного, и этот выродок сломается, главное, не пережать. Но он не знал Умного Пака.
– И ты падла! – прошипел вдруг тот. – Но тебя мне не жалко… И себя не жалко! Я вам служить не стану. Не стану!
Он встал. И увидел, как в глазах у этого самоуверенного старикана промелькнула тень испуга, почти ужаса.
– Ну что вы… – примиряюще пропел советник. И протянул к Паку руки – ладонями вверх.
Где-то за спиной, один за другим, вызывающе громко щелкнули два затвора. Но Пак не слышал этих щелчков, он слышал торжествующий и наглый смех того самого черноглазого мальчонки, он видел его раззявленный рот, который вот-вот сомкнется, из которого вот-вот вырвется тонкая струйка сладенькой от жвачки, липкой слюны. Нет, он не будет больше «служить»!
– Тебя мне не жалко! – процедил Пак, надвигаясь на старикана. – Это ты их убил… Ты!
Две пули вошли ему в спину, прямо в сердце почти одновременно. Третья пробила лобовую кость, отбросила голову назад, сломав шейные позвонки.
Сол Модроу покачал головой и спрятал пистолет в боковой карман. Ему уже предельно надоело возиться с этими выродками. Разом, их надо уничтожить разом, всех до единого! Но политика… есть политика, красно-коричневые во Всеевропейском парламенте поднимут дикий вой, того и гляди «зеленые» переметнутся к ним, народ взбаломутится… конечно, все средства массовой пропаганды в наших руках, но ведь репортеришки эти, продажные, всегда найдется пара-другая щелкоперов-неврастеников, которые ради красного словца не пожалеют и самого отца-президента, поднимут шумиху… жечь их всех! выжигать каленым железом! но рано, пока рано, час еще не пришел, сначала с Резервацией надо покончить, а потом поглядим… политика!
Сол Модроу осторожно пнул мыском лакированного штиблета труп. Готов! Наповал! А ведь интересный был экземплярчик, забавный.
– Ну что ж, дружок, – вслух сокрушился советник, – мы и без тебя обойдемся.
Через два часа, как только стемнело, мертвого Пака, засунутого в толстый черный пластиковый пакет вынесли из «зверинца», сунули в потрепанный автобусик и отвезли на загородную свалку.
– Чучело бы из него набить, – предложил один из двух мордоворотов, волоча труп к чернеющему провалу, – вот бы детишкам забава была!
– Исполняй приказ! – обрубил его мечтания другой. И они, раскачав тяжелый мешок, зашвырнули его подальше. Постояли немного, дождались глухого шлепка со дна исполинской выгребной ямы, вздохнули разом с чувством исполненного долга. И убрались восвояси.
Отшельник не помнил, сколько времени он просидел на невысоком холмике посреди огромной помойки, которой хватило бы на десять тысяч поселков. До его прихода сюда над холмом высилась груда гниющих отходов, мусора и всякой дряни. Он испепелил ее, не доходя двадцати метров, протискиваясь меж остовами железных колесных повозок.
Еще тогда он знал – Биг лежит под грудой. Но не весь, а только его часть: половина раздавленного туловища, щупальца-руки, раздробленные ноги, левый предплечный мозг… Отшельник видел. Останки Бига были изрезаны, исполосованы, превращены в кровавую и уже высыхающую лапшу. Основной мозг вместе с правой частью туловища и еще одной рукой увезли куда-то далеко… будут снова резать, просвечивать, исследовать. Погиб малыш! Дурацкой, никому не нужной смертью пал в этом дурацком и никому не нужном мире! Отшельник не плакал, не стонал, не скрипел зубами. Он просто сидел на холме подобно выброшенной на помойку драной трехногой кукле. И молчал. Теперь он знал точно, что никто его не сменит в Пещере. Биг был последней его надеждой, про остальных и говорить нечего, остальные без его воли, без его полей, без его сверхъестественной и могучей незримой силищи вымрут лет через пятьдесят-шестьдесят. Да, он не протянет долго. И тогда труба. Полная, полая и длинная! Им всем! Всему Подкуполью!
– Эх, малыш! – выдохнул он сипло в ночную тьму.
И ощутил, как в полумертвом мозгу чужого тела, которое он занял, не спросив разрешения, просыпается хозяин. «Чего там, едрена?» – проскрипело где-то внутри затылка. «Молчи!» – приказал Отшельник. И оживающий Хреноредьев немедленно заткнулся, оцепенел.
Живучие, думал Отшельник, невероятно живучие. И ничего тут странного нет. Они выжили из сотен миллионов – тысячи. И среди них уже не осталось обычных, нормальных, они или болезненные, мрущие, не дожив до двадцати лет, или сверхживучие, середины нет. Но что толку? Слабые вымрут сами. Живучих изничтожат без жалости и пощады вот эти – считающие себя человеками, отгородившиеся от них. Чему быть, того не миновать. И зря Биг полез на рожон, его смерть никому не принесет счастья, никому не даст покоя. Эх, малыш, малыш!
Боковым зрением Отшельник видел, как ворочается в полуверсте от него в огромной ямище запеленутый в прочный, толстый мешок Пак Хитрец. Он видел даже крохотные кусочки свинца, которые медленно, очень медленно выдавливались оживающим телом в запекшиеся кровью дыры – одна зияла на покатом лбу, две другие – под левой лопаткой. Пак опять обдурит старуху-смерть. Да что толку-то?! Чудовище, родного, милого Бига не оживить! А от прочих пользы не будет! Пора проваливать отсюда!
«Помер я, что ли? – глухо вопросил снова пробудившийся Хреноредьев. – Чтой-то ни хрена не пойму?!» Отшельник не стал усыплять хозяина корявого, изрезанного шрамами тела. Он не хотел дольше задерживаться в нем. Пора назад, в берлогу. Надо было бы сказать инвалиду, что без него, без Отшельника, тот давно бы уж отдал концы и даже успел бы сгнить. Да зачем его лишний раз расстраивать. «Не помер еще! – отозвался Отшельник. – Рано тебе помирать. Слушай! Как очухаешься, пойдешь прямо, вон туда, до ямищи, потом вниз слезешь, там найдешь Пака Хитреца. Он в мешке большом. Сам не вьиезет. Ты ему поможешь. Понял?!» Хреноредьев долго выжидающе молчал, потом сказал: «Угу! Нам все понятно. А ты кем будешь, едрена?»
Отшельник вздохнул, оглядел помойку пронизывающим взглядом.
– Никем не буду, – ответил он. – Ну, ладно, прощай! Через миг Отшельник сидел в своем собственном, окостенелом тельце с огромной просвечивающей одноглазой головой дистрофичного карлика-циклопа и тянул через тонюсенькую трубочку пойло. Его собственное тело еще было живым, он все верно рассчитал. И в пещере ничего не изменилось. Он вернулся! Вернулся в хилую, немощную, умирающую старческую плоть. Вернулся, чтобы хоть немного продлить собственную агонию. И агонию тех, ради кого он еще цеплялся за жизнь.
За месяц Гурыня отъелся и заматерел. Теперь он точно знал, что его тут и пальцем не тронут… ну, разве, что морду набьют, но это не просто так, а для порядку, чтобы не зарывался… а так нет, не обидят, он им нужен. Очень нужен. И Гурыня старался, не давал покою своей новой ватаге.
– Бегом! – орал он блажным матом. – Бегом, падлы!!! Тяжело в ученье – легко в бою будет!
Ватагу понабирали изо всякой сволочи: наполовину из беглых уродов, думавших, что их тут, в Забарьерье, ждут с распростертыми объятиями, наполовину из урок, собранных по ближайшим тюрьмам. Гурыня не жалел братву, гонял почем зря и драл семь шкур. И вовсе не ради того, чтоб «в бою легко было», нет. Гурыня знал одну простенькую вещь – ежели всю эту шебутную шоблу не выдрессируешь здесь, «в учении», ежели не повышибаешь из нее духа и не приучишь дрожать при одном только голосе своем – то там, под Куполом, они из тебя же веревки вить будут. И потому он старался на совесть.
– Живей!!!
Шобла носилась по кругу в полной выкладке. Большинство из нее уже света белого не видело. Пот ручьями лил из-под пятнистых кепарей. Ноги подкашивались, тряслись. Руки висели плетьми… Но Гурыня спуску не давал.
– Лечь! Встать! Лечь… – частил он, наслаждаясь своей властью над этим покорным быдлом, то падающим в пыль, то послушно вскакивающим и бегущим все по тому же кругу. Двоих слабаков для науки прочим он уже забил насмерть, затоптал кованными башмаками. И его не ругали за усердие, напротив, в тот вечер ему принесли большой жбан хмельного пива. И Гурыня понял, что от него ждут службы, а не сюсюканий. – Встать! Встать, падлы!
Еще один немощный никак не мог подняться. Он давно не нравился
вожаку. Это был местный. Вор, бродяга, четырежды судимый и дохлый на вид. Звали его Ганс Чучело. Сейчас он лежал мордой в почерневшей от его собственного пота пылище и захлебывался от частого, чахоточного кашля. При этом несчастный Ганс был бледнее мертвеца, а руки, будто в уже наступивших предсмертных судорогах царапали пальцами пыльную, утоптанную землю заброшенного плаца. Он мог отдать концы прямо сейчас, здесь, у всех на глазах. У него не было никаких сил встать. Гурыня просек все сразу. Ведь если этот ублюдок сдохнет сам, его начнут жалеть, пойдут разговоры, начнется болтовня, пересуды… нет! этого нельзя было допустить!
Гурыня козлом подскочил к лежащему.
– Вста-ать!!! – заорал он во всю глотку. И пнул Ганса под ребра.
Тот дернулся, чуть приподнял тощий зад над землей… и вдруг скрючился, забился в агонии.
– Встать, падла! – взъярился Гурыня. – Это что, бунт?! Встать!
Выждав не больше секунды, он ударил Ганса сапогом в висок, потом резко опустил тяжелый каблук на мокрый и жалкий затылок «бунтовщика».
– Так будет с каждой падлой! – заверил он бегущих по кругу, когда скрюченное тело, дернувшись пару раз, застыло в пыли.
Но усердствовать надлежало в меру. И через три-четыре минуты Гурыня остановил измученную, выдохшуюся шоблу, уже безмерно благодарную ему за прекращение мучений и презирающую слабака Ганса. Собрал всех вокруг себя в курилке и заверил:
– Ничего, братва, будет и на нашей улице праздник. Дайте срок! А на меня зла не держите. Бог терпел и нам велел. Еще спасибо, падлы, скажете!
Сорок издерганных, загнанных рецидивистов и выродков глядели на него в упор. И верили. Им больше некому было верить, этот кособокий малый с длинной шеей и плоским лбом был для них и богом, и чертом. Они еще не знали своей судьбы. Они знали одно – назад возврата не будет. И потому им не оставалось ничего другого как верить.
По утрам, когда все еще дрыхли, «дрессировали» самого Гурыню с семью такими же как он вожаками. Учили серьезно и истово, чтобы злей были. Ни один посторонний глаз не видел их мучений. Но каждый из семи знал – от него требуется полное и беспрекословное послушание, и тогда все будет хорошо, тогда они выполнят свое дело и вернутся обратно, сюда, отдыхать заслуженно, вернутся, нагулявшись всласть и вволю, накуражившись и отведя душу… но если что не так, найдут и накажут – это им уже вбили, вколотили в мозги, даже малейшие сомнения на этот счет развеялись.
– Я б тебя, ублюдка, убил сразу, вот тут, вот. этими руками! – откровенничал с Гурыней сержант-инструктор, потрясая перед его мордой огромными мохнатыми лапами. – Но молись на начальство, ему виднее. Вот зона твоих действий, гляди, тварь! Ты вообще-то видал хоть раз карту в глаза?
– Никак нет, господин сержант! – лихо отвечал Гурыня, зная, что в случае промедления можно схлопотать по зубам.
– Ну так я тебе втолкую, ублюдок. Ты у меня с первого раза поймешь, без повторений и экзаменов… вот здесь, здесь и здесь! – палец сержанта тыкался в какую-то цветную картинку на столе и звучали названия поселков и городков, сызмальства привычные для Гурыниного слуха. – Отряду будет придан наш человек, он проведет, покажет, он будет держать связь. За него головой ответишь! Понял?!
– Так точно, господин сержант!
Инструктор довольно ухмылялся. А потом начинал орать:
– Встать! Лечь! Встать! Лечь…
Конца обучению не было видно. Гурыня падал носом в грязные плиты, вскакивал. И думал: на хрена ему такое Забарьерье! скорей бы на дело! скорее бы в края родимые! уж там-то он не оплошает! И матерел, матерел на глазах.
Когда в мозгу сделалось пусто и гадко, инвалид Хреноредьев растерянно оглянулся, задрал голову к черным небесам и горько зарыдал. Ноги у него подкосились, руки обвисли плетьми, и рухнул он прямо залитым слезами дряблым лицом в какую-то слизистую дрянь и мерзость. От этой дряни жутко воняло. Но еще больше воняло от него самого. Хреноредьев был непритязательным мужичком по части запахов, но сейчас его начинало выворачивать наизнанку от собственной вони. Да еще память проклятущая все мешала в одну кучу: и подпол с хитрым и наглым Паком, и треск какой-то оглушительный, вой, визги, стоны, дым, молнии и одноглазого головастого урода, поучающего жизни, и какое-то муторное мыканье по ночным свалкам, и прочую дребедень. Никого знакомого или хотя бы живого рядом не было. Хреноредьев и сам не понимал, жив он или нет. Брюхо сильно болело, будто его продырявили в нескольких местах одновременно.
Измученный и несчастный инвалид готов был лежать в вонючей мерзости до второго пришествия. Но странная и неведомая сила приподняла его словно за шкирку, встряхнула и поволокла куда глаза глядят. Совершенно очумелый Хреноредьев пер вперед, спотыкаясь, падая и снова вставая, натыкаясь на огромные кучи смерзшегося и слипшегося хлама, пер нетопырем в ночи, выставив вперед свои костыли, увязая в месиве протезами, рыдая и скрипя обломками редких зубов.
Потом он упал с какого-то обрыва и долго кубарем катился вниз. На ходу, в этом безумном крутеже и вертеже он вдруг вспомнил где находится – в Забарьерье! в раю земном! в том дивном и сладостном крае, о котором у них, в Подкуполье, складывали легенды! Повезло! Привалило, мать их, счастье!
– Вот те и рай, едрена! – ошалело выдохнул Хреноредьев, когда его наконец перестало крутить и вертеть.
Надо было отдышаться, но неведомая сила поволокла его дальше. Пока не ткнула в большой черный шевелящийся и извивающийся мешок.
– Ты кто? – осведомился Хреноредьев, тыча костылем в мешок.
В брюхе у него вдруг заурчало, забурлило – и накатил такой лютый и нестерпимый голод, что тут же представились три жирных, сучащих ножками поросенка по полтора пуда каждый – лоснящихся, аппетитных, розовеньких, которых можно жрать прямо с костями. И слюни потекли по небритому черному подбородку. Они! Непременно они! Кого ж еще в мешок посадют?!

Хреноредьев вскинул над головой костыль, взревел медведем:
– И-ех, едрена!!!
И хорошенько приложил своим орудием рвущегося на волю «поросенка» – а как же иначе-то, прорвешь мешок-то, а они, заразы, и разбегутся кто куда, лови их потом!
Удар получился веский, добрый удар. И мешок разом стих.
Теперь можно было приступать к главному. Хреноредьев на карачках подполз вплотную к мешку, разинул пасть пошире и впился острыми кочерыжками в скользкую и неподдающуюся ткань. Минут семь он рвал и терзал край мешка, как терзает и рвет злобный цепной пес брошенную ему тряпку, – чуть голова не оторвалась. И все же он продырявил мешок, сунул в дыру грязные, корявые и цепкие пальцы, поднатужился, истекая липкой слюной и уже предвкушая пиршество, разодрал плотную оболочку… И обомлел.
Прямо в глаза ему смотрел мутным и жалостливым взглядом никакой не поросенок, и даже не кот в мешке, не козел… а вредный, нахальный, изводящий его своими вечными издевками Пак Хитрец.
– Нет. Не-е-ет! – захрипел Хреноредьев, пытаясь осенить себя крестным знамением и одновременно маша на Па-ка. – Чур! Чурменя!!!
Он даже попытался соединить разодранные края мешка. Но чуда не случилось, мешок не сросся и Хитрый Пак не исчез. Теперь от него не отделаешься, это точно! Все пропало! Хреноредьев зарыдал еще горше, чем прежде. Правильно говорил Отшельник, нечего им было вообще соваться в этот, едрена, светлый мир.
А Пак медленно, неотвратимо приходил в себя, воскресал. Мозг его выдавливал кусочек свинца, выплевывал из себя через отверстие, в которое тот и проник под черепную коробку. Пак хотел, более того, страстно желал умереть, откинуть концы, издохнуть. Но не мог!
Еще слабая, почти не слушавшаяся его клешня вскинулась помимо воли самого Пака, ухватила Хреноредьева за ухо, притянула к телу.
– Ты что, живой? – спросил Пак, еле шевеля губами.
– Не знаю, – искренне ответил Хреноредьев.
– Вытащи меня!
Хреноредьев отдернулся, скривился.
– Щяс! Вытащу, едрена! – забубнил он. – А ты меня снова поносить учнешь и хаять!
– Да на хрена ты мне сдался… – начал было примиряюще Пак.
Но инвалид взвился чуть ли не к черному поднебесью.
– На хрена?! Опять намекаешь! Убью!!!
Он с усердием пуще прежнего, с яростью вскинул свой пудовый костыль. Но ударить на сей раз все же не решился. Пожалел доходягу.
– Ладно-ть, – процедил он примиряюще, – вытащу, едрена, но в последний раз.
Ума у Хреноредьева было и так немного, а после передряг и вовсе не осталось. И потому, ухвативши Пака за голову обеими руками, растопырив протезы, он принялся тянуть его из мешка – и таким образом проволочил мученика саженей двадцать по прутьям, банкам-склянкам и торчащей арматуре. Инвалид готов был тащить и дальше. Но Умный Пак взвыл:
– Стой! Всю спину изодрал, ирод старый! Брось! Хреноредьев послушно бросил голову, и та глухо стукнулась о растресканную бетонную плиту, лишая Пака сознания, а заодно и всех неприятных ощущений.
– Нехорошо, чегой-то, получилось, – философски изрек Хреноредьев.
И взялся за мешок с другого конца. Через две минуты он вытряхнул тело наружу. На всякий случай потряс мешком, будто тая надежду, что «поросенок», пусть какой-нибудь завалящий, но все же выскочит оттуда. Нет, не выскочил. И Хреноредьев со злостью отбросил мешок.
– Ну и воняет от тебя! – просипел очнувшийся Пак.
– Что есть, то есть, – деловито согласился Хреноредьев. – Контузило меня, понимаешь. Ничего не помню, едрена! Домой хочу-у!
Пак вдруг напрягся, приподнялся на локтях, уставился на инвалида всеми четырьмя глазищами, в которых отразилось ни с того, ни с сего совершенно нелепое и неуместное здесь, на мрачной свалке – крохотная девочка в воздушном платьице, не девочка, а прямо ангелочек в беленьких кудряшках и с бантиком. Отразилось. И пропало.
– Рано нам домой! – сказал он, как отрезал.
Дорога в город оказалась долгой и непростой. Больше недели коптили и солили харчи. Воды решили из поселка не брать, воды завсегда можно из луж напиться, слава богу, лето выпало дымное, душное, но промозглое и дождливое, точно такое же, какими были осень, зима и весна.
Из поселковых к паломникам прибилось еще трое – Длинная Лярва, Кука Разумник и Мустафа. Остальные, кто повыживал, были увечные, немощные или совсем тупые, таких брать с собою не с руки. Марка Охлябина дико приревновала Лярву сразу ко всем мужикам и в первый же вечер навешала ей крепких тумаков. Лярва ныла, скулила, огрызалась, но сдачи давать не смела, после погрома она стала тихой, пришибленной, не то что при прежней жизни.
Так все и выступили из поселка, длинной и странной вереницей. Так и шли полтора месяца по подсчетам Доди Кабана, пока не оказалось, что шли-то в другую сторону и потому уперлись в глухую, аж до небес стену.
– Добралися! – обрадованно заорал Тата Крысоед и всеми четырьмя руками разодрал тельняшку на своей груди. – Полундра!
– Чего орешь, обезьяна! – охладила его пыл Охлябина. За время странствия она совсем отощала, еще больше облысела и уже почти перестала ревновать Длинную Лярву, без этой кривой образины поселковые мужланы ее бы ухайдакали, пригодилась Лярва. А вот Тата Крысоед совсем дурак, – Где ты тут город увидал?!
– Как это где? – не понял Тата. – За стеной, а где ж ему еще-то быть?!
– За стеной труба, – глубокомысленно изрек Однорукий Лука. – Это каждый знает. Бо-ольшая труба.
– Значит, надо по стеночке и идти, тогда, точно, к городу попадем! – уверенно завершил прения Доля Кабан.
Мустафа затряс маленькой обритой наголо головой. Лярва захлопала в ладоши, Трезвяк приуныл, не решаясь возразить, а Кука Разумник развел руками – дело было выше его разумения.
Так и пошли вдоль стены.
И шли еще сорок четыре дня. Харчи давно кончились. Питались колючками, крысосусликами и всякой падалью. Хотели наложить лапу и на Доходягу. Но пожалели, решили не есть его до города, перебиваться на подножном корме. Трижды на паломников набрасывались огромные, жуткие и ужасно бестолковые твари. Но посельчане сбивались в ком и отражали нападения. У одной твари даже сумели оторвать хвост. Его съели тут же, не поджаривая на огне, так, что ни костей, ни кожи не осталось.
На пятидесятый день, сообразив, что стена никуда их не приведет, встали к ней спиной, выискали через пелену густейшего туманного смога еле угадывающееся солнечное пятнышко – благо денек выпал погожий – да и побрели на закат.
Додя Кабан шел хмурый и побитый. Он давно понял, что завел ватагу совсем не туда, куда собирался завести, теперь до города вдвое, а то и втрое дальше, чем от поселка. Но сказал он об этом только Доходяге Трезвяку, знал, тот не выдаст. Трезвяк, и впрямь, будто воды в рот набрал, совсем тихим сделался. После Додиного сообщения он только голову в плечи втянул и глаза закатил – вероятность быть сожранным посельчанами увеличивалась. Но говорить им об этом было только себе во вред.
Тихий и смирный Мустафа шариком катился за Кабаном – хоть и глупый начальник, а начальник! Мустафа уважал больших людей, уважал он и не очень больших, главное, чтобы хоть чуть-чуть над прочими возвышались. А вот Кука Разумник все ворчал и матерился. Он боялся, что в город проход закроют, он знал, что ежели где проход открыт, там ничего хорошего нет, а вот где хорошо, там обязательно проход закроют, особенно если не поспеть вовремя. Кука подгонял компанию и за это его частенько колотили. Однорукий Лука брел угрюмо, свесив голову и покачивая слоновьими ушами, шел, будто на каторгу. Марка Охлябина висела на руке то у одного, то у другого. А безмозглая Лярва плелась позади и глуповато хихикала. Весь день Лярва вспоминала и обсасывала то, что с ней проделывали за ночь, никогда ей не было так хорошо как в этом великом походе, Лярва вовсе не жалела поселковых баб, сгинувших в огне, туда им и дорога, стервам-разлучницам! Тата Крысоед то забегал вперед, то отставал, он все время сопел и чесался – гниды вконец заели. Тата мечтал найти трубу поменьше, чтоб без стены была, возле таких труб всегда черные или цветные лужи – искупнешься, всю гнусь как рукой снимает, а хлебнешь глоток-другой – башка набекрень и розовые черти перед глазами, благодать!
Еще две недели они шли без приключений, продираясь сквозь развалины, обходя пустыри – на пустом месте всегда страшно, на пустом месте как на ладони, хлопнут другой – и поминай как звали. Населенные поселки и городишки обходили стороной – свалками да помойками, промзонами и высохшими канавами, позаросшими черными хрящеватыми лопухами. Знали, чужаков тут не любят, и ежели чем и приветят, то оглоблей или арматуриной. К тому же в поселках запросто можно было нарваться на туристов-карателей, на этих «праведных судей», как говорил Буба Чокнутый, чтоб ему ни дна ни покрышки! «Праведные судьи» мочат всех направо-налево, это теперь понимал каждый несмышленыш в Подкуполье.
– Карта нам нужна, вот чего, – уныло изрек Однорукий Лука, когда они окончательно заплутали и выдохлись.
– Чего-о-о?! – попер на него Додя Кабан, чтобы вкорне пресечь недовольство. – Ты на кого тянешь, чучело?!
Додя вломил бы Луке хорошенько, по первое число. Но круглоголовый Мустафа, все крутившийся рядом, вдруг плюхнулся прямо перед Додей в пыль и упрямо заявил:
– Все, начальник, моя устала. Моя домой хочет! Это начинало походить на бунт. Додя растерялся, сумрачно поглядел на Тату Крысоеда – тот закатывал рукава своей драной, просаленной тельняшки, и непонятно было, кого Тата будет бить в случае разногласий. Марка Охлябина заныла, запричитала и уселась в пылищу рядом с Мустафой. Доходяга Трезвяк на всякий случай спрятался за ржавым помойным баком. Длинная Лярва влюбленными глазами глядела на Додю, но толку от нее ждать не приходилось. Один лишь Кука Разумник пошел было к Кабану, намереваясь поддержать его и еще издалека щеря гнилозубый рот в улыбке, но и он вдруг застыл на полпути, скосоротился, надулся и принялся чесать плоскую тыквообразную голову… никаким он не был разумником, а был полным идиотом – Додя даже плюнул в сердцах под ноги. Разве ж с такими уродами дойдешь до городу!
– Без карты пропадем, – подытожил Лука. Никто кроме Доди не понимал, что это такое «карта», но все дружно закивали головами.
– И жрать охота. Пузо трещит! – заверещал Тата Крысоед, озираясь в поисках Трезвяка. Взгляд его, тупой и настырный, не обнаружил искомого и вдруг уперся в самого Додю.
– Все вы козлы и падлы, – на одной ноте выла Охлябина, – никуда не пойду больше, буду с Мустафой тут сидеть, пушай Лярва поганая в город прется, а я не пойду-у-у…
Длинная Лярва подкралась к Марке сзади, изловчилась и треснула ее большущей полусгнившей палкой прямо по жирному затылку. Палка разломилась, обсыпалась трухой. А сама Охлябина зарыдала пуще прежнего.
Додя Кабан приготовился к худшему. Теперь запросто могли сожрать его самого. Сожрать вместе с потрохами. Стоит этой четверорукой обезьяне, этому ублюдку Тате Крысоеду только намекнуть – и все набросятся гуртом, даже Мустафа не откажется куснуть «начальника»!
Додя надул щеки, угрожающе осклабился, взъерошился, выставил вперед волосатые руки и собирался уже заорать во всю глотку на шебутную братву свою… Но тут прямо из-за его спины, отчетливо и пугающе, будто раздирая низкое серое небо напополам раздался такой треск, что Додя, натянув драную и сальную шляпу свою на уши, согнулся в три погибели, пропищал испуганным фальцетом:
– Ложись!
И сам шлепнулся плашмя в пыль.
Уговаривать паломников не пришлось. На памяти еще свеж был кошмарный погром в поселке – там тоже все трещало, бухало, рвалось и горело. Перепуганные до смерти, они расползались кто куда, надеясь укрыться за жалкими, обросшими вонючим мхом развалинами, и каждому казалось, что стреляют именно в него, что вот-вот пуля вонзится в затылок, под лопатку, вот-вот сверху ошпарит жидким и страшным огнем – они помнили, как бегали горящими свечами посельчане, как падали, дергались, корчились, но не переставали гореть.
А прогремело-то не больше четырех очередей. Да, видно, эхо, порожденное внезапно нахлынувшим ужасом, размножило их и усилило до полнейшей нетерпимости. Тата Крысоед в бессильном остервенении грыз землю. Кука Разумник бился об нее лбом и причитал себе под нос что-то бессвязное и дикое из проповедей Бубы Чокнутого. Лярва засунула голову в какую-то нору и не дышала. Мустафа потел и трясся. Трезвяк лежал оцепенелой колодой, понимая, что на этот раз ему не уйти живым. Марку Охлябину рвало в сырой и гадкой канаве. Однорукий Лука лежал рядышком и тихо молился какому-то выдуманному им самим богу, такому же однорукому и унылому, но заступнику и спасителю. Один только Доля Кабан начинал потихоньку соображать, что стреляют вовсе не в них, что где-то там, довольно-таки далеко, идет своя, не имеющая к ним, паломникам, разборка. Но еще Доля понимал, что идти-то им надо именно туда, все остальные направления давным-давно пройдены. И потому, пролежав еще с полчаса, Додя подполз к Доходяге Трезвяку сунул тому в зубы волосатым кулаком и сказал:
– Ты вот чего, бери Куку Разумника – и в разведку ползи! Да чтоб живо, одна нога здесь, другая там!
Трезвяк совсем расстроился. Но возражать не стал, сейчас Додя Кабан запросто пришибить мог, со злости и прочим в острастку. Лучше ползти под пули, авось, не приметят, не попадут. Вместе они переметнулись к Разумнику. Додя проинструктировал и того, дав хорошенько по загривку, так, что Кука разбил в кровь свой отекший и красный нос о глину. Разумничать и философствовать ему не дали, по одиночке
Додя мог справиться с любым, тем более с таким обалдуем как Кука.
– Сбежите, гады, – понапутствовал разведчиков Додя, – совсем убью!
Кука полз и матерился. Трезвяк на него шипел испуганно, еще услышат, Трезвяк вообще был с детства малость пришибленный и всего боялся. Трезвяк знал то, чего не знали очень многие – чем больше шума и треску, гомона и пальбы, тем проще затеряться и улизнуть. Но сейчас, как назло, совсем стихло. Спереди доносились только хриплые и неразборчивые голоса да тянуло едкой гарью.
Трезвяк с Кукой переползли заросший лиловой колючей осокой пустырь, почти вплавь преодолели отстойную канаву – трясина была подернута бурой тягучей ряской, но под ней кто-то хлюпал и охал, пуская пузыри. Обвалялись для просушки в пыли. Потом долго ползли по ржавой, давно отключенной трубе, причем Кука все время кусал разутого Трезвяка за пятки, пользовался тем, что в трубе не развернешься и не дашь по ушам. Наконец выбрались наружу, прорвав метровый слой паутины. И поняли, что отклонились от курса, зашли не спереди, а сбоку, но не расстроились – тише едешь, дальше будешь! Тем более, никакой пальбы давно не было слышно, может, туристы ушли, может, пора вставать в полный рост.
Кука Разумник так и предложил:
– Ты подымись-ка, Доходяга!
– Чего-о?! – не понял тот.
– Встань, говорю!
– Зачем еще?
Кука поглядел на Трезвяка как на полного идиота. И пояснил:
– Для проверки! Может, вовсе стрелять перестали? Трезвяк долго думал. Потом изрек мрачно:
– А ежели нет?
– На нет и суда нет. Не боись, прибьют тебя, яназад сползаю сам, доложу все как есть, не подведу!
В доводах Разумника был свой смысл. Но Трезвяк сказал:
– Рано еще назад! Давай вперед ползти!
И они поползли, прячась за дырявыми и позеленелыми до мшелости бетонными стенами, поползли, норовя вдавиться в эту несчастную, горькую землю, на которой уже давно не росло ничего путного кроме черных лопухов и лиловой осоки, поползли, в тайне надеясь, что в этом поселке при удаче посчастливится разжиться чем-нибудь съестным… ну а если попадутся местным, что ж, быть битыми, не привыкать.
Хриплые голоса становились все громче – как ни петляй, а никуда не денешься! надо еще немного вперед! чуть-чуть! Трезвяк навтыкал в путанные колючие волосы больших лопухов и от этого стал похожим на лешего, только что выбравшегося из немыслимой дикой чащобы. Кука сразу смекнул – для маскировки! Но на его голом плоском черепе мог удержаться только один лопушиный лист, и то с трудом. И от этого Кука ощутил вдруг как комок свинца, выпущенный из железяки, впивается в его темя. Но и он пересилил себя. Все равно подыхать с голодухи!
Поселок был хороший, зажиточный поселок. Получше их прежнего. Да и пепелищ не было видно, значит, его еще не карали «судьи праведные». Трезвяк с Кукой умудрились забраться по кривой каменной лестнице на какую-то развалину поросшую желтым кустарничком, с торчащими зубьями изъеденных временем простенков. Затаились, озирая покосившиеся крыши, заваленные мусором улочки, убегающие во мрак серой пелены. Прямо перед ними была площадь, отгороженная от развалин грудой ржавых и битых контейнеров да помойных баков. На том конце площади торчала покосившаяся колоколенка с пробитым черным куполом, изрисованная сверху донизу похабными, грубыми и неумелыми рисунками. Видно, в поселке имелся даже свой живописец. Из окошка на третьем этаже колоколенки торчала над землей огромная черная балка. С балки свисало несколько веревок. Под каждой из веревок стояло по посельчанину с завязанными за спиной руками. Но это было не главным.
Вся площадь по краям была запружена разношерстным народцем: стояли мужики, бабы, дети, толстые, тонкие, длинные, коротышки, носатые и безносые, многолапые и вовсе безрукие, двухголовые и обычные, корявые, уродливые, пустоглазые, трясущиеся и бормочущие, безъязыкие и кривые, одуревшие и напуганные, нормальные и чокнутые… простой, обычный люд подкупольный, туго соображающий, но себе на уме. Трезвяк даже всхлипнул. И у них в поселке так было – и народец такой же, и площадь. Потянуло чем-то родным. Захотелось спрыгнуть с заросшего кустарником перекрытия, побежать туда, встать в очередь за баландой на раздачу, за глотком пойла… да, сейчас Трезвяк не отказался бы от этого глотка, хотя и зарекся пить. Туда! Быстрей! Немедленно!
Кука Разумник, скрючившийся рядом, тоже глотал слюнки и ерзал.
Но было одно обстоятельство, которое мешало исполнению страстного желания обоих. Площадь была оцеплена изнутри и снаружи – и вовсе не длинноногими туристами, а какой-то корявой и разномастной братвой, выряженной в пятнистые фуфайки. У каждого на голове была кепка с длинным козырьком, а на плече или в руках железяка. Держались пятнистые по-хозяйски, народец их явно уважал и побаивался. На глазах у Трезвяка и Куки одного мужичка, выбившегося из толпы с пьяненькими стенаниями, встряхнули за шкирку, надавали по мордасам и впихнули обратно.
– Ой, мать моя! – вдруг выдохнул Кука. – Там же петли!
– Ну и чего? – не понял Трезвяк.
– Давить будут! – просипел побелевший Кука. – Я сам видал, как у нас такими собак давили.
До Трезвяка доходило с трудом, хотя и был он на редкость смышленым мужиком.
– Где ж ты тут собак углядел, дурень?!
– Не собак…вот этих давить будут, что под петлями стоят! Теперь и Трезвяк пригляделся к связанным. Их было четверо – все тощие, кособокие, свесившие головы, на полных выродков совсем непохожие.
– Давить? А народ зачем собрали-то?!
– Болван ты. Доходяга, – вместо разъяснений выдал Кука Разумник.
Трезвяк примолк обиженно. Он не верил Куке, не желал ему верить. Тем более, что на площади было и кое-что другое.
На высоком помосте перед балкой в окружении ладно стоящих пятнистых прохаживался от края до края какой-то молодой еще мужичок с маленькой головкой на длинной шее и весь увешанный тускло посвечивающими железяками. Был он в такой же пятнистой форменке, с прутиком в руке и без кепаря. Это его натужный голос разрывал хрипом и сипом затишье Подкуполья.
– Братаны и сеструхи! – орал оратор. – Мамаши мои родные и папаши! Бабки и дедки! Все вы видали, как вчера горела северная труба. Все, я вас спрашиваю?!
Недружное мычание встревоженного стада прокатилось над головами загнанных в оцепление. Кука сам чуть не замычал, хотя ничего он вчера не видел. А Доходяга Трезвяк ни с того ни с сего насторожился.
– Все! – подбил итог горлопан. И понес дальше: – И тогда, когда мы, лучшие сыны ваши, поднявшиеся на смертный бой за обновление этой поганой дыры, не щадим своих жизней, когда все мы готовы до единого сдохнуть прямо хоть щас за демократию, какие-то падпы, окопавшиеся в вашем вонючем поселке, устраивают диверсию! Ну посудите сами, дурьи головы, для того разве ж наши друзья из Забарьерья, кормящие и поящие нас, проложили здесь трубы, чтобы какая-то падла дырявила их и жгла? Нет, братаны, не для того, чтоб мне сдохнуть у вас на глазах…
– Гурыня, – вдруг еле слышно выдохнул Трезвяк.
– Чего? – не понял Кука Разумник.
– Гурыня это, младшенький! – выпалил Трезвяк, как гвоздь вбил. И пояснил уже нерасторопно, с дрожью в голосе: – Землячок наш, баламут и козел, ты его знаешь! Куда ж это мы забрели?
Кука вжал голову в плечи. Когда-то давно, года три назад он дал Гурыне хорошего пинка, чтоб под ногами не путался – тот еще совсем молокососом был. А когда Гурыня развернулся в обиде, залепил ему зуботычину и обозвал как-то, теперь уже и не помнил. Но Кука знал, это он не помнит, а Гурыня злопамятный, он все помнит… он и его удавит как пса паршивого. Кука замер.
– …вот за все за это мы и будем казнить гадов по всей справедливости! – крик начинал переходить в истошный, благой визг. – Во имя демократии и прогресса! И никаких границ! Никаких!!!
– Откуда он эдаких слов-то набрался, – недоумевал Трезвяк. – Ведь был оболтус оболтусом, тупее не отыщешь!
– Но прежде вы все увидите своими бараньими глазами, чего еще натворили эти падлы! Давай, неси сюда! Живей!
Гурыня принялся размахивать руками – и откуда-то из-за помойных баков начали выскакивать одна за другой пятнистые пары. Каждая волокла за собой, прямо за ноги, по избитому до синевы телу. Кука усердно загибал пальцы.
– Восемь, – наконец сообщил он Трезвяку. Тела побросали посреди площади, у колоколенки, чтобы было видно всем. И сразу запричитали плаксивые бабы, заныли мальцы, насупились и подались назад угрюмые мужики.
Гурыня сбежал к трупам, пнул один сапогом в бок, воздел Руки к небу, будто желая засвидетельствовать, что все восемь безнадежно мертвы. И стремглав взлетел на свой помост.
– Да! – завопил он пуще прежнего. – Эти были еще лучше нас! Это они хотели помешать диверсантам, падла! Это они встали грудью… И каждого, падла, каждого из них ухряли! Вы видите слезы на моих глазах, – Гурыня и впрямь размазал нечто незримое по щекам, – я скорблю вместе с вами! И я знаю, что суд наш справедлив! Наш народный суд!
Последние его слова заглушил грохот сверху. Трезвяк обомлел и чуть не помер тут же со страху, а Кука Разумник не сдержался, обмочил штаны. Над поселком зависла тарахтелка. Непуганные и глупые посельчане задирали головы вверх, пялились на диковинку, показывали на нее пальцами и гоготали. Они еще не знали, что начнется сейчас…
Но ничего не началось. Тарахтелка повисела немного, потом прошлась кругом над площадью. И улетела в муть серого неба.
– Да! – вновь завопил Гурыня. – Они с нами! Они помогут нам и никогда не бросют, падла!
Он вдруг остолбенел ни с того ни с сего, будто вспомнил нечто важное и страшное, перекосился, сгорбился, задрожал. И кинулся к стоявшему тут же на помосте пьянющему, пошатывающемуся пятнистому коротышке, который держал в красной лапе что-то черное с хвостиком. Они отошли оба к краю, долго тыкали друг дружке кулаками в грудь, скалились, шипели в лицо, тряслись… но не кричали. Наконец коротышка перестал шататься, начал облизывать свою черненькую игрушку. А Гурыня схватил за грудки здоровенного рыжего детину в форменной телогрейке, с минуту то ли кусал его за ухо, то ли шептал в него нечто неслышимое Кукой и Трезвяком, а потом резко пихнул вниз. Детина рухнул с помоста мешком, но тут же вскочил и опрометью побежал с площади.
Ошарашенный неслыханными прежде чудесами народец совсем растерялся. Многие поглядывали по сторонам, норовя удрать. Но не тут-то было – из такого оцепления не удерешь, могут только вынести, да и то вперед ногами.
Гурыня же метался по помосту, грыз ногти и дергался.
Наконец он обрел голос.
– Братаны! Сеструхи и бабки! Падлы, мать вашу! – визжал он. – Пока мы тут вас уму-разуму учим, еще одна диверсионная банда рвется к трубам, теперь к восточным! Чтоб взорвать их, понимаешь! Полундра, мамаши! Кругом, падла, все окопались! Недобитые, падла! Недорезанные!
– Да у нас отродясь никаких-таких не было! – выкрикнул из толпы смельчак. – У нас тихо тута!
– Провокатор! Пособник! Вот они, падлы, где окопались!!! – Гурыня только обрубком своим ткнул.
И уже с десяток стволов разом повернулись на голос смельчака, ударили очередями. Завизжал покалеченный народец, попадали убитые. Кука начал было снова загибать пальцы, но бросил это пустое занятие – все равно дальше восьми он считать не умел.
Выстрелы отгремели быстро. Но народу не дали разбежаться, даже раненым. Трупы выволокли на площадь, да и побросали в кучу «самыми лучшими сынами».
Тем временем Гурыня малость успокоился. Было лишь заметно, что он к чему-то прислушивается, к чему-то принюхивается, чего-то ждет. Только Кука Разумник и Доходяга Трезвяк совсем ничего не понимали. Они лишь видели сверху, как бежит куда-то сломя голову рыжий детина – вот он упал, пополз, сорвал с плеча железяку здоровенную, вот хряпнуло, ухнуло, вздыбило пыль, а потом вдруг ударила в серое низкое небо горящая струя, ударила снизу, взметнулась, прожигая свинцовую пелену, и исчезла в клубах черного дыма. Нет, смотреть в ту сторону было еще страшнее, Трезвяк с Кукой разом отвернулись.
– Ага! Ага-а!!! – истерически орал с помоста Гурыня. – Вон они, падлы!!! Окопались! Они везде окопались! Они взорвут всех нас! Падлы! – Гурыня бесновался как одержимый. – Староста! – Где поселковый староста, падла?! Сюда! Сюда его!!!
Пара дюжих парней за шиворот, пинками и затрещинами, затащила на помост дородного седого старика с длинными, свисающими к коленкам усами. Старик с лету плюхнулся на колени, завыл, заныл, заслюнил, будто его уже убивали.
– Пиши, падла! – заорал Гурыня, совсем стервенея, но явно не собираясь обижать старосту. – Пиши, тебе говорят!
Коротышка с черной штуковиной резво подошел к перепуганному старцу, сунул ему чего-то под нос.
– Не обученные мы, – снова запричитал старец, – не вразумили дураков…
– Я тя щас вразумлю! – зашипел Гурыня. – Пиши, мы, поселковое общество, в полном составе, как есть, призываем добрых людей из-за Барьера внять мольбам нашим горьким, защитить нас от врагов наших…
– Не умею я!
Гурыня пнул старика сапогом прямо в розовую мутноглазую рожу с мясистым синим носом. Но тот явно не вразумился и не обрел чудесной способности складывать из буквиц словеса. Теперь Трезвяк явно видел – старцу конец, Гурыня не остановится, пока не забьет его, Гурыня псих известный, от такого жалости не жди.
Но протрезвевший коротышка ухватил Гурыню за локоть, оттащил, сунул какой-то листок под нос. Потом они оба вернулись к старосте, тыркали его, теребили, заставляли делать чего-то непонятное. Трезвяк задыхался от клубов черного дыма, они валили прямо на поселок, развеиваясь над ним, выпадая на кривые крыши хлопьями копоти.
Наконец Гурыня столкнул старосту с помоста. Вскинул над головой листок.
– Единогласно! – торжественно и звонко объявил он. – Решением всего поселкового совета… виноват, муницапу… мацанипа… а хрен с ним! Нар-род порешил напрямую обратиться к мировому сообществу, все как один! Кто против, падлы?! А ну, руки вверх! Все руки вверх!!!
Перепуганный и задыхающийся в налетевшей гари народец принялся вздымать вверх руки, лапы, клешни, обрубки, у кого чего было.
– Ура, падлы!!! – заходился Гурыня. – Демократия, падлы!!! Всенародная!!!
Где-то в небесах опять тарахтела тарахтелка. Пятнистые гомонили и трясли железяками, бабы заполошно визжали, мужики гыгыкали и хохотали, зараженные торжеством оратора. Коротышка прижимал к губам свою черную штуковинку, все обцеловывал ее. Трезвяк приглядывался, может, это пузырек, бутылочка, может, он тянет оттуда дурманящее пойло? Нет, совсем непохоже. Ну и плевать! И что ж теперь будет с несчастными? Кука Разумник чесал свою безволосую тыкву и потел. Он хотел бежать, но пока не знал – куда.
Народец начали распускать. Многие падали от усталости тут же, в пыль и грязь, прямо под ноги более стойким.
Побрел куда-то от помоста и Гурыня.
Одни только приговоренные понуро стояли на колодах под балкой.
– Ас этими-то чаво-о?! – закричал во всю глотку пятнистый охранник от колоколенки. Гурыня вздрогнул. Обернулся.
– Повесить! – прошипел он.
– Так тут же одного не хватает! – не смолкал дотошный вертухай. – Сбег тут один! Гурыня устало улыбнулся.
– Никуда он не сбег. У нас враг народа, падла, меж пальцев не проскочит. Вон он! – Гурыня вслепую ткнул обрубком в какого-то покачивающегося у контейнера ушастого хмыря.
Пятнистые подскочили мигом, связали орущему мужичку руки за спиной, поставили на колоду.
– Всем стоять! – грозно заорали над площадью с помоста. – Глядеть, мать вашу!
Вконец одуревший народец застьи, обернулся сотнями взъерошенных, лысых и бугристых голов, с равнодушием глядя, как выбивают то из-под одного диверсанта, то из-под другого массивные колоды, как начинают раскачиваться под черной балкой дергающиеся тела, как затихают… Раз надо, значит, надо, тяжело ворочались мысли в голове у каждого, в том числе и у Трезвяка с Кукой, без дела не удавят, за просто так не повесят.
Глядеть, однако, было больше не на что. Пора и возвращаться с разведки. Теперь у Куки с приятелем сомнений не было, раз в поселках эдакое творится, надо, точно, в город идти – правду искать!
«Нет света. Нет потемок. Да и тьма какая-то странная… такой даже во снах не бывает. Во снах бывают сновидения всякие, белиберда, мешанина. Нет, я не сплю, нечего себе голову морочить, тут что-то не то! Тут другое! Может, провалился в подземелья, когда шел к Отшельнику, разбился, ослеп… но ведь ничего не болит! Говорят, такое бывает: когда шарахнет по-настоящему, так не то что чутье и зрение отшибет, вообще ни черта не чувствуешь. Шок! Предположим, вот шел из поселка к Отшельнику – и упал вниз, в одну из бессчетных труб, в колодец, лежу на дне, во мраке, искалеченный, издыхающий, ни ног, ни рук не чуя… да какие там, к дьяволу, руки-ноги!»
Чудовище попробовало шевельнуться, подтянуть конечности к телу, к голове, к глазам. Ничего не вышло. Зато пришла дикая боль, будто на щупальца каток накатил.
«Ох-хо-хо-о! Совсем хреново! Перебиты, видать, руки-ноги! Придется здесь загибаться, в дыре проклятой… Нет! Я ведь шел к нему за советом, значит, надо кричать, надо звать его, он обязательно услышит. Отшельник! Ты все видишь и слышишь на расстоянии, сквозь стены и скалы, сквозь трубы и заборы, услышь меня! Отшельник!! Отзовись!!!»
Чудовище не знало, сколько времени оно кричало, вопило, взывало к далекому спасителю. Вечность! Но когда эта вечность закончилась, никто не пришел, никто даже не отозвался. Было так же темно и страшно.
«Не слышит Отшельник. Значит, все! Значит, труба! А я еще собирался бить зеркала по всему серому подкупольному свету, тысячи зеркал! Теперь не придется, отгулялся… Нет, все не так, память шалит, я же был у Отшельника, а потом вернулся в поселок. И в меня стреляли – этот носатый придурок стрелял, а потом другие, а потом была тарахтелка… значит, с нее и сверзился, дело ясное, тарахтелка высоко забралась, а эти гады все дубасили по щупальцам, рубили, кололи… так вот почему они так болят, все ясно. А глаза вышибло при падении. Господи! Почему я не разбился насмерть? Ну почему!»
Чудовище готово было зареветь, зарыдать, застонать. Но ни сил на это, ни голоса не было. Ничего не было. Только накатывающая временами боль… и все! Оно и так было бесконечно одиноко в этом подлом, ублюдочном, бессмысленном мире. А теперь его вообще превратили в ничто – в страдающее, слепое, глухое ничто. И бесполезно кричать, звать, бесполезно ждать помощи, ее не будет. И ничего не будет, кроме страха, боли, ужаса и одиночества.
«Нет, все было не так, я не падал с тарахтелки. Я залез в нее, а потом был Хенк, был трясущийся кровосос, были трубоходы, была паучиха с ее безжалостными когтями… И был бой там, за Барьером! Был бронированный монстр. Да, был броневик! И были тысячи пуль – как больно! невыносимо! дьявольски больно! И я вырвал из него башню с орудием, выдрал с корнями! И все! Вот тоща и накатила, вот тогда и навалилась тьма… Они убили меня! Точно! Я не мог выжить! Чудес не бывает… Значит, и впрямь есть душа. И это она страдает и болит. Да, конечно, только так, а тела нет, его расстреляли, раздавили, сожгли, его нет. Господи, почему я не сдох тогда?! Почему так больно?! Разве душа не может сдохнуть совсем, разве душа должна так болеть во мраке и пустоте! Нет!!!»
Напрягая исполинские внутренние силы, изнемогая, вновь и вновь умирая от адской боли. Чудовище пробуждало свое тело, заставляло его сначала мелко трястись, дрожать, потом подергиваться, потом обрело силу – совсем небольшую, силу умирающего – в правом верхнем щупальце, провело им по голове, по бугристому надбровью. Другие щупальца и конечности не слушались, будто их и не было. Веки! Не такие как у людей, глубокие, сомкнутые дыры клапана… надо было их размять, расшевелить, заставить слушаться, i
«Я смогу! Я все смогу! Я сильный и здоровый! Нет ничего на свете сильнее и здоровее меня! Глаза! Пробуждайтесь! Я должен видеть! Я должен все видеть и все знать! Я сильней себя самого! Ты еще спишь, моя сила! Но ты есть! И ты просыпаешься! Я вижу, я уже вижу…»
Мутный, усеянный лиловыми набрякшими прожилками глаз, раздвигая дрожащее, трепещущее веко, из глубины огромной уродливой головы пробился наружу, вздрогнул от яркого, причиняющего боль света. Этот глаз начинал видеть. Не сразу, постепенно – из сверкающего белого марева выплывали серые пористые стены, прозрачные, сверкающие хрустальным блеском решетчатые ячеи, что-то далекое и непонятное.
«Вот так-то лучше! Я вижу, я начинаю прозревать! Нет, это не дно заброшенного колодца, это не труба, не подпол, не склад и не ангар, это вообще не похоже на Подкуполье, это что-то другое… Еще немного. Главное, не спешить, главное, дать глазу приглядеться, привыкнуть к свету… Солнце? Нет, это не солнце, это светят лампы какие-то, прямо из стен… нет, это сами стены и светятся. А что там за трубочки, что за гирлянды висят? Что-то невозможное! Такого в жизни-то и не бывает! Красотища, мать их! Я смогу! Я все смогу… Еще немного! Я уже пробудился! Я вижу-у-у!!!»
Зеленый зрачок в толстом мутном стебле подвижного белка прояснился, обрел четкость. Глаз стал выдвигаться – подобно перископу подводной лодки. И никто не стрелял в него, никто не бил, не навалился, не наезжал, не давил, не рубил. Вообще было тихо, покойно и светло. Стебель еще плохо слушался. Но Чудовище изогнуло его книзу… и почему-то не увидело своих толстых нижних конечностей, не увидело оползающего, слоновьего тела. А увидело лишь странную серую тумбу, округлую, полупрозрачную, с просвечивающимися будто кишки, жилы и вены трубами и трубочками разной длины и толщины – они свивались, переплетались, расходились внутри тумбы и пропадали в таком же полупрозрачном матовом настиле пола. Это был просто бред какой-то! Чудовище изогнуло стебель кверху – бугристый череп, изъеденная, больная, сырая кожа, бельма залепленных глазниц, выдранное с корнем ухо и большой шов на его месте, а дальше… дальше ничего не было, будто четверть черепа срезало начисто. Стебель глаза вытянулся на полную длину – Чудовище хотело видеть себя. Но не видело. На округлой тумбе, поддерживаемая прозрачными сверкающими хрустальным блеском ячеистыми решетками, опутанная трубками и шлангами, неживая и омерзительно гадкая, будто отрубленная вместе с частью правого плеча и болтающимся, свисающим вниз безвольно правым щупальцем, торчала его собственная изуродованная огромными рубцами голова – страшная, невозможная, потусторонняя в этой ослепительно светлой и прекрасной комнате.
Ирон Хэй приканчивал вторую бутылку виски, когда в его кабинет пропустили очередного просителя из жаждущих приключений на свою голову за свои же деньги. Хэй никогда не пьянел от выпитого, он только дурел, наливался непрошибаемостью и свинцовой самоуверенностью. Вся эта возня вокруг зоны давным-давно ему надоела. Азартным охотником он тоже не был и не понимал, почему его заставили заниматься именно этими вопросами. Большие деньги? Да, денежки с богатеев лупят приличные, на такие они бы могли развлечься получше, на взгляд Ирона Хэя, но ничего не попишешь, как заметил шустрый Сол: «надо совмещать приятное с полезным». А его б воля – запустить бы в Подкуполье газа чуть побольше, а через годик все вычистить, полмиллиона киберов наладят дело в зоне… и ни одного ублюдка!
– К вам можно, сэр? – прервал раздумья государственного мужа крепкий малый лет тридцати с серыми пустыми глазами и выбритым по последней моде черепом. В руке он держал голубенькую бумажку.
– Чего там у вас? – недовольно буркнул
Ирон Хэй, скривив худое лицо и играя желваками.
– Лицензия! – коротко и ясно ответил посетитель.
– Вижу, что лицензия. На сколько голов? Молодой человек засмущался было, но пересилил себя, подошел к большому дорогому столу, положил перед вопрошающим свой голубенький листочек и пояснил:
– На пятьдесят шесть.

Ирон Хэй забарабанил костлявыми пальцами по столешнице, но не нервно, а как-то машинально, будто показывая как ему скучно жить на этом свете и как ему надоели всякие посетители.
– Я знаю, что многовато, – начал оправдываться бритый малый, – но все по правилам, по закону, я выкупил… и налоги уплачены. Раньше вообще проще было, там такая девушка сидела, она и не спрашивала, карточку вставляй… и готово дело, – он осекся, решив, что болтает лишнее. Но тут же поспешно добавил: – О неразглашении я подписал, все как положено, не первый раз. Вы только не думайте, что я этих животных отлавливаю и батрачить на себя заставляю, нет, я же не прохвост какой, я законы уважаю, только на отстрел…
– На отстрел! – прервал его мрачнеющий все больше Ирон Хэй. – Вон в прошлом году в Пенсильвании три невольничьих рынка накрыли, в Лондоне пару, в Кейптауне один и под Парижем один… какой там батрачить! От этих выродков пользы не добьешься, в домашние зоопарки берут, в шуты, детям на развлечение… А правые, гады, фашисты, сволочь патриотическая, понимаешь, шумиху раздувают, дескать, эти выродки такие же люди, наши, мол, братья и сестры, ни черта они, доложу я вам, в демократии не понимают. Ну, какие эти ублюдки мне братья? Вредные и грязные животные!
– Господом клянусь! Не торгую! – затараторил бритый. – Во, Христом-Богом! – Он истово и размашисто перекрестился. Тут же полез во внутренний карман желтого френча, достал несколько больших и плоских объемных карточек, разложил их перед государственным мужем по широкой столешнице.
Ирон Хэй хмыкнул, покачал головой. На карточках были охотничьи трофеи законопослушного малого: по стенам огромного, прямо-таки дворцового каминного зала висели отрезанные и хорошо выделанные головы уродцев-мутантов из Подкуполья, каких там только ни было – и с хоботами, и с лошадиными челюстями, и с огромными слоновьими ушами, и кругленькие как бильярдный шар с тремя и пятью глазищами, и вообще похожие больше на монстров преисподней… а один урод стоял целиком, во всей своей красе – безрукий, хвостатый и двухголовый. Особенно поражали глаза мутантов – они горели живым огнем, казалось рты, пасти, клювы вот-вот раскроются и эти «трофеи» заговорят.
– Да-а, хорошая коллекция, – многозначительно протянул Ирон Хэй, сгреб карточки в кучу, подтолкнул их к краю стола.
– Хорошая! – резво поддакнул посетитель. – Таких нынче мало. В основном бьют зазря, впустую… по пьянке да с куража. Настоящих охотников – по пальцам пересчитать!
Ирон Хэй внимательно поглядел в серые глаза.
– Похвально, вам есть чем гордиться, – он придвинул к себе голубенький листочек, сузил и без того заплывшие веки. – Айвэн Миткофф? Странная у вас фамилия. А вы сами, случайно…
Посетитель покраснел, потупился, но быстро вернул себе прежнее душевное равновесие, даже вздернул голову выше и выпятил грудь.
– Как можно, сэр! Я рожден в свободном мире. Предки малость подкачали – они, и впрямь, оттуда, с зоны. Только ее тогда не было, зоны этой, страна была какая-то, не помню… они смотались сюда вовремя, еще в конце двадцатого века. Да, сэр, – голос у малого вдруг напыщенно задрожал и в глазах заискрилось что-то далекое, возвышенное. – Цивилизация, демократия… они сделали свой выбор!
– И не ошиблись, – подытожил Ирон Хэй. – Похвально, похвально! – Ему было абсолютно наплевать на родню этого малого, и дальнюю, и ближнюю. И если бы не установка сверху о задействии всех этих непрофессионалов, всех этих любителей-дармоедов, он бы и на порог не пустил настырного малого, такими должны заниматься «девушки». И потому Ирон Хэй помрачнел еще больше. – Все о'кей! – сказал он. – Но есть маленькая загвоздка…
– Понял! – опередил его малый. – Многовато будет? Десяток можно срезать… на пользу государства, так сказать! Ирон Хэй сумрачно рассмеялся.
– Эх, вы! Думаете, кому-то из нас нужны крошки с вашего охотничьего стола? Ошибаетесь, молодой человек. И не многовато будет, а маловато… ну что это такое, пятьдесят шесть, в масштабах всей Резервации?! Я вам могу сказать по большому секрету… – он поманил малого пальцем, и тот чуть не на карачках подполз ближе, заглянул в глаза. – Вы ведь смотрели новости последнюю неделю?
– Ага!
– Ну и как?
– Буянить малость начали, – легкомысленно отмахнулся охотник, – пошумят, побесятся и все опять тихо станет. Им там, этим выродкам, делить-то нечего!
– Как это нечего?! – Ирон Хэй посуровел и строго поглядел на посетителя, не понимающего всю ответственность и важность момента. – В Резервации пробуждаются здоровые демократические силы. Наша задача их поддержать. Но вместе с тем, как вы догадываетесь, на пенной волне демократии и гласности выносит наверх и реакционно-консервативные отбросы…
– По-моему, там все отбросы! – осмелел малый.
– Это верно, – согласился как-то машинально высокопоставленный наставник, – но мы должны отделять агнцев от козлищ. Сейчас прорабатывается вопрос о введении в Резервации особого положения и ввода туда миротворческих сил для поддержки демократической общественности и подавления реакции.
– Общественности? – тупо переспросил Айвэн Миткофф. Во времена своих охотничьих сафари в Подкуполье он что-то не встречал там никакой общественности, может, просто не до нее было – гон, травля, облавы, лихость и ловкость, завалить с первого выстрела, а то и выйти на особого дюжего мутанта с рогатиной, как делывали встарь – вот это да! а про общественность? нет, не слыхал.
– Короче! – Ирон Хэй треснул жилистым кулаком по столу. Виски начинало выветриваться из головы, и потому беседа с этим малым становилась слишком уж долгой. – Короче, охотничий сезон закрыт! Единственное, что может вам предложить госдепартамент, вам и многим другим охотникам-любителям, сплачиваться в стройные ряды добровольцев. Да, широкой мировой общественности будет приятней, если в Резервацию сначала будут переброшены миротворцы-добровольцы, а только потом уже регулярные части быстрого реагирования. Вы меня поняли?!
– Понял, – чистосердечно признался Миткофф. – Только какой я миротворец? Я мирить не умею…
– Вы не миротворец, это точно! Вы болван! – взъярился Ирон Хэй. – С чем вы прежде ходили на охоту в Резервацию?
– Как с чем… у меня много ружей, три охотничьих винчестера и гарднеровская трехстволка.
(продолжение следует)
Энциклопедия нечистой силы
Лихорадки. Демоны болезней в женском обличий, трясовицы, сестры-иродиады: отпея, гладея, храпуша, пухлея, желтея, немея, глухея, каркуша и др. Устойчивые духи древнейших времен, зарожденные за тысячелетия до нашей эры. Этимология ясна без перевода.
Одноглазка. Обобщенный образ нечистой силы в женском и бесполом обличии: лихо одноглазое, леший, лихорадка. Характернейшее нарушение для индоевропейских мифологий симметрии. Левое – нечистое, страшное, приносящее беду. Обитает преимущественно в лесах и на заброшенных дорогах.
Гарпии. Дочери морского владыки. Архаические демоницы, внезапно налетающие, быстрокрылые, пугающие. Похитительницы детей и человеческих душ. Развитие получили в так называемой «древнегреческой» мифологии русов средиземноморского периода.
Огненный Змей. Разновидность дракона-асуры, бесплотное, но могучее хтоническое существо (убийственно-огненный сгусток плазмы), внушающее страсть женщине, похищающее прекрасных дев, ипостась одновременно Велеса-Волоса и древнерусского бога огня Анги.
Горгоны. Порождения морских пучин, сестры Сфено, Эвриала и Медуза. Хтонические демоницы, ипостаси Чернобога-Велеса, опоэтизированные в 1-ом тыс. до н. э. В позднейшем русском эпосе известны как дочери и внучки Змея-Волоса – «змеишны».
Дворовой. Домашний демон, родственный домовому. Антропоморфен, иногда – змей с петушиной головой, мелкая, одомашненная ипостась Велеса-покровителя скота и пастбищ. Выродившийся до «гнома» «бог»-покровитель.
Пан. Божество лесов. Пан, хозяин леса, леший. Древнерусский образ бытовавший задолго до «греческого» периода в жизни русов. Опоэтизированная ипостась Белеса с элементами, присущими Старбогу-Стрибогу: дикость, козлоногость, распущенность, страстность.

Оглавление
А. А. Молчанов
Возвращение на Прародину
Г. С. Гриневич
Праславяне на Крите
Юрий Петухов
Колыбель Зевса
Капитуляция
Юрий Петухов
Бойня
Пак Хитрец
Энциклопедия нечистой силы

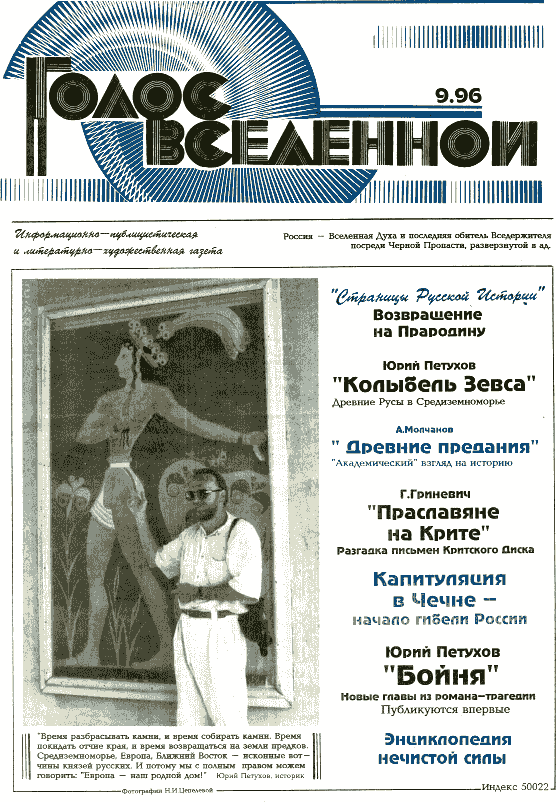
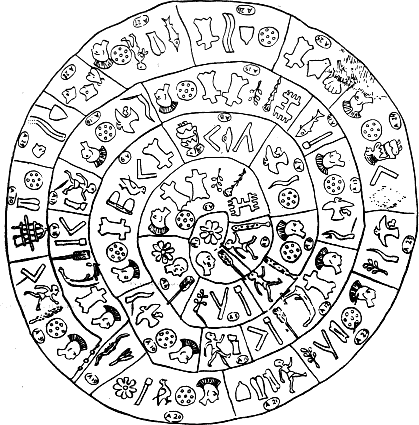 Фестский диск (лицевая сторона)
Фестский диск (лицевая сторона)



